Николай Семенович Лесков Повести и рассказы
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р14-409-0938
Текст печатается по изданию:
Лесков Н. С. Собр. соч.: В 6 т. Москва: Правда, 1973.
Предисловие
Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 года в Орловской губернии. «Род наш, собственно, происходит из духовенства…. Мой дед, священник Димитрий Лесков, и его отец, дед и прадед – все были священниками в селе Лесках. От этого села Лески и вышла наша родовая фамилия – Лесковы».
Однако отец писателя, Семен Дмитриевич, окончив семинарию, решил не продолжать семейную традицию, за что дед выгнал его из дома (черты деда проявятся в главном герое романа «Соборяне», протоиерее Савелии Туберозове). Выбрав карьеру судебного служащего, Семен Дмитриевич всю жизнь оставался человеком честным, бескорыстным, на службе отличался «твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов», и дослужился до чина коллежского асессора, дававшего право на потомственное дворянство.
Лесков отмечал в своей автобиографии: «Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом, – она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия… Он несомненно был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным.»
О своей первой встрече с большой с литературой он вспоминал так: «В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил и сживался душа в душу. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома, из нашего «мелкопоместного курничка», из постоялого двора и с поповки. А потому, когда мне привелось впервые прочесть «Записки охотника» И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял, что называется искусством».
Николай Семенович сначала пошел по стопам отца – в 16 лет он поступил на работу в орловскую судебную палату. Еще через два года его перевели в Киев, где он посещал вольнослушателем лекции в университете, изучал польский язык, участвовал в религиозно-философском студенческом кружке и даже увлекся иконописью. Уволившись со службы, Лесков начал работать в компании мужа своей тети, А. Я. Шкотта (Скотта), «Шкотт и Вилькенс». По служебным делам ему приходилось много ездить по Российской Империи. Позже он напишет: «Думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народа по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе…»
После того как компания закрылась, Лесков переехал в Петербург. Там и началась его писательская карьера. В 1863 году выходят его первые повести «Житие одной бабы» и «Овцебык». Вскоре за ними последовали «Леди Макбет Мценского уезда» и «Воительница». Уже в этих ранних произведениях проявился уникальный сказовый стиль писателя. Наиболее выразительное воплощение лесковский «сказ» получил в рассказе «Запечатленный ангел», где слышатся отзвуки древнерусских «хождений» и сказаний о чудотворных иконах.
Ко времени создания романа «Соборяне» (1872 г.), по словам Максима Горького, «литературное творчество Лескова. становится яркой живописью или, скорее, иконописью». Создание галереи ярких положительных персонажей было продолжено писателем в сборнике рассказов, вышедшем под общим названием «Праведники» («Фигура», «Человек на часах», «Несмертельный Голован» и др.) Как отмечали впоследствии критики, лесковских праведников объединяют «прямодушие, бесстрашие, обостренная совестливость, неспособность примириться со злом».
Согласно воспоминаниям сына писателя, Андрея Николаевича Лескова, Николай Семенович считал, что, создавая циклы о «русских антиках», исполняет гоголевское завещание из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика». В предисловии к первому из этих рассказов, «Однодум», писатель так объяснил их появление: «Ужасно и несносно… видеть одну „дрянь“ в русской душе, ставшую главным предметом новой литературы, и. пошел я искать праведных.»
В этом «поиске праведных» Николай Семенович неоднократно обращался и к сюжетам из «Пролога». «Пролог» – название сборника христианских притч, пришедшего к нам из Византии и дополненного новыми сюжетами во времена Древней Руси. Писатель изложил многие истории из «Пролога» литературным языком XIX века, а кроме того, и сам создал множество сюжетов, которые по праву можно назвать «Современным Прологом». Каждое из этих произведений раскрывает перед читателем, как Господь Своим Промыслом, порой через тяжелые испытания, приводит людей к спасению и пониманию евангельской истины.
В последние годы жизни Николай Семенович стал близким другом Льва Николаевича Толстого, что отразилось и на его творчестве, и на отношении к Православной Церкви. Однако, в отличие от Толстого, Лесков до конца жизни остался православным христианином.
Умер Николай Семенович Лесков 5 марта 1895 года от приступа астмы, мучившей его последние пять лет жизни. Похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.
Евгений Юферев
Запечатленный ангел
1
Дело было о Святках, накануне Васильева вечера [1].
Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу – везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:
– Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.
Но едва он успел это выговорить, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом [2] и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.
– Кто там? – окликнул громким и недовольным голосом хозяин.
– Мы, – ответили глухо из-за окна.
– Ну-у, а чего еще надо?
– Пусти, Христа ради, сбились… обмерзли.
– А много ли вас?
– Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, – говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.
– Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.
– Пусти хоть малость обогреться!
– А кто же вы такие?
– Извозчики.
– Порожнем или с возами?
– С возами, родной, шкурье везем.
– Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!
– А что же им делать? – спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.
– Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, – отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.
Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.
– Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, – заговорил он, – он это с практики берет и внушает правильно – со шкурьем безопасно.
– Да? – отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.
– Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.
– Это почему?
– А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.
– А кого теперь еще понесет черт? – молвила шуба.
– А ты слушай, – отозвался хозяин, – ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона, и Богородичный лик.
– Это верно, – поддержал рыженький человечек. – Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.
– А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, – отвечала словоохотливая шуба.
Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.
– Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, – проговорила шуба.
– Да-с, ее и имел.
– Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?
– Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.
– Что вы, шутите или смеетесь?
– Боже меня сохрани таким делом шутить!
– Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?
– Это, милостивый государь, целая большая история.
– А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.
– Извольте-с.
– Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.
– Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.
– Ну как хотите, только скорее сказывайте: как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?
– Извольте-с, я начинаю.
2
Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним, точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию [3] свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «Божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов [4]. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!
И что были за во имя разные и Деисусы [5], и Нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковые, например: Индикт [6], праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество [7], Шестоднев, Целебник [8], Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского [9], и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая Владычица в саду молится, а пред Ней все древеса кипарисы и олинфы [10] до земли преклоняются, а другая Ангел-Хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на Владычицу, как пред Ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела… радость! Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами [11], в знак повсеместного отвсюду слышания; одеянье горит, рясны [12]златыми преиспещрено; доспех пернат [13], рамена [14]препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселиила [15] художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: Владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчовый кошель на темной пестряди [16] и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу [17], а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с Богородичною иконой, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет… то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили всё вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнию своею не могли расстаться.
Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроялось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать: занятна ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?
– Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! – воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.
– Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.
3
Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.
И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высоконькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла [18] для меньшеньких, и так возвели, как должно, лествицу до самого распятия, а ангела на аналогии [19] положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку сгородили. На нас глядючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует… Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал [20]; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-Господь и явися нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам [21], новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.
И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога [22], как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан – одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев [23]старый, а середь головы на маковке гуменцо [24] простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щаповатый [25]: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар [26]. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность [27] терпкого пития, которое надлежало нам испить.
4
Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо, а каждый тот болт – по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии, – отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все на это наш Марой, ковач, изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колоникой [28] из тележного колеса с песковым жвиром [29], да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой [30], так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут: «Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!»
А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто, как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первыя. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосла-стец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чаи пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.
Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то и вот этакие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:
«Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этакие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим», – и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.
«Я слыхала, – говорит, – что к вам Божие благословение видимо, – говорит, – проявляется».
А тот сейчас и подхватывает:
«Как же, – отвечает, – матушка, проявляется; весьма зримо проявляется».
«Видимо?»
«Видимо, – говорит, – государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал».
Барынька так и всплеснула ручонками.
«Ах, – говорит, – как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, – говорит, – прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?»
«Можно-с, – отвечает Пимен, – отчего же-с; очень можно! Только, – говорит, – в таковых случаях надо всегда, чтобы от вас жертвенный елей теплился».
Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:
«Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю».
Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у барыни родится дочь.
Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял, – и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свещи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун [31], и ленивый нетяг [32], и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:
«Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами вопиять».
А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастие этому ее блудяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш Бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у Бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы всё ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и премениться одним дивесам на другие.
5
Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:
«Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали».
Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:
«Хорошо, государыня, я повелю».
«Да чтоб они хорошенько, – говорит, – молились, потому мне это очень нужно!»
«Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, – заспокоил ее Пимен, – я их голодом запощу, пока не вымолят», – взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.
Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.
Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.
«Я, – говорит, – как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду».
Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой Ангел-Хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.
«Ах, прекрасно, – отвечает, – прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады, а я приеду посмотреть».
Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен поснимали да попрятали в коробьи, а из коробей кое-какие заменные заставки [33], что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами [34]так и метет и всё на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора.
«У нас, – говорим, – такового ангела нет».
И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.
Страшно она нам не понравилась, и Бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая [35], тоненькая, как сойга [36], и бровеносная.
– Вам этакая красота не нравится? – перебила рассказчика медвежья шуба.
– Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? – отвечал он.
– У вас, что же, почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?
– Кочку! – повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. – Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.
Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:
«Чего вы? Она добрая».
А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но Бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.
После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только Бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно.
6
Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.
Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».
Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтил и невером никогда не был.
А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.
Вот-с я ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая.
«Что вы, – говорю, – второродительница, на таком месте усевшись?»
А она отвечает:
«А где же мне, Марочка, притулиться?»
Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.
«Что это, – думаю себе, – она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»
«А зачем же, – говорю, – вы в чуланчике у себя не ляжете?»
«Нельзя, – говорит, – Марочка, там в большой горнице дед Марой молится».
«Ага! вот, – думаю, – так и есть, что что-нибудь по вере сталось», – а тетка Михайлица и начинает:
«Ты ведь, Марочка, небось, ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось?»
«Нет, мол, второродительница, не знаю».
«Ах, страсти!»
«Расскажите же скорее, второродительница».
«Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?»
«Отчего же, – говорю, – не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?»
«Знаю, родной мой, – отвечает, – что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди – дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет».
Но я никак не мог чтобы дождаться и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.
А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:
«У нас, дитя, сею ночью Ангел-Хранитель сошел».
Меня от всего этого открытия в трепет бросило.
«Говорите, – прошу, – скорее: как это диво сталося и кто были оного дивозрители?»
А она отвечает:
«Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала».
И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:
«Уснув, – говорит, – помолившись, не помню я сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосет». А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице [37], вся в дырьях, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» – потому что чувствиями ей далося знать, что эта птица что-то предвозвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тощение, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Исусе Христе! что это такое: овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в ту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава Богу, – думает, – что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч, – кличет, – Кирилыч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило», а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Исусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» – кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик [38] на шее ходит, а даже остегны [39] на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, – говорит, – что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.
Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измрамран нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:
«Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича».
Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:
«Ангел Господень, да пролиются стопы твоя, а може хощеши!»
И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:
«Эй вы, раскольники: кто у вас тут набольший?»
Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.
Лука спрашивает: какого ему надо набольшего? А он отвечает:
«Того самого, – говорит, – что к барыне ходил, которого Пименом звать».
Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали?
Солдат говорит:
«Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили».
А что такое именно, рассказать не может.
«Слыхал-де, – говорит, – как будто барин их запечатал, а они его запечатлели».
Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.
Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит:
«Что же ты, шпилман [40] ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!»
Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.
Через час ворочается наш Пимен и ботвит [41] будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.
Лука его и допрашивает:
«Говори, – говорит, – говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?»
А он говорит:
«Ничего».
Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.
7
С барином, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру», а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу!» – они двадцать. Он: «Что же вы, – говорит, – не понимаете, что ли, что я не могу, я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят: «Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно».
Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатовал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:
«А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйте с ревизией».
Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:
«Давайте же скорее мою печать».
А жиды говорят:
«А давайте зи наши деньги».
Барин: «Что? как?» А те на своем стали.
«Мы зи, – говорят, – деньги под залог оставляли».
Тот опять:
«Как под залог?»
«А как зи, – говорят, – мы под залог».
«Врете, – говорит, – вы, подлецы этакие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали».
А они друг друга поталкивают и смеются.
«Гёршту [42], – говорят, – слышь, мы будто совсем дали… Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать?» («Хабар» по-ихнему взятка.)
Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче, – говорят, – пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно, – говорит, – твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты, – говорит, – сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим, – говорит, – это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо, – говорит, – съездить за Днепр и привезть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте, – говорит, – я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили… Жиды… понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем Сам Бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при этаком обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротитися [43]и клятися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада [44], и знать того не захотела. «Нет, да мне, – говорит, – хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч – это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч – это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы простые ни́вари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осаждила: «Что вы, что вы, – говорит, – мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил, нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «с меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий, – говорит, – шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделывайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился [45], я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умилостивлять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услыхал шум многих голосов и, обернувшись, увидал несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнагощенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее наконец больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать… Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут. Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выспреннею горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.
8
Теперь же вы извольте вспомнить, что, когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Он после и рассказывал, что, как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?» А он отвечает: «У нас нет попа!» А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши, в чем дело, да «связать, – говорят, – его, под арест!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котёлки [46] нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плещами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелася, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да, по счастию их, впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:
«Стой, Христов народушко, не дерзничайте! – А сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит: – Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники – отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?»
А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:
«Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!»
А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:
«Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте».
Барин оком сверкнул и громко крикнул:
«Прочь! – А шепотом шепнул: – Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку».
Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:
«Бог с вами, если так: губите всё как хотите, а у нас таких денег нет».
А барин как завопиет излиха:
«Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить?» – и тут вдруг заметался, и все, что видел из Божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то, и мошенниками, и говорит: «Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как!» – да, накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!
Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот Божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь, в слезе растворенная…
Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброузден.
Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.
9
Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем, сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» – и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили! Не кладите, – говорит, – сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой – мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощию подменить икону иным в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд [47] по закожью: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела. «Его, – бают, – запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», – и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно: «Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит».
Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:
«Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела». Но владыко сего не послушал и сказал:
«Сему не должно потворствовать».
Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велося не жестокостью, а Божиим смотрением.
Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:
«Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере».
А я отвечаю:
«Кому в какой вере быть – это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк [48] велит, братски обличаю».
Он при имени пророка так и задрожал.
«Не говори, – говорит, – мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что „пророки мучат живущих на земле“, и даже в том знамение имею», – и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.
Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «Бог шельму метит», но только сдавил я это слово в устах и молвил:
«Что же, молись, – говорю, – и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь».
Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся да и ушел.
И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч…
Поразило это самих наших хозяев-англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что, дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:
«Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?»
Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаеваем от жалости.
«Что же, – говорит, – вы думаете делать?»
«Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный».
«Да чем, – говорит, – он вам так дорог и неужели другого такого же нельзя достать?»
«Дорог он, – отвечаем, – нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы [49], а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет».
«А как, – говорит, – вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?»
«Ну, уж на этот счет, – отвечаем, – ваша милость, не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап [50] смолы не допустят».
«Вы в этом уверены?»
«Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера».
Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:
«Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?»
«Нет, – говорим, – на небольшое время».
«Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь».
Мы благодарим, но говорим:
«Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь».
Он говорит:
«Это почему так?»
А мы отвечаем:
«Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет да и нигде вблизи не отыщется».
«Пустяки, – говорит, – я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет».
«Нет-с, – отвечаем, – вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может».
Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близь явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.
Он этим заинтересовался и спрашивает:
«А где же, – говорит, – есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?»
«Очень, – докладываю, – они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием).
Есть, – говорю, – в слободе Мстере [51] один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, – говорю, – нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся».
«Это опять почему?» – пытает.
«А потому, – ответствую, – что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает».
«Так как же, – говорит, – быть?»
«Сам, – говорю, – не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Севастьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать – неизвестно».
Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:
«Довольно дивные, – говорит, – вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать».
«Отчего же, – говорю, – сударь, искусства не постигать: это дело художество Божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают».
«Может ли, – говорит, – это быть?»
«Все равно, – отвечаю, – как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий».
«По каким приметам?»
«А есть, – говорю, – разница в приеме как перевода рисунка, так и в плави, в пробелах, лицевых движках и в оживке».
Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание [52], и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина [53], коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.
Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю:
«Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось».
«Где же они делись?»
«А не знаю, – говорю, – на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли».
«Это, – говорит, – быть не может».
«Напротив, – отвечаю, – вполне статочно, и примеры тому есть: в Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали [54]. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела».
«А как она в Рим попала?»
«Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал».
Англичанин улыбнулся и задумался и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.
«Ну а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленное, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела».
«А если таковая, – говорит, – ваша образованная невежественность, так отчего же в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?»
«Некем, – отвечаю, – нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина-Таврического [55] стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка, и лук красноперый богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное [56] невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее предание, что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».
Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит: «Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь». Я отвечаю:
«Я уже все кончил», – а он говорит:
«Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?»
Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новегороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам Бога Саваофа стоят седмь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре [57] и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил [58]с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как то: книга с седмью печатями – дар премудрости, седмисвещный подсвечник – дар разума; седмь очес – дар совета; седмь трубных рогов – дар крепости; десная рука посреди седми звезд – дар видения; седмь курильниц – дар благочестия; седмь молоний – дар страха Божия. «Вот, – говорю, – таковое изображение гореносно!»
А англичанин отвечает:
«Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?»
«А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись».
«Да ведь это же, – говорит, – всякий из Писания и из молитв может уразуметь».
«Ну, никак нет, – ответствую. – Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о „великия и богатыя милости" и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностию кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги, и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред Господом».
Тут англичанин встает с места и весело говорит:
«А вы же, чудаки, чего себе молите?»
«Мы, – отвечаю, – молим христианския кончины живота и доброго ответа на Страшном судилище».
Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена-англичанка и пред свечою на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.
И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:
«Добри люди, добри русски люди!»
Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.
Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» – и затем, оправясь, продолжал снова:
– По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин – знать, приятна ему эта доброта в жене – глядит на нее, ажно весь гордостию сияет, и все жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:
«Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает, и жене моей в вашем роде напишет – она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает».
А она сквозь слез улыбается и частит: «Ни-ни-ни: это он, а я особая», – да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.
«Муж, – говорит, – мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую».
Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит: «Нет, – говорит, – не смейте ей отказывать и берите, что она дает, – и сам отвернулся и говорит: – И ступайте, чудаки, вон!»
Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.
Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные [59] люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия [60] восприяли!
Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преполовение моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратилися.
10
В путь шествующему человеку первое дело сопутник; с умным и добрым товарищем и холод и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами всё, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле [61], но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле [62] тебе, Москва! Оле тебе, древлего русского общества преславная царица! Не были мы, старые верители, и тобою утешены.
Неохота бы говорить, а нельзя промолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно: но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали.
Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью [63], на краткое время, а не в долготу дней; грунта кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унизить, ни во что вменяют; или, еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми, друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие этою нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся [64], как Божиим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.
«Неужто же, – думаем, – такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.
Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» – да и говорю:
«Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?»
А он отвечает:
«Нет, – говорит, – дядя, ничего: это я так».
«Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать».
А Левонтий отвечает:
«Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду».
«Отчего же, – говорю, – ты не пойдешь?»
«А так, – отвечает, – мне ноне что-то не по себе».
Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову:
«Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодчик».
А он умильно кланяется и просит:
«Нету, дядюшка, голубчик белый: поволь мне дома остаться».
«Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь».
А он:
«Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может».
Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:
«Ты гляди, человече, этой иконе не покланяйся».
Я говорю:
«Почему?»
А он отвечает:
«Потому что она адописная», – да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом опять чертик.
«Господи! – заплакал я. – Да что же это такое?»
«А то, – говорит, – что ты не ему, а мне закажи».
И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой, и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев голос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтоб он не слыхал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:
Кому повем печаль мою, Кого призову ко рыданию.Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что
Продаша мя мои братия!И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех!..
Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипкал, а Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня:
«Дядя! а дядя!»
«Что, – говорю, – добрый молодец?»
«А знаешь ли ты, – говорит, – кто это наша мать, про которую тут поется?»
«Рахиль», – отвечаю.
«Нет, – говорит, – это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать».
«Как же, – спрашиваю, – таинственно?»
«А так, – отвечает, – что это слово с преобразованием сказано».
«Ты, – говорю, – смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?»
«Нет, – отвечает, – я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем».
Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:
«Знаешь что, Левонтьюшко: пойдем-ко мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит».
«Что же, пойдем, – отвечает, – здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там, – говорит, – я слыхал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел».
«Старец Памва, – отвечаю со строгостию, – господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?»
«А что же, – говорит, – за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать».
Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.
«Церковные, – говорю, – и на небо смотрят не с верою, а в Аристетилевы врата [65] глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?»
А Левонтий отвечает:
«Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано».
Я от этого словно еще глупее стал и говорю:
«Церковные кофий пьют!»
«А что за беда, – отвечает Левонтий, – кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен».
«Откуда, – говорю, – ты это все знаешь?»
«В книгах, – говорит, – читал».
«Ну так знай же, что в книгах не все писано».
«А что, – говорит, – там еще не написано?»
«Что? что не написано?» – А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:
«Церковные, – говорю, – зайцев едят, а заяц поганый».
«Не погань, – говорит, – Богом созданного, это грех».
«Как, – говорю, – не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?»
Но Левонтий засмеялся и говорит:
«Спи, дядя, ты невегласы [66] глаголешь!»
Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу да только думаю:
«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.
Но только в волевращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о Божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву-анахорита [67], которым Левонтий прельщался и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.
«Но, – думаю себе, – чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»
И идем мы опять мирно и благополучно и наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, и вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:
«Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!»
Бросимся вслед, не настигаем!
И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю: «нам надо идти направо», а он спорит: «налево», и наконец чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и наконец вижу, не знаю, куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.
Я говорю отроку:
«Пойдем, Лева, назад!»
А он отвечает:
«Нет, не могу я, дядя, больше идти, – сил моих нет».
Я всхлопотался и говорю:
«Что тебе, дитятко?»
А он отвечает:
«Разве, – говорит, – ты не видишь, меня отрясовица бьет?»
И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутелый [68]пень и говорит:
«Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить!» – а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.
А дело под вечер.
Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы древеса, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:
«Левушка, батюшка, поневолься, авось до ночлежка дойдем».
А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит:
«Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся».
Я говорю:
«Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной».
А он говорит:
«Не спяй и бдяй сохранит».
Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться, и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает… «Владыко многомилостиво! – думаю. – Это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-от все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит. Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганый волк, так и ляскаю. И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное – не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку да и говорит:
«Встань, брате!»
И что же вы изволите думать? Вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:
«Понеси-ко за мною!»
А Левонтий и понес.
11
Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок взялся, и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет!
Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а бородка по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня не смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.
Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:
«Доброчестный человек!»
А он отзывается:
«Что тебе?»
«Куда ты нас ведешь?»
«Я, – говорит, – никого никуда не веду, всех Господь ведет!»
И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет:
«Брате Мирон! А брате Мирон!»
А оттуда дерзый голос грубо отвечает:
«Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не пущу!»
Но старичок опять давай проситься, молить ласково:
«Впусти, брате!»
Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я – это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:
«Спаси тебя Бог, брате мой, за твою услугу».
«Господи! – помышляю. – Куда это мы попали», – и вдруг как молонья меня осветила и поразила.
«Спасе премилосердый! – взгадал я. – Да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы, – думаю, – я в дебри лесной погиб, или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».
И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:
«Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?»
А он отвечает:
«Вся Господня земля и благословенны вси живущие – ложись, спи!»
«Нет, позволь, – говорю, – тебе объявиться, ведь мы по старой вере».
«Все, – говорит, – уды Единого Тела Христова! Он всех соберет!»
И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:
«Спите!»
И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю:
«Прости, Божий человек, еще одно вопрошение…»
Он отвечает:
«Что вопрошать: Бог все знает».
«Нет, скажи, – говорю, – мне: как твое имя?»
А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит:
«Зовут меня зовуткою, а величают уткою», – и с этими пустыми словами пополоз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:
«Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!»
«Не буду, – отвечает, – брате Мирон, не буду. Спаси тебя Бог!»
И задул свечку.
Я шепчу:
«Отче! Кто это на тебя так грубительно грозится?»
А он отвечает:
«Это служка мой Мирон… добрый человек, он блюдет меня».
«Ну, шабаш! – думаю. – Это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь истлит нас, как гагрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.
А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «сия вера апостольская, сия вера кафолическая [69], сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой. самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотрят друг на друга и понимают.
И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись», а тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и наконец просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою [70] лыковый лапоток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.
Ах, сколь хорош! Ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лапотки плетет, для простого себя миру явления.
Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит:
«Полно, Марк, спать, пора дело делать».
Я отзываюсь:
«Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты все знаешь?»
«Знаю, – говорит, – знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути Господнего ищут. Помогай Господь твоему смирению, помогай!»
«Какое же, – говорю, – святой человек, мое смирение? Ты смирен, а мое что за смирение в суете!»
А он отвечает:
«Ах, нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в Небесном Царстве части желаю».
И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.
«Господи! – молится. – Не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!»
«Ну, – думаю, – нет: слава Богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец». Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме Небесного Царства может отрицаться и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоноговейную [71]. Но наконец рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:
«Я, отче, все совершил: теперь благослови!»
А старец посмотрел на него и отвечает:
«Мир ти: почий!»
И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапоток плесть.
Тут я сразу вскочил и думаю:
«Нет; пойду скорее возьму Леву, и утечем отсюда без оглядки!» – и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.
Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:
«Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? – а шепотом шепчу ему: – Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!»
Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит… Отошел!.. Умер!..
Взвыл я не своим голосом:
«Памва! отец Памва, ты убил моего отрока!»
А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостию:
«Улетел наш Лева!»
Меня даже зло взяло.
«Да, – отвечаю сквозь слезы, – он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил!» – и, повергшись к ногам усопшего, стенал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к церкви присоединился.
Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согруби ему – он благословит, прибей его – он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: недаром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «Жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! Он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, и устыдится его.
Так я себе и порешил, что сей старец с лапотком аду на погибель создан! И всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:
«Как же он молится, каким образам и по каким книгам?»
И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, окроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг…
«Господи! – дерзаю рассуждать. – Если только в Церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».
И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения.
И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый троскот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:
«Что долго медлил? Поспешай Вавилон строить?» [72]
Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:
«За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь».
А он отвечает:
«Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то ангел отступится».
Я говорю:
«Отче, знаешь ли, зачем я хожу?»
И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает:
«Ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит Господь, он в то и одеется; что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел! Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать.»
И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или… Господь знает куда делся.
Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его», да вдруг думаю: «А что, если он сам ангел и Бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я, сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал: витал в душе моей анахорит Памва и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух Божий в ноздрех человека сего».
12
Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плещми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит:
«Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?»
А Севастьян отвечает:
«Отчего же? Чем мои руки несоответственны?»
«Да тебе, – говорит, – что-нибудь мелкое ими не вывесть».
Тот спрашивает:
«Почему?»
«А потому что гибкость состава перстов не позволит».
А Севастьян говорит:
«Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются».
Англичанин улыбается.
«Значит, ты, – говорит, – нам запечатленного ангела подведешь?»
«Отчего же, – отвечает, – я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей».
«Хорошо, – молвил Яков Яковлевич, – мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась».
«Какое же во имя?»
«А уж этого я, – говорит, – не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась».
Севастьян подумал и вопрошает:
«А о чем ваша супруга более Богу молится?»
«Не знаю, – говорит, – друг мой; не знаю о чем, но, я думаю, вернее всего, о детях, чтоб из детей честные люди вышли».
Севастьян опять подумал и отвечает:
«Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю».
«Как же ты потрафишь?»
«Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно».
Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.
И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев [73]в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу [74], то есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил [75] крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновья кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором – рождество Пресвятыя Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем – Спасово Пречистое Рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба [76], и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль-птица [77], жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет сие не от жидовства, а от Божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В Богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Едина жена держит святую Анну под плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба Святую Богородицу омывает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан [78], и в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна… [79] Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:
«Можешь ли ты еще мельче выразить?»
Севастьян отвечает:
«Могу».
«Так скопируй мне, – говорит, – в перстень женин портрет».
Но Севастьян говорит:
«Нет, вот уж этого я не могу».
«А почему?»
«А потому, – говорит, – что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть».
«Что за вздор такой!»
«Никак нет, – отвечает, – это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: „аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!"»
Яков Яковлевич говорит:
«А если я тебе пятьсот рублей дам за это?»
«Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся».
Англичанин просиял и шутя говорит жене:
«Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?»
А сам ей по-аглицки прибавляет: «Ох, мол, гут карахтер». Но только молвил в конце:
«Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может».
Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим. «Ну так смотрите, – говорит, – я начинаю», – и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и домогает; а мы уже ждем, что порох огня.
13
При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово Рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постянет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыш [80], как будто в весеннюю половодь… Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто халепа [81], так оно ей и пристало халепой быть.
В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось; цепи одни висят, а моста нет. Зато создал Бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:
«Завтра, – говорит, – ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу».
Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человечу! Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Еспер-звезда [82] горит.
Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приготовлял: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони [83] перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают…
Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам. По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся:
«Боже Отец духовом и ангелом: пощади рабы твои!»
И с этим моленьем упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:
«Эй, вы! Староверы! Вот вам привез!» – и подает узелок в белом платочке.
Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма [84] с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет.
Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:
«Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана».
Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:
«Да что же вы все путаете! Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!»
Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.
«Твои, – говорит, – мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет».
Но Севастьян-изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и ответствует:
«Нет, – говорит, – ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это, – говорит, – только в обиду нам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, поведено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею-голубем писать; Конона Градаря с цветком, Тимофея с ковчежцем [85], Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнавкой [86], а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить, как ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить».
Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальше решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище [87], и не знаем, вполне ли отчаиваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже Еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет… Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово Рождество, а в самый Сочельник ударил гром, полил ливень, и льет, и льет без уставу два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло. Мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину, и прядают они и сами звенят, прости Господи, точно демоны. Как стоят постройки и этакое несподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того; потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился – складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем.
Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел: всё, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:
«Знаешь что, мужик: пойдем вашего ангела красть?»
Лука отвечает:
«Согласен».
По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом злотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее вглядится и дома напишет с нее подделок. Затем, когда у настоящего злотаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь, и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынесть. А на дворе за церковью наш человек чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.
«Что же-с? Мы, – говорим, – на все согласны!»
«Только смотрите же, – говорит, – помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите».
Лука Кирилов отвечает:
«Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую и подделок».
«Ну а если тебе что-нибудь помешает?»
«Что же такое мне может помешать?»
«Ну, вдруг ты умрешь или утонешь».
Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а впрочем, соображает, что действительно трафляется иногда и кладязь копающему обретать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:
«На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который, в случае моей неустойки, всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас».
«А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?»
«Ковач Марой», – отвечает Лука.
«Это старик?»
«Да, он не молод».
«Но он, кажется, глуп?»
«Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет».
«Какой же, – говорит, – может быть дух у глупого человека?»
«Дух, сударь, – ответствует Лука, – бывает не по разуму: дух иде же хощет дышит, и все равно что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный».
Англичанин подумал и говорит:
«Хорошо, хорошо: это все интересные ощущения. Ну, а как же он меня выручит, если я попадусь?»
«А вот как, – отвечает Лука, – вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет, и в окно полезет и всю вину на себя примет».
Это англичанину очень понравилось.
«Любопытно, – говорит, – любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?»
«Ну уж это, мол, дело взаймоверия».
«Взаймоверия, – повторяет. – Гм, гм, взаймоверия! Я за глупого мужика в каторгу или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово… под кнут… Это интересно».
Послали за Мароем и объяснили ему, в чем дело, а он и говорит:
«Ну так что же?»
«А ты не убежишь?» – говорит англичанин.
А Марой отвечает:
«Зачем?»
«А чтобы тебя плетьми не били да в Сибирь не сослали».
А Марой говорит:
«Экося!» – да больше и разговаривать не стал.
Англичанин так и радуется: весь ожил.
«Прелесть, – говорит, – как интересно».
14
Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы наутро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег: он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.
Спрашиваем:
«Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?»
«Видел, – отвечает, – и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю».
«Батюшка, – молим его, – порадей!»
«Ничего, – отвечает, – порадею!»
И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.
К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.
Наступал самый опасный час нашего воровства.
Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью: я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду.
А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.
Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления: как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всенощна пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стадо поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк, и закачало.
Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим, передавленным голосом говорит:
«Греби!»
Я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду. Насилу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю:
«Добыли, дядя, ангела?»
«Со мной он, греби мощней!»
«Расскажи же, – пытаю, – как вы его достали?»
«Непорушно достали, как было сказано».
«А успеем ли назад взворотить?»
«Должны успеть: еще только великий прокимен вскричали. Греби! Куда ты гребешь?»
Я оглянулся: ах ты, Господи! и точно, я не туда гребу: все, кажись, как надлежит, впоперек течения держу, а нашей слободы нет, – это потому что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит.
Ну, однако, милостью Божиею мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее и на свою подделку и говорит:
«Хороша! только надо ее маленько грязцой с шафраном [88] усмирить!» А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и… пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с!
Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой писчей бумаги… Долго ли тут до греха: то есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такой холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и наконец глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинках. Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в средину краев, а на долонь набрал какой знал темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном вроде замазки и ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать… Живо он все это свершал, и вновь писаная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.
Это начиналась самая трудная акция распечатления.
Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:
«Давай каленый утюг!»
В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг.
Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку!.. От разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от поярка уже столбом валит, а Севастьян знай печет: одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другою – утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильнее налегает, и вдруг отбросил и утюг и поярок и поднял к свету икону, а печати как не бывало: крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике, но зато светлобожественный лик весь виден…
Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:
«Ну, кончай же скорей!»
А тот отвечает:
«Моя акция кончена, я все сделал, за что брался».
«А печать наложить».
«Куда?»
«А вот сюда этому новому ангелу на лик, как у того было».
А Севастьян покачал головою и отвечает:
«Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать».
«Так как же нам теперь быть?»
«А уже я, – говорит, – этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте».
Лука говорит:
«Что ты это! Да мы ни за что не дерзнем!»
А изограф отвечает:
«И я не дерзну».
И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть, и говорит:
«Неужели вы еще не готовы?»
Говорим: и готовы и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.
А она немует по-своему:
«Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что на дворе?»
Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул: лед идет!
Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыга на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются.
Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло… У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу. Стою и не двигаюсь, и голоса не даю.
А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и. выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:
«Нате, готово!»
Мы глянули: у нового ангела на лике печать!
Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:
«Лодку!»
Я открываюсь, что нет лодок, унесло.
А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.
Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемс!» – и пала неживая.
А мы стоим и одно чувствуем:
«Где же наше слово? Что теперь будет с англичанином? Что будет с дедом Мароем?»
А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.
Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке:
«Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и доброчестное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти!» – и с этим словом перекрестился, выступил и пошел.
Я вскрикнул:
«Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь!» – да и кинулся за ним, чтоб удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, наземь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:
«Прочь! Или насмерть ушибу!»
Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей-право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но… угодно вам – верьте, не угодно – нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи, и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:
«Заводи катавасию!» [89]
Головщик [90] наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста», – а другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается… А далее? далее объяла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучину забуровало, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?
15
Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвященный владыко архиерей своим правилом в главной церкви всенощную совершал, ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не возвратится, сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я – ответный вор, здесь!
И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаимоверии превозвысить, а к этим двум верам третия, еще сильнейшая двизает, но только не знают они, что та, третья вера, творит. Но вот как ударили в последний звон всенощной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердисловит:
«Перенеси Бог! перенеси Бог, перенеси Бог! – А потом вдруг как вспрыгнет и сам, словно пьяный, пляшет, а сам кричит: – Перенес Бог, перенес Бог!»
Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает:
«Ну, конец: глупый старик помешался, и я погиб», – ан смотрит, Марой с Лукою уже обнимаются.
Дед Марой шавчит:
«Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел».
А дядя Лука говорит:
«Со мною не было фонарей».
«Откуда же светение?»
Лука отвечает:
«Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал… точно меня кто под обе руки нес».
Марой говорит:
«Это ангелы, – я их видел, и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня».
А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад.
«Что же, – говорит, – печати нет?»
Лука говорит:
«Как нет?»
«Да нет».
Ну, тут Лука перекрестился и говорит:
«Ну, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, и я знаю, к чему оно».
И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит:
«Так и так, я святотатец и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить».
А владыка в меру чести своея все то выслушал и ответствует:
«Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, – говорит, – плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел».
Дядя говорит:
«Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь».
А архиерей ответствует разрешительным словом:
«Властию, мне данною от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься заутро принять Пречистое Тело Христово».
Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром ворочаются и говорят:
«Отцы и братие, мы видели славу ангела господствующей церкви и все Божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и Тела и Крови Спаса сегодня за обеднею приобщались».
А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех:
«И мы за тобой, дядя Лука!» – да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.
16
Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но наконец один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось впросонье, и падение ангела, которого забеглая кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.
– Понятно и то, – добавил слушатель, – что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно перезябшему человеку мало ли что могло зарябить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию, не преполовя дня умер…
– Да он и умер-с, – отозвался Марк.
– Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала?
– Ну, а это уже самое простое-с, – весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.
– Как же это могло случиться?
– А так: англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада. Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала.
– Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно.
– Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями Господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлачки уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С Новым годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня, невежу!
Некрещеный поп Невероятное событие (Легендарный случай)
Посвящается Федору Ивановичу Буслаеву
Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событии посвящается мною досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому, чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как литературное произведение. Нет; я посвящаю его имени Ф. И. Буслаева потому, что это оригинальное событие уже теперь, при жизни главного лица, получило в народе характер вполне законченной легенды; а мне кажется, проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, «как делается история».
1
В своем приятельском кружке мы остановились над следующим газетным известием:
«В одном селе священник выдавал замуж дочь. Разумеется, пир был на славу, все подпили порядком и веселились по-сельскому, по-домашнему. Между прочим, местный диакон оказался любителем хореографического искусства и, празднуя веселье, „веселыми ногами“ в одушевлении отхватал перед гостями трепака, чем всех привел в немалый восторг. На беду, на том же пиру был благочинный, которому такое деяние диакона показалось весьма оскорбительным, заслуживающим высшей меры взыскания, и в ревности своей благочинный настрочил донос архиерею о том, как диакон на свадьбе у священника „ударил трепака“. Архиепископ Игнатий, получив донос, написал такую резолюцию:
Диакон N «ударил трепака»…
Но трепак не просит;
Зачем же благочинный доносит?
Вызвать благочинного в консисторию и допросить
Дело окончилось тем, что доноситель, проехав полтораста верст и немало израсходовав денег на поездку, возвратился домой с внушением, что благочинному следовало бы на месте словесно сделать внушение диакону, а не заводить кляуз из-за одного – и притом исключительного случая».
Когда это было прочитано, все единогласно поспешили выразить полное сочувствие оригинальной резолюции пр. Игнатия, но один из нас, г. Р., большой знаток клирового быта, имеющий всегда в своей памяти богатый запас анекдотов из этой своеобычной среды, вставил:
– Хорошо-то это, господа, пускай и хорошо: благочинному действительно не следовало «заводить кляуз из-за одного – и притом исключительного случая»; но случай случаю рознь, и то, что мы сейчас прочитали, приводит мне на память другой случай, донося о котором благочинный поставил своего архиерея в гораздо большее затруднение, но, однако, и там дело сошло с рук.
Мы, разумеется, попросили своего собеседника рассказать нам его затруднительный случай и услыхали от него следующее:
– Дело, о котором по вашей просьбе надо вам рассказывать, началось в первые годы царствования императора Николая Павловича, а разыгралось уже при конце его царствования, в самые суматошные дни наших крымских неудач. За тогдашними, большой важности, событиями, которые так естественно овладели всеобщим вниманием в России, казусное дело о «некрещеном попе» свертелось под шумок и хранится теперь только в памяти остающихся до сих пор в живых лиц этой замысловатой истории, получившей уже характер занимательной легенды новейшего происхождения.
Так как дело это в своем месте весьма многим известно и главное лицо, в нем участвующее, до сих пор благополучно здравствует, то вы должны меня извинить, что я не буду указывать место действия с большою точностию и стану избегать называть лица их настоящими именами. Скажу вам только, что это было на юге России, среди малороссийского населения, и касается некрещеного попа, отца Саввы, весьма хорошего, благочестивого человека, который и до сих пор благополучно здравствует и священствует и весьма любим и начальством, и своим мирным сельским приходом.
Кроме собственного имени отца Саввы, которому я не вижу нужды давать псевдоним, все другие имена лиц и мест я буду ставить иные, а не действительные.
2
Итак, в одном малороссийском казачьем селе, которое мы, пожалуй, назовем хоть Парипсами, жил богатый казак Петро Захарович, по прозвищу Дукач. Человек он был уже в летах, очень богатый, бездетный и грозный-прегрозный. Не был он мироедом в великорусском смысле этого слова, потому что в малороссийских селах мироедство на великорусский лад неизвестно, а был, что называется, дукач – человек тяжелый, сварливый и дерзкий. Все его боялись и при встрече с ним открещивались, поспешно переходили на другую сторону, чтобы Дукач не обругал, а при случае, если его сила возьмет, даже и не побил. Родовое его имя, как это нередко в селах бывает, всеми самым капитальным образом было позабыто и заменено уличною кличкою или прозвищем – Дукач, что выражало его неприятные житейские свойства. Эта обидная кличка, конечно, не содействовала смягчению нрава Петра Захарыча, а, напротив, еще более его раздражала и доводила до такого состояния, в котором он, будучи от природы весьма умным человеком, терял самообладание и весь рассудок и метался на людей как бесноватый.
Стоило завидевшим его где-нибудь играющим детям в перепуге броситься вроссыпь с криком «Ой, лышенько, старый Дукач иде», как уже этот перепуг оказывался не напрасным: старый Дукач бросался в погоню за разбегающимися ребятишками со своею длинною палкою, какую приличествует иметь в руках настоящему степенному малороссийскому казаку, или с случайно сорванною с дерева хворостиною. Дукача, впрочем, боялись и не одни дети; его, как я сказал, старались подальше обходить и взрослые, – «абы до чого не прычепывся». Такой это был человек. Дукача никто не любил, и никто ему не сулил ни в глаза, ни за глаза никаких благожеланий, напротив, все думали, что Небо только по непонятному упущению коснит давно разразить сварливого казака вдребезги так, чтобы и потроха его не осталось, и всякий, кто как мог, охотно бы постарался поправить это упущение Промысла, если бы Дукачу, как назло, отвсюду незримо «не перло счастье». Во всем ему была удача – все точно само шло в его железные руки: огромные стада его овец плодились, как стада Ливановы при досмотре Иакова. Для них уже вблизи и степей недоставало; половые [91], круторогие волы Дукача сильны, рослы и тоже чуть не сотнями пар ходили в новых возах то в Москву, то в Крым, то в Нежин; а пчелиная пасека в своем липняке, в теплой запуши была такая, что колодки надо было считать сотнями. Словом, богатство по казачьему званию – несметное. И за что все это Бог дал Дукачу? Люди только удивлялись и успокаивали себя тем, что все это не к добру, что Бог, наверное, этак «манит» Дукача, чтобы он больше возвеличался, а потом его и «стукнет», да уж так стукнет, что на всю околицу слышно будет.
Ждали добрые люди этой расправы над лихим казаком с нетерпением, но годы шли за годами, а Бог Дукача не стукал. Казак все богател и кичился, и ниоткуда ничто ему достойное его лютовства не угрожало. Общественная совесть была сильно смущена этим. Тем более что о Дукаче нельзя было сказать, что ему отплатится на детях: детей у него не было. Но вот вдруг старая Дукачиха стала чего-то избегать людей – она конфузилась, или, по-местному, «соромылась» – не выходила на улицу, и вслед за тем по околице разнеслась новость, что Дукачиха «непорожня».
Умы встрепенулись, и языки заговорили: давно утомленная ожиданием общественная совесть ждала себе близкого удовлетворения.
– Що то буде за дитына! Що то буде за дитына антихристова? И чи воно родыться, чи так и пропаде в жывоти, щоб ему не бачыть билого свиту!
Ждали этого все с нетерпением и наконец дождались: в одну морозную декабрьскую ночь в просторной хате Дукача, в священных муках родового страдания, явился ребенок.
Новый жилец этого мира был мальчик, и притом без всякого зверовидного уродства, как хотелось всем добрым людям; а, напротив, необыкновенно чистенький и красивый, с черною головкою и большими голубыми глазками.
Бабку Керасиху, которая первая вынесла эту новость на улицу и клялась, что у ребенка нет ни рожков, ни хвостика, оплевали и хотели побить, а дитя все-таки осталось хорошенькое-прехорошенькое и к тому же еще удивительно смирное: дышало себе потихонечку, а кричать точно стыдилось.
3
Когда Бог даровал этого мальчика, Дукач, как выше сказано, был уже близок к своему закату. Лет ему в ту пору было, может быть, более пятидесяти. Известно, что пожилые отцы горячо принимают такую новость, как рождение первого ребенка, да еще сына, наследника имени и богатства. И Дукач был этим событием очень обрадован, – но выражал это, как позволяла ему его суровая натура. Прежде всего он призвал к себе жившего у него бездомного племянника по имени Агапа и объявил ему, чтобы он теперь уже не дул губу на дядино наследство, потому что теперь уже Бог послал к его «худоби» настоящего наследника, а потом приказал этому Агапу, чтобы он сейчас же снарядился в новый чепан и шапку и готовился, чуть забрезжит заря, идти с посылом до заезжего судейского паныча и до молодой поповны – звать их в кумовья.
Агапу тоже уже было лет под сорок, но он был человек загнанный и смотрел с виду цыпленком с зачичкавшеюся головенкою, на которой у него сбоку была пресмешная лысина, тоже дело руки Дукача.
Когда Агап в отрочестве осиротел и был взят в Дукачев дом, он был живой и даже шустрый ребенок и представлял для дяди ту выгоду, что знал грамоте. Чтобы не кормить даром племянника, Дукач с первого же года стал посылать его со своими чумаками в Одессу. И когда Агап один раз, возвратясь домой, сдал дяде отчет и показал расход на новую шапку, Дукач осердился, что тот смел самовольно сделать такую покупку, и так жестоко побил парня по шее, что она у него очень долго болела и потом навсегда немножко скособочилась; а шапку Дукач отобрал и повесил на гвоздь, пока ее моль съест. Кривошей Агап ходил год без шапки и был у всех добрых людей «посмихачем». В это время он много и горько плакал и имел досуг надуматься, как помочь своей нужде. Сам он уже давно отупел от гонений, но люди наговорили ему, что он мог бы с своим дядьком справиться, только не так просто, через прямоту, а через «полытыку». И именно через такую политику, тонкую, чтобы шапку купить, а расход на нее не показывать, а так «расписать» те деньги где-нибудь понемножечку, по другим статьям. А ко всему этому на всякий случай, идучи к дяде, взять самое длинное полотенце да в несколько раз обмотать им себе шею, чтобы если Дукач станет драться, то не было бы очень больно. Агап взял себе на ум эту науку, и вот через год, когда дядя погнал его опять в Нежин, он ушел без шапки, а вернулся и с отчетом и с шапкою, которой ни в каких расходах не значилось. Дукач спервоначала этого и не заметил и даже было похвалил племянника, сказав ему: «Треба б тебе побиты, да ни за що». Но тут бес и дернул Агапа показать дядьку, как несправедлива на свете человеческая правда! Он попробовал, хорошо ли у него намотано на шее длинное полотенце, которое должно было служить для его политических соображений, и, найдя его в добром порядке, молвил дяде:
– Эге, дядьку, добре! ни за що биты! Ось така-то правда на свити?
– А яка ж правда?
– А ось яка правда: выбачайте, дядьку. – И Агап, щелкнув по бумажке, сказал: – Нема тут шапки?
– Ну, нема, – отвечал Дукач.
– А от же и есть шапка, – похвалился Агап и насадил набекрень свою новую франтовскую шапку из решетиловских смушек.
Дукач посмотрел и говорит:
– Добра шапка. А ну, дай и мени помирять.
Надел на себя шапку, подошел к осколку зеркальца, вправленному в досточку, оклеенную яркою пестрою бумажкою, тряхнул седою головой и опять говорит:
– А до лиха, бачь и справди така добрая шапка, що хоть бы и мени, то было б добре в ни ходыти.
– А ничего соби, добре б було.
– И де ты ии, вражий сын, украв?
– Що вы, дядьку, на що я буду красты! – отвечал Агап. – Нехай от сего Бог бороныть, я зроду не крав.
– А де ж ты ии ухопыв?
Но Агап ответил, что он совсем шапки не хапал, а так себе, просто ее достал через полытыку.
Дукачу это показалось так смешно и невероятно, что он рассмеялся и сказал:
– Да ну, годи вже тебе, дурню: де таки тоби робыть полытыку?
– А от же и сробыв.
– Ну, мовчи.
– Ей-богу, уделал.
Дукач только молча погрозил ему пальцем: но тот стоит на своем, что он «полытыку уделал».
– И де в черта, та пыха у тебя взялась в голови, – заговорил Дукач, – да же сему дилу буть, щобы ты, такий сельский квак, да в Нежине мог полы-тыку делать?
Но Агап стоял на своем, что он действительно уделал полытыку.
Дукач велел Агапу сесть и все как есть про сделанную им политику рассказывать, а сам налил себе в плошку сливяной наливки, запалил люльку и приготовился долго слушать. Но долго слушать было нечего. Агап повторил дяде весь свой отчет и говорит:
– Нема тут шапки?
– Ну, нема, – отвечал Дукач.
– А вот же тут и есть шапка!
И он открыл, что именно, сколько копеек и в какой расходной статье им присчитано, и говорил он все это весело, с открытою душою и с полною надеждою на туго намотанное на шее полотенце; но тут-то и случилась самая непредвиденная неожиданность: Дукач, вместо того чтобы побить племянника по шее, сказал:
– Ишь ты и справди якый полытык: украв, да и шию закрутыв, щоб не больно було. Ну так я же тоби дам другую полытыку, – и с этим он дернул клок волос, замерший у него в руке.
Так кончилась эта политическая игра дяди с племянником и, сделавшись известной на селе, укрепила за Дукачом еще более твердую репутацию, что этот человек «як каминь» – ничем его не возьмешь: ни прямотою, ни политикою.
4
Дукач всегда жил одиноко: он ни к кому не ходил, да и с ним никто не хотел близко знаться. Но Дукач об этом, по-видимому, нимало и не скорбел. Может быть, ему это даже нравилось. По крайней мере, он не без удовольствия говаривал, что в жизнь свою никому не кланялся и не поклонится, – и случая такого не чаял, который мог бы заставить его поклониться. Да и в самом деле, и из-за чего он стал бы кого-нибудь заискивать? Волов и всякой худобы много; а если этим Бог накажет – волы попадают или что пожаром сгорит, так у него вволю и земли и лугов – все в порядке, все опять снова уродится, и он снова разбогатеет. А хоть бы и не так, то он хорошо знал в дальнем лесу один приметный дуб, под которым закопан добрый казанок с старыми рублевиками. Стоит его достать оттуда, так и без всяких хлопот можно целый век жить, и то не прожить. Что же значили ему люди? Детей, что ли, ему с ними крестить, – но у него детей не было. Или для того, чтобы утешить свою Дукачиху, которая по бабьей прихоти приставала:
– Что, мол, нас все боятся да нам завидуют – лучше бы сделать, чтобы нас кто-нибудь любить стал.
Но стоило ли это бабье нытье казачьего внимания.
И вот шли годы за годами, пронося над головою Дукача безвредно всякие житейские случайности и невзгоды, а случай, который мог заставить его поклониться людям, все-таки его не облетел мимо: теперь люди ему понадобились, чтобы дитя крестить.
Всякому иному, не такому гордому человеку, как Дукач, это, разумеется, ничего бы не составляло, но Дукачу ходить, звать, да еще упрашивать, было не под стать. Да еще кого звать и кого «упрашивать»? Уж, разумеется, не кого-нибудь, а самых первых людей: молодую поповну-щеголиху, которая ходила в деревне в полтавских шляпках, да судового паныча, что гостил об эту пору у отца диакона. Положим, это компания хорошая, но что-то страшно: ну как они откажут? Дукач помнил, что ведь не обращал внимания он не только на простых людей, но не уважал и отцу Якову, а с диаконом прямо один раз на гребле «бился» за то, что тот, едучи ему навстречу, не хотел с дороги в грязь своротить. Чего доброго, и они этого не позабыли и теперь – когда гордому казаку пришла в них нужда, – они ему это, пожалуй, и вспомнят. Делать, однако, было нечего. Дукач поднялся на хитрость: избегая самолично встретить отказ, он послал звать кумовьев Агапа. А чтобы и тому было поваднее, снабдил его зваными дарами деревенского припасения, которые вынул из заветной скрыни: панночке высокий черепаховый гребень «с огородом», а панычу золоченую склянку петухом с немецкою подписью. Но все это вышло напрасно: кумовья отказались и даров не приняли; да еще, по словам Агапа, и в глаза ему насмеялись: что, дескать, чего Дукач и заботится: разве детей таких злодеев, как он, можно крестить? А когда Агап заметил, что неужто дитя целую неделю останется не крещено, то будто сам поп – отец Яков – прямо пророковал: что не неделю, а целый век ему оставаться некрещеным.
Услыхав это, Дукач сложил правою рукою дулю, сунул ее племяннику в нос и велел поднести это за пророчество отцу Якову. А чтобы Агапу веселее было идти – повернул его другою рукою и выпроводил по потылице.
5
Агап, разумеется, не считал этого за самый худший исход, какого он мог ожидать за свое неудачное посольство, и, закатясь с дядиных глаз в корчму, успел рассказать бывшее так хорошо, что через полчаса об этом знало все селение, и все, от мала до велика, радовались тому, что отец Яков «в книгах вычитал, як Дукачонку на роду писано остаться некрещеным». И если бы теперь старый Дукач забыл всю свою важность и стал звать последнего из последних на селе, то он наверно бы никого не дозвался, но Дукач это знал: он знал, что находится в положении того волка, который всем чем-нибудь нагадил, и что ему потому некуда деться и не от кого искать защиты. Он пошел напролом: сунув к носу Агапа дулю, адресованную отцу Якову, он решил обойтись не только без содействия всех своих односельчан, но и без услуг самого отца Якова.
Назло всем, но, может быть, особенно отцу Якову, Дукач решил окрестить сына в чужом приходе, в селе Перегуды, которое отстояло от Парипс не более как на семь или на восемь верст. А чтобы не откладывать спешного дела в долгий ящик – окрестить сына немедленно, а именно нынче же, – чтобы завтра об этом и разговоров не было; а напротив, чтобы завтра же все знали, что Дукач настоящий казак, который никому в насмешку не дается и может без всех обойтись. Кум у него уже был избран – самый неожиданный, – это Агап. Правда, что такой выбор многих мог удивить, но на то у Дукача был отвод: он брал простых кумовьев – «встречных», как на то есть поверье, что таких Бог посылает. Агап и взаправду был первый «встречник», на которого богатый казак на первого взглянул при известии о новорожденном; а первая «встречница» была бабка Керасивна. Ее взять в кумы было немножко неловко, потому что Керасивна имела не совсем стройную репутацию: она была самая несомненная ведьма; столь несомненная, что этого не отрицал даже сам ее муж, очень ревнивый казак Керасенко, из которого эта хитрая жинка весь дух и всю его нестерпимую ревность выбила. Обратя его в самого битого дурня, жила она на всей своей вольной воле – немножко шинкуя, немножко промышляя то повитушеством, то продажею паляниц, то, наконец, просто «срывая цветы удовольствий».
6
Ведьмовство ее знали и стар и мал, – потому что случай, обнаруживший это, был самый гласный и скандальный. Керасивна еще в дивчинах была бесстрашная самовольница – жила в городах и имела какую-то мудреного вида скляницу с рогатым чертом, которую ей подарил рогачевский дворянин с Покоти, отливавший такие чертовщины в соседней гуте. И Керасивна пила себе на здоровье из этой скляницы и была здорова. И наконец, мало всего этого – она показала самую невозможную отвагу, добровольно согласясь выйти замуж за Керасенка. Этого никто не мог сделать, кроме женщины, которая ничего не боится, потому что Керасенко заведомо уже уморил своею ревностью двух жен, и когда нигде в окрестности не мог найти себе третьей, то тогда эта окаянная Христя сама ему набилась и вышла за него, только такое условие сделала, что он ей всегда будет верить. Керасенко на это согласился, а сам думал:
«Дура баба: так я тебе и стану верить! Дай женюсь – я тебя и на шаг от себя не отпущу».
Всякая бы на месте Христи это предвидела, но эта шустрая дивчина словно оглупела: и не только ничего не побоялась и вышла за ревнивого вдовца, да еще взяла и совсем его переделала, так что он вовсе перестал ее ревновать и дал ей жить на всей ее вольной воле. Вот это-то и было устроено самым коварным ведьмовством и при несомненном участии черта, которого соседка Керасивны, Пиднебесная, сама видела в образе человеческом.
Это было вскоре же после того, как Керасенко женился на бойкой Христе, и хоть тому теперь прошел уже добрый десяток лет, однако бедный казак, конечно, и о сю пору хорошо помнил этот чертовский случай. Было это зимою, под вечер, на праздниках, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому, невмочь усидеть дома. А Керасенко и сам «нудил свитом», и жену никуда не пускал, и произошла у них из-за этого баталия, при которой Керасивна сказала мужу:
– Ну, як ты выйшов на своем слове невирный, то я же тебе зроблю лихо.
– Як лихо! Як ты мени лихо зробишь? – заговорил Керасенко.
– А зроблю, да и усе тут буде.
– А як я тебе з очей не выпущу?
– А я на тебе мару напущу.
– Як мару? Хиба ты видьма?
– А от побачишь, чи я видьма, чи я ни видьма.
– Добре.
– От побачишь: дивись на мене, держись за мене, а я свое зроблю.
И еще срок назначила:
– Три дня, – говорит, – не пройдет, как сделаю.
Казак сидит день, сидит два, просидел и третий до самого до вечера и думает: «Срок кончился, а щоб мене сто чортиев сразу взяли, як дома скучно… а Пиднебеснихин шинок як раз против моей хаты, из окон в окна: мини звидтиль все видно будет, як кто-нибудь пойдет ко мне в хату. А я тем часом там выпью две-три або четыре чвертки… послухаю, що люди гомонят, що в городу чуть. и потанцюю, – позабавлюся».
И он пошел – пошел и сел, как думал, у окна, так что ему видно всю свою хату, видно, как огонь горит; видно, как жинка там и сям мотается. Чудесно! И Керасенко сел себе да попивает, а сам все на свою хату посматривает; но откуда ни возьмись сама вдова Пиднебесная заметила эту его проделку, да и ну над ним подтрунивать: эх, мол, такой-сякой ты глупый казак, – чего ты смотришь, – в жизнь того не усмотришь.
– Ну добре – ще побачим!
– Ничого и бачить, – де за нами, жинками, больше смотрят, там нам, жинкам, сам бис помогае.
– Говори-ка, говори себе, – отвечал казак, – а як я сам на жинку дивитимусь, то коло ии и черт ничего не зробыть.
Тут все и закивали головами.
– Ах, нехорошо так, Керасенко, ах, нехорошо! Или ты некрещеный человек, или ты до того осатанел, что и в самого беса не веруешь.
И все этим так возмутились, что даже кто-то из толпы крикнул:
– Да що еще на него смотреть: дать ему такого прочухана, щоб вин тричи перевернувся и на добру виру став.
И его действительно чуть не побили, к чему, как он заметил, особенное стремление имел какой-то чужой человек, о котором Керасенку вдруг ни с того ни с сего вздумалось, что это не кто иной, как тот самый рогачевский дворянин, который подарил его жене склянку с чертом и из-за которого у них с женою перед самою свадьбою было объяснение, окончившееся условием, чтобы об этом человеке больше уже не разговаривать.
Условие было заключено страшной клятвой, что если Керасенко хоть раз вспомнит про дворянина, то будет он тогда за это у черта в зубах. И Керасенко это условие помнил. Но только теперь он был пьян и не мог снесть своего замешательства: зачем тут явился рогачевский дворянин? И он поспешил домой, но дома не застал жены, и это ему показалось еще несообразнее.
«Не вспоминать-то, – думал он, – это точно мы условились о нем не вспоминать, а на что же он тут вертится, – и зачем моей жены дома нет?»
И когда Керасенко находился в таких размышлениях, ему вдруг показалось, что у него в сенях за дверью кто-то поцеловался. Он встрепенулся и стал прислушиваться… слышит, еще поцелуй, и еще, и шепот, и опять поцелуй. И все как раз у самой у двери.
– Э, до ста чертей, – сказал себе Керасенко, – или это я с отвычки горилки так славно наугощался у Пиднебеснихи, что мне черт знает что показывается; или это моя жинка пронюхала, что я про рогачевского шляхтича с нею хочу спорить, и вже успела на меня мару напустить? Люди мне уже не раз прежде говорили, что она у меня ведьма, да только я этого доглядеться не успел, а теперь. ишь, опять целуются, о. о. о. вот опять и опять. А, стой же, я тебя подкараулю!
Казак спустился с лавки, подполз тихо к двери и, припав ухом к пазу, стал слушать: целуются, несомненно целуются – так губами и чмокают. А вот и разговор, и это живой голос его жены; он слышит, как она говорит:
– Що тоби мой муж, такий-сякий поганец: я его прожену, а тебе в хату пущу.
«Ого! – подумал Керасенко. – Это она еще меня хвалится выгнать, а в мою хату кого-то впустить хочет. Ну, уж этого не будет».
И он поднялся, чтобы сильным толчком распахнуть дверь, но дверь сама растворилась, и на пороге предстала Керасивна – такая хорошая, спокойная, только немножко будто красная, и сразу же принялась ссориться, как пристойно настоящей малороссийской жинке. Назвала она его чертовым сыном, и пьяницей, и собакой, и многими другими именами, а в заключение напомнила ему об их условии, чтобы Керасенко и думать не смел ее ревновать. А в доказательство своего к ней доверия сейчас же пустил бы ее на вечерницы. Иначе она ему такую штуку устроит, что он будет век помнить. Но Керасенко был малый не промах, пустить на вечерницы сейчас после того, как он своими глазами видел у Пиднебеснихи рогачевского дворянина и сейчас слышал, как его жена с кем-то целовалась и сговаривалась кого-то пустить в хату… это ему, разумеется, представилось уже слишком очевидною глупостью.
– Нет, – сказал он, – ты поищи такого дурня в другом месте, а я хочу лучше тебя дома припереть да спать лечь. Так оно надежнее будет: тогда я и твоей мары не испугаюсь.
Керасивна, услыхав эти слова, даже побледнела: муж с нею первый раз заговорил в таком тоне, и она понимала, что это настал в ее супружеской политике самый решительный момент, который во что бы то ни стало надо выиграть: или все, что она вела до сих пор с такою ловкостью и настойчивостью, пропало бесследно и, пожалуй, еще обратится на ее же голову.
И она вспрянула – вспрянула во весь свой рост, ткнула казаку в нос самую оскорбительную дулю и хотела недолго думая махнуть за дверь, но тот отгадал ее намерение и предупредил его, замкнув дверь на цепочку, и, опустив ключ в бесконечный карман своих широчайших шаровар, с возмутительным спокойствием сказал:
– Вот тебе и вся твоя дорога, от печи да до порога.
Положение Керасивны обозначилось еще решительнее: она приняла вызов мужа и впала в такое неописанное и страшное экстатическое состояние, что Керасенко даже испугался. Христя долго стояла на одном месте, вся вздрагивая и вытягиваясь как змея, причем руки ее корчились, кулаки были крепко сжаты, а в горле что-то щелкало, и по лицу ходили то белые, то багровые пятна, меж тем как устремленные в упор на мужа глаза становились острее ножей и вдруг заиграли совсем красным пламенем.
Это показалось казаку так страшно, что он, не желая видеть жены в этом бешенстве, крикнул:
– Цур тоби, проклятая видьма! – И, дунув на огонь, сразу погасил светло.
Керасивна только топнула впотьмах и прошипела:
– Так будешь же ты знать мене, видьму! – И потом вдруг, как кошка, прыгнула к печке и звонко-презвонко крикнула в трубу:
– У-гу-у! Души его, свинью!
7
Казак, правда, еще больше струсил от этого нового неистовства, но, чтобы не упустить жену, которая очевидно была ведьма и имела прямое намерение лететь в трубу, он изловил ее и, сильно обхватив ее руками, бросил на кровать к стенке и тотчас же сам прилег с краю.
Керасивна, к удивлению мужа, нимало не сопротивлялась, – напротив, она была тиха, как смирный ребенок, и даже не бранилась. Керасенко был этому очень рад и, зажав одною рукою спрятанный в карман ключ, а другою взяв жену за рукав рубахи, заснул глубоким сном.
Но недолго длилось это его блаженное состояние: только что он отхватал половину первого сна, в котором переполненный винных паров мозг его размяк и утратил ясность представлений, как вдруг он получил толчок в ребра.
«Что такое?» – подумал казак и, почувствовав еще новые толчки, пробормотал:
– Чего ты, жинка, толкаешься?
– А то як же не толкаться: слухай-ко, что на дворе робится?
– Что там робится?
– А вот ты слухай!
Керасенко поднял голову и слышит, что у него на дворе что-то страшно визгнуло.
– Эге, – сказал он, – а ведь это, пожалуй, кто-то нашу свинью волокет.
– А разумеется, так. Пусти меня скорее, я пойду посмотрю: хорошо ли она заперта?
– Тебя пустить?.. Гм… гм…
– Ну дай же ключ, а то украдут свинью, и будем мы сидеть все Святки и без ковбас, и без сала. Все добрые люди будут ковбасы есть, а мы будем только посматривать. Ого-го-го… слушай, слушай: чуешь, як ее волокут. Аж мне его жаль, как оно, бедное порося, завизжало!.. Ну пусти меня скорее: я пойду ее отниму.
– Ну да: так я тебя и пущу! Где это видано, чтобы баба на такое дело ходила – свинью отниматъ – отвечал казак: – Лучше я встану и сам пойду отниму.
А на самом деле ему лень было вставать и страх не хотелось идти на мороз из теплой хаты; но только и свинью ему было жалко, и он встал, накинул свитку и вышел за двери. Но тут и произошло то неразгаданное событие, которое несомненнейшими доказательствами укрепило за Керасивною такую ведьмовскую славу, что с сей поры всяк боялся Керасивну у себя в доме видеть, а не только в кумы ее звать, как это сделал надменный Дукач.
8
Не успел осторожно шагавший казак Керасенко отворить хлев, где горестно завывала недовольная причиняемым ей беспокойством свинья, как на него из непроглядной темноты упало что-то широкое да мягкое, точно возовая дерюга, и в ту же минуту казака что-то стукнуло в загорбок, так что он упал на землю и насилу выпростался. Удостоверившись, что свинья цела и лежит на своем месте, Керасенко припер ее покрепче и пошел к хате досыпать ночь.
Но не тут-то было: не только самая хата, но и сени его оказались заперты. Он туда, он сюда – все заперто. Что за лихо? Стучал он, стучал; звал, звал жинку:
– Жинка! Христя! Отопри скорее.
Керасивна не откликалась.
– Тпфу ты, лихая баба: чего это она вздумала запереться и так скоро заснула! Христя! ей! жинка! Отчини!
Ничего не было: словно все замерло; даже и свинья спит, и та не хрюкает.
«Вот так штука! – подумал Керасенко. – Ишь как заснула! Ну да я вылезу через тын на улицу да подойду к окну; она близко у окна спит и сейчас меня услышит».
Он так и сделал: подошел к окну и ну стучать, но только что же он слышит? Жена его говорит:
– Спи, человиче, спи: не зважай на то, що стучит: се чертяка у нас ходыт!
Казак стал сильнее стучать и покрикивать:
– Сейчас отчини, или я окно разобью.
Но тут Христя рассердилась и отозвалась:
– Кто это смеет в такую пору к честным людям стучаться?
– Да это я, твой муж.
– Какой мой муж?
– Известно какой твой муж – Керасенко.
– Мой муж дома, – иди себе, иди, кто ты там есть, не буди нас: мы с мужем, вместе обнявшись, спим.
«Что это такое? – подумал Керасенко. – Неужели я все сплю и во сне вижу или это взаправду деется?»
И он опять застучал и начал звать:
– Христя, а Христя! Да отопри на Божию милость.
И все пристает, все пристает с этим; а та долго молчит, – ничего не отвечает, и потом опять отзовется:
– Да провались ты совсем, – кто такой привязался; говорю тебе, мой муж дома, со мною рядом обнявшись, лежит, – вот он.
– Это тебе, Христя, може, показывается?
– Эге! Спасиби тебе на том! Що же, хиба я така дурна, чи совсем нечувствительна, що ни в чем толку не знаю? Нет, мне это лучше знать, що показывается, а що не показывается. Вот он, вот, мой чоловик у меня, совсем близенько… вот я его и перекрещу:
Господи Иисусе, а вот и поцелую: и обниму и опять поцелую… Так добре нам вместе, а ты, недобрый потаскун, иди себе сам до своей жинки – не мешай нам спать и целоваться. Добра ничь – иди с Богом.
– Фу ты, сто чертов твоему батькови: что эта за притча! – пожимая плечами, рассуждал Керасенко. – Чего доброго, я, перелезши через тын, не обознался ли хатою. Только нет: это моя хата.
Он отошел на другую сторону широкой деревенской улицы и стал считать от колодца с высоким журавлем.
– Первая, вторая, третья, пятая, седьмая, девятая. Вот это и есть моя девятая.
Пришел: опять стучит, опять зовет, и опять та же история: нет-нет отзовется женский голос, и все раз от раза с большим неудовольствием, и все в одном и том же смысле:
– Иди прочь: мой муж со мною.
А голос Христи – несомненно ее голос.
– А ну, если твой чоловик с тобою, – пусть он заговорит.
– Чего ему со мною говорить, як мы уже все обговорили.
– Да я хочу послушать: есть ли там у тебя чоловик?
– А вже же есть: вот ты слухай, як мы станем целоваться.
– Тпфу, пропасти на них нет; в самом деле целуются, а меня уверяют, что я – не я, и куда-то совсем прочь домой посылают. Но погоди же: я не совсем глупый – я пойду соберу людей, и пусть люди скажут: мой это дом или нет, и я или кто другой муж моей жинки. Слушай, Христя: я пойду людей будить.
– Да иди, иди, – отвечает голос, – только от нас отчепысь: мы вот двоечко нацеловались и, смирненько обнявшись, лежим, и хорошо нам. А до других ни до кого и дела нет.
Вдруг и другой, несомненно мужской, голос то же самое утверждает:
– Мы двоечко нацеловались и теперь, смирненько обнявшись, лежим, а ты ступай к черту!
Ничего больше не оставалось делать: Керасенко убедился, что в его звании под бок к Христе подкатился кто-то другой, и он пошел будить соседей.
9
Долго или коротко это шло, пока очумевший Керасенко успел добудиться и собрать к своему дому десятка два казаков и добровольно последовавших за мужьями любопытных казачек, – а Керасивна оставалась в своем положении и все уверяла всех, что со всеми с ними мара, а что ее муж с нею дома, лежит у нее на руке, и в доказательство не раз заставляла всех слушать, как она его целует. И все казаки и казачки это внимали и находили, что это никак не может быть фальшь, потому что поцелуи были настоящие, и притом из-за окна, хотя не особенно внятно, а все-таки хорошо слышался мужской голос, который, по уверению Керасивны, принадлежал ее мужу. И все слышали, как этот голос один раз приблизился к самому окну и оттуда, всех ужасая, сказал:
– Що вы, дурни, за марою ходите? Я дома лежу со своею жинкою; а это вас мара водит. Дайте ей всякий по одному доброму прочухану наотмашь – она враз и рассыпется.
Казаки перекрестились, и кто из них ближе стоял к Керасенке, тот первый и съездил его изо всей силы по потылице, – но сам тотчас же дал тягу; а его примеру последовали другие. И Керасенко, получив от каждого по тумаку наотмашь, в одну минуту был жестоко исколочен и безжалостно брошен у порога своей заколдованной хаты, где какой-то коварный демон так усердно замещал его на супружеском ложе. Он более уже не пытался облегчить своего горя, а только, сидя на снежку, горько плакал, как совсем бы казаку и не пристало, и все как будто слышал, что его Керасивна целуется. Но, к счастью, все мучения человеческие имеют конец, – и это терзание Керасенки кончилось, – он заснул, и ему снилось, будто его жена взяла его за шиворот и перенесла на хорошо ему знакомую теплую постель, а когда он проснулся, в самом деле увидел себя на своей постели, в своей хате, а перед ним у припечки хлопотала, стряпая клецки с сыром, его молодцеватая Керасивна. Словом, все как следует, – точно ничего необыкновенного и не случилось: ни про поросенка, ни про мару и помина не было. Керасенко же хотя и очень желал об этом заговорить, но не знал, как за это взяться?
Казак на все только рукою махнул и с тех пор жил с своею Керасивною в мире и согласии, оставляя ее на всей ее воле и просторе, которыми она и пользовалась как знала. Она и торговала, и ездила куда хотела, и домашнее счастие ее от этого не страдало, благосостояние и опытность увеличивались. Но зато в общественном мнении Керасивна была потеряна: все знали, что она ведьма. Хитрая казачка против этого никогда не спорила, так как это давало ей своего рода апломб: ее боялись, чествовали и, приходя к ней за советами, приносили ей либо копу яиц, либо какой другой пригодный в хозяйстве подарок.
10
Знал Керасивну и Дукач, и знал ее, разумеется, за женщину умную, с которою, окромя ее ведовства, во всяком причинном случае посоветоваться не лишнее. И как Дукач сам был человек нелюбимый, то он Керасивною не очень-то и брезговал. Люди говорили, будто не раз видали их стоявшими вдвоем под густою вербою, которая росла заплетенная в плетень, разделявший их огороды. Иные даже думали, что тут было немножко и какого-то греха, но это, разумеется, были сплетни. Просто Дукач и Керасивна, имевшие в своей репутации нечто общее, были знакомы и находили о чем поговорить друг с другом.
Так и теперь, в том досадительном случае, который последовал по поводу неудачного позыва кумовьев, Дукач вспомнил о Керасивне и, призвав ее на совет, рассказал ей причиненную ему всеми людьми досаду.
Выслушав это, Керасивна мало подумала и, тряхнув головою, прямо отрезала:
– А що же, пане Дукач, зовить меня кумою!
– Тебя кумою звать? – повторил в раздумье Дукач.
– Да, или вы верите, що я видьма?
– Гм!.. Говорят, будто ты видьма, а я у тебя хвоста не бачив.
– Да и не побачите.
– Гм! Тебя кумою… а що на то все люди скажут?
– Се якие люди?.. Те, що вам в хату и плюнуть не хотят идти?
– Правда, а що моя Дукачиха заговорит? Ведь она верит, що ты видьма.
– А вы ее боитесь?
– Боюсь… Я не такой дурень, як твой муж: я баб не боюсь и никого не боюсь: а тилько… ты вправду не видьма?
– Э, да, я бачу, вы, пане Дукач, такий же дурень! Ну так зовите же кого хотите.
– Гм! Ну стой, стой, не сердись: будь ты взаправду кумою. Только смотри, станет ли с тобою перегудинский поп крестить?
– А отчего не станет!
– Да Бог его знает: он який-с такий ученый – все от Писания начинает, – скажет: не моего прихода.
– Не бойтесь – не скажет: он хоть ученый, а жинок добре слухае… Начнет от Писания, а кончит, як все люди, – на том, що жинка укажет. Добре его знаю и была с ним в компании, где он ничего пить не хотел. Говорит: «В Писании сказано: не упивайтеся вином, – в нем бо есть блуд». А я говорю: «Блуд таки блудом, а вы чарочку выпейте», – он и выпил.
– Выпил?
– Выпил.
– Ну, так се добре: только смотри, щобы вин нам, выпивши, не испортил хлопца, – не назвал бы его Иваном або Николою.
– Ну вот! Так я ему и дам, щоб христианское дитя да Николой назвать. Хиба я не знаю, что это московьское имя.
– То-то и есть: Никола самый москаль.
Дело стояло еще за тем, что у Керасивны не было такой теплой и просторной шубы, чтобы везти дитя до Перегуд, а день был очень студеный – настоящее «варварское время», но зато у Дукачихи была чудная шуба, крытая синею нанкою. Дукач ее достал и отдал без спроса жены Керасивне.
– На, – говорит, – надень и совсем ее себе возьми, только долго не копайся, щобы люди не говорили, що у Дукача три дня было дитя не хрещено.
Керасивна насчет шубы немножко поломалась, но, однако, взяла ее. Она завернула далеко вверх подбитые заячьим мехом рукава, и все в хуторе видели, как ведьма, задорно заломив на затылок пестрый очипок, уселась рядом с Агапом в сани, запряженные парою крепких Дукачевых коней, и отправилась до попа Еремы в село Перегуды, до которого было с небольшим восемь верст. Когда Керасивна с Агапом отъезжали, любопытные люди видели, что и кум и кума были достаточно трезвы. Что хотя у Агапа, который правил лошадьми, была видна в коленях круглая барилочка с наливкою, но это, очевидно, назначалось для угощения причта. У Керасивны же за пазухою просторной синей заячьей шубы лежало дитя, с крещением которого должен был произойти самый странный случай, – что, впрочем, многие опытные люди живо предчувствовали. Они знали, что Бог не допустит, чтобы сын такого недоброго человека, как Дукач, был крещен, да еще через известную всем ведьму. Хороша бы после этого вышла и вся крещеная вера!
Нет, Бог справедлив: Он этого не может допустить и не допустит.
Того же самого мнения была и Дукачиха. Она горько оплакивала ужасное самочинство своего мужа, избравшего единственному, долгожданному дитяти восприемницею заведомую ведьму.
При таких обстоятельствах и предсказаниях произошел отъезд Агапа и Керасивны с Дукачевым ребенком из села Парипсы в Перегуды, к попу Ереме.
Это происходило в декабре, за два дня до Николы, часа за два до обеда, при довольно свежей погоде с забористым «московьским» ветром, который тотчас же после выезда Агапа с Керасивною из хутора начал разыгрываться и превратился в жестокую бурю. Небо сверху заволокло свинцом; понизу завеялась снежистая пыль, и пошла лютая метель.
Все люди, желавшие зла Дукачеву ребенку, видя это, набожно перекрестились и чувствовали себя удовлетворенными: теперь уже не было никакого сомнения, что Бог на их стороне.
11
Предчувствия говорили недоброе и самому Дукачу; как он ни был крепок, а все-таки был доступен суеверному страху и – трусил. В самом деле, с того ли или не с того сталося, а буря, угрожавшая теперь кумовьям и ребенку, точно с цепи сорвалась как раз в то время, когда они выезжали за околицу. Но еще досаднее было, что Дукачиха, которая весь свой век провела в раболепном безмолвии перод мужем, вдруг разомкнула свои молчаливые уста и заговорила:
– На старость нам, в мое утешенье, Бог нам дытину дал, а ты его съел.
– Это еще що? – остановил Дукач. – Как я съел дитя?
– А так, що отдал его видьме. Где это по всему христианскому казачеству слыхано, чтобы видьми давали дитя крестить?
– А вот же она его и перекрестит.
– Никогда того не было да и не будет, чтобы Господь припустил до своей христианской купели лиходейскую видьму.
– Да кто тебе сказал, що Керасивна ведьма?
– Все это знают.
– Мало чего все говорят, да никто у нее хвоста не видел.
– Хвоста не видели, а видели, как она мужа оборачивала.
– Отчего же такого дурня и не оборачивать?
– И от Пиднебеснихи всех отворотила, чтобы у нее паляниц не покупали.
– Оттого, что Пиднебесная спит мягко и ночью тесто не бьет, у нее паляницы хуже.
– Да ведь с вами не сговоришь, а вы кого хотите, всех добрых людей спросите – и все добрые люди вам одно скажут, что Керасиха ведьма.
– На что нам других добрых людей пытать, когда я сам добрый человек.
Дукачиха вскинула на мужа глаза и говорит:
– Как это… Это вы-то добрый человек?
– Да; а что же, по-твоему, я разве не добрый человек?
– Разумеется, не добрый.
– Да кто тебе это сказал?
– А вам кто сказал, что вы добрый?
– А кто сказал, что я не добрый?
– А кому же вы какое-нибудь добро сделали?
– Какое я кому добро сделал?
– Да.
«А сто чертей… и правда, что же это я никак не могу припомнить: кому я сделал какое-нибудь добро?» – подумал непривычный к возражениям Дукач и, чтобы не слышать продолжения этого неприятного для него разговора, сказал:
– Вот того только и недоставало, чтобы я с тобою, с бабою, стал разговаривать.
И с этим, чтобы не быть более с женою с глаза на глаз в одной хате, он снял с полка отнятую некогда у Агапа смушковую шапку и пошел гулять по свету.
11
Вероятно, на душе у Дукача было уже очень тяжело, когда он мог пробыть под открытым небом более двух часов, потому что на дворе стоял настоящий ад: буря сильно бушевала, и в сплошной снежной массе, которая тряслась и веялась, невозможно было перевести дыхание.
Если таково было близ жилья, в затишье, то что должно было происходить в открытой степи, в которой весь этот ужас должен был застать кумовьев и ребенка? Если это так невыносимо взрослому человеку, то много ли надо было, чтобы задушить этим дитя?
Дукач все это понимал и, вероятно, немало об этом думал, потому что он не для удовольствия же пролез через страшные сугробы к тянувшейся за селом гребле и сидел там в сумраке метели долго-долго, – очевидно, с большим нетерпением поджидая чего-то там, где ничего нельзя было рассмотреть.
Сколько Дукач ни стоял до самой темноты посредине гребли, – его никто не толкнул ни спереди, ни сбоку, и он никого не видал, кроме каких-то длинных-предлинных привидений, которые точно хоровод водили вверху над его головою и сыпали на него снегом. Наконец это ему надоело, и, когда быстро наступившие сумерки увеличили темноту, он крякнул, выпутал ноги из засыпавшего их сугроба и побрел домой.
Тяжело и долго путаясь по снегу, он не раз останавливался, терял дорогу и снова ее находил. Опять шел-шел и на что-то наткнулся, ощупал руками и убедился, что то был деревянный крест – высокий-высокий деревянный крест, какие в Малороссии ставят при дорогах.
«Эге, – это я, значит, вышел из села! Надо же мне взять назад», – подумал Дукач и повернул в другую сторону, но не сделал он и трех шагов, как крест был опять перед ним.
Казак постоял, перевел дух и, оправясь, пошел на другую руку, но и здесь крест опять загородил ему дорогу.
«Что он, движется, что ли, передо мною или еще что творится?» – и он начал разводить руками и опять нащупал крест, и еще один, и другой возле.
– Ага; вот теперь понимаю, где я: это я попал на кладбище. Вон и огонек у нашего попа. Не хотел ледачий пустить ко мне свою поповпу окрестить детину. Да и не надо; только где же тут, у черта, должен быть сторож Матвейко?
И Дукач было пошел отыскивать сторожку, но вдруг скатился в какую-то яму и так треснулся обо что-то твердое, что долго оставался без чувств. Когда же он пришел в себя, то увидал, что вокруг него совершенно тихо, а над ним синеет небо и стоит звезда.
Дукач понял, что он в могиле, и заработал руками и ногами, но выбраться было трудно, и он добрый час провозился, прежде чем выкарабкался наружу, и с ожесточением плюнул.
Времени, должно быть, прошло добрая часина: буря заметно утихла и на небе вызвездило.
13
Дукач пошел домой и очень удивился, что ни у него, ни у кого из соседей, ни в одной хате уже не было огня. Очевидно, что ночи уже ушло много. Неужели же и о сю пору Агап и Керасивна с ребенком еще не вернулись?
Дукач почувствовал в сердце давно ему незнакомое сжатие и отворил дверь нетвердою рукою.
В избе было темно, но в глухом угле за печкою слышалось жалобное всхлипывание.
Это плакала Дукачиха. Казак понял, в чем дело, но не выдержал и таки спросил:
– А неужели же до сих пор…
– Да, до сих пор видьма еще ест мою дытину, – перебила Дукачиха.
– Ты глупая баба, – отрезал Дукач.
– Да, это вы меня такою глупою сделали; а я хоть и глупая, а все-таки не отдавала видьми свою дытину.
– Да провались ты со своею ведьмою: я чуть шею не сломал, попал в могилу.
– Ага, в могилу. ну, то она же и вас навела в могилу. Идите лучше теперь кого-нибудь убейте.
– Кого убить? Что ты мелешь?
– Подите хоть овцу убейте, – а то недаром на вас могила зинула – умрете скоро. Да и дай Бог: что уже нам таким, про которых все люди будут говорить, что мы свое дитя видьми отдали.
И она пошла опять вслух мечтать на эту тему, меж тем как Дукач все думал: где же, в самом деле, Агап? Куда он делся? Если они успели доехать до Перегуд прежде, чем разыгралась метель, то, конечно, они там переждали, пока метель улеглась, но в таком случае они должны были выехать, как только разъяснило, и до сих пор могли быть дома.
Разве не хлебнул ли Агап лишнего из барилочки?
Эта мысль показалась Дукачу статочною, и он поспешил сообщить ее Дукачихе, но та еще лише застонала:
– Что тут угадывать, не видать нам свое дитя: заела его видьма Керасивна, и она напустила на свет эту погоду, а сама теперь летает с ним по горам и пьет его алую кровку.
И досадила этим Дукачиха мужу до того, что он, обругав ее, взял опять с одного полка свою шапку, а с другого ружье и вышел, чтобы убить зайца и бросить его в ту могилу, в которую незадолго перед этим свалился, а жена его осталась выплакивать свое горе за припечком.
14
Огорченный и непривычным образом взволнованный, казак в самом деле не знал, куда ему деться, но как у него уже сорвалось с языка про зайца, то он более машинально, чем сознательно, очутился на гумне, куда бегали шкодливые зайцы; сел под овсяным скирдом и задумался.
Предчувствия томили его, и горе кралось в его душу, и шевелили в ней терзающие воспоминания. Как ни неприятны были ему женины слова, но он сознавал, что она права. Действительно, он во всю свою жизнь не сделал никому никакого добра, а между тем многим причинил много горя. И вот у него, из-за его же упрямства, гибнет единственное, долгожданное дитя, и сам он падает в могилу, что, по общему поверью, неминучий злой знак. Завтра будут обо всем этом знать все люди, а все люди – это его враги… Но… может быть, дитя еще найдется, а он, чтобы не скучать, ночью подсидит и убьет зайца и тем отведет от своей головы угрожающую ему могилу.
И Дукач вздохнул и стал всматриваться: не прыгает ли где-нибудь по полю или не теребит ли под скирдами заяц.
Оно так и было: заяц ждал его, как баран ждал Авраама: у крайнего скирда на занесенном снегом вровень с вершиною плетне сидел матерый русак. Он, очевидно, высматривал местность и занимал самую бесподобную позицию для прицела.
Дукач был старый и опытный охотник, он видал много всяких охотничьих видов, но такой ловкой подставки под выстрел не видывал и, чтобы не упустить ее, он недолго же думая приложился и выпалил.
Выстрел покатился, и одновременно с ним в воздухе пронесся какой-то слабый стон, но Дукачу некогда было раздумывать – он побежал, чтобы поскорей затоптать дымящийся пыж, и, наступив на него, остановился в самом беспокойном изумлении: заяц, до которого Дукач не добежал несколько шагов, продолжал сидеть на своем месте и не трогался.
Дукач опять струхнул: вправду, не шутит ли над ним дьявол, не оборотень ли это пред ним? И Дукач свалял ком снега и бросил им в зайца. Ком попал по назначению и рассыпался, но заяц не трогался – только в воздухе опять что-то простонало. «Что за лихо такое?» – подумал Дукач и, перекрестясь, осторожно подошел к тому, что он принимал за зайца, но что никогда зайцем не было, а было просто-напросто смушковая шапка, которая торчала из снега. Дукач схватил эту шапку и при свете звезд увидал мертвенное лицо племянника, облитое чем-то темным, липким, с сырым запахом. Это была кровь.
Дукач задрожал, бросил свою рушницу и пошел на село, где разбудил всех, – всем рассказал свое злочинство; перед всеми каялся, говоря: «Прав Господь, меня наказуя, – идите откопайте их всех из-под снегу, а меня свяжите и везите на суд».
Просьбу Дукача удовлетворили; его связали и посадили в чужой хате, а на гуменник пошли всем миром откапывать Агапа.
15
Под белым ворохом снега, покрывавшего сани, были найдены окровавленный Агап и невредимая, хотя застывшая Керасивна, а на груди у нес совершенно благополучно спавший ребенок. Лошади стояли тут же, по брюхо в снегу, опустив понурые головы за плетень.
Едва их немножечко поосвободили от замета, как они тронулись и повезли застывших кумовьев и ребенка на хутор. Дукачиха не знала, что ей делать: грустить ли о несчастии мужа или более радоваться о спасении ребенка. Взяв мальчика на руки и поднеся его к огню, она увидала на нем крест и тотчас радостно заплакала, а потом подняла его к иконе и с горячим восторгом, глубоко растроганным голосом сказала:
– Господи! За то, что Ты его спас и взял под Свой крест, и я не забуду Твоей ласки, я вскормлю дитя – и отдам его Тебе: пусть будет Твоим слугою.
Так дан был обет, который имеет большое значение в нашей истории, где до сих пор еще не видать ничего касающегося «некрещеного попа», меж тем как он уже есть тут, точно шапка, которая была у Агапа, когда казалось, что ее будто и нет.
Но продолжаю историю: дитя было здорово; нехитрыми крестьянскими средствами скоро привели в себя и Керасивну, которая, однако, из всего вокруг нее происходившего ничего не понимала и твердила только одно:
– Дытина крещена, – и зовите его Савкою.
Этого было довольно для такого суматошного случая, да и имя к тому же было всем по вкусу. Даже расстроенный Дукач и тот его одобрил и сказал:
– Спасибо перегудинскому попу, що вин не испортил хлопца и не назвал его Николою.
Тут Керасивна уже совсем оправилась и заговорила, что поп было хотел назвать дитя Николою: так, говорит, по церковной книге идет, только она его переспорила: «Я сказала, да Бог с ними, сии церковные книги: на що воны нам сдалися; а это не можно, чтобы казачье дитя по-московьски Николою звалось».
– Ты умная казачка, – похвалил ее Дукач и наказал жене подарить ей корову, а сам обещал, если уцелеет, и еще чем-нибудь не забыть ее услуги.
На этом пока и покончилось крестное дело, и наступала долгая и мрачная пора похоронная. Агап так и не пришел в себя: его густым столбом дроби расстрелянная голова почернела прежде, чем ее успели обмыть, и к вечеру наступившего дня он отдал Богу свою многострадавшую душу. Этим же вечером три казака, вооруженные длинными палками, отвели старого Дукача в город и сдали его там начальству, которое поместило его как убийцу в острог.
Агапа схоронили, Дукач судился, дитя росло, а Керасивна хотя и поправилась, но все не «сдужала» и сильно изменилась, – все она ходила как не своя. Она стала тиха, грустна, и часто задумывалась, и совсем не ссорилась со своим Керасенко, который понять не мог, что такое подеялось с его жинкою? Жизнь его, до сих пор столь зависимая от ее настойчивости и своенравия, стала самою безмятежною: он не слыхал от жены ни в чем ни возражения, ни попрека и, не видя более ни во сне, ни наяву рогачевского дворянина, не знал, как своим счастьем нахвастаться. Эту удивительную перемену в характере Керасивны долго и тщетно обсуждали и на торгу в местечке: сами подруги ее, горластые перекупки, говорили, что она «вся здобрилась». И впрямь, не только одного, а даже хоть двух покупщиков от ее лотка с паляницами отбей, она, бывало, даже ни одного черта не посулит ни отцу, ни матери, ни другим сродникам. Про рогачевского же дворянина был даже такой слух, что он будто два раза показывался в Парипсах, но Керасивна на него и смотреть не хотела. Сама соперница ее, пекарша Поднебесная, и та, не хотя губить своей души, говорила, что слышала, будто один раз этот паныч, подойдя к Керасивне купить паляницу, получил от нее такой ответ:
– Иди от меня, щобы мои очи тебя никогда не бачили. Нет у меня для тебя больше ничего, ни дарового, ни продажного.
А когда паныч ее спросил, что такое ей приключилось, то она отвечала:
– Так, – тяжко: бо маю тайну велыкую.
Перевернуло это дело и старого Дукача, которого, при добрых старых порядках, целые три года судили и томили в тюрьме по подозрению, что он умышленно убил племянника, а потом, как неодобренного в поведении односельцами, чуть не сослали на поселение. Но дело кончилось тем, что односельцы смиловались и согласились его принять, как только он отбудет в монастыре назначенное ему церковное покаяние.
Дукач оставался на родине только по снисхождению тех самых людей, которых он презирал и ненавидел всю жизнь… Это был ему ужасный урок, и Дукач его отлично принял. Отбыв свое формальное покаяние, он, после пяти лет отсутствия из дому, пришел в Парипсы очень добрым стариком, всем повинился в своей гордости, у всех испросил себе прощение и опять ушел в тот монастырь, где каялся по судебному решению, и туда же снес свой казанок с рублевиками на молитвы «за три души». Какие это были три души – того Дукач и сам не знал, но так говорила ему Керасивна, что чрез его ужасный характер пропал не один Агап, а еще две души, про которые знает Бог да она – Керасивна, но только сказать этого никому не может.
Так это и осталось загадкою, за которую в монастыре отвечал казанок, полный толстых старинных рублевиков.
Меж тем дитя, которого появление на свет и крещение сопровождалось описанными событиями, подросло. Воспитанное матерью, простою, но очень доброю и нежною женщиною, оно и само радовало ее нежностью и добротою. Напоминаю вам, что когда это дитя было подано матери с груди Керасивны, то Дукачиха «обрекла его Богу». Такие «оброки» водились в Малороссии относительно еще в весьма недавнюю пору и исполнялись точно, особенно если сами «оброчные дети» тому не противились. Впрочем, случаи противления если и бывали, то не часто, вероятно, потому, что «оброчные дети» с самого измальства уже так и воспитывались, чтобы их дух и характер раскрывались в приспособительном настроении. Достигая в таком направлении известного возраста, дитя не только не противоречило родительскому «оброку», но даже само стремилось к выполнению «оброка» с тем благоговейным чувством покорности, которая доступна только живой вере и любви. Савва Дукачев был воспитан именно по такому рецепту и рано обнаружил склонность к исполнению данных матерью за него обетов. Еще в самом детском возрасте, при несколько нежном и слабом сложении, он отличался богобоязненностью. Он не только никогда не разорял гнезд, не душил котят, не сек хворостиной лягушек, но все слабые существа имели в нем своего защитника. Слово нежной матери было для него закон – сколько священный, столь же и приятный, – потому что он во всем согласовался с потребностями собственного нежного сердца ребенка. Любить Бога было для него потребностью и высшим удовольствием, и он любил его во всем, что отражает в себе Бога и делает Его и понятным, и неоцененным для того, к кому Он пришел и у кого сотворил Себе обитель. Вся обстановка у ребенка была религиозная: мать его была благочестива и богомольна; отец его даже жил в монастыре и в чем-то каялся. Ребенок из немногих полунамеков знал, что с его рождением связано что-то такое, что изменило весь их домашний быт, – и все это получало в его глазах мистический характер. Он рос под кровом Бога и знал, что из рук Его его никто не возьмет. В восемь лет его отдали учить к брату Пиднебеснихи, Охриму Пиднебесному, который жил в Парипсах, в закоулочке за сестриным шинком, но не имел к этому заведению никакого касательства, а вел жизнь необыкновенную.
16
Охрим Пиднебесный принадлежал к новому, очень интересному малороссийскому типу, который начал обозначаться и формироваться в заднепровских селениях едва ли не с первой четверти текущего столетия. Тип этот к настоящему времени уже совсем определился и отчетливо выразился своим сильным влиянием на религиозное настроение местного населения. Поистине удивительно, что наши народоведы и народолюбцы, копавшиеся во всех мелочах народной жизни, просмотрели или не сочли достойными своего внимания малороссийских простолюдинов, которые пустили совершенно новую струю в религиозный обиход южнорусского народа. Здесь это сделать некогда, да и мне не по силам; я вам только коротко скажу, что это были какие-то отшельники в миру: они строили себе маленькие хаточки при своих родных домах, где-нибудь в закоулочке, жили чисто и опрятно, как душевно, так и во внешности. Они никого не избегали и не чуждались, – трудились и работали вместе с семейными и даже были образцами трудолюбия и домовитости, не уклонялись и от беседы, но во все вносили свой, немножко пуританский, характер. Они очень уважали «наученность», и каждый из них непременно был грамотен; а грамотность эта самым главным образом употреблялась для изучения Слова Божия, за которое они принимались с пламенною ревностью и благоговением, а также с предубеждением, что оно сохранилось в чистоте только в одной книге Нового Завета, а в «преданиях человеческих», которым следует духовенство, – все извращено и перепорчено. Говорят, будто такие мысли внушены им немецкими колонистами, но, по-моему, все равно, кем это внушено, я знаю только одно, что из этого потом вышла так называемая штунда [92].
Холостой брат Пиднебеснихи, казак Охрим, был из людей этого сорта: он сам научился грамоте и Писанию и считал своею обязанностью научить всему этому и других. Учил он кого только мог, и всегда задаром, ожидая за свой труд той платы, которая обещана каждому, «кто научит и наставит». Учительство это обыкновенно ослабевало летом, во время полевых работ, но зато усиливалось с осени и шло неослабно во всю зиму до весенней пашни. Дети учились днем, а по вечерам у Пиднебесного собирались «вечерницы» – рабочие посиделки, – так, как и у прочих людей. Только у Охрима не пели пустых песен и не вели празднословия, и дивчата пряли лен и волну [93], а сам Охрим, выставив на стол тарелку меду и тарелку орехов для угощения «во имя Христово», просил за это потчевание позволить ему «поговорить о Христе». Молодой народ это ему дозволял, и Охрим услаждал добрые души медом, орехами и евангельскою беседою и скоро так их к этому приохотил, что ни одна девица и ни один парень не хотели и идти на вечерницы в другое место. Беседы пошли даже и без меду и без орехов.
На Охримовых вечерницах также происходили и сближения, последствием которых являлись браки, но тут тоже была замечена очень странная особенность, необыкновенно послужившая в пользу Охримовой репутации: все молодые люди, полюбившиеся между собою на вечерницах Охрима и потом сделавшиеся супругами, были, как на отбор, счастливы друг другом. Конечно, это, всего вероятнее, происходило оттого, что их сближение происходило в мирной атмосфере духовности, а не в мятеже разгульной страстности, когда выбором руководит желанье крови, а не чуткое влечение сердца. Словом, велось по Писанию: «Господь вселял в дом единомысленные, а не преогорчевающие». Так все шло в пользу репутации Пиднебесного, который, несмотря на свою простоту и непритязательность, стал в Парипсах в самое почетное положение – человека богоугодного. К нему не ходили на суд только потому, что он никого не судил, а научиться у него желали все «ожидавшие Воскресения».
17
Таких людей, как Охрим Пиднебесный, в Малороссии в то время обозначилось несколько, но все они крылись без шуму и долго оставались незамеченными для всех, кроме крестьянского мира.
Спустя целую четверть столетия эти люди сами сказались, явясь в обширном и тесно сплоченном религиозном союзе, который называется штундою. Я очень хорошо знал одного из таких вожаков: это был приветливый, добрый, холостой казак-девственник. Как большинство его товарищей, он научился грамоте самоучкою и обучил один всех окрестных ребят и девушек. Последних он учил на вечерницах, или, по-великорусскому, на «посиделках», на которые они собирались к нему с работою. Девушки пряли и шили, а он рассказывал о Христе.
Толкования его были самые простые, совсем чуждые всякой догматики и богослужебных установлений, а имеющие почти исключительно цели нравственного воспитания человека по идеям Иисуса. Мой знакомый казак-проповедник жил, однако, на левой стороне Днепра, в местности, где еще нет штунды.
Впрочем, в то время, к которому относится рассказ, учение это еще не имело ничего сформированного и по правому днепровскому берегу.
18
Хлопца Дукачева Савку отдали учить грамоте к Пиднебесному, а тот, заметив, с одной стороны, быстрые способности ребенка, а с другой – его горячую религиозность, очень его полюбил. Савва платил своему чистосердечному учителю тем же. Так между ними образовалась связь, которая оказалась до такой степени крепкою и нежною, что когда старый Дукач взял сына в монастырь, чтобы там посвятить его по материнскому обету на служение Богу, то мальчик затосковал невыносимо, не столько по матери, сколько о своем простодушном учителе. И эта тоска так повлияла на слабую организацию нежного ребенка, что он скоро заболел, слег и наверно бы умер, если бы его неожиданно не навестил Пиднебесный.
Он понял причину недуга своего маленького друга и, вернувшись в Парипсы, сумел внушить Дукачихе, что жертва Богу не должна быть детоубийством. А потому советовал не томить более дитя в монастыре, а устроить его в «живую жертву». Пиднебесный указывал путь не совсем чуждый и незнакомый малороссийскому казачеству: он советовал отдать Савву в духовное училище, откуда он потом может перейти в семинарию и может сделаться сельским священником, а всякий сельский священник может сделать много добра бедным и темным людям и стать через это другом Христовым и другом Божиим.
Дукачиха убедилась доводами Охрима, и отрок Савка был взят из монастыря и отвезен в духовное училище. Это все одобряли, кроме одной Керасивны, в которую, вероятно за ее старые грехи, вселился какой-то сумрачный дух противоречия, сказывавшийся весьма неистовыми выходками, когда дело касалось ее крестника. Она его как будто и любила, и жалела, а между тем Бог знает как на его счет смущала.
Это началось еще с самого младенчества: понесут, бывало, Савку причащать – Керасивна кричит:
– Що вы робите! Не надо; не носить его… Се така дытына… Неможна его причащать.
Не послушают ее – она вся позеленеет и либо смеется, либо просит народ в церкви:
– Пустите меня скорее вон, щоб мои очи не бачили, як ему будут Христовой Крови давать.
На вопросы, что это ее так смущает, она отвечала:
– Так, мени тяжко! – Из чего все и заключили, что с тех пор, как она поисправилась в своей жизни и больше не колдует, черт нашел в ее душе убранную хороминку и вернулся туда, приведя с собою еще несколько других «бисов», которые не любят ребенка Савку.
И впрямь, «бисы» жестоко расхлопотались, когда Савку повезли в монастырь: они так поджигали Керасивну, что та больше трех верст гналась за санями, крича:
– Не губите свою душу, не везите его в монастырь, бо оно к сему не сдатное.
Но ее, разумеется, не послушали; теперь же, когда пошла речь об определении мальчика в училище, «откуда в попы выходят», с Керасивною сделалась беда: ее ударил паралич, и она надолго потеряла дар слова, который возвратился к ней, когда дитя уже было определено.
Правда, что при определении Савки явилось было и еще одно маленькое препятствие, которое состояло в том, что никак не могли найти его записанным в метрические книги перегудинской церкви, но это ужасное обстоятельство для школ гражданских в духовных училищах принимается несколько мягче. В духовных училищах знают, что духовенство часто позабывает вписывать своих детей в метрики. Окрестивши, хорошенько подвыпьют, – боятся писать, что руки трясутся; назавтра похмеляются; на третий день ходят без памяти, а потом так и забудут вписать. Случаи такие известны, и, конечно, так это было и здесь, а потому хотя смотритель руганул причет пьяницами, но мальчика принял, как он записан по исповедным росписям. А в исповедных росписях Савва был записан прекрасно: точно и даже не по одному разу в год.
Этим все дело и исправили, – и пошел хороший мальчик Савва отлично учиться, окончил училище, окончил семинарию и был назначен в академию, но неожиданно для всех отказался и объявил желание быть простым священником, и то непременно в сельском приходе. Отец молодого богослова, старый Дукач, к этому времени уже умер, но мать его, старушка, еще жила в тех же Парипсах, где как раз об эту пору скончался священник и открылась вакансия. Молодой человек и попал на это место. Неожиданная весть о таком назначении очень обрадовала парипсянских казаков, но зато совершенно лишила смысла остаревшую Керасивну.
Услышав, что ее крестник Савва ставится в попы, она без стыда разорвала на себе плахту и нами-сто, пала на кучу перегноя и выла:
– Ой земля, земля! Возьми нас обоих!
Но потом, когда этот дух ее немножко поосвободил, она встала, начала креститься и ушла к себе в хату. А через час ее видели, как она вся в темном уборчике и с палочкой в руках шла большим шляхом в губернский город, где должно было происходить поставление Саввы Дукачева в священники.
Несколько человек встретили на этом шляхе Керасивну и видели, что она шла очень поспешаючи, – ни отдыхать не садилась и ни о чем не разговаривала, а имела такой вид, как бы на смерть шла: все вверх глядела и шепотом что-то шептала, верно Богу молилась. Но Бог и тут не внял ее молитве. Хотя она и попала в собор в ту самую минуту, когда дьяконы, наяривая ставленника в шею, крикнули «повелите», но никто не внял тому, что из толпы одна сельская баба крикнула: «Ой, не велю ж, не велю!» Ставленника постригли, а бабу выпхали и отпустили, продержав дней десять в полиции, пока она перестирала приставу все белье и нарубила две кади капусты. Керасивна об одном только интересовалась: «Чи вже Савка пип?» И, узнав, что он поп, она пала на колени и так на коленях и проползла восемьдесять, верст до своих Парипс, куда этими днями уже прибыл и новый «пип Савка».
19
Парипсянские казаки, как сказано, были очень рады, что им назначили пана-отца из их же казачьего рода, и встретили попа Савву с большим радушием. Особенно их расположило к нему еще то, что он был очень почтителен с старой матерью и сейчас же, как приехал, спросил про свою «крестную», хотя наверно слыхал, что она была и такая, и сякая, и ведьма. Он ничем этим не погнушался. Вообще, всем показалось, что человек этот обещал быть очень добрым священником, и он таким и был на самом деле. Все его полюбили, и даже Керасивна ничего против него не говорила, а только порою супила брови да вздыхала, шепча:
– Усе бы добре, да як бы в сей юшке рыбка была.
Но рыбки в ухе, по ее мнению, не было, а без рыбы нет и ухи. Стало быть, как ни хорош поп Савва, а он ничего не стоит, и это непременно должно обнаружиться.
И впрямь, в нем начали замечаться странности: во-первых, он был беден, но совершенно равнодушен к деньгам. Во-вторых, вскоре овдовев, он не выл и не брал себе молодой наймычки; в-третьих, когда несколько женщин пришли ему сказать, что идут по обету в Киев, то он советовал заменить их поход обетом послужить больным и бедным, а прежде всего успокоить семью заботами о доброй жизни; а что касается данного обета, он оказал неслыханную дерзость – вызвался разрешить его и взять ответ на себя. «Разрешить обет, данный угодникам…» Это многим показалось таким богохульством, которое едва ли возможно для человека крещеного. Но и на этом дело не остановилось – поп Савва вскоре же дал противу себя еще большие сомнения: в первый же Великий пост, когда все прихожане перебывали у него на духу, оказалось, что он ни одному человеку не запретил есть, что ему Бог послал, и никому не назначил епитимных поклонов, а если и были от него кому-нибудь епитимные назначения, то они показывали новые странности. Так, например, мельнику Гаврилке, который заведомо брал за помол очень глубоким ковшом, отец Савва настоятельно наказал сейчас же после исповеди сострогнуть в этом ковше края, чтобы не брать лишнего зерна. Иначе не хотел дать ему причастия – и привел ему на то доводы от Писания, что неправая мера Бога гневает и может навлечь наказание. Мельник послушался, и все перестали им обижаться, и повалил на его мельницу помол без перерыва. Он всенародно признался, что так с ним Саввина епитимия сделала. Молодая, очень горячая бабенка, бывшая за вторым мужем, лютовала над первобрачными детьми. Отец Савва и в это дело вмешался, и после первого же своего говенья у него молодая мачеха как переродилась и стала добра к падчерицам и к пасынкам. Жертвы за грехи он хотя и принимал, но не на ладан и не на свечи, а для двух бездомных и бесприютных сироток Михалки и Потапки, которые жили у попа Саввы в землянке под колокольней.
– Да, – скажет, бывало, поп Савва бабе или девушке, – дай Бог, чтобы тебе это было прощено и чтобы ты вперед не согрешала, а ты для того поусердствуй: послужи Господу.
– Радым рада, батечку, тильки не знаю: чим Ему услуговать… хиба сходить у Кыев.
– Нет, никуда далеко ходить не надо, – дома трудись и не делай того, что делала, а теперь сейчас пойди смеряй Божиих деток Михалку да Потапку и сшей им по порточкам, хоть по коротеньким, да по сорочке. А то велики стали – стыдятся голые пузеня людям казать.
Грешницы охотно несли и эту епитимию, и Михалка с Потапкой жили под опекою отца Саввы, как у самого Христа за пазушкой, – и не только «голых пузеней» не показывали, но и всего своего сиротства почти не замечали.
И подобные епитимии отца Саввы были не только всем под силу, но и многим очень по сердцу – даже утешительны. Только наконец отец Савва выкинул такую штуку, которая ему обошлась дорого. Стали к нему, в его маленькую церковку, ходить окольные люди из перегудинского прихода, где он был крещен и где теперь был уже другой поп – не тот, с которым выпивала в своей молодости Керасивна и к которому она возила по знакомству крестить Дукачева Савку. Это положило начало недружеству со стороны перегудинского попа к отцу Савве, а тут произошел другой вредный случай: умер перегудинский прихожанин, богатый казак Оселедец, и, умирая, хотел завещать «копу рублей на велыкий дзвин», то есть на покупку большого колокола, но вдруг, поговорив перед самою смертью с отцом Саввою, круто отменил свое намерение и ничего не назначил на велыкий дзвин, а призвал трех хороших хозяев и объявил, что отдает им эту копу грошей с завещанием употребить их на ту «Божу потребу, яку скаже пан отец Савва». Казак Оселедец умер, а пан отец Савва указал построить за его копу грошей светлую хату с растворчатыми окнами и стал собирать в нее ребят да учить их грамоте и Слову Божию.
Казаки думали, что это, пожалуй, дело хорошее, но не знали, богоугодное ли оно дело; а перегудинский поп это им вытолковывал так, что дело выходит не богоугодное. Про то он обещал и донос писать, и написал. Отца Савву звали к архиерею, но отпустили с миром, и он продолжал свое дело: служил и учил и в школе, и дома, и на поле, и в своей малой деревянной церковке. Времени прошло несколько лет. Перегудинский поп, соревнуя отцу Савве, этою порою отстроил каменную церковь не в пример лучше парипсянской и богатый образ достал, от которого людям разные чудеса сказывал; но поп Савва и его чудесам не завидовал, а все вел свое тихое дело по-своему. Он в той же деревянной маленькой церкви молился и Божие Слово читал, и его маленькая церковка ему с людьми хоть порою тесна была, да зато перегудинскому попу в его каменном храме так было просторно, что он чуть ли не сам-друг с пономарем по всей церкви расхаживал и смотрел, как смело на амвон церковная мышь выбегала и опять под амвон пряталась. И стало это перегудинскому попу наконец очень досадно, но он мог лютовать на своего парипсянского соседа, отца Савву, сколько хотел, а вреда ему никакого сделать не мог, потому что нечем ему было под отца Савву подкопаться, да и архиерей стоял за Савву до того, что оправдал его даже в той великой вине, что он переменил настроение казака Оселедца, копа грошей которого пошла не на дзвин, а на школу. Долго перегудинский поп это терпел, довольствуясь только тем, что сочинял на Савву какие-нибудь нескладицы вроде того, что он чародей и его крестная матка была всем известная в молодости гулячка и до сих пор остается ведьмой, потому что никому на духу не кается и не может умереть, ибо в Писании сказано: «Не хощет Бог смерти грешника», но хочет, чтоб он обратился. А она не обращается – говеет, а на дух не ходит.
Это таки и была правда: старая Керасивна, давно оставившая все свои слабости, хоть и жила честно и богобоязненно, но к исповеди не ходила. Ну и возродились опять толки, что она ведьма и что, может быть, и вправду пан отец Савва хорош «за ее помогой».
Стал такой говор, а тут к делу подоспел другой пустой случай: стало у коров молоко пропадать… Кто этому мог быть виноват, как не ведьма; а кто еще большая ведьма, как не старая Керасивна, которая, всем известно, на целое село мару напускала, мужа чертом оборачивала и теперь пережила на селе всех своих сверстников и ровесников и все живет и ни исповедоваться, ни умирать не хочет.
Надо было довести ее до того и до другого, и за это взялись несколько добрых людей, давших себе слово: кто первый встретит старую Керасивну в темном месте – ударить ее, как надлежит настоящему православному христианину бить ведьму, один раз чем попало наотмашь и сказать ей:
– Издыхай, а то еще бить буду.
И одному из тех богочтителей, которые взялись за такой подвиг, посчастливилось: повстречал он старую Керасивну в безлюдном закоулке и сподобился так угостить ее с одного приема, что она тут же кувырнулась ничком и простонала:
– Ой, умираю: зовите попа – исповедаться хочу.
Сразу ведьма узнала, за что ее ударили!
Но чуть перетащили ее домой и прибежал к ней в перепуге отец Савва, она опять передумала и начала оттягивать:
– Мне у тебя, – говорит, – нельзя исповедоваться, – твоя исповедь не пользует, – хочу другого попа!
Добрый отец Савва сейчас же на своей лошадке послал в Перегуды за своим порицателем – тамошним священником и одного опасался, что тот закобенится и не приедет; но опасение это было напрасно: перегудинский поп приехал, вошел к умирающей и оставался с нею долго-долго; а потом вышел из хаты на крылечко, заложил дароносицу за пазуху и ну заливаться самым непристойным смехом. Так смеется, так смеется, что и унять его нельзя, и люди смотрят на него и понять не могут: к чему это статочно.
– Да ну бо, – годи вам, пан отче: что-то вы так смиетесь, що нам аж страшно, – говорят ему люди.
А он отвечает:
– О то же оно так и надлежит, щобы вам було страшно; да щобы всим страшно було – на весь крещеный мир, бо у вас тут такое поганство завелось, якого от самого первого дня, от святого князя Владимира не було.
– О, да Бог з вами, не пужайте так страшно: идить, будьте ласковы, швидче до отца Саввы – с ним поговорить: нехай вин що добре вздумае, як помогты хрыстиянским душам.
А перегудинский поп еще больше расхохотался и вдруг весь позеленел, глаза выпучил и отвечает:
– Дурни вы вси – темны и непросвещенные люди: школу себе вывели, а ничего не бачите.
– До того же мы вас и просим: идите до нашего отца Саввы, вин вас у себя в хате дожида: сядьте с ним поговорить: вин все бачить.
– Бачить! – закричал перегудинский поп. – Ни, ничего вин не бачить: вин и того не зна, кто вин сам такий есть на свити!
– Се мы вси знаемо, що вин наш пан отец – пип.
– Пип!
– А вже ж пип.
– А я вам кажу, що вин совсим и не пип!
– Як не пип?
– А так, не пип, да и не христианин.
– Як не христианин! Годи бо вам: що се вы брешете?
– А ни: не брешу – он не христианин.
– А що ж вин таке?
– Що вин таке?
– Да!
– А бисяка его знае, що вин таке!
Люди даже отшатнулись и перекрестились, а перегудинский поп сел в сани и говорит:
– Вот я прямо от вас еду к благочинному и везу ему такую весть, що на весь мир христианский будет срам велыкий, и тогда вы побачите, що и пип ваш – не пип и не христианин, и дитки ваши не христиане, а кого он из вас венчает – те все равно что не венчаны, и те, которых схоронил, умерли яко псы, без отпущения и мучатся там в пекле, и будут вик мучиться, и нихто их оттуда выратувать не может. Да; и все это, что я говорю, есть великая правда, и с тем я до благочинного еду, а вы если мне не верите, идите все зараз до Керасихи, и пока она еще дышит, – я приказал ей под страшным заклятием, чтобы она вам все рассказала: кто есть таков сей человик, що вы зовете своим попом Саввою. Да, годи уже ему людей портить: вон и сорока села у него на крыше и кричит: «Савка, скинь кафтан!» Ничего, скоро увидимся. Хлопче! Погоняй до благочинного, а ты, сорочка, чекочи громче: «Савка, скинь кафтан!» А мы с благочинным сейчас назад будем.
С этим перегудинский поп ускакал, а люди, сколько их тут было, хотели все кучей валить в хатку Керасивны, чтобы допытать ее: что такое она наговорила про своего крестника, отца Савву; но, мало подумавши, решили сделать еще иначе, послать к ней двух казаков, да чтобы с ними третий был сам поп Савва.
20
Пришли казаки и отец Савва и застали Керасивну, что она лежит под образами и сама горько-прегорько плачет.
– Прости меня, – говорит, – мое серденько, мое милое да несчастливое, – заговорила она до Саввы, – носила я в своем сердце твою тайную причину, а свою вину больше як тридцать лет и боялась не только наяву ее никому не сказать, но щоб и во сне не сбредила, и оттого столько лет и на дух не шла, ну а теперь, когда Всевышнему предстать нужно, – все открыла.
Отец Савва, может быть, и струсил немножко чего-нибудь, потому что вся эта тайна его слишком сурово дотрогивалася, но виду не показал, а спокойно говорит:
– Да що таке за дило велыке?
– Грех велыкий я содеяла, и именно над тобою.
– Надо мною? – переспросил отец Савва.
– Да, над тобою: я тебе все в жизни испортила, потому что хотя ты и Писанию научен и в попы поставлен, а ни к чему ты к этому не годишься, потому что ты сам до сих пор нехрещеный человик.
Не мудрено себе представить, что должен был почувствовать при таком открытии отец Савва. Он сначала было принял это за болезненный бред умирающей, даже улыбнулся на ее слова и сказал:
– Полно, полно, крестнинькая: как же я некрещеный, когда ты моя крестная?
Но Керасивна обнаруживала полную ясность ума и последовательность в своем рассказе.
– Оставь про это, – сказала она. – Якая я тебе крестная? Никто тебя не крестил. И кто во всем этом виноват, – я не знаю и во всю жизнь не могла узнать: зробилось ли это от наших грехов или, может быть, больше от Николиной велыкой московьской хитрости. Но вот идет перегудинский пан отец с благочинным – сиди и ты здесь: я всем все расскажу.
Благочинный было не хотел, чтобы отец Савва и казаки слушали признания Керасивны, но она настояла на своем, под угрозою, что иначе не будет рассказывать.
Вот ее исповедь.
21
«Поп Савва, – говорит, – совсем и не поп и не Савва, а человек не хрещеный, и это дело я одна знаю на свете. Пошло это все с того, что его покойный отец, старый Дукач, был очень лют: все его не любили и все боялись, и когда у него родился сын, никто не хотел идти в кумовья, чтобы хрестить это дытя. Звал старый Дукач и судейского паныча, и дочку нашего покойного пана отца, да никто не пошел. Тогда старый Дукач еще больше разлютовался на весь народ и на самого пана отца – и его самого не захотел крестить просить: „Обойдусь, – говорит, – без всего, без их звания“. Кликнул племянника Агапку, что у него по сиротству в дурнях жил, да и велел пару коней запрячь и меня кумою позвал: „Поезжай, – говорит, – Керасивна, с Агапом в чужое село и нынче же окрестите мою дытину“. И он мне шубу подарил, только Бог с нею, я ее после того случая и не надевала: вон она как и теперь через все тридцать лет цела висит. И наказал мне Дукач одно, что „смотри, – говорит, – як Агап человек глупый, он ничего сделать не сумеет, то ты гляди, добре с попом уладьтесь, щобы он, чего Боже борони, по якой ни есть злобе не дал хлопцу якого имени не христианского, трудного, або московьского. На двори у нас Варварин день, а то очень опасно, бо тут коло Варвары сряду близко Никола живет, а Никола и есть самый первый москаль, и он нам, казакам, ни в чем не помогает, а все на московьскую руку тянет. Що там где ни случись, хоть и наша правда, – а он пойдет так-сяк перед Богом наговорит и все на московьскую руку сделает, и своих москалей выкрутит и оправит, а казачество обидит. Борони Бог нам и детей в его имя называть. А вот тут же рядом с ним живет святый Савка. Этот из казаков и до нас дуже добрый. Якый он там ни есть, хоть и не важный, а своего казака не выдаст".
Я говорю:
„Се так: да маломочен вин, святый Савка!“
А Дукач говорит:
„Ничего, что маломочен, зато вин дуже штуковатый: где его сила не возьмет, так на хитрость подымется и как-нибудь да отстоит казака. А мы ему в силе сами помочь дадим: станем свечи ставить и молебен споем: Бог побачит, що и святого Савку люди добре почитают, и Сам на его увагу поверне, а вин тогда и подсилится“.
Я все, что Дукач просил, ему обещала. И завернула малого в шубу, крест его себе на шею надела, а в ноги барилочку с сливянкой поставили и поехали. Но только мы с версту отъехали, как поднялась метель, просто ехать нельзя: зги никакой не видно.
Я говорю Агапу:
«Нельзя нам ехать, воротимся!»
А он дяди боялся и ни за что не хотел воротиться.
«Бог даст, – говорит, – доедем. А мне чи замерзнуть, чи меня дядько убье – то все едыно».
И все коней погоняет, и как уперся, так на своем и стоит.
А тем временем стало темнеть и сделалось не видно и следа. Едем мы, едем и не знаем, куда едем. Кони туда-сюда вертят, крутятся, – и никуда не приедем. Перезябли мы страшно и, чтобы не застыть, взяли и сами потянули из той барилочки, что перегудинскому попу везли. А я на дитя посмотрела: думала – борони Бог, не задохло бы. Нет, тепленькое лежит и дышит так, что даже парок от него валит. Я ему дырочку над личиком прокопала – пусть дышит, и опять поехали, и опять ездили, ездили, видим, что мы опять все крутимся, и нет нам во тьме никакого просвета, а кони куда знают, туда и воротят. Теперь уже и домой вернуться, как раньше думали, чтобы переждать метель, и того нельзя, – нельзя уже стало и знать, куда ворочаться: где Парипсы, а где Перегуды. Я послала Агапа, чтобы встал да коней на поводу вел, а он говорит: „Якая ты умная! Мне холодно". Обещаю ему, как домой вернемся, злот ему дать, а он говорит:
„На що мени ваш и злот, як мы оба тут издохнем. А если хотите мне что сделать от доброй души, так дайте мне еще хорошенько потянуть из барила“.
Я говорю: „Пей сколько хочешь", он и попил. Попил и пошел вперед, чтобы брать коней за узду, да заместо того сейчас же сразу назад: вернулся и весь трясется.
„Что ты, – говорю, – что с тобою такое?"
А он отвечает:
„Да ишь вы, – говорит, – якая умная: разве я могу против Николы перти?"
„Что ты, глупый человек, говоришь: чего тебе против Николы перти?"
„А кто его знает, – говорит, – чего он там стоит?"
„Где, кто стоит?"
„А вон там, – говорит, – у самого запряга – впереди коней".
„Да цур тобе, дурню, – говорю, – ты пьян!“
„Эге, хорошо, – отвечает, – что пьян, а вот же твой муж был и не пьян, да мару видел, и я вижу“.
„Ну вот, – говорю, – ты еще моего мужа вспомнил: что он видел – это я лучше тебя знаю, что он видел, а ты говори: что тебе показывается!"
„А стоит щось таке совсем дуже велике в московьской золотой шапци, аж с нее искры сыплятся“.
„Это, – говорю, – у тебя у самого из пьяных глаз сыпется".
Нет, спорит, что Никола в московьской шапци. Он нас и не пуска.
Я и вздумала, что это, может быть, неправда, а может, и вправду за то, что мы не хотели хлопца Николою писать, а Савкою, и говорю:
„Нехай же по его буде: не пуска, и не надо – мы ему теперь уступим, а завтра по-своему сделаем. Пусти коней идти, куда хотят, – они нас домой привезут; а ты теперь зато хоть всю барилочку выпей".
Смутила я Агапа.
„Ты, – говорю, – выпей побольше и только знай помалчивай; а я такое брехать стану, что никому в ум не вступит, что мы брешем. Скажем, что детину охрестили и назвали его, как Дукач хотел, добрым казачьим именем – Савкою, – вот и крестик пока ему на шейку наденем; в недилю (воскресенье) скажем: пан отец велел дытину привезти, чтобы его причастить, и как повезем, тогда зараз и окрестим, и причастим, – и все будет тогда, как следует по-христианскому".
И открыла опять дытиночка, – оно такое живеньке, спит, а само тепленьке, даже снежок у него на лобике тает; я ему этой талой водицей на личике крест обвела и проговорила: во имя Отца, Сына, и крестик надела, и пустились на Божию волю, куда кони вывезут.
Кони все шли да шли – то идут, то остановятся, то опять пойдут, а погода все хуже да хуже, стыдь все лютее. Агап совсем опьянел, сначала бормотал что-то, а после и голоса не стал подавать – свалился в сани и захрапел. А я все стыла да стыла и так и не пришла в себя, пока меня у Дукача в доме снегом стали оттирать. Тут я очнулась и вспоминала, что хотела сказать, и то самое сказала, что дитя будто охрещено и что будто дано ему имя Савва. Мне и поверили, и я покойна была, потому что думала все это поправить, как сказано, в первое же воскресенье. А того и не знала, что Агап был застреленный и скоро умер, а старого Дукача в острог берут; а когда узнала, я хотела во всем повиниться хоть старой Дукачихе, да никак не решалася, потому что в семье тогда большое горе было. Думала, расскажу это все после, да и после тяжело было это открывать, и так все это день ото дня откладывалось. А время шло да шло, а хлопец все рос; и все его Савкой звали, и в науку его отдали, – я все не собралась открыть тайну, и все мучилась, и все собиралась открыть, что он не крещеный, а тут, когда вдруг услыхала, что его даже и в попы ставят, – побежала было в город, сказать, да меня не допустили и его поставили, и говорить стало не к чему. Зато с тех пор я уже и минуты покоя не знаю – мучусь, что через меня все христианство на моем родном месте с некрещеным попом в посмех отдается. Потом, чем старее становилась и видела, что люди его все больше любят, тем хуже мучилась и боялась, что меня земля не примет. И вот только теперь, в мой смертный случай, насилу сказала. Пусть простит мне все христианство, чьи души я некрещеным попом сгубила, а меня хоть живую в землю заройте, и я ту казнь приму с радостью».
Благочинный и перегудинский поп всё это выслушали, всё записали и оба к той записи подписались, прочитали отцу Савве, а потом пошли в церковь, положили везде печати и уехали в губернский город к архиерею и самого отца Савву с собой увезли.
А народ тут и зашумел, пошли переговоры: что это такое над нашим паном отцом, да откудова и с какой стати? И можно ли тому быть, как говорит Керасиха? Статочное ли дело ведьме верить?
И сгромоздили такую комбинацию, что все это от Николы и что теперь надо как можно лучше «подсилить» перед Богом святого Савку и идти самим до архиерея. Отбили церковь, зажгли перед святцами все свечи, сколько было в ящике, и послали вслед за благочинным шесть добрых казаков к архиерею просить, чтобы он отца Савву и думать не смел от них трогать, «а то-де мы без сего пана отца никого слухать не хочем и пойдем до иной веры, хоть если не до катылицкой, то до турецькой, а только без Саввы не останемся».
Вот тут-то архиерею и была загвоздка почище того, что «диакон ударил трепака, а трепак не просит: зачем же благочинный доносит?»
Керасивна умерла, подтвердив в своем порыве покаяния всем то, что мы знаем, и выборные казаки пошли к архиерею и всю ночь всё думали о том, что они сделают, если архиерей их не послушает и возьмет у них попа Савву?
И еще тверже решили, что вернутся они тогда на село – сразу выпьют во всех шинках всю горелку, чтобы она никому не досталась, а потом возьмет из них каждый по три бабы, а кто богаче, тот четыре, и будут настоящими турками, но только другого попа не хотят, пока жив их добрый Савва. И как это можно допустить, что он не крещен, когда им крещено, исповедано, венчано и схоронено так много людей по всему христианству? Неужели теперь должны все эти люди быть в «поганьском положении»? Одно, что казаки соглашались еще уступить архиерею, – это то, что если нельзя отцу Савве попом оставаться, то пусть архиерей его у себя, где знает, тихонько окрестит, а только чтобы все-таки он его оставил… или иначе они… «удадутся до турецькой веры».
22
Это опять было зимою и опять было под вечер и как раз около того же Николина или Саввина дня, когда Керасивна тридцать пять лет тому назад ездила из Парипсов в Перегуды крестить маленького Дукачева сына.
От Парипс до губернского города, где жил архиерей, было верст сорок. Отправившаяся на выручку отца Саввы громада считала, что она пройдет верст пятнадцать до большой корчмы жида Иоселя, – там подкрепится, погреется и к утру как раз явится к архиерею.
Вышло немножко не так. Обстоятельства, имеющие прихоть повторяться, сыграли с казаками ту самую историю, какая тридцать пять лет тому назад была разыграна с Агапом и Керасивной: поднялась страшная метель, и казаки всею громадою начали плутать по степи, потеряли след и, сбившись с дороги, не знали, где они находятся, как вдруг, может быть всего за час перед рассветом, видят, стоит человек, и не на простом месте, а на льду над прорубью, и говорит весело:
– Здорово, хлопцы!
Те поздоровались.
– Чего, – говорит, – это вас в такую пору носит: видите, вы мало в воду не попали.
– Так, – говорят, – горе у нас большое, мы до архиерея спешим: хотим прежде своих врагов его видеть, щобы он на нашу руку сделал.
– А что вам надо сделать?
– А чтобы он нам нехрещеного попа оставил, а то мы такие несчастливые, що в турки пидемо.
– Как в турки пидете! Туркам нельзя горелки пить.
– А мы ее всю вперед сразу выпьем.
– Ишь вы, какие лукавые.
– Да що же маем робить при такой обиде – як доброго попа берут.
Незнакомый говорит:
– Ну так расскажите-ка мне всё толком.
Те и рассказали. И так ни с того ни с сего, стоя у проруби, умно все по порядку сказали и опять дополнили, что если архиерей им не оставит того Савву, то они «всей веры решатся».
Тут им этот незнакомый и говорит:
– Ну, не бойтесь, хлопцы, я надеюсь, что архиерей хорошо рассудит.
– Да воно б так и нам, – говорят, – сдается, что такий великий чин маючи, надо добре рассудить, а Бог его церьковный знае…
– Рассудит, рассудит, а не рассудит, так я помогу.
– Ты?.. а ты кто такой?
– Скажи: як тебя звать?
– Меня, – говорит, – звать Саввою.
Казаки друг друга и толкнули в бок.
– Чуете, се сам Савва.
А тот Савва им потом: «Вот, – говорит, – вы пришли куда вам следует – вон на горке монастырь, там и архиерей живет».
Смотрят, и точно: виднеть стало, и перед ними за рекою на горке монастырь.
Очень казаки удивились, что под такою суровою непогодою, без отдыха, прошли сорок верст, и, взобравшись на горку, сели у монастыря, достали из сумочек у кого что было съедобного и стали подкрепляться, а сами ждут, когда к утрене ударят и отопрут ворота.
Дождались, вошли, утреню отстояли и потом явились на архиерейское крыльцо просить аудиенции.
Хотя наши архипастыри и не очень охочи до бесед с простецами, но этих казаков сразу пустили в покои и поставили в приемную, где они долго-долго ждали, пока явились сюда и перегудинский поп, и благочинный, и поп Савва, и много других людей.
Вышел архиерей и со всеми людьми переговорил, а с благочинным и с казаками ни слова, пока всех других из залы не выпустил, а потом прямо говорит казакам:
– Ну что, хлопцы, обидно вам? Некрещеного попа себе очень желаете?
А те отвечают:
– Милуйте-жалуйте, ваше высокопреосвященство: як же не обида… такий був пип, такий пип, що другого такого во всем хрыстиянстве нема.
Архиерей улыбнулся.
– Именно, – говорит, – такого другого нема, – да с этим оборачивается до благочинного и говорит: – Поди-ка в ризницу: возьми, там тебе Савва книгу приготовил, принеси и читай, где раскрыта.
А сам сел.
Благочинный принес книгу и начал читать: «Не хощу же вас не ведети, братие, яко отцы наши вси под облаком быша и вси сквозь море проидоша и вси в Моисея крестишася во облаце и в мори. И вси тожде брашно духовное ядоша и вси тожде пиво духовное пияху, бо от духовнаго последующаго камене: камень же бе Христос».
На этом месте архиерей и перебил, говорит:
– Разумеешь ли, яже чтеши?
Благочинный отвечает:
– Разумею.
– И сейчас ли только ты это уразумел?
А благочинный и не знает, что отвечать, и так наоболмаш сказал:
– Слова сии я и прежде чел.
– А если чел, так зачем же ты такую тревогу допустил и этих добрых людей смутил, которым он добрым пастырем был?
Благочинный отвечал:
– По правилам святых отец…
А архиерей перебил:
– Стой, – говорит, – стой: иди опять к Савве, он тебе даст правило.
Тот пошел и пришел с новою книгою.
– Читай, – говорит архиерей.
– Читаем, – начал благочинный, – у святого Григория Богослова писано про Василия Великого, что он «был для христиан иереем до священства».
– Сие к чему? – говорит архиерей.
А благочинный отвечает:
– Я только по долгу службы моей, как оказался он не крещеный в таком сане…
Но тут архиерей как топнет:
– Еще, – говорит, – и теперь все свое повторяешь! Стало быть, по-твоему, сквозь облако пройдя, в Моисея можно окреститься, а во Христа нельзя? Ведь тебе же сказано, что они, добиваясь крещения, и влажное облако со страхом смертным проникали, и на челе расталою водою того облака крест младенцу на лице написали во имя Святой Троицы. Чего же тебе еще надо? Вздорный ты человек и не годишься к делу: я ставлю на твое место попа Савву; а вы, хлопцы, будьте без сомнения: поп ваш Савва, который вам хорош, и мне хорош, и Богу приятен, и идите домой без сомнения.
Те ему в ноги.
– Довольны вы?
– Дуже довольны, – отвечают хлопцы.
– Не пойдете теперь в турки?
– Тпфу! Не пидемо, батьку, не пидемо.
– И всю горелку сразу не выпьете?
– Не выпьемо от разу, не выпьемо, цур ий, пек!
– Идите же с Богом и живите по-христиански.
И те уже готовы были уходить, но один из них для большего успокоения кивнул архиерею пальцем и говорит:
– А будьте, ваша милость, ласковы отойти со мною до куточка.
Архиерей улыбнулся и говорит:
– Ну хорошо, пойдем до куточка.
Тут казак его и спрашивает:
– А звольте, ваша милость: звиткиля вы все се узнали, допреже як мы вам сказали?
– А тебе, – говорит, – что за дело?
– Да нам таке дило, чи се не Савва ли вас всим надоумив?
Архиерей, которому все рассказал его келейник Савва, посмотрел на хохла и говорит:
– Ты отгадал – мне Савва все сказал.
А сам с этим и ушел из залы.
Ну, тут хлопцы и поняли все, как хотели. И с той поры живет рассказ, как маломочный Савва тихенько да гарненько оборудовал дело так, что московьский Никола со всей своей силою ни при чем остался.
– Такий-то, – говорят, – наш Савко штуковатый, як подсилился, то таке повыдумывал, что всех с толку сбил: то от Писания покажет, то от святых отец в нос сунет, так что аж ничого понять не можно. Бог его святый знае: чи он взаправду попа Савву у Керасивны за пазухою перекрестил, чи только так ловко все закароголыв, що и архиерею не раскрутить. А вышло все на добре. На том ему и спасыби.
Отец Савва, говорят, и нынче жив, и вокруг его села кругом штунда, а в его малой церковке все еще полно народу… И хоть неизвестно, «подсиливают» ли там нынче святого Савка по-прежнему, но утверждают, что там по-прежнему во всем приходе никакие Михалки и Потапки «голые пузеня» не показывают.
Несмертельный Голован Из рассказов о трех праведниках
Совершенная любовь изгоняет страх.
Иоанн[94]1
Он сам почти миф, а история его – легенда. Чтобы повествовать о нем – надо быть французом, потому что одним людям этой нации удается объяснить другим то, чего они сами не понимают. Я говорю все это с тою целию, чтобы вперед испросить себе у моего читателя снисхождения ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведение которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован может быть скоро совсем позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я его знаю не настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, однако я подберу и представлю некоторые черты этого не высокого ранга смертного человека, который сумел прослыть «несмертельным».
Прозвище «несмертельного», данное Головану, не выражало собою насмешки и отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком – его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован – человек особенный; человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под Богом и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина, развившаяся в последовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?
Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как судили о том другие – этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи – «несмертельного» Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом: он погиб во время так называемого в г. Орле «большого пожара», утонув в кипящей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако «часть его большая, от тлена убежав, продолжала жить в благодарной памяти» [95], и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом еще продлилась на свете его достойная внимания память.
2
Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его, с чрезвычайно крупными чертами, врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных впечатлений и износить из них воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом:
«Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машеньке (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья прислуга. Кучер уехал с ним (отцом моим), только дворник Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать приходил из правления (губернское правление, где отец был советником). Сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад посмотреть цветы и кануфер [96] полить и взяла с собой Николушку (меня) на руках у Анны (поныне живой старушки). А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная Рябка, прямо с цепью, и прямо кинулась на грудцы Анне, но в ту самую минуту, как Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное творило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось».
Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства, что полуторагодовой ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие.
Я, конечно, не помню, откуда взялась взбешенная Рябка и куда ее дел Голован, после того как она захрипела, барахтаясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке; но я помню момент… только момент. Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество предметов зараз: занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магнезия. Таково, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я как сейчас вижу перед собою огромную собачью морду в мелких пестринах – сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно напомаженном зеве… оскал, который хотел уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время лицо человека улыбалось.
Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.
В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков; сложение имел широкое, сухое и мускулистое; он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и толстыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженые. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она светилась в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере я иного не помню. К дополнению этого неискусного портрета Голована надо упомянуть об одной странности или особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а, по местному выражению, «шкандыбал», то есть на одну, на правую ногу наступал твердою поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она была не искусственная; хотя, впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу.
Одевался Голован мужиком – всегда, летом и зимою, в пеклые жары и в сорокаградусные морозы, он носил длинный, нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его «вековечным».
По тулупу Голован подпоясывался «чекменным» ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других – совсем осыпался и оставил наружу дратву да дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов – это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у Голована за пазухой, слушая его речи, и всегда чувствовал себя здесь очень покойно.
Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а, напротив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было «недро», представлявшее очень просторное помещение для бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он «вышел на волю» и получил на разживу «ермоловскую корову».
Могучую грудь «несмертельного» покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым воротом, всегда чистая, как кипень и непременно с длинною цветною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен.
3
Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, – глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой – самые ранние картины, которые я видел и наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или, лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров Голована и ему же принадлежавший красный бык «ермоловской» породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу «на подержанье» по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход.
Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славились своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно, а сливки «не текли», то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая, тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенно крупных голландских кур, которых водил во множестве, и наконец «приготовлял телят», отпаивая их мастерски и всегда ко времени, например к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском круге.
В этих видах, обусловливающих средства Голована к жизни, ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где он продовольствовал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях «Дворянского гнезда».
Голован жил, впрочем, не в самой улице, а «на отлете». Постройка, которая называлась «Головановым домом», стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен в шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно.
Голованову постройку в собственном смысле нельзя было назвать ни двором, ни домом. Это был большой, низкий сарай, занимавший все пространство отпавшей глыбы. Может быть, бесформенное здание это было здесь возведено гораздо ранее, чем глыбе вздумалось спуститься, и тогда оно составляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним не погнался и уступил его Головану за такую дешевую цену, какую богатырь мог ему предложить. Помнится мне даже, как будто говорили, что сарай этот был подарен Головану за какую-то услугу, оказывать которые он был большой охотник и мастер.
Сарай был переделен надвое: одна половина, обмазанная глиной и выбеленная, с тремя окнами на Орлик, была жилым помещением Голована и находившихся при нем пяти женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка. На низком чердаке жили голландские куры и черный «шпанский» петух, который жил очень долго и считался «колдовской птицей». В нем Голован растил петуший камень, который пригоден на множество случаев: на то, чтобы счастье приносить, отнятое государство из неприятельских рук возвращать и старых людей на молодых переделывать. Этот камень зреет семь лет и созревает только тогда, когда петух петь перестанет.
Сарай был так велик, что оба отделения – жилое и скотское – были очень просторны, но, несмотря на всю о них заботливость, плохо держали тепло. Впрочем, тепло нужно было только для женщин, а сам Голован был нечувствителен к атмосферным переменам и лето и зиму спал на ивняковой плетенке в стойле, возле любимца своего – красного тирольского быка Васьки. Холод его не брал, и это составляло одну из особенностей этого мифического лица, через которые он получил свою баснословную репутацию.
Из пяти женщин, живших с Голованом, три были его сестры, одна мать, а пятая называлась Павла, или, иногда, Павлагеюшка. Но чаще ее называли «Голованов грех». Так я привык слышать с детства, когда еще даже и не понимал значения этого намека. Для меня эта Павла была просто очень ласковою женщиною, и я как сейчас помню ее высокий рост, бледное лицо с ярко-алыми пятнами на щеках и удивительной черноты и правильности бровями.
Такие черные брови правильными полукругами можно видеть только на картинах, изображающих персиянку, покоящуюся на коленях престарелого турка. Наши девушки, впрочем, знали и очень рано сообщили мне секрет этих бровей: дело заключалось в том, что Голован был зелейник и, любя Павлу, чтобы ее никто не узнал, – он ей, сонной, помазал брови медвежьим салом. После этого в бровях Павлы, разумеется, не было уже ничего удивительного, а она к Головану привязалась не своею силою.
Наши девушки всё это знали.
Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и «все молчала». Она была столь молчалива, что я никогда не слыхал от нее более одного, и то самого необходимого слова: «здравствуй», «садись», «прощай». Но в каждом этом коротком слове слышалась бездна привета, доброжелательства и ласки. То же самое выражал звук ее тихого голоса, взгляд серых глаз и каждое движение. Помню тоже, что у нее были удивительно красивые руки, что составляет большую редкость в рабочем классе, а она была такая работница, что отличалась деятельностью даже в трудолюбивой семье Голована.
У них у всех было очень много дела: сам «несмертельный» кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и поставщик, и сыровар. С зарею он выгонял свое стадо за наши заборы на росу и все переводил своих статных коров с обрывца на обрывец, выбирая для них, где потучнее травка. В то время, когда у нас в доме вставали, Голован являлся уже с пустыми бутылками, которые забирал в клубе вместо новых, которые снес туда сегодня; собственноручно врубал в лед нашего ледника кувшины нового удоя и говорил о чем-нибудь с моим отцом, а когда я, отучившись грамоте, шел гулять в сад, он уже опять сидел под нашим заборчиком и руководил своими коровками. Здесь была в заборе маленькая калиточка, через которую я мог выходить к Головану и разговаривать с ним. Он так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории, что я их знал от него, никогда не уча их по книге. Сюда же приходили к нему, бывало, какие-то простые люди – всегда за советами. Иной, бывало, как придет, так и начинает: – Искал тебя, Голованыч, посоветуй со мной.
– Что такое?
– А вот то-то и то-то: в хозяйстве что-нибудь расстроилось или семейные нелады.
Чаще приходили с вопросами этой второй категории. Голованыч слушает, а сам ивнячок плетет или на коровок покрикивает и все улыбается, будто без внимания, а потом вскинет своими голубыми глазами на собеседника и ответит:
– Я, брат, плохой советник! Бога на совет призови.
– А как Его призовешь?
– Ох, брат, очень просто: помолись да сделай так, как будто тебе сейчас помирать надо. Вот скажи-ка мне: как бы ты в таком разе сделал?
Тот подумает и ответит.
Голован или согласится, или же скажет:
– А я бы, брат, умираючи вот как лучше сделал.
И рассказывает, по обыкновению, все весело, со всегдашней улыбкой.
Должно быть, его советы были очень хороши, потому что всегда их слушали и очень его за них благодарили.
Мог ли у такого человека быть «грех» в лице кротчайшей Павлагеюшки, которой в то время, я думаю, было с небольшим лет тридцать, за пределы которых она и не перешла далее? Я не понимал этого «греха» и остался чист от того, чтобы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрениями. А повод для подозрения был, и повод очень сильный, даже, если судить по видимости, неопровержимый. Кто она была Головану? Чужая. Этого мало: он ее когда-то знал, он был одних с нею господ, он хотел на ней жениться, но это не состоялось: Голована дали в услуги герою Кавказа Алексею Петровичу Ермолову [97], а в это время Павлу выдали замуж за наездника Ферапонта, по местному выговору «Храпона». Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел все, – он был не только хороший повар и кондитер, но и сметливый и бойкий походный слуга. Алексей Петрович платил за Голована, что следовало, его помещику, и, кроме того, говорят, будто дал самому Головану взаймы денег на выкуп. Не знаю, верно ли это, но Голован действительно вскоре по возвращении от Ермолова выкупился и всегда называл Алексея Петровича своим «благодетелем». Алексей же Петрович по выходе Голована на волю подарил ему на хозяйство хорошую корову с теленком, от которых у того и пошел «ермоловский завод».
4
Когда именно Голован поселился в сарае на обвале, – этого я совсем не знаю, но это совпадало с первыми днями его «вольного человечества», – когда ему предстояла большая забота о родных, оставшихся в рабстве. Голован был выкуплен самолично один, а мать, три его сестры и тетка, бывшая впоследствии моею нянькою, оставались «в крепости». В таком же положении была и нежно любимая ими Павла, или Павлагеюшка. Голован ставил первою заботою всех их выкупить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему он мог бы идти в повара или в кондитеры, но он предпочел другое, именно молочное хозяйство, которое и начал при помощи «ермоловской коровы». Было мнение, что он избрал это потому, что сам был молокан [98]. Может быть, это значило просто, что он все возился с молоком, но может быть, что название это метило прямо на его веру, в которой он казался странным, как и во многих иных поступках. Очень возможно, что он на Кавказе и знал молоканов и что-нибудь от них позаимствовал. Но это относится к его странностям, до которых дойдет ниже.
Молочное хозяйство пошло прекрасно: года через три у Голована было уже две коровы и бык, потом три, четыре, и он нажил столько денег, что выкупил мать, потом каждый год выкупал по сестре, и всех их забирал и сводил в свою просторную, но прохладную лачугу. Так лет в шесть-семь он высвободил всю семью, но красавица Павла у него улетела. К тому времени, когда он мог и ее выкупить, она была уже далеко. Ее муж, наездник Храпон, был плохой человек – он не угодил чем-то барину и, в пример прочим, был отдан в рекруты без зачета.
В службе Храпон попал в «скачки», то есть верховые пожарной команды в Москву, и вытребовал туда жену; но вскоре и там сделал что-то нехорошее и бежал, а покинутая им жена, имея нрав тихий и робкий, убоялась коловратностей столичной жизни и возвратилась в Орел. Здесь она тоже не нашла на старом месте никакой опоры и, гонимая нуждою, пришла к Головану. Тот, разумеется, ее тотчас же принял и поместил у себя в одной и той же просторной горнице, где жили его сестры и мать. Как мать и сестры Голована смотрели на водворение Павлы, – я доподлинно не знаю, но водворение ее в их доме не посеяло никакой распри. Все женщины жили между собою очень дружно и даже очень любили бедную Павлагеюшку, а Голован всем им оказывал равную внимательность, а особенное почтение оказывал только матери, которая была уже так стара, что он летом выносил ее на руках и сажал на солнышко, как больного ребенка. Я помню, как она «заходилась» ужасным кашлем и все молилась «о прибрании».
Все сестры Голована были пожилые девушки и все помогали брату в хозяйстве: они убирали и доили коров, ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу, из которой потом ткали необыкновенные же и никогда мною после этого не виданные ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивым словом «поплёвки». Материал для нее приносил откуда-то в кульках Голован, и я видел и помню этот материал: он состоял из небольших суковатых обрывочков разноцветных бумажных нитей. Каждый обрывочек был длиною от вершка до четверти аршина, и на каждом таком обрывочке непременно был более или менее толстый узелок или сучок. Откуда Голован брал эти обрывки – я не знаю, но очевидно, что это был фабричный отброс. Так мне и говорили его сестры.
– Это, – говорили, – миленький, где бумагу прядут и ткут, так – как до такого узелка дойдут, сорвут его да на пол и сплюнут – потому что он в берда не идет, а братец их собирает, а мы из них вот тепленькие одеяльца делаем.
Я видал, как они все эти обрывки нитей терпеливо разбирали, связывали их кусочек с кусочком, наматывали образовывающуюся таким образом пеструю, разноцветную нить на длинные шпули; потом их трастили, ссучивали еще толще, растягивали на колышках по стене, сортировали что-нибудь одноцветное для каем и наконец ткали из этих «поплевок» через особое бердо «поплевковые одеяла». Одеяла эти с виду были похожи на нынешние байковые: так же у каждого из них было по две каймы, но само полотно всегда было мрамористое. Узелки в них как-то сглаживались от ссучивания и хотя были, разумеется, очень заметны, но не мешали этим одеялам быть легкими, теплыми и даже иногда довольно красивыми. Притом же они продавались очень дешево – меньше рубля за штуку.
Эта кустарная промышленность в семье Голована шла без остановки, и он, вероятно, находил сбыт поплевковым одеялам без затруднения.
Павлагеюшка тоже вязала и сучила поплевки и ткала одеяла, но, кроме того, она, по усердию к приютившей ее семье, несла еще все самые тяжелые работы в доме: ходила под кручу на Орлик за водою, носила топливо, и прочее, и прочее.
Дрова уже и тогда в Орле были очень дороги, и бедные люди отапливались то гречневою лузгою, то навозом, а последнее требовало большой заготовки.
Все это и делала Павла своими тонкими руками, в вечном молчании, глядя на свет Божий из-под своих персидских бровей. Знала ли она, что ее имя «грех», – я не сведущ, но таково было ее имя в народе, который твердо стоит за выдуманные им клички. Да и как иначе: где женщина, любящая, живет в доме у мужчины, который ее любил и искал на ней жениться, – там, конечно, грех. И действительно, в то время, когда я ребенком видал Павлу, она единогласно почиталась «Головановым грехом», но сам Голован не утрачивал через это ни малейшей доли общего уважения и сохранял прозвище «несмертельного».
5
«Несмертельным» стали звать Голована в первый год, когда он поселился в одиночестве над Орликом с своею «ермоловскою коровою» и ее теленком. Поводом к тому послужило следующее вполне достоверное обстоятельство, о котором никто не вспомнил во время недавней «прокофьевской» чумы. Было в Орле обычное лихолетье, а в феврале на день св. Агафьи Коровницы по деревням, как надо, побежала «коровья смерть». Шло это, яко тому обычай есть и как пишется в универсальной книге, иже глаголется Прохладный вертоград [99]: «Как лето сканчевается, а осень приближается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в то время надобе всякому человеку на всемогущего Бога упование возлагати и на Пречистую Его Матерь и силою честного креста ограждатися и сердце свое воздержати от кручины, и от ужасти, и от тяжелой думы, ибо через сие сердце человеческое умаляется и скоро порса и язва прилепляется – мозг и сердце захватит, осилеет человека и борзо умрет». Было все это тоже при обычных картинах нашей природы, «когда стают в осень туманы густые и темные и ветер с полуденной страны и последи дожди и от солнца воскурение земли, и тогда надобе на ветр не ходити, а сидети во избе в топленой и окон не отворяти, а добро бы, чтобы в том граде ни жити и из того граду отходити в места чистые». Когда, то есть в каком именно году последовал мор, прославивший Голована «несмертельным», – этого я не знаю. Такими мелочами тогда сильно не занимались и из-за них не поднимали шума, как вышло из-за Наума Прокофьева. Местное горе в своем месте и кончалось, усмиряемое одним упованием на Бога и Его Пречистую Матерь, и разве только в случае сильного преобладания в какой-нибудь местности досужего «интеллигента» принимались своеобычные оздоровляющие меры: «во дворех огнь раскладали ясный, дубовым древом, дабы дым расходился, а в избах курили пелынею и можжевеловыми дровами и листвием рутовым». Но все это мог делать только интеллигент, и притом при хорошем зажитке, а смерть борзо брала не интеллигента, но того, кому ни в избе топленой сидеть некогда, да и древом дубовым раскрытый двор топить не по силам. Смерть шла об руку с голодом и друг друга поддерживали. Голодающие побирались у голодающих, больные умирали «борзо», то есть скоро, что крестьянину и выгоднее. Долгих томлений не было, не было слышно и выздоравливающих. Кто заболел, тот «борзо» и помер, кроме одного. Какая это была болезнь – научно не определено, но народно ее звали «пазуха», или «веред» [100], или «жмыховой пупырух», или даже просто «пупырух». Началось это с хлебородных уездов, где, за неимением хлеба, ели конопляный жмых. В Карачевском и Брянском уездах, где крестьяне мешали горсть непросевной муки с толченой корою, была болезнь иная, тоже смертоносная, но не «пупырух». «Пупырух» показался сначала на скоте, а потом передавался людям. «У человека под пазухами или на шее садится болячка червена, и в теле колотье почюет, и внутри негасимое горячество или во удесех [101] некая студеность и тяжкое воздыхание и не может воздыхати – дух в себя тянет и паки воспускает; сон найдет, что не может перестать спать; явится горесть, кислость и блевание; в лице человек сменится, станет образом глиностен и борзо помирает». Может быть, это была сибирская язва, может быть, какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и беспощадна, а самое распространенное название ей, опять повторяю, было «пупырух». Вскочит на теле прыщ, или по-простонародному «пупырушек», зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом борзо и смерть. Скорая смерть представлялась, впрочем, «в добрых видах». Кончина приходила тихая, не мучительная, самая крестьянская, только всем помиравшим до последней минутки хотелось пить. В этом и был весь недолгий и неутомительный уход, которого требовали, или, лучше сказать, вымаливали себе больные. Однако уход за ними даже в этой форме был не только опасен, но почти невозможен, – человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу, – завтра сам заболевал «пупырухом», и в доме нередко ложилось два и три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи – без той единственной помощи, о которой заботится наш крестьянин, «чтобы было кому подать напиться». Вначале такой сирота поставит себе у изголовья ведерко с водою и черпает ковшиком, пока рука поднимается, а потом ссучит из рукава или из подола рубашки соску, смочит ее, сунет себе в рот, да так с ней и закостенеет.
Большое личное бедствие – плохой учитель милосердия. По крайней мере оно нехорошо действует на людей обыкновенной, заурядной нравственности, не возвышающейся за черту простого сострадания. Оно притупляет чувствительность сердца, которое само тяжко страдает и полно ощущения собственных мучений. Зато в этакие горестные минуты общего бедствия среда народная выдвигает из себя героев великодушия, людей бесстрашных и самоотверженных. В обыкновенное время они не видны и часто ничем не выделяются из массы: но наскочит на людей «пупырушек», и народ выделяет из себя избранника, и тот творит чудеса, которые делают его лицом мифическим, баснословным, «несмертельным». Голован был из таких и в первый же мор превзошел и затмил в народном представлении другого здешнего замечательного человека, купца Ивана Ивановича Андросова. Андросов был честный старик, которого уважали и любили за доброту и справедливость, ибо он «близко-помощен» был ко всем народным бедствиям. Помогал он и в «мору», потому что имел списанным «врачевание» и «все оное переписывал и множил». Списания эти у него брали и читали по разным местам, но понять не могли и «приступить не знали». Писано было: «Аще болячка явится поверх главы или ином месте выше пояса, – пущай много кровь из медианы; аще явится на челе, то пущай скоро кровь из-под языка; аще явится подле ушей и под бородою, пущай из сефалиевы жилы, аще же явится под пазухами, то, значит, сердце больно, и тогда в той стороне медиан отворяй». На всякое место, «где тягостно услышишь», расписано было, какую жилу отворять: «сафенову» [102], или «против большого перста, или жилу спатику [103], полуматику, или жилу базику» [104]» с наказом «пущать из них кровь течи, дондеже [105] зелена станет и переменится». А лечить еще «левкарем да антелем [106], печатною землею да землею арменскою; вином малмозеею, да водкой буглосовою [107], вирианом виницейским, митридатом [108] да сахаром монюс-кристи», а входящим к больному «держать во рте дягилева корение, а в руках – пелынь, а ноздри сворбориновым уксусом [109] помазаны и губу в уксусе мочену жохать». Никто ничего в этом понять не мог, точно в казенном указе, в котором писано и переписано, то туда, то сюда и «в дву потомуж». Ни жил таких не находили, ни вина малмозеи, ни земли арменской, ни водки буглосовой, и читали люди списания доброго старичка Андросова более только для «утоли моя печали». Применять же из них могли одни заключительные слова: «а где бывает мор, и в те места не надобе ходить, а отходити прочь». Это и соблюдали во множестве, и сам Иван Иванович держал тое ж правило и сидел в избе топленой и раздавал врачебные списания в подворотенку, задерживая в себе дух и держа во рту дягиль-корень. К больным можно было безопасно входить только тем, у кого есть оленьи слезы или безоар-камень [110]; но ни слез оленьих, ни камня безоара у Ивана Ивановича не было, а в аптеках на Болховской улице камень хотя, может быть, и водился, но аптекаря были – один из поляков, а другой немец, к русским людям надлежащей жалости не имели и безоар-камень для себя берегли. Это было вполне достоверно потому, что один из двух орловских аптекарей как потерял свой безоар, так сейчас же на дороге у него стали уши желтеть, око одно ему против другого убавилось, и он стал дрожать и хоша желал вспотеть и для того велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить, однако не вспотел, а в сухой рубахе умер. Множество людей искали потерянный аптекарем безоар, и кто-то его нашел, только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.
И вот в это-то ужасное время, когда интеллигенты отирались уксусом и не испускали духу, по бедным слободским хибаркам еще ожесточеннее пошел «пупырух»; люди начали здесь умирать «соплошь и без всякой помощи», – и вдруг там, на ниве смерти, появился с изумительным бесстрашием Голован. Он, вероятно, знал или думал, будто знает, какую-то медицину, потому что клал на опухоли больных своего приготовления «кавказский пластырь»; но этот его кавказский, или ермоловский, пластырь помогал плохо. «Пупырухов» Голован не вылечивал, так же как и Андросов, но зато велика была его услуга больным и здоровым в том отношении, что он безбоязненно входил в зачумленные лачуги и поил зараженных не только свежею водою, но и снятым молоком, которое у него оставалось из-под клубных сливок. Утром рано до зари переправлялся он на снятых с петель сарайных воротищах через Орлик (лодки здесь не было) и с бутылками за необъятным недром шнырял из лачужки в лачужку, чтобы промочить из скляницы засохшие уста умирающих или поставить мелом крест на двери, если драма жизни здесь уже кончилась и занавесь смерти закрылась над последним из актеров.
С этих пор доселе малоизвестного Голована широко узнали во всех слободах, и началось к нему большое народное тяготение. Имя его, прежде знакомое прислуге дворянских домов, стали произносить с уважением в народе; начали видеть в нем человека, который не только может «заступить умершего Ивана Ивановича Андросова, а даже более его означать у Бога и у людей». А самому бесстрашию Голована не умедлили подыскать сверхъестественное объяснение: Голован, очевидно, что-то знал, и в силу такого знахарства он был «несмертельный»…
Позже оказалось, что это так именно и было: это помог всем разъяснить пастух Панька, который видел за Голованом вещь невероятную, да подтверждалось это и другими обстоятельствами.
Язва Голована не касалась. Во все время, пока она свирепствовала в слободах, ни сам он, ни его «ермоловская» корова с бычком ничем не заболели; но этого мало: самое важное было то, что он обманул и извел, или, держась местного говора, «изништожил» саму язву, и сделал то, не пожалев теплой крови своей за народушко.
Потерянный аптекарем безоар-камень был у Голована. Как он ему достался – это было неизвестно. Полагали, что Голован нес сливки аптекарю для «обыденной мази» и увидал этот камень и утаил его. Честно это или не честно было произвести такую утайку, про то строгой критики не было, да и быть не должно. Если не грех взять и утаить съедомое, потому что съедомое Бог всем дарствует, то тем паче не предосудительно взять целебное вещество, если оно дано к общему спасению. Так у нас судят – так и я сказываю. Голован же, утаив аптекарев камень, поступил с ним великодушно, пустив его на общую пользу всего рода христианского.
Все это, как я выше уже сказал, обнаружил Панька, а общий разум мирской это выяснил.
6
Панька, разноглазый мужик с выцветшими волосами, был подпаском у пастуха, и, кроме общей пастушьей должности, он еще гонял по утрам на росу перекрещиванских коров. В одно из таких ранних своих занятий он и подсмотрел все дело, которое вознесло Голована на верх величия народного.
Это было по весне, должно быть вскоре после того, как выехал на русские поля изумрудные молодой Егорий светлохрабрый ш, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, по концам звезды перехожие, а Божий люд честной-праведный выгнал встреч ему мал и крупен скот. Травка была еще так мала, что овца и коза ею едва-едва наедались, а толстогубая корова мало могла захватывать. Но под плетнями в тенях и по канавкам уже ботвели полынь и крапива, которые с росой за нужду елися.
Выгнал Панька перекрещиванских коров рано, еще затемно, и прямо бережком около Орлика [111] прогнал за слободу на полянку, как раз напротив конца Третьей Дворянской улицы, где с одной стороны по скату шел старый, так называвшийся «городецкий» сад, а слева на своем обрывке лепилось Голованово гнездо.
Было еще холодно, особенно перед зарею, по утрам, а кому спать хочется, тому еще холоднее кажется. Одежда на Паньке была, разумеется, плохая, сиротская, какая-нибудь рвань с дырой на дыре. Парень вертится на одну сторону, вертится на другую, молит, чтобы святой Федул на него теплом подул, а наместо того все холодно. Только заведет глаза, а ветерок заюлит, заюлит в прореху и опять разбудит. Однако молодая сила взяла свое: натянул Пань-ка свитку на себя совсем сверх головы, шалашиком, и задремал. Час какой не расслышал, потому что зеленая богоявленская колокольня далеко. А вокруг никого, нигде ни одной души человеческой, только толстые купеческие коровы пыхтят да нет-нет в Орлике резвый окунь всплеснет. Дремлется пастуху и в дырявой свитке. Но вдруг как будто что-то его под бок толкнуло, вероятно, зефир где-нибудь еще новую дыру нашел. Панька вскинулся, повел спросонья глазами, хотел крикнуть: «Куда, комолая» – и остановился. Показалось ему, что кто-то на той стороне спускается с кручи. Может быть, вор хочет закопать в глине что-нибудь краденое. Панька заинтересовался: может быть, он подстережет вора и накроет его либо закричит ему «чур вместе», а еще лучше, постарается хорошенько заметить похоронку да потом переплывет днем Орлик, выкопает и все себе без раздела возьмет.
Панька воззрился и все на кручу за Орлик смотрит. А на дворе еще чуть серело.
Вот кто-то спускается с кручи, сошел, стал на воду и идет. Да так просто идет по воде, будто посуху, и не плескает ничем, а только костыльком подпирается. Панька оторопел. Тогда в Орле из мужского монастыря чудотворца ждали и голоса уже из под-полицы слышали. Началось это сразу после «Никодимовых похорон» [112]. Архиерей Никодим был злой человек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем, что, желая иметь еще одну кавалерию [113], он из угодливости сдал в солдаты очень много духовных, между которыми были и единственные сыновья у отцов и даже сами семейные дьячки и пономари. Они выходили из города целой партией, заливаясь слезами. Провожавшие их также рыдали, и самый народ, при всей своей нелюбви к многоовчинному поповскому брюху, плакал и подавал им милостыню. Самому партионному офицеру было их так жалко, что он, желая положить конец слезам, велел новым рекрутам запеть песню, а когда они хором стройно и громко затянули ими же сложенную песню:
Архирей наш Никодим Архилютый крокодил,то будто бы и сам офицер заплакал. Все это тонуло в море слез и чувствительным душам представлялось злом, вопиющим на небо. И действительно – как достигло их вопленье до неба, так в Орле пошли «гласы». Сначала «гласы» были невнятные и неизвестно от кого шли, но когда Никодим вскоре после этого умер и был погребен под церковью, то пошла явная речь от прежде его погребенного там епископа (кажется, Аполлоса [114]). Прежде отшедший епископ был недоволен новым соседством и, ничем не стесняясь, прямо говорил: «Возьмите вон отсюда это падло, душно мне с ним». И даже угрожал, что если «падло» не уберут, то он сам «уйдет и в другом городе явится». Это многие люди слышали. Как, бывало, пойдут в монастырь ко всенощной и, отстояв службу, идут назад, им и слышно: стонет старый архиерей: «Возьмите падло». Всем очень желалось, чтобы заявление доброго покойника было исполнено, но не всегда внимательное к нуждам народа начальство не выбрасывало Никодима, и явно открывавшийся угодник всякую минуту мог «сойти с двора».
Вот не что иное, как это самое, теперь и происходило: угодник уходит, и видит его только один бедный пастушок, который так от этого растерялся, что не только не задержал его, но даже не заметил, как святой уже и из глаз у него пропал. На дворе же только чуть начало светать. Со светом к человеку прибывает смелости, с смелостью усиливается любознательность. Панька захотел подойти к самой воде, через которую только что проследовало таинственное существо; но едва он подошел, как видит, тут мокрые воротища к бережку шестом приткнуты. Дело выяснилось: значит, это не угодник проследовал, а просто проплыл несмертельный Голован: верно, он пошел каких-нибудь обезродевших ребятишек из недра молочком приветить. Панька подивился: когда этот Голован и спит!.. Да и как он, этакой мужичище, плавает на этакой посудине – на половинке ворот? Правда, что Орлик река не великая и воды его, захваченные пониже запрудою, тихи, как в луже, но все-таки каково это на воротах плавать?
Паньке захотелось самому это попробовать. Он стал на воротца, взял шестик да, шаля, и переехал на ту сторону, а там сошел на берег Голованов дом посмотреть, потому что уже хорошо забрезжило, а между тем Голован в ту минуту и кричит с той стороны: «Эй! кто мои ворота угнал! назад давай!»
Панька был малый не большой отваги и не приучен был рассчитывать на чье-либо великодушие, а потому испугался и сделал глупость. Вместо того чтобы подать Головану назад его плот, Панька взял да и схоронился в одну из глиняных ямок, которых тут было множество. Залег Панька в яминку, и сколько его Голован ни звал с той стороны, он не показывается. Тогда Голован, видя, что ему не достать своего корабля, сбросил тулуп, разделся донага, связал весь свой гардероб ремнем, положил на голову и поплыл через Орлик. А вода была еще очень холодна.
Панька об одном заботился, чтобы Голован его не увидал и не побил, но скоро его внимание было привлечено к другому. Голован переплыл реку и начал было одеваться, но вдруг присел, глянул себе под левое колено и остановился.
Было это так близко от яминки, в которой прятался Панька, что ему все было видно из-за глыбинки, которою он мог закрываться. И в это время уже было совсем светло, заря уже румянела, и хотя большинство горожан еще спали, но под городецким садом появился молодой парень с косою, который начал окашивать и складывать в плетушку крапиву.
Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе, громко крикнул ему:
– Малец, дай скорей косу!
Малец принес косу, а Голован говорит ему:
– Поди мне большой лопух сорви, – и как парень от него отвернулся, он снял косу с косья, присел опять на корточки, оттянул одною рукою икру у ноги да в один мах всю ее и отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревенскую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился.
Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал звать косаря.
Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала.
Тогда Голован велел им поставить около него ведерце с водою и ковшик, а самим идти к своим делам, и никому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясясь от ужасти, всем рассказали. А услыхавшие про это сразу догадались, что Голован это сделал неспроста, а что он таким образом, изболясь за людей, бросил язве шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвицей по всем русским рекам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстрадал, а сам он от этого не умрет, потому что у него в руках аптекарев живой камень и он человек «несмертельный».
Сказ этот пришел всем по мысли, да и предсказание оправдалось. Голован не умер от своей страшной раны. Лихая же хвороба после этой жертвы действительно прекратилась, и настали дни успокоения: поля и луга уклочились густой зеленью, и привольно стало по ним разъезжать молодому Егорию светлохраброму, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, а по концам звезды перехожие. Отбелились холсты свежею юрьевой росою [115], выехал вместо витязя Егория в поле Иеремия пророк с тяжелым ярмом, волоча сохи да бороны, засвистали соловьи в Борисов день, утешая мученика, стараниями святой Мавры засинела крепкая рассада, прошел Зосима святой с долгим костылем, в набалдашнике пчелиную матку пронес; минул день Ивана Богословца, «Николина батюшки», и сам Никола отпразднован, и стал на дворе Симон Зилот, когда земля именинница. На землины именины Голован вылез на завалинку и с той поры мало-помалу ходить начал и снова за свое дело принялся. Здоровье его, по-видимому, нимало не пострадало, но только он «шкандыбать» стал – на левую ножку подпрыгивал.
О трогательности и отваге его кровавого над собою поступка люди, вероятно, имели высокое мнение, но судили о нем так, как я сказал: естественных причин ему не доискивались, а, окутав все своею фантазиею, сочинили из естественного события баснословную легенду, а из простого, великодушного Голована сделали мифическое лицо, что-то вроде волхва, кудесника, который обладал неодолимым талисманом и мог на все отважиться и нигде не погибнуть.
Знал или не знал Голован, что ему присвоивала такие дела людская молва, – мне неизвестно. Однако я думаю, что он знал, потому что к нему очень часто обращались с такими просьбами и вопросами, с которыми можно обращаться только к доброму волшебнику. И он на многие такие вопросы давал «помогательные советы», и вообще ни за какой спрос не сердился. Бывал он по слободам и за коровьего врача, и за людского лекаря, и за инженера, и за звездоточия, и за аптекаря. Он умел сводить шелуди и коросту опять-таки какою-то «ермоловской мазью», которая стоила один медный грош на трех человек; вынимал соленым огурцом жар из головы; знал, что травы надо собирать с Ивана до полу-Петра [116], и отлично «воду показывал», то есть где можно колодец рыть. Но это он мог, впрочем, не во всякое время, а только с начала июня до св. Федора Колодезника, пока «вода в земле слышно как идет по суставчикам». Мог Голован сделать и все прочее, что только человеку надо, но на остальное у него перед Богом был зарок дан за то, чтобы пупырух остановился. Тогда он это кровью своею подтвердил и держал крепко-накрепко. Зато его и Бог любил и миловал, а деликатный в своих чувствах народ никогда не просил Голована о чем не надобно. По народному этикету это так у нас принято.
Головану, впрочем, столь не тягостно было от мистического облака, которым повивала его народная fama [117], что он не употреблял, кажется, никаких усилий разрушить все, что о нем сложилось. Он знал, что это напрасно.
Когда я с жадностью пробегал листы романа Виктора Гюго «Труженики моря» и встретил там Жильята, с его гениально очерченной строгостью к себе и снисходительностью к другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения, я был поражен не одним величием этого облика и силою его изображения, но также и тождеством гернсейского героя с живым лицом, которого я знал под именем Голована. В них жил один дух и бились самоотверженным боем сходные сердца. Не много разнились они и в своей судьбе: во всю жизнь вокруг них густела какая-то тайна, именно потому, что они были слишком чисты и ясны, и как одному, так и другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья.
7
Голован, как и Жильят, казался «сумнителен в вере».
Думали, что он был какой-нибудь раскольник, но это еще не важно, потому что в Орле в то время было много всякого разноверия: там были (да, верно, и теперь есть) и простые староверы, и староверы не простые, – и федосеевцы, «пилипоны», и перекрещиванцы, были даже хлысты [118] и «люди божии», которых далеко высылали судом человеческим. Но все эти люди крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную веру, – особились друг от друга в молитве и ядении и одних себя разумели на «пути правом». Голован же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего настоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угодно стол, где его приглашали. Даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока. Но нехристианская сторона этого последнего поступка по любви народа к Головану нашла себе кое-какое извинение: люди проникли, что Голован, задабривая Юшку, хотел добыть у него тщательно сохраняемые евреями «иудины губы», которыми можно перед судом отолгаться, или «волосатый овощ», который жидам жажду тушит, так что они могут вина не пить. Но что совсем было непонятно в Головане, это то, что он водился с медником Антоном, который пользовался в рассуждении всех настоящих качеств самою плохою репутациею. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии [119] и даже что-то сочинял. Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чердаке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план, рекомый «зодии», и стекло, которым «с солнца огонь изводил»; а кроме того, у него был лаз на крышу, куда он вылезал ночами наружу, садился, как кот, у трубы, «выставлял плезирную трубку» [120] и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инструменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, когда ему видны были все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу, – сейчас проскользнет через свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу, и если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или по крайней мере немец, но как он был простой русский человек – его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его «Астроном», а он и в самом деле был астроном. Я и мой товарищ по гимназии, нынче известный русский математик К. Д. Краевич [121], знавали этого антика в конце сороковых годов, когда мы были в третьем классе орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых; «Антон-астроном» (тогда уже престарелый) действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения, но главное, что было интересно: он сам приготовлял для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем, из донышек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо… жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от «зодии». Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец; уверял, что земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободою мышления, составляющего привилегию этого выгодного у нас звания, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство [122], говорил, что «зверь десятирогий» заключается в одной аллегории, а зверь медведица – астрономическая фигура, которая есть в его планах. Так же он вовсе не православно разумел о «крыле орла», о фиалах и о печати антихристовой. Но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену, – да и какая же дура решилась бы выйти за астронома? Голован же был в полном уме, но не только водился с астрономом, а и не шутил над ним; их даже видали ночами вместе на астрономовой крыше, как они, то один, то другой, переменяясь, посматривали в плезирную трубу на зодии. Понятно, что за мысли могли внушать эти две стоящие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечтательное суеверие, медицинская поэзия, религиозный бред и недоумение… И наконец, сами обстоятельства ставили Голована в несколько странное положение: неизвестно было – какого он прихода. Холодная хибара его торчала на таком отлете, что никакие духовные стратеги не могли ее присчитать к своему ведению, а сам Голован об этом не заботился и, если его уже очень докучно расспрашивали о приходе, отвечал:
– Я из прихода Творца-Вседержителя, – а такого храма во всем Орле не было.
Жильят, в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его приход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил:
– Вон там, – но сущность обоих этих ответов одинакова.
Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений на этот счет как будто не имел, и на случай неотступного вопроса: «Како веруеши?» – читал:
«Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя Творца, видимым же всем и невидимым».
Это, разумеется, уклончивость.
Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован был сектант или бежал церковности. Нет, он даже ходил к отцу Петру в Борисоглебский собор «совесть поверять». Придет и скажет:
– Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нравлюсь.
Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и однажды, когда мой отец сказал ему к какому-то слову, что Голован, кажется, человек превосходной совести, то отец Петр отвечал:
– Не сомневайтесь; его совесть снега белей.
Голован любил возвышенные мысли и знал Поппе [123], но не так, как обыкновенно знают писателя люди, прочитавшие его произведение. Нет; Голован, одобрив «Опыт о человеке», подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым, знал всю поэму наизусть. И я помню, как он, бывало, слушает, стоя у притолки, рассказ о каком-нибудь новом грустном происшествии и, вдруг воздохнув, отвечает:
Любезный Болинброк, гордыня в нас одна Всех заблуждений сих неистовых вина.Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой человек, как Голован, перекидывался стихами Поппе. Тогда было время жестокое, но поэзия была в моде, и ее великое слово было дорого даже мужам кровей. От господ это снисходило до плебса. Но теперь я дохожу до самого большого казуса в истории Голована – такого казуса, который уже несомненно бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах людей, не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся не чистым в каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось вдруг, но в самых резких видах. Появилась на стогнах Орла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила, но на Голована заявляла могущественные нрава и обходилась с ним с невероятной наглостью.
Эта личность и история ее появления есть довольно характерный эпизод из истории тогдашних нравов и не лишенная колорита бытовая картинка. А потому – прошу минуту внимания в сторону, – немножко вдаль от Орла, в края еще более теплые, к тихоструйной реке в ковровых берегах, на народный «пир веры», где нет места деловой, будничной жизни; где все, решительно все, проходит через своеобычную религиозность, которая и придает всему свою особенную рельефность и живость. Мы должны побывать при открытии мощей нового угодника [124], что составляло для самых разнообразных представителей тогдашнего общества событие величайшего значения. Для простого же народа это была эпопея, или, как говорил один тогдашний вития, – «свершался священный пир веры».
8
Такого движения, которое началось ко времени открытия торжества, не может передать ни одно из напечатанных в то время сказаний. Живая, но низменная дела сторона от них уходила. Это не было нынешнее спокойное путешествие в почтовых экипажах или по железным дорогам с остановками в благоустроенных гостиницах, где есть все нужное, и за сходную цену. Тогда путешествие было подвигом, и в этом случае благочестивым подвигом, которого, впрочем, и стоило ожидаемое торжественное событие в церкви. В нем было также много поэзии, – и опять-таки особенной – пестрой и проникнутой разнообразными переливами церковно-бытовой жизни, ограниченной народной наивности и бесконечных стремлений живого духа.
Из Орла к этому торжеству отправилось множество народа. Больше всего, разумеется, усердствовало купечество, но не отставали и средней руки помещики, особенно же валил простой народ. Эти шли пешком. Только те, кто вез «для цельбы» немощных, тянулись на какой-нибудь клячонке. Иногда, впрочем, и немощных везли на себе и даже не очень тем тяготились, потому что с немощных на постоялых дворах за все брали дешевле, а иногда даже и совсем пускали без платы. Было немало и таких, которые нарочно на себя «болезни сказывали: под лоб очи пущали, и двое третьего, по переменкам, на колесеньках везли, чтобы имать доход жертвенный на воск, и на масло, и на другие обряды».
Так я читал в сказании, не печатанном, но верном, списанном не по шаблону, а с «живого видения», и человеком, предпочитавшим правду тенденциозной лживости того времени.
Движение было такое многолюдное, что в городах Ливнах и в Ельце, через которые лежал путь, не было мест ни на постоялых дворах, ни в гостиницах. Случалось, что важные и именитые люди ночевали в своих каретах. Овес, сено, крупа – все по тракту поднялось в цене, так что, по замечанию моей бабушки, воспоминаниями которой я пользуюсь, с этих пор в нашей стороне, чтобы накормить человека студенем, щами, бараниной и кашей, стали брать на дворах по пятьдесят две копейки (то есть пятиалтынный), а до того брали двадцать пять (или 7 1/2 коп.). По нынешнему времени, конечно, и пятиалтынный – цена совершенно невероятная, однако это так было, и открытие мощей нового угодника в подъеме ценности на жизненные припасы имело для прилегающих мест такое же значение, какое в недавние годы имел для Петербурга пожар мстинского моста. «Цена вскочила и такая и осталась».
Из Орла, в числе прочих паломников, отправилось на открытие семейство купцов С-х, людей в свое время очень известных, «ссыпщиков», то есть, проще сказать, крупных кулаков, которые ссыпают в амбары хлеб с возов у мужиков и потом продают свои «ссыпки» оптовым торговцам в Москву и в Ригу. Это прибыльное дело, которым после освобождения крестьян было не погнушались и дворяне; но они любили долго спать и скоро горьким опытом дознали, что даже к глупому кулачному делу они неспособны. Купцы С. считались, по своему значению, первыми ссыпщиками, и важность их простиралась до того, что дому их вместо фамилии была дана возвышающая кличка. Дом был, разумеется, строго благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах – «лампад и сияние», громкий храп и чьи-нибудь жгучие слезы.
Правил домом, по-нынешнему сказали бы, «основатель фирмы», – а тогда просто говорили «сам». Был это мякенький старичок, которого, однако, все как огня боялись. Говорили о нем, что он умел мягко стлать, да было жестко спать: обходил всех словом «матинька», а спускал к черту в зубы. Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха.
Вот этот-то патриарх и ехал на открытие «в большом составе» – сам, да жена, да дочь, которая страдала «болезнью меланхолии» и подлежала исцелению. Испытаны были над нею все известные средства народной поэзии и творчества: ее поили бодрящим девясилом [125], обсыпали пиониею, которая унимает надхождение стени [126], давали нюхать майран, что в голове мозг поправляет, но ничто не помогло, и теперь ее взяли к угоднику, поспешая на первый случай, когда пойдет самая первая сила. Вера в преимущество первой силы очень велика, и она имеет своим основанием сказание о силоамской купели, где тоже исцелевали первые, кто успевал войти по возмущении воды.
Ехали орловские купцы через Ливны и через Елец, претерпевая большие затруднения, и совершенно измучились, пока достигли к угоднику. Но улучить «первый случай» у угодника оказалось невозможным. Народу собралась такая область, что и думать нечего было протолкаться в храм, ко всенощной под «открытный день», когда, собственно, и есть «первый случай», – то есть когда от новых мощей исходит самая большая сила.
Купец и жена его были в отчаянии, – равнодушнее всех была дочка, которая не знала, чего она лишалася. Надежд никаких не было помочь горю, – столько было знати, с такими фамилиями, а они простые купцы, которые хотя в своем месте что-нибудь и значили, но здесь, в таком скоплении христианского величия, совсем потерялися. И вот однажды, сидя в горе под своею кибиточкою за чаем на постоялом дворе, жалуется патриарх жене, что уже и надежды никакой не полагает достигнуть до святого гроба ни в первых, ни во вторых, а разве доведется как-нибудь в самых последних, вместе с ниварями [127] и рыбарями [128], то есть вообще с простым народом. А тогда уже какая радость: и полиция освирепеет, и духовенство заморится – вдоволь помолиться не даст, а совать станет. И вообще тогда все не то, когда уже приложится столько тысяч уст всякого народа. В таковых видах можно было и после приехать, а они не того доспевали: они ехали, томились, дома дело на приказчицкие руки бросили и дорогою за все втридорога платили, и вот тебе вдруг какое утешение.
Пробовал купец раз и два достигнуть до дьяконов – готов был дать благодарность, но и думать нечего, – с одной стороны одно стеснение, в виде жандарма с белой рукавицею или казака с плетью (их тоже пришло к открытию мощей множество), а с другой – еще опаснее, что задавит сам православный народушко, который волновался, как океан. Уже и были «разы», и даже во множестве, и вчера, и сегодня. Шарахнутся где-нибудь добрые христиане от взмаха казачьей нагайки целой стеною в пять, в шесть сот человек, и как попрут да поналяжут стеной дружненько, так из середины только стон да пах пойдет, а потом, по освобождении, много видано женского уха в серьгах рваного и персты из-под колец верчены, а две-три души и совсем Богу проставлялись.
Купец все эти трудности и высказывает за чаем жене и дочери, для которой особенно надо было улучить первые силы, а какой-то «пустошный человек», неведомо, городского или сельского звания, все между разными кибитками ходит под сараем да как будто засматривает на орловских купцов с намерением.
«Пустошных людей» тогда тоже собралось здесь много. Им не только было свое место на этом пиршестве веры, но они даже находили здесь себе хорошие занятия; а потому понахлынули сюда в изобилии из разных мест, и особенно из городов, прославленных своими воровскими людьми, то есть из Орла, Кром, Ельца и из Ливен, где славились большие мастера чудеса строить. Все сошедшиеся сюда пустошные люди искали себе своих промыслов. Отважнейшие из них действовали строем, располагаясь кучами в толпах, где удобно было при содействии казака произвести натиск и смятение и во время суматохи обыскать чужие карманы, сорвать часы, поясные пряжки и повыдергать серьги из ушей; а люди более степенные ходили в одиночку по дворам, жаловались на убожество, «сказывали сны и чудеса», предлагали привороты, отвороты и «старым людям секретные помочи из китового семени, вороньего сала, слоновьей спермы» и других снадобий, от коих «сила постоянная движет». Снадобья эти не утрачивали своей цены и здесь, потому что, к чести человечества, совесть не за всеми исцелениями позволяла обращаться к угоднику. Не менее охотно пустошные люди смирного обычая занимались просто воровством и при удобных случаях нередко дочиста обворовывали гостей, которые за неимением помещений жили в своих повозках и под повозками. Места везде было мало, и не все повозки находили себе приют под сараями постоялых дворов; другие же стояли обозом за городом на открытых выгонах. Тут шла жизнь еще более разнообразная и интересная и притом еще более полная оттенков священной и медицинской поэзии и занимательных плутней. Темные промышленники шныряли повсеместно, но приютом им был этот загородный «бедный обоз» с окружавшими его оврагами и лачужками, где шло ожесточенное корчемство [129] водкой и в двух-трех повозках стояли румяные солдатки, приехавшие сюда в складчину. Тут же фабриковались стружки от гроба, «печатная земля», кусочки истлевших риз и даже «частицы». Иногда между промышлявшими этими делами художниками попадались люди очень остроумные и выкидывали штуки интересные и замечательные по своей простоте и смелости. Таков был и тот, которого заметило благочестивое орловское семейство. Проходимец подслушал их сетование о невозможности приступить к угоднику, прежде чем от мощей истекут первые струи целебной благодати, и прямо подошел и заговорил начистоту:
– Скорби-де ваши я слышал и могу помочь, а вам меня избегать нечего… Без нас вы здесь теперь желаемого себе удовольствия, при столь большом и именитом съезде, не получите, а мы в таковых разах бывали и средства знаем. Угодно вам быть у самых первых сил угодника – не пожалейте за свое благополучие сто рублей, и я вас поставлю.
Купец посмотрел на субъекта и отвечал:
– Полно врать.
Но тот свое продолжал:
– Вы, – говорит, – вероятно, так думаете, судя по моему ничтожеству; но ничтожное в очах человеческих может быть совсем в другом расчислении у Бога, и я за что берусь, то твердо могу исполнить. Вы вот смущаетесь насчет земного величия, что его много наехало, а мне оно все прах, и будь тут хоть видимо-невидимо одних принцев и королей, они нимало нам не могут препятствовать, а даже все сами перед нами расступятся. А потому, если вы желаете сквозь все пройти чистым и гладким путем, и самых первых лиц увидать, и другу Божию дать самые первые лобызания, то не жалейте того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгаете компанией, то я живо подберу еще два человека, коих на примете имею, и тогда вам дешевле станет.
Что оставалось делать благочестивым поклонникам? Конечно, рискованно было верить пустотному человеку, но и случая упустить не хотелось, да и деньги требовались небольшие, особенно если в компании… Патриарх решился рискнуть и сказал:
– Ладь компанию.
Пустошный человек взял задаток и побежал, наказав семейству рано пообедать и за час перед тем, как ударят к вечерне в первый колокол, взять каждому с собой по новому ручному полотенцу и идти за город, на указанное место «в бедный обоз», и там ожидать его. Оттуда немедленно же должен был начинаться поход, которого, по уверениям антрепренера, не могли остановить никакие принцы, ни короли.
Таковые «бедные обозы» в больших или меньших размерах становились широким станом при всех подобных сборищах, и я сам видал их и помню в Коренной под Курском, а о том, о котором наступает повествование, слышал рассказы от очевидцев и свидетелей тому, что сейчас будет описано.
9
Место, занятое бедным становищем, было за городом, на обширном и привольном выгоне между рекою и столбовою дорогою, а в конце примыкало к большому извилистому оврагу, по которому бежал ручеек и рос густой кустарник; сзади начинался могучий сосновый лес, где клектали орлы.
На выгоне расположилось множество бедных повозок и колымаг, представлявших, однако, во всей своей нищете довольно пестрое разнообразие национального гения и изобретательности. Были обыкновенные рогожные будки, полотняные шатры во всю телегу, «беседки» с пушистым ковылем-травой и совершенно безобразные лубковые окаты. Целый большой луб с вековой липы согнут и приколочен к тележным грядкам, а под ним лежка: лежат люди ногами к ногам в нутро экипажа, а головы к вольному воздуху, на обе стороны вперед и назад. Над возлежащими проходит ветерок и вентилирует, чтобы им можно было не задохнуться в собственном духу. Тут же у взвязанных к оглоблям пихтерей [130] с сеном и хрептугов [131] стояли кони, большею частию тощие, все в хомутах и иные, у бережливых людей, под рогожными «крышками». При некоторые повозках были и собачки, которых хотя и не следовало бы брать в паломничество, но это были «усердные» собачки, которые догнали своих хозяев на втором, третьем покорме и ни при каком бойле не хотели от них отвязаться. Им здесь не было места, по настоящему положению паломничества, но они были терпимы и, чувствуя свое контрабандное положение, держали себя очень смирно; они жались где-нибудь у тележного колеса под дегтяркою и хранили серьезное молчание. Одна скромность спасала их от остракизма и от опасного для них крещеного цыгана, который в одну минуту «снимал с них шубы». Здесь, в бедном обозе, под открытым небом жилось весело и хорошо, как на ярмарке. Всякого разнообразия здесь было более, чем в гостиничных номерах, доставшихся только особым избранникам, или под навесами постоялых дворов, где в вечном полумраке мостились в повозках люди второй руки. Правда, в бедный обоз не заходили тучные иноки и иподиаконы, не видать было даже и настоящих, опытных странников, но зато здесь были свои мастера на все руки и шло обширное кустарное производство разных «святостей». Когда мне довелось читать известное в киевских хрониках дело о подделке мощей из бараньих костей, я был удивлен младенчеством приема этих фабрикантов в сравнении с смелостью мастеров, о которых слыхал ранее. Тут это было какое-то откровенное неглиже с отвагой. Даже самый путь к выгону по Слободской улице уже отличался ничем не стесняемою свободою самой широкой предприимчивости. Люди знали, что этакие случаи не часто выпадают, и не теряли времени: у многих ворот стояли столики, на которых лежали иконки, крестики и бумажные сверточки с гнилою древесною пылью, будто бы от старого гроба, и тут же лежали стружки от нового. Весь этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего сорта, чем в настоящих местах, потому что принесен сюда самими столярами, копачами и плотниками, производившими самые важные работы. У входа в лагерь вертелись «носящие и сидящие» с образками нового угодника, заклеенными пока белою бумажкою с крестиком. Образки эти продавались по самой дешевой цене, и покупать их можно было сию же минуту, но открывать нельзя было до отслужения первого молебна. У многих недостойных, купивших такие образки и открывших их раньше времени, они оказались чистыми дощечками. В овраге же за становищем, под санями, опрокинутыми кверху полозьями, жили у ручья цыган с цыганкою и цыганятами. Цыган и цыганка имели тут большую врачебную практику. У них на одном полозе был привязан за ногу большой безголосый «петух», из которого выходили по утрам камни, «двигавшие постельную силу», и цыган имел кошкину траву, которая тогда была весьма нужна к «болячкам афедроновым» [132]. Цыган этот был в своем роде знаменитость. Слава о нем шла такая, что он, когда в неверной земле семь спящих дев открывали, и там он не лишний был: он старых людей на молодых переделывал, прутяные сеченья господским людям лечил и военным кавалерам заплечный бой из нутра через водоток выводил. Цыганка же его, кажется, знала еще большие тайны природы: она две воды мужьям давала: одну ко обличению жен, кои блудно грешат; той воды если женам дать, она в них не удержится, а насквозь пройдет; а другая вода магнитная: от этой воды жена неохочая во сне страстно мужа обоймет, а если усилится другого любить – с постели станет падать.
Словом, дело здесь кипело, и многообразные нужды человечества находили тут полезных пособников.
Пустошный человек как завидел купцов, не стал с ними разговаривать, а начал их манить, чтобы сошли в овражек, и сам туда же вперед юркнул.
Опять это показалось страшновато: можно было опасаться засады, в которой могли скрываться лихие люди, способные обобрать богомольцев догола, но благочестие превозмогло страх, и купец после небольшого раздумья, помолясь Богу и помянув угодника, решился переступить шага три вниз.
Сходил он осторожно, держась за кустики, а жене и дочери приказал в случае чего-нибудь кричать изо всей мочи.
Засада здесь и в самом деле была, но не опасная: купец нашел в овраге двух таких же, как он, благочестивых людей в купеческом одеянии, с которыми надо было «сладиться». Все они должны были здесь заплатить пустотному уговорную плату за проводы их к угоднику, а тогда он им откроет свой план и сейчас их поведет. Долго думать было нечего, и упорство ни к чему не вело: купцы сложили сумму и дали, а пустошный открыл им свой план, простой, но, по простоте своей, чисто гениальный: он заключался в том, что в «бедном обозе» есть известный пустошному человеку человек расслабленный, которого надо только поднять и нести к угоднику, и никто их не остановит и пути им не затруднит с болящим. Надо только купить для слабого болезный одрец [133] да покровец и, подняв его, нести всем шестерым, подвязавши под одр полотенчики.
Мысль эта казалась в первой своей части превосходною, – с расслабленным носителей, конечно, пропустят, но каковы быть могут последствия? Не было бы дальше конфуза? Однако и на этот счет все было успокоено, проводник сказал только, что это не стоит внимания.
– Мы таковые разы, – говорит, – уже видали: вы, в ваше удовольствие, сподобитеся все видеть и приложиться к угоднику во время всенощного пения, а в рассуждении болящего, будь воля угодника, – пожелает он его исцелить – и исцелит, а не пожелает – опять его воля. Теперь только скиньтесь скорее на одрец и на покровец, а у меня уж все это припасено в близком доме, только надо деньги отдать. Мало меня здесь повремените, и в путь пойдем.
Взял, поторговавшись, еще на снасть по два рубля с лица и побежал, а через десять минут назад вернулся и говорит:
– Идем, братия, только не бойко выступайте, а поспустите малость очи побогомысленнее.
Купцы спустили очи и пошли с благоговением и в этом же «бедном обозе» подошли к одной повозке, у которой стояла у хрептуга совсем дохлая клячонка, а на передке сидел маленький золотушный мальчик и забавлял себя, перекидывая с руки на руку ощипанные плоднички желтых пупавок [134]. На этой повозке под липовым лубком лежал человек средних лет, с лицом самих пупавок желтее, и руки тоже желтые, все вытянутые и как мягкие плети валяются.
Женщины, завидев этакую ужасную немощь, стали креститься, а проводник их обратился к больному и говорит:
– Вот, дядя Фотей, добрые люди пришли помочь мне тебя к исцеленью нести. Воли Божией час к тебе близится.
Желтый человек стал поворачиваться к незнакомым людям и благодарственно на них смотрит, а перстом себе на язык показывает.
Те догадались, что он немой. «Ничего, – говорят, – ничего, раб Божий, не благодари нас, а Богу благодарствуй», – и стали его вытаскивать из повозки – мужчины под плечи и под ноги, а женщины только его слабые ручки поддерживали и еще более напугались страшного состояния больного, потому что руки у него в плечевых суставах совсем «перевалилися» и только волосяными веревками были кое-как перевязаны.
Одрик стоял тут же. Это была небольшая старая кроватка, плотно засыпанная по углам клоповыми яйцами; на кроватке лежал сноп соломы и кусок редкого миткалю с грубо выведенным красками крестом, копием и тростию. Проводник ловкою рукою распушил соломку, чтобы на все стороны с краев свешивалась, положили на нее желтого расслабленного, покрыли миткалем и понесли.
Проводник шел впереди с глиняной жаровенкой и крестообразно покуривал.
Еще они и из обоза не вышли, как на них уже начали креститься, а когда пошли по улицам, внимание к ним становилось все серьезнее и серьезнее: все, видя их, понимали, что это к чудотворцу несут болящего, и присоединялися. Купцы шли поспешаючи, потому что слышали благовест ко всенощной, и пришли с своею ношею как раз вовремя, когда запели: «Хвалите имя Господне, раби Господа».
Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося народа; видимо-невидимо людей сплошною массою стояло вокруг церкви, но чуть увидали одр и носящих, все загудели: «Расслабого несут, чудо будет», и вся толпа расступилась.
До самых дверей стала живая улица, и дальше все сделалось, как обещал проводник. Даже и твердое упование веры его не осталось в постыжении: расслабленный исцелел. Он встал, он сам вышел на своих ногах «славяще и благодаряще». Кто-то все это записал на записочку, в которой, со слов проводника, исцеленный расслабленный был назван «родственником» орловского купца, через что ему многие завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел уже в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых родственников.
Все это было приятно. Исцеленный был интересным лицом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему «жертовки».
Но он еще мало говорил и неявственно – очень шамкал с непривычки и больше всего на купцов исцеленною рукою показывал: «их-де спрашивайте, они родственники, они всё знают». И тогда те поневоле говорили, что он их родственник; но вдруг под все это подкралась неожиданная неприятность: в ночь, наставшую после исцеления желтого расслабленного, было замечено, что у бархатного намета над гробом угодника пропал один золотой шнур с такою же золотою кистью.
Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского купца, не заметил ли он, близко подходя, и что такое за люди помогали ему нести больного родственника? Он по совести сказал, что люди были незнакомые, из бедного обоза, по усердию несли. Возили его туда узнавать место, людей, клячу и тележку с золотушным мальчиком, игравшим пупавками, но тут только одно место было на своем месте, а ни людей, ни повозки, ни мальчика с пупавками и следа не было.
Дознание бросили, «да не молва будет в людях». Кисть повесили новую, а купцы после такой неприятности скорее собрались домой. Но только тут исцеленный родственник осчастливил их новой радостью: он обязывал их взять его с собою и в противном случае угрожал жалобою и про кисть напомнил.
И потому, когда пришел час к отъезду купцов восвояси, Фотей очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его было невозможно до лежавшего на их пути села Крутого. Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и тяжелый подъем на другую, и потому случались разные происшествия с путниками: падали лошади, переворачивались экипажи и прочее в этом роде. Село Крутое непременно надо было проследовать засветло, иначе надо заночевать, а в сумерки никто не рисковал спускаться.
Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при восхождении на гору «растерялись», то есть потеряли своего исцеленного родственника Фотея. Говорили, будто с вечера они «добре его угостили из фляги», а утром не разбудили и съехали, но нашлись другие добрые люди, которые поправили эту растерянность и, прихватив Фотея с собою, привезли его в Орел.
Здесь он отыскал своих неблагодарных родственников, покинувших его в Крутом, но не встретил у них родственного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказывать, будто купец ездил к угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлеб подорожал. Никому это точнее Фотея известно не было.
10
Не в долгих днях после появления в Орле известного и покинутого Фотея в приходе Михаила Архангела у купца Акулова были «бедные столы». На дворе, на досках, дымились большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хозяйского крыльца раздавали по рукам ватрушки с луком и пироги. Гостей набралось множество, каждый со своей ложкой в сапоге или за пазухой. Пирогами оделял Голован. Он часто был зван к таким «столам» архитриклином [135] и хлебодаром, потому что был справедлив, ничего не утаит себе и основательно знал, кто какого пирога стоит – с горохом, с морковью или с печенкой.
Так и теперь он стоял и каждому подходящему «оделял» большой пирог, а у кого знал в доме немощных – тому два и более «на недужную порцию». И вот в числе разных подходящих подошел к Головану и Фотей, человек новый, но как будто удививший Голована. Увидав Фотея, Голован словно что-то вспомнил и спросил:
– Ты чей и где живешь?
Фотей сморщился и проговорил:
– Я ничей, а Божий, обшит рабьей кожей, а живу под рогожей.
А другие говорят Головану: «Его купцы привезли от угодника… Это Фотей исцеленный».
Но Голован улыбнулся и заговорил было:
– С какой стати это Фотей! – но в эту же самую минуту Фотей вырвал у него пирог, а другою рукою дал ему оглушительную пощечину и крикнул:
– Не бреши лишнего! – и с этим сел за столы, а Голован стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что, верно, это так надобно, очевидно, исцеленный юродует, а Голован знает, что это надо сносить. Но только «в каком расчислении стоил Голован такого обращения?» Это была загадка, которая продолжалась многие годы и установила такое мнение, что в Головане скрывается что-нибудь очень бедовое, потому что он Фотея боится.
И впрямь тут было что-то загадочное. Фотей, скоро павший в всеобщем мнении до того, что вслед ему кричали: «У святого кисть украл и в кабаке пропил», с Голованом обходился чрезвычайно дерзко.
Встречая Голована где бы то ни было, Фотей заступал ему дорогу и кричал: «Долг подавай». И Голован, нимало ему не возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну. Если же у него не случалось с собою гривны, а было менее, то Фотей, которого за пестроту его лохмотьев прозвали Горностаем, швырял Головану недостаточную дачу назад, плевал на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом.
Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован стоял под окном и все они втроем вели свой разговор, в открытые на этот случай ворота вбежал ободранный Горностай и с криком «Забыл, подлец!» при всех ударил Голована по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за пазухи медных денег и повел его за ворота.
Такие поступки были никому не в редкость, и объяснение, что Горностай что-нибудь за Голованом знает, было, конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело верное основание.
11
Мне было около семи лет, когда мы оставили Орел и переехали на постоянное житье в деревню. С тех пор я уже не видал Голована. Потом наступило время учиться, и оригинальный мужик с большой головою пропал у меня из вида. И слышал я о нем только раз, во время «большого пожара». Тогда погибло не только много строений и движимости, но сгорело и много людей – в числе последних называли Голована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и «сварился». О семейных, которые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре уехал в Киев и побывал в родимые места уже через десять лет. Было новое царствование, начинались новые порядки; веяло радостной свежестью, – ожидали освобождения крестьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве. Все новое: сердца горели. Непримиримых еще не было, но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели.
На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Орле, где тогда служил совестным судьею [136]мой дядя, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий: он был в молодости щеголь, гусар, потом садовод и художник-дилетант с замечательными способностями; благородный, прямой, дворянин, и «дворянин au bout des ongles» [137]. Понимая по-своему обязательство этого звания, он, разумеется, покорствовал новизне, но желал критически относиться к эмансипации и представлял из себя охранителя. Эмансипации хотел только такой, как в Остзейском крае [138]. Молодых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение находится в правильном движении вперед, а не назад, – казалась ему ошибкой. Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились. В Орле он делал из меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тщательно старался избегать этих разговоров, однако он на них направлял и очень любил меня «поражать».
Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его судейская практика обнаруживала «народную глупость».
Помню роскошный, теплый вечер, который мы провели с дядею в орловском «губернаторском» саду, занимаясь, признаться сказать, уже значительно утомившим меня спором о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо утверждал, что народ очень умен, а дядя, может быть, еще несправедливее настаивал, что народ очень глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности и вообще народ азият, который может удивить кого угодно своею дикостью.
– И вот, – говорит, – тебе, милостивый государь, подтверждение: если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слободки, которые черт знает кто межевал и кому отводил под постройки. Все это в несколько приемов убрал огонь, и на месте старых лачуг построились такие же новые, а теперь никто не может узнать, кто здесь по какому праву сидит?
Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без всякого заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, говорят, писалось у них в какую-то «китрать», но «китрать» эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, – умер; а с тем и все следы их владенных прав покончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых; но как теперь требовались права, то прав нет, и совестному судье воочию предлежало решать вопрос: преступление ли вызвало закон или закон создал преступление?
– А зачем всё это они так делали? – говорил дядя. – Потому-с, что это не обыкновенный народ, для которого хороши и нужны обеспечивающие право государственные учреждения, а это номады [139], орда, осевшая, но еще сама себя не сознающая.
С тем мы заснули, выспались, – рано утром я сходил на Орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Голованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тремя неизвестными мне «милостивыми государями». Все они были купеческой конструкции – двое сердовые [140] в сюртуках с крючками, а один совершенно белый [141], в ситцевой рубахе навыпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе «гречником».
Дядя показал мне на них рукою и говорит:
– Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. Эти господа рассказывают мне свое дело: войди в наше совещание.
Затем он обратился к предстоящим с очевидною для меня, но для них, конечно, с непонятною шуткою и добавил:
– Это мой родственник, молодой прокурор из Киева, – к министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше дело.
Те поклонились.
– Из них, – видишь ли, – продолжал дядя, – вот этот, господин Протасов, желает купить дом и место вот этого, Тарасова; но у Тарасова нет никаких бумаг. Понимаешь: никаких! Он только помнит, что его отец купил домик у Власова, а вот этот, третий, – есть сын господина Власова, ему, как видишь, тоже уже немало лет.
– Семьдесят, – коротко заметил старик.
– Да, семьдесят, и у него тоже нет и не было никаких бумаг.
– Никогда не было, – опять вставил старик.
– Он пришел удостоверить, что это так именно было и что он ни в какие права не вступается.
– Не вступаемся – отцы продали.
– Да; но кто его «отцам» продал – тех уже нет.
– Нет; они за веру на Кавказ усланы.
– Их можно разыскать, – сказал я.
– Нечего искать, там им вода нехороша, – воды не снесли, – все покончились.
– Как же вы, – говорю, – это так странно поступали?
– Поступали, как мощно было. Приказный был лют, даней с малых дворов давать было нечего, а была у Ивана Ивановича китрать, в нее и писали. А допреж его, еще не за моей памяти, Гапеев купец был, у него была китрать, а после всех Головану китрать дали, а Голован в поганой яме сварился, и китрати сгорели.
– Это Голован, выходит, был у вас что-то вроде нотариуса? – спросил дядя (который не был орловским старожилом).
Старик улыбнулся и тихо молвил:
– Из-за чего же мотариус! – Голован был справедливый человек.
– Как же ему все так и верили?
– А как такому человеку не верить: он свою плоть за людей с живых костей резал.
– Вот и легенда! – тихо молвил дядя, но старик вслушался и отвечал:
– Нет, сударь, Голован не лыгенда, а правда, и память его будь с похвалою.
Дядя пошутил: и с путаницей. И он не знал, как он этим верно отвечал на всю массу воспрянувших во мне в это время воспоминаний, к которым при тогдашнем моем любопытстве мне страстно хотелось подыскать ключ.
А ключ ждал меня, сохраняясь у моей бабушки.
12
Два слова о бабушке: она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род «не за богатство, а за красоту». Но лучшее ее свойство было – душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям и даже позволяла звать себя Александрой Васильевной, тогда как ее настоящее имя было Акилина, но думала всегда простонародно и даже без намерения, конечно, удержала некоторую простонародность в речи. Она говорила «ехтот» вместо «этот», считала слово «мораль» оскорбительным и никак не могла выговорить «бухгалтер». Зато она не позволила никаким модным давлениям поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставалась с этим смыслом. Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела дом и умела принять всякого, начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах и для того «требовала людей к разговору». В этом роде собеседником ее был бурмистр Михайло Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, – разбиралось, отчего на девку Феклушку мораль пущена или зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким разговором шли свои меры, как помочь Феклуше покрыть косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой недоволен.
Для нее все это было полно живого интереса, может быть совершенно непонятного ее внучкам.
В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее пользовались соборный отец Петр, купец Андросов и Голован, которых для нее и «призывали к разговору».
Разговоры, надо полагать, и здесь были не пустые, не для одного препровождения времени, а, вероятно, тоже про какие-нибудь дела, вроде падавшей на кого-нибудь морали или неудовольствий мальчика с мачехой.
У нее поэтому могли быть ключи от многих тайностей, для нас, пожалуй, мелких, но для своей среды весьма значительных.
Теперь, в это последнее мое свидание с бабушкой, она была уж очень стара, но сохраняла в совершенной свежести свой ум, память и глаза. Она еще шила.
И в этот раз я застал ее у того же рабочего столика с верхней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддерживаемую двумя амурами.
Бабушка спросила меня, заезжал ли я на отцову могилу, кого видел из родных в Орле и что поделывает там дядя? Я ответил на все ее вопросы и распространился о дяде, рассказав, как он разбирается со старыми «лыгендами».
Бабушка остановилась и подняла на лоб очки. Слово «лыгенда» ей очень понравилось: она услыхала в нем наивную переделку в народном духе и рассмеялась.
– Это, – говорит, – старик чудесно сказал про лыгенду.
А я говорю:
– А мне, бабушка, очень бы хотелось знать, как это происходило на самом деле, не по лыгенде.
– Про что же тебе именно хотелось бы знать?
– Да вот про все это: какой был этот Голован? Я его ведь чуть-чуть помню, и то все с какими-то, как старик говорит, лыгендами, а ведь, конечно же, дело было просто…
– Ну, разумеется, просто, но отчего вас это удивляет, что наши люди тогда купчих крепостей избегали, а просто продажи в тетрадки писали? Этого еще и впереди много откроется. Приказных боялись, а своим людям верили, и все тут.
– Но чем, – говорю, – Голован мог заслужить такое доверие? Мне он, по правде сказать, иногда представляется как будто немножко. шарлатаном.
– Почему же это?
– А что такое, например, я помню, говорили, будто он какой-то волшебный камень имел и своею кровью или телом, которое в реку бросил, чуму остановил? За что его «несмертельным» звали?
– Про волшебный камень – вздор. Это люди так присочинили, и Голован тому не виноват, а «несмертельным» его прозвали потому, что в этаком ужасе, когда над землей смертные фимиазмы стояли и все оробели, он один бесстрашный был, и его смерть не брала.
– А зачем же, – говорю, – он себе ногу резал?
– Икру себе отрезал.
– Для чего?
– А для того, что у него тоже прыщ чумной сел. Он знал, что от этого спасенья нет, взял поскорее косу да всю икру и отрезал.
– Может ли, – говорю, – это быть!
– Конечно, это так было.
– А что, – говорю, – надо думать о женщине Павле?
Бабушка на меня взглянула и отвечает:
– Что же такое? Женщина Павла была Фрапошкина жена; была она очень горестная, и Голован ее приютил.
– А ее, однако, называли «Головановым грехом».
– Всяк по себе судит и называет; не было у него такого греха.
– Но, бабушка, разве вы, милая, этому верите?
– Не только верю, но я это знаю.
– Но как можно это знать?
– Очень просто.
Бабушка обратилась к работавшей с нею девочке и послала ее в сад набрать малины, а когда та вышла, она значительно взглянула мне в глаза и проговорила:
– Голован был девственник!
– От кого вы это знаете?
– От отца Петра.
И бабушка мне рассказала, как отец Петр незадолго перед своей кончиною говорил ей, какие люди на Руси бывают неимоверные и что покойный Голован был девственник.
Коснувшись этой истории, бабушка вошла в маленькие подробности и припомнила свою беседу с отцом Петром.
– Отец Петр, – говорит, – сначала и сам усумнился и стал его подробнее спрашивать и даже намекнул на Павлу. «Нехорошо, – говорит, – это: ты не каешься, а соблазняешь. Не достойно тебе держать у себя сию Павлу. Отпусти ее с Богом». А Голован ответил: «Напрасно это вы, батюшка, говорите: пусть лучше она живет у меня с Богом, – нельзя, чтобы я ее отпустил». – «А почему?» – «А потому, что ей головы приклонить негде…» – «Ну так, – говорит, – женись на ней!» – «А это, – отвечает, – невозможно», – а почему невозможно, не сказал, и отец Петр долго насчет этого сомневался; но Павла ведь была чахоточная и недолго жила, и перед смертью, когда к ней пришел отец Петр, то она ему открыла всю причину.
– Какая же, бабушка, была эта причина?
– Они жили по любви совершенной.
– То есть как это?
– Ангельски.
– Но, позвольте, для чего же это? Ведь муж Павлы пропал, а есть закон, что после пяти лет можно выйти замуж. Неужто они это не знали?
– Нет, я думаю, знали, но они еще кое-что больше этого знали.
– Например, что?
– А например, то, что муж Павлы всех их пережил и никогда не пропадал.
– А где же он был?
– В Орле!
– Милая, вы шутите?
– Ни крошечки.
– И кому же это было известно?
– Им троим: Головану, Павле да самому этому негодивцу. Ты можешь вспомнить Фотея?
– Исцеленного?
– Да как хочешь его называй, только теперь, когда все они перемерли, я могу сказать, что он совсем был не Фотей, а беглый солдат Фрапошка.
– Как! Это был Павлы муж?
– Именно.
– Отчего же?.. – начал было я, но устыдился своей мысли и замолчал, но бабушка поняла меня и договорила:
– Верно, хочешь спросить: отчего его никто другой не узнал, а Павла с Голованом его не выдали? Это очень просто: другие его не узнали потому, что он был не городской, да постарел, волосами зарос, а Павла его не выдала жалеючи, а Голован ее любячи.
– Но ведь юридически, по закону, Фрапошка не существовал, и они могли ожениться.
– Могли – по юридическому закону могли, да по закону своей совести не могли.
– За что же Фрапошка Голована преследовал?
– Негодяй был покойник, – разумел о них как прочие.
– А ведь они из-за него все счастие у себя и отняли!
– Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего…
– Бабушка, – воскликнул я, – ведь это удивительные люди!
– Праведные, мой друг, – отвечала старушка.
Но я все-таки хочу добавить – и удивительные и даже невероятные. Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте. Одна одушевлявшая их совершенная любовь поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония [142].
1880
Христос в гостях у мужика Рождественский рассказ
Посвящается христианским детям
Настоящий рассказ о том, как Сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, я слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близкоизвестно. Что он мне рассказывал, то я и передам его же словами.
* * *
Наше место поселенное, но хорошее, торговое место. Отец мой в нашу сторону прибыл за крепостное время в России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую [143]. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея Осиповича, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было.
Тимофей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение – об этом по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил или взял почти все его наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию Создателя, грех сего безумия не до конца совершился – Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания ему не было, как из первогильдейных купцов сослан он к нам на поселение.
Именье Тимошино хотя девять частей было разграблено, но, однако, и с десятою частью еще жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели, а дома он все книги читал, и самые божественные. Наконец мы с ним познакомились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришли мы друг другу по сердцу.
* * *
Родители мои попервоначалу не очень меня к нему пускали. Он им мудрен казался. Говорили: «Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется. Как бы чему худому не научил». Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу, а занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим, как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ Создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно, и отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришел. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его, и очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Воспомнит свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, – весь побледнеет и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки – гнев горит. Честности он был примерной и умница, а к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его Господь скоро помог: пришла ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в десять лет стал у всех в виду как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие; всем полно, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе позабыть можно, но он, однако, все-таки помнил свою обиду, и один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил:
– Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?
– В каком, – спрашивает, – это смысле?
– Имеешь ли все то, чего в своем месте лишился?
А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил. Тогда я извинился.
– Ты, – говорю, – брат, меня прости, что я так спросил… Я думал, что лихое давно… минуло и позабылось.
– Нужды нет, – отвечает, – что оно давно… минуло – оно минуло, да все-таки помнится…
Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в таком омрачении: Святое Писание знает и хорошо говорить о вере умеет, а к обиде такую прочную память хранит. Значит, его святое слово не пользует.
Я и задумался, так как во всем его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло помнит… Он это заметил и говорит:
– Что ты теперь думаешь?
– А так, – говорю, – думаю что попало.
– Нет: ты это обо мне думаешь.
– И о тебе думаю.
– Что же ты обо мне, как понимаешь?
– Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе через это какая польза в Писании?
Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился в лице и отвечает:
– Ты святое слово проводить не сведущ.
– Это, – говорю, – твоя правда, я не сведущ.
– Не сведущ, – говорит, – ты и в том, какие на свете обиды есть.
Я и в этом на его сдание [144] согласился, а он стал говорить, что есть таковые оскорбления, коих стерпеть нельзя, – и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.
– Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, – говорит, – как другу моему, откроюсь.
Я говорю:
– Если это тебе может стать на пользу – откройся.
И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.
– Разве, – говорит, – все это можно простить? Я его в жизнь не прощу.
– Ну да, – отвечаю, – обида твоя велика, это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь.
А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили [145] и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной оправдать. А я по простоте своей ответил ему просто.
– Тимоша, – говорю, – ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не все разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете все ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Новом – яснее стоит. Там надо всем блистает «Возлюби, да прости» [146], и это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает. А в чем же прощать, неужели в некоей малой провинности, а не в самой большой вине?
Он молчит.
Тогда я положил в уме: «Господи! Не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего?» И говорю, как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.
– Последуй, – говорю, – лучше сему, а не отомстительному обычаю.
А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное простить яко бы все равно что зло приумножить.
Я на это упровергать не мог, но сказал только:
– Я-то опасаюсь, что «многие книги безумным тя творят» [147]. Ты, – говорю, – ополчись на себя. Пока ты зло помнишь – зло живо, – а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет.
Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко:
– Не могу, оставь – мне тяжело.
Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а время шло, и убыло еще шесть лет, и во все это время я за ним наблюдал и видел, что все он страдает и что если пустить его на всю свободу да если он достигнет где-нибудь своего дядю, – забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что виделся мне тут перст Божий. Стал уже он помалу показываться, ну так, верно, и всю руку увидим. Спасет Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно.
* * *
Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло уже пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трех детей и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Все место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом в благовонии.
И была у Тимофея такая привычка, что, как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь мне известно, и то было, что он тут часто молился.
Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собою Евангелие. Пооглядел розаны, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею [148] и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошелся со святым Гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилося чуду начало, о котором Тимоша мне так говорил:
– Гляжу, – говорит, – вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой ценности и унижении… И наполнились все глаза мои слезами, и никак их сморгнуть не могу; и все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так, вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если б Ты ко мне пришел – я бы Те – бе и себя самого отдал».
А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, дохнуло:
– Приду!
Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает:
– Как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?
Я отвечаю:
– Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом, можно ли что усмотреть в Писании?
А Тимофей говорит:
– В Писании есть: «Все тот же Христос ныне и вовеки» [149], – я не смею не верить.
– Что же, – говорю, – и верь.
– Я велю что день на столе Ему прибор ставить.
Я плечами пожал и отвечаю:
– Ты меня не спрашивай, смотри сам лучше, что к Его воле быть может угодное, а впрочем, я и в приборе Ему обиды не считаю, но только не гордо ли это?
– Сказано, – говорит: – «Сей грешники приемлет и с мытарями ест» [150].
– А и то, – отвечаю, – сказано: «Господи! Я не достоин, чтобы Ты взошел в дом мой» [151]. Мне и это нравится.
Тимофей говорит:
– Ты не знаешь.
– Хорошо, будь по-твоему.
* * *
Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек – он, да жена, да трое ребятишек, – всегда у них шестое место в конце стола почетное, и перед ним большое кресло.
Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал.
Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье – но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь Свое обещание сдержит – придет. Открыл мне Тимофей так, что «всякий день, – говорит, – я молю: „Ей, гряди, Господи!" – и ожидаю, но не слышу желанного ответа: „Ей, гряду скоро!"» [152]
Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.
* * *
Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:
– Брат любезный, завтра я дождусь Господа.
Я к этим речам давно был безответен и тут только спросил:
– Какое же ты имеешь в этом уверение?
– Ныне, – отвечает, – только я помолил: «Ей, гряди, Господи!» – как вся душа во мне всколыхнулася и в ней словно трубой вострубило: «Ей, гряду скоро!» Завтра Его святое Рождество – и не в сей ли день Он пожалует? Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.
Я говорю:
– Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек – мы к тебе придем. А ты если уповательно ждешь столь великого Гостя, зови не своих друзей, а сделай Ему угодное товарищество.
– Понимаю, – отвечает, – и сейчас пошлю услужающих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных – кто в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную милость – пожалует, так встретит все по заповеди.
Мне и это слово его тоже не нравилось.
– Тимофей, – говорю, – кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако если все это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, Он все, чего недостанет, пополнит, и если ты кого Ему надо забудешь, Он недостающего и Сам приведет.
Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы всех дождаться. Застали большие хоромы его полны людей всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины, и женщины, и детское поколение, всякого звания и из разных мест – и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратилися и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление.
Одного только Гостя нет и нет – Который всех дороже.
Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло, и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами.
Тимофей ходил и сидел и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось: теперь уже видное дело, что не бывать «великому Гостю».
Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:
– Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех, кого надо, чтоб Его встретить. Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол.
Я отвечаю:
– Читай молитву.
Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси», а потом: «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите [153], Христос на земли…»
И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылися настежь.
* * *
Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, – неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперед в хоромину выходит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем – такая, как на беседе Никодима пишется… Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет… И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи.
Тимофей как увидал это, вскричал:
– Господи! Вижду и приму его во имя Твое, а Ты сам не входи ко мне: я человек злой и грешный. – Да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло; и воскликнул всем вслух: – Вонмем [154]: Христос среди нас!
А все отвечали:
– Аминь, – то есть истинно.
* * *
Тут внесли огонь; я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать – только один старик остался.
Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь: это был враг Тимофея – дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него прошло прахом: и семьи и богатства он лишился и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой.
– Но вдруг, – говорит, – кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на Моем месте и поешь из Моей чаши», взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.
А Тимофей при всех отвечал:
– Я, дядя, твоего провожатого ведаю: это Господь, Который сказал: «Аще алчет враг твой – ухлеби его, аще жаждет – напой его» [155]. Сядь у меня на первом месте – ешь и пей во славу Его и будь в дому моем во всей воле до конца жизни.
С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем.
* * *
Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас»[156]. Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит Себе там обитель.
Ей, гряди, Господи; ей, гряду скоро!
1881
Зверь
И звери внимаху святое слово.
Житие старца СерафимаГлава первая
Отец мой был известный в свое время следователь.
Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.
Матушка моя тогда была еще очень молода, а я – маленький мальчик.
При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, мне было всего только пять лет.
Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, у моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а, напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.
Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.
Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.
Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.
Глава вторая
В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне, были натянуты струны, то есть была устроена так называемая Эолова арфа. Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе… Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.
В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.
Глава третья
Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пьявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.
Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.
Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет Божий.
Когда нас выводили гулять перед обедом, мы больше всего любили ходить к этому сараю и смотреть на выставлявшиеся из-за решеток смешные мордочки медвежат. Немецкий гувернер Кольберг умел подавать им на конце палки кусочки хлеба, которые мы припасали для этой цели за своим завтраком.
За медведями смотрел и кормил их молодой доезжачий, по имени Ферапонт; но, как это имя было трудно для простонародного выговора, то его произносили «Храпон» или еще чаще «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем – он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами навыкате. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка, которая состояла в поднянях, и она рассказывала нам презанимательные вещи про смелость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу с медведями, с которыми он зимою и летом спал вместе в их сарае, так что они окружали его со всех сторон и клали на него свои головы, как на подушку.
Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка».
Из числа пленных медвежат всегда отбирали одного «умного», который представлялся наиболее смышленым и благонадежным по характеру. Такого отделяли от прочих собратий, и он жил на воле, то есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главным образом он должен был содержать караульный пост у столба перед воротами. Тут он и проводил большую часть своего времени, или лежа на соломе у самой мачты, или же взбирался по ней вверх до «беседки» и здесь сидел или тоже спал, чтобы к нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.
Жить такою привольною жизнью могли не все медведи, а только некоторые, особенно умные и кроткие, и то не во всю их жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своих зверских, неудобных в общежитии наклонностей, то есть пока они вели себя смирно и не трогали ни кур, ни гусей, ни телят, ни человека.
Медведь, который нарушал спокойствие жителей, немедленно же был осуждаем на смерть, и от этого приговора его ничто не могло избавить.
Глава четвертая
Отбирать «смышленого медведя» должен был Храпон. Так как он больше всех обращался с медвежатами и почитался большим знатоком их натуры, то понятно, что он один и мог это делать. Храпон же и отвечал за то, если сделает неудачный выбор, – но он с первого же раза выбрал для этой роли удивительно способного и умного медведя, которому было дано необыкновенное имя: медведей в России вообще зовут «мишками», а этот носил испанскую кличку Сганарель. Он уже пять лет прожил на свободе и не сделал еще ни одной «шалости». Когда о медведе говорили, что «он шалит», это значило, что он уже обнаружил свою зверскую натуру каким-нибудь нападением.
Тогда «шалуна» сажали на некоторое время в «яму», которая была устроена на широкой поляне между гумном и лесом, а через некоторое время его выпускали (он сам вылезал по бревну) на поляну и тут его травили «молодыми пьявками» (то есть подрослыми щенками медвежьих собак). Если же щенки не умели его взять и была опасность, что зверь уйдет в лес, то тогда стоявшие в запасном «секрете» два лучших охотника бросались на него с отборными опытными сворами, и тут делу наставал конец.
Если же эти собаки были так неловки, что медведь мог прорваться «к острову» (то есть к лесу), который соединялся с обширным брянским полесьем, то выдвигался особый стрелок с длинным и тяжелым кухенрейтеровским штуцером и, прицелясь «с сошки», посылал медведю смертельную пулю.
Чтобы медведь когда-либо ушел от всех этих опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всех в том виноватых ждали бы смертоносные наказания.
Глава пятая
Ум и солидность Сганареля сделали то, что описанной потехи или медвежьей казни не было уже целые пять лет. В это время Сганарель успел вырасти и сделался большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости. Он отличался круглою, короткою мордою и довольно стройным сложением, благодаря которому напоминал более колоссального грифона или пуделя, чем медведя. Зад у него был суховат и покрыт невысокою лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбок были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Умен Сганарель был тоже как пудель и знал некоторые замечательные для зверя его породы приемы: он, например, отлично и легко ходил на двух задних лапах, подвигаясь вперед передом и задом, умел бить в барабан, маршировал с большою палкою, раскрашенною в виде ружья, а также охотно и даже с большим удовольствием таскал с мужиками самые тяжелые кули на мельницу и с своеобразным шиком пресмешно надевал себе на голову высокую мужичью островерхую шляпу с павлиным пером или с соломенным пучком вроде султана.
Но пришла роковая пора – звериная натура взяла свое и над Сганарелем. Незадолго перед моим прибытием в дом дяди тихий Сганарель вдруг провинился сразу несколькими винами, из которых притом одна была другой тяжче.
Программа преступных действий у Сганареля была та же самая, как и у всех прочих: для первоученки он взял и оторвал крыло гусю; потом положил лапу на спину бежавшему за маткою жеребенку и переломил ему спину; а наконец: ему не понравились слепой старик и его поводырь, и Сганарель принялся катать их по снегу, причем пооттоптал им руки и ноги.
Слепца с его поводырем взяли в больницу, а Сганареля велели Храпону отвести и посадить в яму, откуда был только один выход – на казнь…
Анна, раздевая вечером меня и такого же маленького в то время моего двоюродного брата, рассказала нам, что при отводе Сганареля в яму, в которой он должен был ожидать смертной казни, произошли очень большие трогательности. Храпон не продергивал в губу Сганареля «больнички», или кольца, и не употреблял против него ни малейшего насилия, а только сказал:
– Пойдем, зверь, со мною.
Медведь встал и пошел, да еще что было смешно – взял свою шляпу с соломенным султаном и всю дорогу до ямы шел с Храпоном обнявшись, точно два друга.
Они таки и были друзья.
Глава шестая
Храпону было очень жаль Сганареля, но он ему ничем пособить не мог. Напоминаю, что там, где это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавший себя Сганарель непременно должен был заплатить за свои увлечения лютой смертью.
Травля его назначалась как послеобеденное развлечение для гостей, которые обыкновенно съезжались к дяде на Рождество. Приказ об этом был уже отдан на охоте в то же самое время, когда Храпону было велено отвести виновного Сганареля и посадить его в яму.
Глава седьмая
В яму медведей сажали довольно просто. Люк, или творило ямы, обыкновенно закрывали легким хворостом, накиданным на хрупкие жерди, и посыпали эту покрышку снегом. Это было маскировано так, что медведь не мог заметить устроенной ему предательской ловушки. Покорного зверя подводили к этому месту и заставляли идти вперед. Он делал шаг или два и неожиданно проваливался в глубокую яму, из которой не было никакой возможности выйти. Медведь сидел здесь до тех пор, пока наступало время его травить. Тогда в яму опускали в наклонном положении длинное, аршин семи, бревно, и медведь вылезал по этому бревну наружу. Затем начиналась травля. Если же случалось, что сметливый зверь, предчувствуя беду, не хотел выходить, то его понуждали выходить, беспокоя длинными шестами, на конце которых были острые железные наконечники, бросали зажженную солому или стреляли в него холостыми зарядами из ружей и пистолетов.
Храпон отвел Сганареля и заключил его под арест по этому же самому способу, но сам вернулся домой очень расстроенный и опечаленный. На свое несчастье, он рассказал своей сестре, как зверь шел с ним «ласково» и как он, провалившись сквозь хворост в яму, сел там на днище и, сложив передние лапы, как руки, застонал, точно заплакал.
Храпон открыл Анне, что он бежал от этой ямы бегом, чтобы не слыхать жалостных стонов Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.
– Слава Богу, – добавил он, – что не мне, а другим людям велено в него стрелять, если он уходить станет. А если бы мне то было приказано, то я лучше бы сам всякие муки принял, но в него ни за что бы не выстрелил.
Глава восьмая
Анна рассказала это нам, а мы рассказали гувернеру Кольбергу, а Кольберг, желая чем-нибудь позанять дядю, передал ему. Тот это выслушал и сказал: «Молодец Храпошка», а потом хлопнул три раза в ладоши.
Это значило, что дядя требует к себе своего камердинера Устина Петровича, старичка из пленных французов двенадцатого года.
Устин Петрович, иначе Жюстин, явился в своем чистеньком лиловом фрачке с серебряными пуговицами, и дядя отдал ему приказание, чтобы к завтрашней «садке», или охоте на Сганареля, стрелками в секретах были посажены Флегонт – известнейший стрелок, который всегда бил без промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотел позабавиться над затруднительною борьбою чувств бедного парня. Если же он не выстрелит в Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьет вторым выстрелом Флегонт, который никогда не дает промаха.
Устин поклонился и ушел передавать приказание, а мы, дети, сообразили, что мы наделали беды и что во всем этом есть что-то ужасно тяжелое, так что Бог знает, как это и кончится. После этого нас не занимали по достоинству ни вкусный рождественский ужин, который справлялся «при звезде», за один раз с обедом, ни приехавшие на ночь гости, из коих с некоторыми дети.
Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы даже не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем.
Оба мы, то есть я и мой ровесник – двоюродный брат, долго ворочались в своих кроватках. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что нам обоим представлялся медведь. А когда няня нас успокоила, что медведя бояться уже нечего, потому что он теперь сидит в яме, а завтра его убьют, то мною овладевала еще большая тревога.
Я даже просил у няни вразумления: нельзя ли молиться за Сганареля? Но такой вопрос был выше религиозных соображений старушки, и она, позевывая и крестя рот рукою, отвечала, что наверно она об этом ничего не знает, так как ни разу о том у священника не спрашивала, но что, однако, медведь – тоже Божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге.
Мне показалось, что напоминание о плаванье в ковчеге вело как будто к тому, что беспредельное милосердие Божие может быть распространено не на одних людей, а также и на прочие Божии создания, и я с детской верою стал в моей кроватке на колени и, припав к подушке, просил величие Божие не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.
Глава девятая
Наступил день Рождества. Все мы были одеты в праздничном и вышли с гувернерами и боннами к чаю. В зале, кроме множества родных и гостей, стояло духовенство: священник, дьякон и два дьячка.
Когда вошел дядя, причт запел «Христос рождается». Потом был чай, потом вскоре же маленький завтрак и в два часа ранний праздничный обед. Тотчас же после обеда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано темнеет, а в темноте травля невозможна и медведь может легко скрыться из вида.
Исполнилось все так, как было назначено. Нас прямо из-за стола повели одевать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надели наши заячьи шубки и лохматые, с круглыми подошвами, сапоги, вязанные из козьей шерсти, и повели усаживать в сани. А у подъездов с той и другой стороны дома уже стояло множество длинных больших троечных саней, покрытых узорчатыми коврами, и тут же два стременных держали под уздцы дядину верховую английскую рыжую лошадь, по имени Щеголиха.
Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел в седло, покрытое черною медвежьею шкурою с пахвами [157]и паперсями [158], убранными бирюзой и «змеиными головками» [159], весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом.
У самого леса были сделаны секреты или тайники за кустами, и там должны были находиться Флегонт и Храпошка.
Тайников этих не было видно, и некоторые указывали только на едва заметные «сошки», с которых один из стрелков должен был прицелиться и выстрелить в Сганареля.
Яма, где сидел медведь, тоже была незаметна, и мы поневоле рассматривали красивых вершников, у которых за плечом было разнообразное, но красивое вооружение: были шведские штраубсы, немецкие моргенраты, английские мортимеры и варшавские колеты.
Дядя стоял верхом впереди цепи. Ему подали в руки свору от двух сомкнутых злейших «пьявок», а перед ним положили у орчака [160] на вальтрап [161] белый платок.
Молодые собаки, для практики которых осужден был умереть провинившийся Сганарель, были в огромном числе и все вели себя крайне самонадеянно, обнаруживая пылкое нетерпение и недостаток выдержки. Они визжали, лаяли, прыгали и путались на сворах вокруг коней, на которых сидели доезжачие, а те беспрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодых, не помнивших себя от нетерпения псов к повиновению. Все это кипело желанием броситься на зверя, близкое присутствие которого собаки, конечно, открыли своим острым природным чутьем.
Настало время вынуть Сганареля из ямы и пустить его на растерзание!
Дядя махнул положенным на его вальтрап белым платком и сказал: «Делай!»
Глава десятая
Из кучки охотников, составлявших главный штаб дяди, выделилось человек десять и пошли вперед через поле.
Отойдя шагов двести, они остановились и начали поднимать из снега длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры нам издалека нельзя было видеть.
Это происходило как раз у самой ямы, где сидел Сганарель, но она тоже с нашей далекой позиции была незаметна.
Дерево подняли и сейчас же спустили одним концом в яму. Оно было спущено с таким пологим уклоном, что зверь без затруднения мог выйти по нем, как по лестнице.
Другой конец бревна опирался на край ямы и торчал из нее на аршин.
Все глаза были устремлены на эту предварительную операцию, которая приближала к самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчас же должен был показаться наружу; но он, очевидно, понимал, в чем дело, и ни за что не шел.
Началось гонянье его в яме снежными комьями и шестами с острыми наконечниками, послышался рев, но зверь не шел из ямы. Раздалось несколько холостых выстрелов, направленных прямо в яму, но Сганарель только сердитее зарычал, а все-таки по-прежнему не показывался.
Тогда откуда-то из-за цепи вскачь подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржавой соломы.
Лошадь была высокая, худая, из тех, которых употребляли на ворке для подвоза корма с гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летела, поднявши хвост и натопорщив гриву. Трудно, однако, было определить: была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последнее имело более вероятия, потому что лошадь была хорошо взнуздана, кроме железных удил, еще острою бечевкою, которою и были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и неслась и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегал ее толстою нагайкою.
Но, как бы там ни было, солома была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трех сторон скинута, зажженная, в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.
Раздался оглушительный, бешеный рев, как бы смешанный вместе со стоном, но… медведь опять-таки не показывался.
До нашей цепи долетел слух, что Сганарель весь «опалился» и что он закрыл глаза лапами и лег вплотную в угол к земле, так что «его не стронуть».
Ворковая лошадь с разрезанными губами понеслась опять вскачь назад. Все думали, что это была посылка за новым привозом соломы. Между зрителями послышался укоризненный говор: зачем распорядители охоты не подумали ранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком. Дядя сердился и кричал что-то такое, чего я не мог разобрать за всею поднявшеюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопаньем арапников.
Но во всем этом виднелось нестроение и был, однако, свой лад, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назад к яме, где залег Сганарель, но не с соломою: на дровнях теперь сидел Ферапонт.
Гневное распоряжение дяди заключалось в том, чтобы Храпошку спустили в яму и чтобы он сам вывел оттуда своего друга на травлю.
Глава одиннадцатая
И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, он взял с дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назад солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонт взял в руки и, держась за нее, стал спускаться по бревну, на ногах, в яму…
Страшный рев Сганареля утих и заменился глухим ворчанием.
Зверь как бы жаловался своему другу на жестокое обхождение с ним со стороны людей; но вот и это ворчание сменилось совершенной тишиной.
– Обнимает и лижет Храпошку, – крикнул один из людей, стоявших над ямой.
Из публики, размещавшейся в санях, несколько человек вздохнули, другие поморщились.
Многим становилось жалко медведя, и травля его, очевидно, не обещала им большого удовольствия. Но описанные мимолетные впечатления внезапно были прерваны новым событием, которое было еще неожиданнее и заключало в себе новую трогательность.
Из творила ямы, как бы из преисподней, показалась курчавая голова Храпошки в охотничьей круглой шапке. Он взбирался наверх опять тем же самым способом, как и спускался, то есть Ферапонт шел на ногах по бревну, притягивая себя к верху крепко завязанной концом снаружи веревки. Но Ферапонт выходил не один: рядом с ним, крепко с ним обнявшись и положив ему на плечо большую косматую лапу, выходил и Сганарель… Медведь был не в духе и не в авантажном виде. Пострадавший и изнуренный, по-видимому, не столько от телесного страдания, сколько от тяжкого морального потрясения, он сильно напоминал короля Лира. Он сверкал исподлобья налитыми кровью и полными гнева и негодования глазами. Так же, как Лир, он был и взъерошен, и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, Сганарель, по удивительному случаю, сберег себе и нечто вроде венца. Может быть любя Ферапонта, а может быть случайно, он зажал у себя под мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдил и с которою он же поневоле столкнул Сганареля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар, и. теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоение в объятиях друга, он, как только стал на землю, сейчас же вынул из-под мышки жестоко измятую шляпу и положил ее себе на макушку.
Эта выходка многих насмешила, а другим зато мучительно было ее видеть. Иные даже поспешили отвернуться от зверя, которому сейчас же должна была последовать злая кончина.
Глава двенадцатая
Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арапник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пьявки, увидя Сганареля, поднялись на задние лапы и, сипло воя и храпя, задыхались в своих сыромятных ошейниках; а в это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковом одре к своему секрету под лесом. Сганарель опять остался один и нетерпеливо дергал лапу, за которую случайно захлестнулась брошенная Храпошкой веревка, прикрепленная к бревну. Зверь, очевидно, хотел скорее ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сганарель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе.
Видя, что дело не идет так, как ему хотелось, Сганарель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя в яме. Он на это оглянулся; а в то самое мгновение две пущенных из стаи со своры пьявки достигли его, и одна из них со всего налета впилась ему острыми зубами в загорбок.
Сганарель был так занят с веревкой, что не ожидал этого и в первое мгновение как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой… Но что было всего страшнее и всего неожиданнее, это то, что случилось с бревном. Когда Сганарель сделал усиленное движение лапою, чтобы отбросить от себя впившуюся в него пьявку, он тем же самым движением вырвал из ямы крепко привязанное к веревке бревно, и оно полетело пластом в воздухе. Натянув веревку, оно закружило вокруг Сганареля, как около своей оси, и, чертя одним концом по снегу, на первом же обороте размозжило и положило на месте не двух и не трех, а целую стаю поспевавших собак. Одни из них взвизгнули и копошились из снега лапками, а другие как кувырнулись, так и вытянулись.
Глава тринадцатая
Зверь или был слишком понятлив, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось в его обладании оружие, или веревка, охватившая его лапу, больно ее резала, но он только взревел и, сразу перехватив веревку в самую лапу, еще так наподдал бревно, что оно поднялось и вытянулось в одну горизонтальную линию с направлением лапы, державшей веревку, и загудело, как мог гудеть сильно пушенный колоссальный волчок. Все, что могло попасть под него, непременно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка где-нибудь, в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, Бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что оно может встретить.
Все мы, люди, все лошади и собаки, на всей линии и цепи, были в страшной опасности, и всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни веревка, на которой вертел свою колоссальную пращу Сганарель, была крепка. Но какой, однако, все это могло иметь конец? Этого, впрочем, не пожелал дожидаться никто, кроме нескольких охотников и двух стрелков, посаженных в секретных ямах у самого леса. Вся остальная публика, то есть все гости и семейные дяди, приехавшие на эту потеху в качестве зрителей, не находили более в случившемся ни малейшей потехи. Все в перепуге велели кучерам как можно скорее скакать далее от опасного места и в страшном беспорядке, тесня и перегоняя друг друга, помчались к дому.
В спешном и беспорядочном бегстве по дороге было несколько столкновений, несколько падений, немного смеха и немало перепугов. Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассвирепевший зверь.
Но гости, достигши дома, могли прийти в покой и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.
Глава четырнадцатая
Никаких собак нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшном вооружении бревном он мог победить все великое множество псов без малейшего для себя вреда. А медведь, вертя свое бревно и сам за ним поворачиваясь, прямо подавался к лесу, и смерть его ожидала только здесь, у секрета, в котором сидели Ферапонт и без промаха стрелявший Флегонт.
Меткая пуля все могла кончить смело и верно.
Но рок удивительно покровительствовал Сганарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало.
В ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся с привалами, из-за которых торчали на сошках наведенные на него дула кухенрейтеровских штуцеров Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и… как пущенная из лука стрела, стрекнуло в одну сторону, а медведь, потеряв равновесие, упал и покатился кубарем в другую.
Перед оставшимися на поле вдруг сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь замет, за которым скрывался в секрете Флегонт, а потом, перескочив через него, оно ткнулось и закопалось другим концом в дальнем сугробе; Сганарель тоже не терял времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, он прямо попал за снежный валик Храпошки.
Сганарель его моментально узнал, дохнул на него своей горячей пастью, хотел лизнуть языком, но вдруг с другой стороны, от Флегонта, крякнул выстрел, и. медведь убежал в лес, а Храпошка. упал без чувств.
Его подняли и осмотрели: он был ранен пулею в руку навылет, но в ране его было также несколько медвежьей шерсти.
Флегонт не потерял звания первого стрелка, но он стрелял впопыхах из тяжелого штуцера и без сошек, с которых мог бы прицелиться. Притом же на дворе уже было серо и медведь с Храпошкою были слишком тесно скучены.
При таких условиях и этот выстрел с промахом на одну линию должно было считать в своем роде замечательным.
Тем не менее – Сганарель ушел. Погоня за ним по лесу в этот же самый вечер была невозможна; а до следующего утра в уме того, чья воля была здесь для всех законом, просияло совсем иное настроение.
Глава пятнадцатая
Дядя вернулся после окончания описанной неудачной охоты. Он был гневен и суров более, чем обыкновенно. Перед тем как сойти у крыльца с лошади, он отдал приказ – завтра чем свет искать следов зверя и обложить его так, чтобы он не мог скрыться.
Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсем другие результаты.
Затем ждали распоряжения о раненом Храпошке. По мнению всех, его должно было постигнуть нечто страшное. Он по меньшей мере был виноват в той оплошности, что не всадил охотничьего ножа в грудь Сганареля, когда тот очутился с ним вместе и оставил его нимало не поврежденным в его объятиях. Но, кроме того, были сильные и, кажется, вполне основательные подозрения, что Храпошка схитрил, что он в роковую минуту умышленно не хотел поднять своей руки на своего косматого друга и пустил его на волю.
Всем известная взаимная дружба Храпошки с Сганарелем давала этому предположению много вероятности.
Так думали не только все участвовавшие в охоте, но так же точно толковали теперь и все гости.
Прислушиваясь к разговорам взрослых, которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богато убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх пред тем, что может ждать Ферапонта.
На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе «на половину», до залы достиг слух, что о Храпошке не было никакого приказания.
– К лучшему это, однако, или нет? – прошептал кто-то, и шепот этот среди общей тяжелой унылости толкнулся в каждое сердце.
Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал:
– Молитесь рожденному Христу.
С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей, бар и холопей, все мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успели мы опустить наши руки, как широко растворились двери и вошел, с палочкой в руке, дядя. Его сопровождали две его любимые борзые собаки и камердинер Жюстин. Последний нес за ним на серебряной тарелке его белый фуляр и круглую табакерку с портретом Павла Первого.
Глава шестнадцатая
Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшом персидском ковре перед елкою, посреди комнаты. Он молча сел и молча же взял у Жюстина свой фуляр и свою табакерку. У ног его тотчас легли и вытянули свои длинные морды обе собаки.
Дядя был в синем шелковом архалуке с вышитыми гладью застежками, богато украшенными белыми филиграневыми пряжками с крупной бирюзой. В руках у него была его тонкая, но крепкая палка из натуральной кавказской черешни.
Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садке, отменно выезженная Щеголиха тоже не сохранила бесстрашия – она метнулась в сторону и больно прижала к дереву ногу своего всадника.
Дядя чувствовал сильную боль в этой ноге и даже немножко похрамывал.
Это новое обстоятельство, разумеется, тоже не могло прибавить ничего доброго в его раздраженное и гневливое сердце. Притом было дурно и то, что при появлении дяди мы все замолчали. Как большинство подозрительных людей, он терпеть не мог этого; и хорошо его знавший отец Алексей поторопился, как умел, поправить дело, чтобы только нарушить эту зловещую тишину.
Имея наш детский круг близ себя, священник задал нам вопрос: понимаем ли мы смысл песни «Христос рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшие плохо ее разумели. Священник стал нам разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситеся», и, дойдя до значения этого последнего слова, сам тихо «вознесся» и умом и сердцем. Он заговорил о даре, который и нынче, как и «во время оно», всякий бедняк может поднесть к яслям «рожденного Отроча», смелее и достойнее, чем поднесли злато, смирну и ливан волхвы древности. Дар наш – наше сердце, исправленное по Его учению. Старик говорил о любви, о прощенье, о долге каждого утешить друга и недруга «во имя Христово»… И думается мне, что слово его в тот час было убедительно. Все мы понимали, к чему оно клонит, все его слушали с особенным чувством, как бы моляся, чтобы это слово достигло до цели, и у многих из нас на ресницах дрожали хорошие слезы.
Вдруг что-то упало. Это была дядина палка. Ее ему подали, но он до нее не коснулся: он сидел, склонясь набок, с опущенною с кресла рукою, в которой, как позабытая, лежала большая бирюза от застежки.
Но вот он уронил и ее, и… ее никто не спешил поднимать.
Все глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: он плакал!
Священник тихо раздвинул детей и, подойдя к дяде, молча благословил его рукою.
Тот поднял лицо, взял старика за руку и неожиданно поцеловал ее перед всеми и тихо молвил:
– Спасибо.
В ту же минуту он взглянул на Жюстина и велел позвать сюда Ферапонта.
Тот предстал бледный, с подвязанной рукою.
– Стань здесь! – велел ему дядя и показал рукою на ковер.
Храпошка подошел и упал на колени.
– Встань. поднимись! – сказал дядя. – Я тебя прощаю.
Храпошка опять бросился ему в ноги. Дядя заговорил нервным, взволнованным голосом:
– Ты любил зверя, как не всякий умеет любить человека. Ты меня этим тронул и превзошел меня в великодушии. Объявляю тебе от меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди куда хочешь.
– Благодарю и никуда не пойду, – воскликнул Храпошка.
– Что?
– Никуда не пойду, – повторил Ферапонт.
– Чего же ты хочешь?
– За вашу милость я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх поневоле.
Дядя моргнул глазами, приложил к ним одною рукою свой белый фуляр, а другою, нагнувшись, обнял Ферапонта, и. все мы поняли, что нам надо встать с мест, и тоже закрыли глаза… Довольно было чувствовать, что здесь совершилась слава Вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христово, на месте сурового страха.
Это отразилось и на деревне, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу:
– У нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить.
Сганареля не отыскивали. Ферапонт, как ему сказано было, сделался вольным, скоро заменил при дяде Жюстина и был не только верным его слугою, но и верным его другом до самой его смерти. Он закрыл своими руками глаза дяди, и он же схоронил его в Москве на Ваганьковском кладбище, где и по сю пору цел его памятник. Там же, в ногах у него, лежит и Ферапонт.
Цветов им теперь приносить уже некому, но в московских норах и трущобах есть люди, которые помнят белоголового длинного старика, который словно чудом умел узнавать, где есть истинное горе, и умел поспевать туда вовремя сам или посылал не с пустыми руками своего доброго пучеглазого слугу.
Эти два добряка, о которых много бы можно сказать, были – мой дядя и его Ферапонт, которого старик в шутку называл: «укротитель зверя».
Отборное зерно Краткая трилогия в просонке
Спящим человеком прииде враг и всея плевелы посреди пшеницы.
Мф. 13: 25Желание видеть дорогих друзей заставляло. меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других – особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет предсказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается «погибнуть». Как, за что «погибнуть»?! И пошло думаться и выходить: будто как и есть за что, – будто как и не за что? А кругом меня все спит. Пять-шесть пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились и все храпят в каком-то озлоблении.
И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обязан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого «внятием не тешить», а приспособиться да заснуть, яко же и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее.
Так я и сделал: отвернулся от всех, ранее оборотившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон, но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии.
С платформы у одного маленького городка вошли два человека – один легкий на ногу, должно быть молодой, а другой – грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно-синей тафтою и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обеспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полушепотом. Это так и вышло, и я на то нимало не жалуюсь, потому что разговор, который повели тихо вполголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же, по приезде домой, записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей.
По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились.
Говорил из двух пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон – голос, приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе.
Начинал баритон, и речь его была следующая:
– Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и притом как она выразилась зараз в одном самом недавнем и на мой взгляд прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, – вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и Рассея, и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-вашему, «социабельное». Бисмарк где-то сказал раз, что России будто «остается только погибнуть», а газетные звонари это подхватили, и звонят, и звонят… А вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются, так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы.
– Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю, – заметил фальцет.
Баритон продолжал:
– Если бы я готовил к печати те три маленькие историйки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогиею о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно… Именно, разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других «оторван от почвы». А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки и как у нас, по родной пословице, «всякая сосна своему бору шумит».
Глава первая Барин
Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться, но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит: полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно, – это чья-то пшеница в одной витрине.
В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого и полного зерна не видывал. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, как, бывало, в детстве видал у себя дома, когда матушка к Пасхе таким миндалем куличи украшала.
Посмотрел я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности, из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть вам не стану. Скажу только, что он известный славянский деятель, и в Красном Кресте ходил, и прочее, и прочее.
Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни. Впрочем, это еще по детским воспоминаниям – потому что он сначала в классе всё ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить и еще чем-то худшим заниматься.
Думаю себе: пожалуй, и здесь тоже обман! Небось где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил будто с своих полей.
Рассуждал я таким образом, потому что наши поля ржаные если и родят пшеничку, то очень неавантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, пойду-ка, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем. За сытостью критика исчезает.
Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне как будто когда-то известный. Я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается, и вдруг наклонился ко мне и говорит:
– Извините меня, если я не ошибаюсь, – вы такой-то?
Я отвечаю:
– Вы не ошиблись – я действительно тот, кем вы меня назвали.
– А я, – говорит, – такой-то, – и отрекомендовался.
Надеюсь, вы можете догадаться, что это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу.
Что же, и прекрасно: гора с горою не сходится, а человеку с человеком – очень возможно сойтись. Мы перекинулись несколькими вопросами: кто, откуда и зачем? Я говорю, что так, просто, как Чичиков, езжу для собственного удовольствия. А он шутливо подсказывает: «Верно, обозреваете».
– Не обозреваю, – говорю, – а просто для своего удовольствия посмотреть хочу.
А он рекомендует себя экспонентом и объявляет, что пшеницу выставил.
Я ответил, что заметил уже его пшеничку, и полюбопытствовал, из каких это семян и на какой именно местности росло? Все объясняет речисто, – так режет со всеми подробностями. Я снова подивился, когда узнал, что и семена из нашего края, и поля, зародившие такое удивительное зерно, смежны с полями моего брата.
Дивился, повторяю вам, потому, что край наш никогда прежде не родил очень хорошей пшеницы. А он отвечает:
– Ну, да то было прежде, а теперь и у нас совсем не то. Особенно у меня в хозяйстве. С старым этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всем произошла перемена с тех пор, как вы отбыли из нашей губернии достигать чинов и знатности да легких капиталов смелыми оборотами. А мы, батюшка, как муромцы, – сидим на земле, сидели и кое-что высидели и дождались. Теперь опять наше дворянское время начинается, а ваше, чиновничье, проходит. Люди вспомнили дедовскую поговорку, что «земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток». Мы, дворяне, обернулись к сохе и по сторонам не зеваем, – мы знаем, что не столица, а соха нас спасет.
– Да, – говорю, – все это прекрасно, но, однако же, там, в вашей местности, живет мой брат, и я его навещал, но никогда не слыхал, чтобы там родилось такое удивительное зерно.
– Что же из этого? Навещаю – это еще не значит хозяйничаю. У меня в селе теперь молодой поп, так я в его отсутствие, например, жену его навещаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяин-то все-таки поп. А брат ваш, извините, – рутинер.
– Да, – говорю, – мой брат не рисклив.
– Куда ему! Нет! Таких, как я, покуда еще только несколько человек, но мы уже двинули свои хозяйства, и вот вам результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получил здесь за мое зерно золотую медаль. Мне это дорого, так же как упорядочение наших славянских княжеств, которое повредил берлинский трактат, – но в чем мы не виноваты, в том и не виноваты, а в нашем хозяйском деле нам никто не указ. Пройдемтесь еще раз к моей витринке.
Я был очень рад, чтобы только кончить про «княжества», потому что я в этом вопросе профан. Подошли к витрине. Он взял в руку серебряный совочек и начал с него у меня перед глазами зерно перепускать.
– Изумляюсь, – говорю, – вижу, но и глазам верить не могу, как этакое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земельке!
– А вот читайте, – указывает на надпись на витрине. – Видите: мое имя. И притом, батюшка, здесь подлог невозможен: там у них в выставочном правлении все документы – все эти свидетельства и разные удостоверения. Все доказательства есть, что это действительно зерно из моих урожаев. Да вот будете у своего двоюродного братца, так жалуйте, сделайте милость, и ко мне – вам и все наши крестьяне подтвердят, что это зерно с моих полей. Способ, батюшка, способ отделки, – вот в чем дело.
Думаю себе: не смею верить, а впрочем – Боже, благослови.
– Какая же, – спрашиваю, – такому редкостному зерну цена?
– Да цена хорошая: червивые французишки и англичане не отходят, всё осаждают и дают цену как раз в два раза больше самой высокой, но я им, подлецам, разумеется, не продам.
– Отчего?
– Как это – иностранцам-то?.. Э, нет, батюшка, нет, – не продам! Нет, батюшка, и так у нас уже много этого несчастного разлада слова с делом. Что в самом деле баловаться? Зачем нам иностранцы? Если мы люди истинно русские, то мы и должны поддержать своих, истинно русских торговцев, а не чужих.
Пусть у меня купит наш истинно русский купец – я ему продам, и охотно продам. Даже своему, православному человеку уступлю против того, что предлагают иностранцы, – но пусть истинно русский наживает.
А в это самое время, как мы разговариваем, смотрю, к нему действительно вдруг подлетают два иностранца.
Мне показалось, что они как будто евреи, но, впрочем, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убеждать его продать им пшеницу.
– Видите, как юлят, – сказал он мне по-русски, – а там вон, смотрите, рыжий черт смоленский лен рассматривает. Это только один отвод глаз. Ему лен ни на что не нужен, это англичанин, который тоже проходу мне не дает.
Что же, думаю, может быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у нас приболтывались, а между своих именитых людей немало встречалось таковых, что гнилой Запад под пятой задавить собирались. Вот, верно, и это один из таковых.
Прошло с этой встречи два или три дня, я было уже про этого господина и позабыл, но мне довелось опять его встретить и ближе с ним ознакомиться. Дело было в одной из лучших гостиниц за обедом; сел я обедать и вижу, неподалеку сидит мой образцовый хозяин с каким-то солидным человеком, несомненно русского и даже несомненно торгового телосложения. Оба едят хорошо, а еще лучше того запивают.
Заметил и он меня и сейчас же присылает с служившим им половым карточку и стакан шампанского на серебряном подносе.
Не принять было неловко – я взял бокал и издали послал ему воздушный поклон.
На карточке было начертано карандашом: «Поздравьте! Продал зерно сему благополучному россиянину и тремтете пьем. Окончив обед, приближайтесь к нам».
«Ну, – думаю, – вот этого я уже не сделаю», а он точно проник мои мысли и сам подходит.
– Кончил, – говорит, – батюшка, расстался, продал, но своему, русскому. Вот этот купчина весь урожай закупил и сразу пять тысяч задатку дал за мою пшеничку. Дело не совсем пустое – всего вышло тысяч на сорок. Собственно говоря – и то продешевил, но по крайней мере пусть пойдет своему брату, русскому. Французы и англичанин из себя выходят – злятся, а я очень рад. Черт с ними, пусть не распускают вздоров, что у нас своего патриотизма нет. Пойдемте, я вас познакомлю с моим покупателем. Оригинальный в своем роде субъект: из настоящих простых, истинно русских людей в купцы вышел и теперь страшно богат и все на храмы жертвует, но при случае не прочь и покутить. Теперь он именно в таком ударе: не хотите ли отсюда вместе ударимся, «где оскорбленному есть чувству уголок»?
– Нет, – говорю, – куда же мне кутить?
– Отчего так? Здесь ведь чином и званием не стесняются – мы люди простые и дурачимся все кто как может.
– То-то и горе, – говорю, – что я уже совсем не могу пить.
– Ну, нечего с вами делать, будь по-вашему – оставайтесь. А пока вот пробежите наше условие – полюбуйтесь, как все обстоятельно. Я, батюшка, ведь иначе не иду, как нотариальным порядком. Да-а-с, с нашими русачками надо все крепко делать, и иначе нельзя, как хорошенько его «обовязать», а потом уж и тремтете с ним пить. Вот видите, у меня все обозначено: пять тысяч задатка, зерно принять у меня в имении – «весь урожай обмолоченный и хранимый в амбарах села Черитаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Как находите, нет ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно?
– И я, – говорю, – того же самого мнения.
– Да, – отвечает, – я его немножко знаю: он на славян жертвовал, а ему пальца в рот не клади.
Барин был неподдельно весел, и купец тоже.
Вечером я их видел в театре в ложе с слишком красивою и щегольски одетою женщиною, которая наверно не могла быть ни одному из них ни женою, ни родственницею и, по-видимому, даже еще не совсем давно образовала с ними знакомство.
В антрактах купец появлялся в буфете и требовал «тремтете».
Человек тотчас же уносил за ним персики и другие фрукты и бутылку creme de the [162].
При выходе из театра старый товарищ уловил меня и настоятельно звал ехать с ними вместе ужинать и притом сообщил, что их дама «субъект самой высшей школы».
– Настоящей haut ecole! [163]
– Ну, тем вам лучше, – говорю, – а мне в мои лета, – и прочее, и прочее, – словом, отклонил от себя это соблазнительное предложение, которое для меня тем более неудобно, что я намеревался на другой день рано утром выехать из этого веселого города и продолжать мое путешествие. Земляк меня освободил, но зато взял с меня слово, что когда я буду в деревне у моих родных, то непременно приеду к нему посмотреть его образцовое хозяйство и в особенности его удивительную пшеницу.
Я дал требуемое слово, хотя с неудовольствием. Не умею уж вам сказать: мешали ли мне школьные воспоминания о ножичке и чем-то худшем из области haut ecole или отталкивала меня от него настоящая ноздревщина, но только мне все так и казалось, что он мне дома у себя всучит либо борзую собаку, либо шарманку.
Месяца через два, послонявшись здесь и там и немножко полечившись, я как раз попал в родные палестины и после малого отдыха спрашиваю у моего двоюродного брата:
– Скажи, пожалуйста, где у вас такой-то? И что это за человек? Мне надо у него побывать.
А кузен на меня посмотрел и говорит:
– Как, ты его знаешь?
Я говорю, что мы с ним вместе в школе были, а потом на выставке опять возобновили знакомство.
– Не поздравляю с этим знакомством.
– А что такое?
– Да ведь это отсветнейший лгунище и патентованный негодяй.
– Я, – говорю, – признаться, так и думал.
Тут я и рассказал, как мы встретились на выставке, как вспомнили однокашничество и какие вещи он мне рассказывал про свое хозяйство и про свою деятельность в пользу славянских братий.
Кузен мой расхохотался.
– Что же тут смешного?
– Все смешно, кроме кой-чего гадкого. Впрочем, ты, надеюсь, в политические откровенности с ним не пускался.
– А что?
– Да у него есть одна престранная манера: он все наклоняет разговор по известному склону, а потом вдруг вспоминает, что он «дворянин», и начинает протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанским отпаивали, пока пропьет память.
– Нет, – говорю, – я в политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы из того не вышло, потому что вся моя политика заключается в отвращении от политики.
– А это, – говорит, – ничего не значит.
– Однако же?
– Он соврет, наклевещет, что ты как-нибудь молчаливо пренебрегаешь…
– Ну, тогда, значит, от него все равно спасенья нет.
– Да и нет, если только не иметь отваги выгнать его от себя вон.
Мне это показалось уже слишком.
– Удивляюсь, – говорю, – как же это все другие на его счет так ошибаются.
– А кто, например?
– Да ведь вот, – говорю, – он от вас же приезжал во время славянской войны, и у нас про него в газетах писали, и солидные люди его принимали.
Брат рассмеялся и говорит, что этого господина никто не посылал и в пользу славян действовать не уполномочивал, а что он сам усматривал в этом хорошее средство к поправлению своих плохих денежных обстоятельств и еще более дрянной репутации.
– А что его у вас в столице возили и принимали, так этому виновато ваше модничанье; у вас ведь все так: как затеете возню в каком-нибудь особливом роде, то и возитесь с кем попало, без всякого разбора.
– Ну, вот видишь ли, – говорю, – мы же и виноваты. На вас взаправду не угодишь: то вам Петербург казался холоден и чопорен, а теперь вы готовы уверять, что он какой-то простофиля, которого каждый ваш нахал за усы проводить может.
– И вообрази себе, что ведь действительно может.
– Пожалуйста!
– Истинно тебя уверяю. Только всей и мудрости, что надо прислушаться, что у вас в данную минуту в голове бурчит и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянских братий, или пленяете умом заатлантических друзей, или собираетесь зазвонить вместо колокола в мужичьи лапти… Уловить это всегда нетрудно, чем вы бредите, а потом сейчас только пусти к вашей приме свою втору, и дело сделано. У вас так и заорут: «Вот она, наша провинция! Вот она, наша свежая, непочатая сила! Она откликнулась не так, как мы, такие, сякие, ледащие, гадкие, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландских болотах». Вы себя черните да бьете при содействии какого-нибудь литературного лгунищи, а наши провинциалы читают да думают: «Эва мы, братцы, в гору пошли!» И вот, которые пошельмоватее, поначитавшись, как вы там сами собою тяготитесь и ждете от нас, провинциалов, обновления, – снаряжаются и едут в Петербург, чтобы уделить вам нечто от нашей деловитости, от наших «здравых и крепких национальных идей». Хорошие и смирные люди, разумеется, глядят на это да удивляются, а ловкачи меж тем дело делают. Везут вам эти лгунищи как раз то, что вам хочется получить из провинции: они и славянам братья, и заатлантичникам друзья, и впереди они вызывались бежать и назад рады спятиться до обров [164] и дулебов [165]. Словом, чего хотите, тем они вам и скинутся. А вы думаете: «Это земля'. Это провинция». Но мы, домоседы, знаем, что это и не земля, и не провинция, а просто наши лгунищи. И тот, к которому ты теперь собираешься, именно и есть из этого сорта. У вас его величали, а по-нашему он имени человеческого не стоит, и у нас с ним Бог весть с коей поры никто никакого дела иметь не хотел.
– Но, однако, по крайней мере – он хороший хозяин.
– Нимало.
– Но он при деньгах – это теперь редкость.
– Да, с того времени, как ездил в Петербург учить вас национальным идеям, у него в мошне кое-что стало позвякивать, но нам известно, что он там купил и кого продал.
– Ну, в этом случае, – говорю, – я сведущее вас всех: я сам видел, как он продал свою превосходную пшеницу.
– Нет у него такой пшеницы.
– Как это нет?
– Нет, да и только. Так нет, как и не было.
– Ну, уж это извини – я ее сам видел.
– В витрине?
– Да, в витрине.
– Ну, это не удивительно – это ему наши бабы руками отбирали.
– Полно, – говорю, – пожалуйста: разве это можно руками отбирать?
– Как! Руками-то? А разумеется можно. Так – сидят, знаешь, бабы и девки весенним деньком в тени под амбарчиком, поют, как «Антон козу ведет», а сами на ладонях зернышко к зернышку отбирают. Это очень можно.
– Какие, – говорю, – пустяки!
– Совсем не пустяки. За пустяки такой скаред, как мой сосед, денег платить не станет, а он сорока бабам целый месяц по пятиалтынному в день платил. Время только хорошо выбрал: у нас ведь весной бабы нипочем.
– А как же, – спрашиваю, – у него на выставке было свидетельство, что это зерно с его полей!
– Что же, это и правда. Выбранные зернышки тоже ведь на его поле выросли.
– Да; но, однако, это значит – голое и очень наглое мошенничество.
– И не забудь – не первое и не последнее.
– Да, но как же… этот купец, которого он «обовязал» такими безвыходными условиями. Он начал, разумеется, против этого барина судебное дело, или он разорился?
– Да, пожалуй, он начал дело, но только совсем в особой инстанции.
– Где же это?
– У мужика. Выше этого ведь теперь, по вашему вразумлению, ничего быть не может.
– Да полно, – говорю, – тебе эти крючки загинать да шутовствовать. Расскажи лучше просто, как следует, что такое происходит в вашей самодеятельности?
– Изволь, – отвечает приятель, – я тебе расскажу. – Да, батюшка, и рассказал такое, что в самом деле может и даже должно превышать всякие узкие, чужеземные понятия об оживлении дел в крае… Не знаю, как вам это покажется, но по-моему – оригинально и дух истинного, самобытного человека не может не радовать.
Тут фальцет перебил рассказчика и начал его упрашивать довести начатую трилогию до конца, то есть рассказать, как купец сделался с пройдохою-барином, и как всех их помирил и выручил мужик, к которому теперь якобы идет какая-то апелляция во всех случаях жизни.
Баритон согласился продолжать и заметил:
– Это довольно любопытно. Представьте вы себе, что как ни смел и находчив был сейчас мною вам описанный дворянин, с которым никому не дай Бог в делах встретиться, но купец, которого он так беспощадно надул и запутал, оказался еще его находчивее и смелее. Какой-нибудь вертопрах-чужеземец увидал бы тут всего два выхода: или обратиться к суду, или сделать из этого – черт возьми – вопрос крови. Но наш простой, ясный русский ум нашел еще одно измерение и такой выход, при котором и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротив – все свою невинность соблюли, и все себе капиталы приобрели.
– Прелюбопытно!
– Да как же-с! Из такой возмутительной, предательской и вообще гадкой истории, которая какого хотите, любого западника вконец бы разорила, наш православный пузатый купчина вышел молодцом и даже нажил этим большие деньги и, что всего важнее, он, сударь, общественное дело сделал: он многих истинно несчастных людей поддержал, поправил и, так сказать, устроил для многих благоденствие.
– Прелюбопытно, – снова вставил фальцет.
– Ну уж одним словом – слушайте: купец, который сейчас перед вами является, уверяю вас, барина лучше.
Глава вторая Купец
Купец, которому было продано отборное зерно, разумеется, был обманут беспощадно. Все эти французы жидовского типа и англичане, равно как и дама haut école, у помещика были подставные лица, так сказать, его агенты, которые действовали, как известный Утешительный в гоголевских «Игроках». Иностранцам такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первых, они не нашли бы способа, как с покупкою справиться, и завели бы судебный скандал, а во-вторых, у них у всех водятся консулы и посольства, которые не соблюдают правила невмешательства наших дипломатов и готовы вступать за своего во всякие мелочи. С иностранцами могла бы выйти прескверная история, и барин, стоя на почве, понимал, что русское изобретение только один русский же национальный гений и может преодолеть. Потому отборное зерно и было продано своему единоверцу.
Прислал этот купец к барину приказчика принимать пшеницу. Приказчик вошел в амбары, взглянул в закромы, ворохнул лопатою и видит, разумеется, что над его хозяином совершено страшное надувательство. А между тем купец уже запродал зерно по образцам за границу. Первая мысль у растерявшегося приказчика явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назад задаток, но условие так написано, что спасенья нет: и урожай, и годы, и амбары – все обозначено, и задаток ни в каком случае не возвращается. У нас известно: «что взято, то свято». Сунулся приказчик туда-сюда, к законоведам, – те говорят: ничего не поделаешь, надо принимать зерно, какое есть, и остальные деньги выплачивать. Спор, разумеется, завести можно, да неизвестно, чем он кончится, а десять тысяч задатку гулять будут, да и с заграничными покупателями шутить нельзя. Подавай им, что запродано.
Приказчик посылает хозяину телеграмму, чтобы тот скорее сам приехал. Купец приехал, выслушал приказчика, посмотрел хлеб и говорит своему молодцу:
– Ты, братец, дурак и очень глупо дело повел. Зерно хорошее, и никакой тут ссоры и огласки не надо; коммерция любит тайность: товар надо принять, а деньги заплатить.
А с барином он повел объяснение в другом роде.
Приходит – помолился на образ и говорит:
– Здравствуй, барин!
А тот отвечает:
– И ты здравствуй!
– А ты, барин, плут, – говорит купец, – ты ведь меня надул как нельзя лучше.
– Что делать, приятель! А вы сами ведь тоже никому спуску не даете и нашего брата тоже объегориваете? Дело обоюдное.
– Так-то оно так, – отвечает купец, – дело это действительно обоюдное; но надо ему свою развязку сделать.
Барин очень согласен, только говорит:
– Желаю знать: в каких смыслах развязаться?
– А в таких, мол, смыслах, что если ты меня в свое время надул, то ты же должен мне теперь по-христиански помогать, а я тебе все деньги отдам и еще, пожалуй, немножко накину.
Дворянин говорит, что он на этих условиях всякое добро очень рад сделать, только говори, мол, мне прямо: что вашей чести, какая новая механика требуется?
Купец вкратце отвечает:
– Мне немного от тебя нужно, только поступи ты со мною, как поступил благоразумный домоправитель, о котором в Евангелии повествуется.
Барин говорит:
– Я всегда после Евангелия в церковь хожу: не знаю, что там читается.
Купец ему довел на память: «Призвав коегожда от должников господина своего глаголаше: колицем должен еси? Приими писание твое и напиши другое. И похвали Господь домоправителя неправедного».
Дворянин выслушал и говорит:
– Понимаю. Это ты, верно, хочешь еще у меня купить такой же редкой пшеницы.
– Да, – отвечал купец, – теперь уж надо продолжать, потому что никаким другим манером нам себя соблюсти невозможно. А к тому, нельзя все только о себе думать – надо тоже дать и бедному народишку что-нибудь заработать.
Барин это о народушке пустил мимо ушей и спрашивает:
– А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?
– Да я теперь много куплю… Мне так надо, чтобы целую барку одним этим добрым зерном нагрузить.
– Гм! Так, так! Ты, верно, хочешь ее особенно бережно везти?
– Вот это и есть.
– Ага! Понимаю. Я очень рад, очень рад и могу служить.
– Документальное удостоверение нужно, что на целую барку зерна нагружаю.
– Само собою разумеется. Разве можно в нашем краю без документа?
– А какая цена? Сколько возьмешь за эту добавочную покупку?
– Возьму не дороже, как за мертвые души.
Купец не понял, в чем дело, и перекрестился.
– Какие такие мертвые души? Что тебе про них вздумалось! Им гнить, а нам жить. Мы про живое говорим: сказывай, сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?
– В одно слово?
– В одно слово.
– По два рубля за куль.
– Вот те и раз!
– Это недорого.
– Нет, ты по-Божиему – получи по полтине за куль.
Дворянин сделал удивленное лицо.
– Как это – по полтине за куль пшеницы-то!
А тот его обрезонивает:
– Ну какая, – говорит, – это пшеница!
– Да уж об этом не будем спорить – такая она или сякая, однако ты за нее с кого-нибудь настоящие деньги слупишь.
– Это еще как Бог даст.
– Да уж тебе-то Бог непременно даст. К вам, к купцам, я ведь и не знаю за что, Бог ужасно милостив. Даже, ей-богу, завидно.
– А ты не завидуй – зависть грех.
– Нет, да зачем это все деньги должны к вам плыть? Вам с деньгами-то хорошо.
– Да, мы припадаем и молимся – и ты молись: кто молится, тому Бог дает хорошо.
– Конечно, так, но вам тоже и есть чем – вы много жертвуете на храмы.
– И это.
– Ну, вот то-то и есть. А ты мне дай цену подороже, так тогда и я от себя пожертвую.
Купец рассмеялся.
– Ты, – говорит, – плут.
А тот отвечает:
– Да и ты тут.
– Нет, взаправду, вот что: так как я вижу, что ты знаешь Писание и хочешь сам к вере придержаться, то я тебе дам по гривеннику на куль больше, чем располагал. Получай по шесть гривен, и о том, что мы сделали, никто знать не будет.
А барин отвечает:
– Хорошо, но еще лучше ты мне дай по рублю за куль и потом, если хочешь, всем об этом рассказывай.
Купец посмотрел на него, и оба враз рассмеялись.
– Ну, – говорит купец, – скажу я тебе, барин, что плутее тебя даже в самом нижнем звании редко подыскать.
А тот, не смутясь, отвечает:
– Нельзя, братец, в нашем веке иначе: теперь у нас благородство есть, а нет крестьян, которые наше благородство оберегали, а во-вторых, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.
Купец не стал больше торговаться.
– Нечего, видно, с тобою говорить – ты чищеный, – крестись перед образом и по рукам.
Барин согласен молиться, но только деньги вперед требует и местечко на столе ударяет, где их перед ним положить желательно.
Купец о то самое место деньги и выклал.
– Ладно, мол, вели, только скорее, чем попало новое кулье набивать, – я хочу, чтобы при мне вся погрузка была готова и караван отплыл.
Нагрузили барку кулями, в которых черт знает какой дряни набили под видом драгоценной пшеницы; застраховал все это купец в самой дорогой цене, отслужили молебен с водосвятием, покормили православный народушко пирогами с легким и с сердцем и отправили судно в ход. Барки поплыли своим путем, а купец, время не тратя, с барином подвел окончательные счеты по-Божиему, взял бумаги и полетел своим путем в Питер и прямо на Аглицкую набережную к толстому англичанину, которому раньше запродажу совершил по тому дивному образцу, который на выставке был.
«Зерно, – говорит, – отправлено в ход, и вот документы и страховка; прошу теперь мне отдать, что следует, на такое-то количество, вторую часть получения».
Англичанин посмотрел документы и сдал их в контору, а из несгораемого шкафа вынул деньги и заплатил.
Купец завязал их в платок и ушел.
Тут фальцет перебил рассказчика словами:
– Вы какие-то страсти говорите.
– Я говорю вам то, что в действительности было.
– Ну так значит, этот купец, взявши у англичанина деньги, бежал, что ли, с ними за границу?
– Вовсе не бежал. Чего истинный русский человек побежит за границу? Это не в его правилах, да он и никакого другого языка, кроме русского, не знает. Никуда он не бежал.
– Так как же он ни аглицкого консула, ни посла не боялся? Почему дворянин их боялся, а купец не стал бояться?
– Вероятно, потому, что купец опытнее был и лучше знал народные средства.
– Ну полноте, пожалуйста, какие могут быть народные средства против англичан!.. Эти всесветные торгаши сами кого угодно облупят.
– Да кто вам сказал, что он хотел англичан обманывать? Он знал, что с ними шутить не годится, и всему дальнейшему благополучному течению дела усмотрел иной проспект, а на том проспекте предвидел уже для себя полезного деятеля, в руках которого были все средства все это дело огранить и в рамку вставить. Тот и дал всему такой оборот, что ни Ротшильд, ни Томсон Бонер и никакой другой коммерческий гений не выдумает.
– И кто же был этот великий делец: адвокат или маклер?
– Нет, мужик.
– Как мужик?
– Да все дело обделал он – наш простой, наш находчивый и умный мужик! Да я и не понимаю – отчего вас это удивляет? Ведь читали же вы небось у Щедрина, как мужик трех генералов прокормил?
– Конечно, читал.
– Ну так отчего же вам кажется странным, что мужик умел плутню распутать?
– Будь по-вашему: спрячу пока мои недоразумения.
– А я вам кончу про мужика, и притом про такого, который не трех генералов, а целую деревню один прокормил.
Глава третья Мужик
Мужик, к помощи которого обратился купец, был, как всякий русский мужик, «с вида сер, но ум у него не черт съел». Родился он при матушке широкой реке-кормилице, а звали его, скажем, так – Иваном Петровым. Был этот раб Божий Иван в свое время молод, а теперь достигал почтенной старости, но хлеба даром, лежа на печи, не кушал, а служил лоцманом при Толмачевских порогах, на Куриной переправе. Лоцманская должность, как вам, вероятно, известно, состоит в том, чтобы провожать суда, идущие через опасные для прохода места. За это провожатому лоцману платят известную плату, и та плата идет в артель, а потом разделяется между всеми лоцманами данной местности.
Всякий хозяин может повести свое судно и на собственную ответственность, без лоцмана, но тогда уже, если с «посудкой» случится какое-нибудь несчастие, лоцманская артель не отвечает. А потому, если судно идет с застрахованным грузом, то условиями страховки требуется, чтобы лоцман был непременно. Взято это, конечно, с иностранных примеров, без надлежащего внимания к нашей беспримерной оригинальности и непосредственности. Заводили у нас страховые операции господа иностранцы и думали, что их Рейн или Дунай – это все равно что наши Свирь или Волга, и что их лоцман и наш – это опять одно и то же. Ну нет, брат, – извини!
Наши речные лоцманы – люди простые, не ученые, водят они суда, сами водимые Единым Богом. Есть какой-то навык и сноровка. Говорят, что будто они после половодья дно реки исследуют и проверяют, но, полагать надо, все это относится более к области успокоительных всероссийских иллюзий; но в своем роде лоцманы – очень большие дельцы и наживают порою кругленькие капитальцы. И все это в простоте и в смирении – Бога почитаючи и не огорчая мир, то есть своих людей не позабывая.
Мужик Иван Петров был из зажиточных; ел не только щи с мясом, а еще, пожалуй, в жирную масляную кашу ложку сметаны клал, не столько уже «для скусу», сколько для степенства – чтобы по бороде текло, а ко всему этому выпивал для сварения желудка стакан-два нашего простого, доброго русского вина, от которого никогда подагры не бывает. По субботам он ходил в баню, а по воскресениям молился усердно и вежливо, то есть прямо от своего лица ни о чем просить не дерзал, а искал посредства просиявших угодников; но и тем не докучал с пустыми руками, а приносил во храм дары и жертвы: пелены, ризы, свечи и курения. Словом, был христианин самого заправского московского письма.
Купцу, которого дворянин отборным зерном обидел, благочестивый мужик Иван Петров был знаем по верным слухам как раз с той стороны, с какой он ему нынче самому понадобился. Он-то и был тот, который мог все дело поправить, чтобы никому решительно убытка не было, а всем польза.
«Он выручал других – должен выручить и меня», – рассудил купец и позвал к себе в кабинет того приказчика, который один знал, с чем у них застрахованные кули на барки нагружены, и говорит:
– Ты веди караван, а я вас где надо встречу.
А сам поехал налегке простым, богомольным человеком прямо к Тихвинской, а заместо того попал к Толмачевым порогам на Куриный переход. «Где сокровище, там и сердце». Пристал наш купец здесь на постоялом дворе и пошел узнавать: где большой человек Иван Петров и как с ним свидеться.
Ходит купец по бережку и не знает: как за дело взяться. А просто взяться – невозможно: дело затеяно воровское.
К счастию своему, видит купец на бережке, на обернутой кверху дном лодке сидит весь белый, матерой старик, в плисовом ватном картузе, борода празелень, и корсунский медный крест из-за пазухи касандрийской рубахи наружу висит.
Понравился старец купцу своим правильным видом.
Прошел мимо этого старика купец раз и два, а тот его спрашивает:
– Чего ты здесь, хозяин, ищешь и что обрести желаешь: то ли, чего не имел, или то, что потерял?
Купец отвечает, что он так себе «прохаживается», но старик умный – улыбнулся и отвечает:
– Что это еще за прохаживание! В проходку ходить – это господское, а не христианское дело, а степенный человек за делом ходит и дела смотрит – дела пытает, а не от дела лытает. Неужели же ты в таких твоих годах даром время провождаешь?
Купец видит, что обрел человека большого ума и проницательности – сейчас перед ним и открылся, что он действительно дела пытает, а не от дела лытает.
– А к какому месту касающему?
– Касающее этого самого места.
– И в чем оно содержащее?
– Содержащее в том, что я обижен весьма несправедливым человеком.
– Так; нынче, друг, мало уже кто по правде живет, а всё по обиде. А кого ты на нашем берегу ищешь?
– Ищу себе человека помогательного.
– Так; а в какой силе?
– В самой большой силе – грех и обиду отнимающей.
– И-и, брат! Где весь грех омыть. В Писании у апостолов сказано: «Весь мир во грехе положен», – всего не омоешь, а разве хоть по малости.
– Ну хоть по малости.
– То-то и есть: Господь грех потопом омыл, а он вновь настал.
– Научи меня, дедушка, где для меня здесь полезный человек?
– А как ему имя от Бога дано?
– Имя ему Иоанн.
– «Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн», – проговорил старик. – А как по изотчеству?
– Петрович.
– Ну, сам перед тобою я – Иван Петрович. Сказывай, какая твоя нужда?
Тот ему рассказал, впрочем только одну первую половину, то есть о том, какой плут был барин, который ему отборное зерно продал, а о том, какое он сам плутовство сделал, – про то умолчал, да и надобности рассказывать не было, потому что старец все в молчании постиг и мягко оформил ответное слово:
– Товар, значит, страховой?
– Да.
– И подконтрачен?
– Да, подконтрачен.
– Иностранцам?
– Англичанам.
– Ух! Это жохи!
Старик зевнул, перекрестил рот, потом встал и добавил:
– Приходи-ко ты ко мне, кручинная голова, на двор: о таком деле надо говорить – подумавши.
Через некоторое время, как там было у них условлено, приходит купец, «кручинная голова», к Ивану Петрову, а тот его на огород – сел с ним на банное крылечко и говорит:
– Я твое дело все обдумал. Пособить тебе от твоих обязательств – действительно надо, потому что своего русского человека грешно чужанам выдать, и как тебя избавить – это есть в наших руках, но только есть у нас одна своя мирская причина, которая здесь к тому не позволяет.
Купец стал упрашивать.
– Сделай милость, – говорит, – я тысяч не пожалею и деньги сейчас вперед хоть Николе, хоть Спасу за образник положу.
– Знаю, да взять нельзя.
– Отчего?
– Очень опасно.
– С коих же пор ты так опаслив стал?
Старик на него поглядел и с солидным достоинством заметил, что он всегда был опаслив.
– Однако другим помогал.
– Разумеется, помогал, когда в своем правиле и весь мир за тебя стоять будет.
– А ныне разве мир против тебя стоит?
– Я так думаю.
– А почему?
– Потому что у нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статься, то на Поросячьем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благостыню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова, – вот той раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей – им строиться нужно.
– Не пожалею.
Купец в ту же ночь поехал, куда благословил дедушка Иоанн, нашел там без труда в третьем дворе указанного ему помогательного Петра и очень скоро с ним сделался. Дал, может быть, и дорого, но вышло так честно и аккуратно, что одно только утешение.
– То есть какое же это утешение? – спросил фальцет.
– А такое утешение, что как подоспел сюда купцов караван, где плыла и та барка с сором вместо дорогой пшеницы, то все пристали против часовенки на бережку, помолебствовали, а потом лоцман Петр Иванов стал на буксир и повел, и все вел благополучно, да вдруг самую малость рулевому оборот дал и так похибил, что все суда прошли, а эта барка зацепилась, повернулась, как лягушка, пузом вверх и потонула.
Народу стояло на обоих берегах множество, и все видели, и все восклицали: «Ишь ты! Поди ж ты!» Словом, «случилось несчастие» невесть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петр на руле весь в поту, умаялся, а купец на берегу весь бледный, как смерть, стоял да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяин только покорностью взял: перекрестился, вздохнул да молвил: «Бог дал, Бог и взял – буди Его святая воля».
Всех искреннее и оживленнее был народ: из народа к купцу уже сейчас же начали приставать люди с просьбами: «Теперь нас не обессудь – это на сиротскую долю Бог дал». И после этого пошли веселые дела: с одной стороны исполнялись формы и обряды законных удостоверений и выдача купцу страховой премии за погибший сор, как за драгоценную пшеницу; а с другой – закипело народное оживление и пошла поправка всей местности.
– Как это?
– Очень просто; немцы ведут всё по правилам заграничного сочинения: приехал страховой агент и стал нанимать людей, чтобы затонувший груз из воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Труд немалый и долгий. Погорелые мужички сумели воспользоваться обстоятельствами: на мужчину брали в день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихонечку – все лето так с Божией помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало – погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и Божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хваляще и благодаря-ще Господа, и никто, ни один человек не остался в убытке – и никто не в огорчении. Никто не пострадал!
– Как никто?
– А кто же пострадал? Барин, купец, народ, то есть мужички, – все только нажились.
– А страховое общество?!
– Страховое общество?
– Да.
– Батюшка мой, о чем вы заговорили!
– А что же – разве оно не заплатило?
– Ну, как же можно не заплатить, – разумеется, заплатило.
– Так это по-вашему – не гадость, а социабельность?!
– Да разумеется же социабельность! Столько русских людей поправилось, и целое село год прокормилось, и великолепные постройки отстроились, и это, изволите видеть, по-вашему называется «гадость».
– А страховое-то общество – это что уже, стало быть, не социабельное учреждение?
– Разумеется, нет.
– А что же это такое?
– Немецкая затея.
– Там есть акционеры и русские.
– Да, которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят.
– А вы его не хвалите?
– Боже меня сохрани! Он уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своею глупостию злоупотреблять начали», – так пусть его и знает, как мы глупы-то; а я его и знать не хочу.
– Это черт знает что такое!
– А что именно?
– Вот то, что вы мне рассказывали.
Фальцет расхохотался и добавил:
– Нет, я вас решительно не понимаю.
– Представьте, а я вас тоже не понимаю.
– Да если бы нас слушал кто-нибудь сторонний человек, который бы нас не знал, то он бы непременно вправе был о нас подумать, что мы или плуты, или дураки.
– Очень может быть, но только он этим доказал бы свое собственное легкомыслие, потому что мы и не плуты и не дураки.
– Да, если это так, то, пожалуй, мы и сами не знаем, кто мы такие.
– Ну отчего же не знать. Что до меня касается, то я отлично знаю, что мы просто благополучные россияне, возвращающиеся с ингерманландских болот к себе домой, – на теплые полати, ко щам да к бабам… А кстати, вот и наша станция.
Поезд начал убавлять ход, послышался визг тормозов, звонок, – и собеседники вышли.
Я приподнялся было, чтобы их рассмотреть, но в густом полумраке мне это не удалось. Видел только, что оба люди окладистые и рослые.
Жемчужное ожерелье
Глава первая
Водном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе – о вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.
«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, – говорил Писемский, – и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, – все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому „на долгих", в общем тарантасе или „на сдаточных", – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а „куфарка" у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, – изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту „куфарку" обругаешь, а она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, – ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по-железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».
Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостию содержания.
– Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера; от Рождества до Крещения – чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланость и однообразие.
– Ну, я не совсем с вами согласен, – отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать.
– Я думаю, – продолжал он, – что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы.
– Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.
– А что же? Я могу вам представить такой рассказ, если хотите.
– Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!
– О, будьте уверены, – я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.
Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.
– Да, – отвечал тот, – вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.
Глава вторая
Назад тому три года брат приехал ко мне на Святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила – приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».
Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристает: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, – хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»
– Ну да постой же, – говорим, – все это прекрасно и пусть будет по-твоему, – Господь тебя благослови, – женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.
А он отвечает:
– Что же – времени довольно: две недели Святок венчаться нельзя, – вы меня в это время сосватайте, а на Крещение вечерком мы обвенчаемся и уедем.
– Э, – говорю, – да ты, любезный мой, должно быть немножко с ума сошел от скуки. (Слова «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, – говорю, – с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.
Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело. Жена говорит мне:
– У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать – жените меня на ней!»
Я отвечаю жене:
– Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.
– Нет, позволь, – отвечает жена, – отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?
– Что это такое я уважал?
– Безотчетные симпатии, влечения сердца.
– Ну, – говорю, – матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это – что такое… в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.
– Да, а ты что же имеешь против Машеньки? Она именно такая и есть, как ты говоришь, – девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.
– Как! – воскликнул я. – Так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?
– Признание, – отвечает, – не признание, а разве это не видно? Любовь ведь – это по нашему женскому ведомству, – мы ее замечаем и видим в самом зародыше.
– Вы, – говорю, – все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет – это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.
– А я ничего, – говорит, – не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой – прекрасный человек, и Маша – премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.
– Как! – закричал я, себя не помня. – Они уже и слово друг другу дали?
– Да, – отвечает жена, – это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним, – он наверно понравится старикам, и потом.
– Что же, что потом?
– Потом – пускай как знают; ты только не мешайся.
– Хорошо, – говорю, – хорошо, – очень рад в подобную глупость не мешаться.
– Глупости никакой не будет.
– Прекрасно.
– А будет все очень хорошо: они будут счастливы!
– Очень рад! Только не мешает, – говорю, – моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки – всем известный богатый сквалыжник.
– Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева – все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.
– Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, – и Маше ничего не даст.
– Почем это знать? Он ее больше всех любит.
– Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя – он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самою утрированною деликатностию, он и подавно оставит на бобах.
– То есть как это, – говорит, – на бобах?
– Ну, матушка, это ты дурачишься.
– Нет, не дурачусь.
– Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке – вот и вся недолга.
– Ах, вот это-то!
– Ну конечно.
– Конечно, конечно! Это быть может, но только я, – говорит, – никогда не думала, что по-твоему – получить путную жену, хотя бы и без приданого, – это называется «остаться на бобах».
Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас – в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок…
– Я говорю вовсе не о себе.
– Нет, отчего же?..
– Ну, это странно, ma chere! [166]
– Да отчего же странно?
– Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.
– Ну думал.
– Нет – совсем и не думал.
– Ну воображал.
– Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!
– Да чего же ты кричишь?!
– Я не кричу.
– И «черти». «черт». Что это такое?
– Да потому, что ты меня из терпения выводишь.
– Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое…
– Э-ге-ге!..
Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав – как бог, окончил – как свинья». Я принял обиженный вид, – потому что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, – и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения – снова отворил дверь и сказал:
– Это свинство!
А она отвечает:
– Mersi, мой милый муж.
Глава третья
Черт знает что за сцена! И не забудьте – это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно – и непереносно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи – в этом сыну родному нынче не укажешь, а то чтобы еще брат брата должен был слушаться. Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава Богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с него, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разбранились, как портной с портнихой… И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти.
Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены.
Подкупающая это вещь – носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины, и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.
– Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду.
И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.
Смотрю – в доме везде темно и тихо.
Спрашиваю горничную:
– Где же барыня?
– А они, – отвечает, – уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.
«Какова! – думаю. – Значит, она своего упорства не оставляет, – она таки хочет женить брата на Машеньке. Ну пусть их делают как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат – воплощенная честность и деликатность. Тем лучше, – пусть он их надует – и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»
Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.
Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа, и оба превеселые. Жена говорит мне:
– Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? А мы у Васильевых ужинали.
– Нет, – говорю, – покорно благодарю.
– Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.
– Вот как!
– Да – мы превесело провели время и шампанское пили.
– Счастливцы! – говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пойла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец [167]кончится, а потом – быть бычку на обрывочку».
А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы – во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастию, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.
А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.
– Это что же такое?
– А это дары жениха невесте, – объяснила мне моя жена.
– Ага! Так вот уже как! Поздравляю.
– Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.
– Да и прекрасно, – говорю, – незачем было меня и ждать.
– Ты, кажется, остришь?
– Нисколько я не острю.
– Или иронизируешь?
– И не иронизирую.
– Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы.
– Конечно, – говорю, – уж если ты ручаешься, то будут… Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать – вернее.
– А что же, – отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, – ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.
– Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.
– Да, сватаются – это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.
Я покачал головою и говорю:
– Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал – именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.
– И врешь.
– Как вру?!
– Врешь – потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.
– А за что же?
– За то, что я тебе понравилась.
– Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?
– Нимало – достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.
Я чувствовал, что она говорит правду.
– Однако же, – говорю, – я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?
– Чтобы смотреть на меня.
– Неправда – я изучал твой характер.
Жена расхохоталась.
– Что за пустой смех!
– Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал и изучать не мог.
– Это почему?
– Сказать?
– Сделай милость, скажи!
– Потому, что ты был в меня влюблен.
– Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.
– Мешало.
– Нет, не мешало.
– Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением.
– Ну… однако, – говорю, – ты уж это как-то… очень реально.
А сам думаю: «Ведь это правда!»
А жена говорит:
– Полно думать, – худа не вышло, а теперь переодевайся скорее, и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.
– Очень рад, – говорю.
И поехали.
Глава четвертая
Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.
Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.
В этаком настроении долго ли время тянется?
Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей, и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье… Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.
«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».
Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, – назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и наконец что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черных перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать, мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это – вечное».
Но у женщин ведь на всё свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.
Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.
– Это, – говорит, – во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста avec fleches d’Amour [168], но тем не менее я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали…
Моя жена улыбнулась. А он говорит:
– Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод – d’eau douce [169], тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила perle d’eau douce, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, – то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего avec fleches d’Amour, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего…
Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после Крещения перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.
Глава пятая
Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху.
Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:
– А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожиданные радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.
– Что же такое еще с тобою случилось?
– А вот входите, я вам расскажу.
Жена мне шепчет:
– Верно, старый негодяй их надул.
Я отвечаю:
– Это не мое дело.
Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:
«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый».
Жена моя так и села.
– Вот, – говорит, – негодяй!
Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:
– Ты неправа: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся… Что же мне тут печального? Я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, – стало быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, – не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива. Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиною стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.
«Здравствуй, – говорит, – зятюшка!»
Я вскочил, обнял его и говорю:
«Вот это мило! Мы должны были к вам через час ехать, а вы сами. Это против всех обычаев. мило и дорого».
«Ну что, – отвечает, – за счеты! Мы свои. Я был у обедни – помолился за вас и вот просвиру вам привез».
Я его опять обнял и поцеловал.
«А ты письмо мое получил?» – спрашивает.
«Как же, – говорю, – получил».
И я сам рассмеялся.
Он смотрит.
«Чего же, – говорит, – ты смеешься?»
«А что же мне делать? Это очень забавно».
«Забавно?»
«Да как же».
«А ты подай-ка мне жемчуг».
Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, – я его и подал.
«Есть у тебя увеличительное стекло?»
Я говорю: «Нет».
«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку».
«Для чего мне смотреть?»
«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».
«Вовсе не думаю».
«Нет – смотри, смотри!»
Я взял стекло и вижу – на замке, на самом скрытном месте, микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».
«Убедился, – говорит, – что это действительно жемчуг фальшивый?»
«Вижу».
«И что же ты мне теперь скажешь?»
«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном просить…»
«Проси, проси!»
«Позвольте не говорить об этом Маше».
«Это для чего?»
«Так.»
«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»
«Да – это между прочим».
«А еще что?»
«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».
«Против отца?»
«Да».
«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное – муж…»
«Никогда, – говорю, – сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу – другая, и кроме того. муж, который желает быть счастлив, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям».
«Ага! Вот ты какой практик!»
И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:
«Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю и про любовь только в романах слыхал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее – они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»
И вот извольте смотреть!
Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.
– Неужели, – говорю, – все это твоей жене?
– Нет, – отвечает, – он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:
«Знаете, Николай Иванович, это будет щекотливо… Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее – нет. Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь. Нет, Бог с ними, – оставьте у себя эти деньги и. когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость. А одним нам. не надо!»
Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул:
«Марья!»
Маша уже была в пеньюаре и вышла.
«Поздравляю, – говорит, – тебя».
Она поцеловала его руку.
«А счастлива быть хочешь?»
«Конечно, хочу, папа, и. надеюсь».
«Хорошо. Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»
«Я, папа, не выбирала. Мне его Бог дал».
«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу прибавить счастья. Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама – скажи, что ты даришь.»
«Папа!»
Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю – и он заплакал.
«Встань, встань! – говорит. – Ты нынче, по народному слову, „княгиня" – тебе неприлично в землю мне кланяться».
«Но я так счастлива. за сестер!..»
«То-то и есть. И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья.
Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг – фальшивый, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой – не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть невозможно – душа не стерпит!»
– Вот вам весь мой рассказ, – заключил собеседник, – и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе, и форме традиционного святочного рассказа.
Человек на часах
Глава первая
Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.
Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.
Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.
Глава вторая
Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть: снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.
Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которою командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, Николай Иванович Миллер (впоследствии полный генерал и директор лицея). Это был человек с так называемым «гуманным» направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.
На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.
Глава третья
Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии тишина. Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.
Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:
– Беда, ваше благородие, беда!
– Что такое?!
– Страшное несчастие постигло!
Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и «страшное несчастие».
Глава четвертая
Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измайловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услыхал, что в полынье, которою против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи.
Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.
Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется…
А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.
Уж одно бы ему, кажется, – не тратя сил, спускаться на дно, так ведь нет! Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут на этом пути он попадет в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец… Вот и опять стих, а через минуту снова полощется и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется.
Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки.
С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное: так и ноет, так и стучит, так и замирает… Хоть вырви его да сам себе под ноги брось, – так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей. Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится. «Иль сбежать, а?.. Не увидят?.. Ах, Господи, один бы конец! Опять стонет.»
За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать «сомнения рассудка». А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которою сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть даже и «расстрел»; но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.
– Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!
Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь… Конец!
Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают да по ветру, прерываясь, долетает этот крик. может быть, последний крик.
Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало.
Часовой не выдержал и покинул свой пост.
Глава пятая
Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья.
Утопавший схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег.
Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впоследствии упраздненной).
Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:
– Что за человек… что за люди?
– Тонул, заливался, – начал было Постников.
– Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?
А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он взял ружье на плечо и опять стал в будку.
Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на Морскую в съезжий дом Адмиралтейской части.
Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни.
Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.
Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и, с свойственною полицейским людям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел? А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль «за спасение погибавших», объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.
А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие, быстрые течения.
Глава шестая
В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат, Постников, оставив будку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.
Мокрый и дрожавший солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кордегардию, чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.
Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдет «горячка».
Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших.
Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиньину, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде.
Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени.
Глава седьмая
Подполковник Свиньин не имел той жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера: Свиньин был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего «службист» (тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением). Свиньин отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал причинить напрасное страдание; но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свиньин был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что придется претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свиньин об этом скорбеть не станет.
Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди, не симпатизировавшие Свиньину, потому что тогда еще не совсем вывелся «гуманизм» и другие ему подобные заблуждения. Свиньин был равнодушен к тому, порицают или хвалят его «гуманисты». Просить и умолять Свиньина или даже пытаться его разжалобить – было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место.
Свиньин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села; а между тем несчастная выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием, – этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свиньина, а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у них «люди распущены». А кто это наделал? Свиньин. Вот так это и пойдет повторяться, что «Свиньин слаб», и так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его, Свиньина, репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского.
Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, однако, в нее верили, и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении.
Глава восьмая
Как только Свиньин получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева, прибыл в караульню Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часах и что он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат говорил, что он «Богу и государю виноват без милосердия», что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и наконец на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.
Подполковник Свиньин был в отчаянии; он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его «гуманерией», которая ни на что не пригодна в военной службе; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход – скрыть все дело от государя…
Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?
По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина.
Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?
Свиньин хотел скакать к великому князю Михаилу Павловичу и рассказать ему все чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылкому характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжко обидит, тем он потом скорее смилуется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла», и Свиньин очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свиньин волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.
Глава девятая
В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свиньин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину.
Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только «умеет сделать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона муху».
Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и Свиньин, и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его «многостороннему такту», который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.
Свиньин надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз: «Господи, Господи!» – поехал к Кокошкину.
Это был уже в начале пятый час утра.
Глава десятая
Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свиньине, приехавшем по важному и не терпящему отлагательств делу.
Генерал немедленно встал и вышел к Свиньину в архалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Свиньин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно:
– Солдат бросил будку и спас человека?
– Точно так, – отвечал Свиньин.
– А будка?
– Оставалась в это время пустою.
– Гм… Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли.
Свиньин из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.
Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.
Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.
Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во-первых, страшною усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.
Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.
Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свиньина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.
Глава одиннадцатая
Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям «сорок тысяч курьеров», о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.
Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.
Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.
Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свиньина.
– Протокол? – односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.
Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:
– Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету…
– Хорошо.
Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.
– Что такое?
Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякиванья генерала.
– Гм. Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть. Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать. Ничего больше?
– Ничего-с.
Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному:
– Как ты, братец, попал в полынью против дворца?
– Виноват, – отвечал спасенный.
– То-то! Был пьян?
– Виноват, пьян не был, а был выпимши.
– Зачем в воду попал?
– Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.
– Значит, в глазах было темно?
– Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!
– И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?
– Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется. – Он указал на офицера и добавил: – Я не мог рассмотреть, был испужамшись.
– То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!
– Век буду помнить.
– Имя ваше, господин офицер?
Офицер назвал себя по имени.
– Слышишь?
– Слушаю, ваше превосходительство.
– Ты православный?
– Православный, ваше превосходительство.
– В поминанье за здравие это имя запиши.
– Запишу, ваше превосходительство.
– Молись Богу за него и ступай вон: ты больше не нужен.
Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.
Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию Божиею!
Глава двенадцатая
Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:
– Вы спасли этого человека, рискуя собственною жизнью?
– Точно так, ваше превосходительство.
– Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?
– Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.
– О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?
Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.
Но офицер не сробел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:
– С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.
– Ваш поступок достоин награды.
Тот начал благодарно кланяться.
– Не за что благодарить, – продолжал Кокошкин. – Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобитесь.
Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.
Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:
– Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.
– Слушаю-с, – отвечал понятливо пристав.
– Вы мне больше не нужны.
Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.
Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали.
В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил:
– Вы не были у великого князя?
В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.
– Я прямо явился к вам, – отвечал Свиньин.
– Кто караульный офицер?
– Капитан Миллер.
Кокошкин опять окинул Свиньина взглядом и потом сказал:
– Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.
Свиньин даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил:
– Ну все равно: спокойно почивайте.
Аудиенция кончилась.
Глава тринадцатая
В час пополудни инвалидный офицер действительно был потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалует ему медаль «за спасение погибавших». При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить point sur les i [170].
Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою Спасителя и, возвратясь домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.
– Ну, слава Богу, Николай Иванович, – сказал он Миллеру, – теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без сомнения, обязаны сначала милосердию Божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, – напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною очень доволен. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.
– Да, пора! – подсказал обрадованный Миллер.
– Ну конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумястами розог.
Глава четырнадцатая
Миллер изумился и сделал попытку склонить Свиньина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.
– Нет, – перебил он, – это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!
Свиньин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью:
– А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно… как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.
Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.
Рота была выстроена на дворе Измайловских казарм, розги принесены из запаса в довольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников «был сделан» при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все point sur les i, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.
Глава пятнадцатая
Батальонный командир Свиньин, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был «сделан как следует». Свиньин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:
– Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость.
И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастию его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюции, о которых выше рассказано.
Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.
Глава шестнадцатая
Под сурдинкою подвиг рядового Постникова расползся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя – солдата Постникова утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.
Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один – должную награду, а другой – заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к «светским событиям» владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиньиных.
Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и «суесловят», но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее.
Глава семнадцатая
Однажды, когда Свиньин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним «кстати о выстреле». Свиньин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали «кстати о выстреле».
Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиньин кончил, владыко тихо журчащею речью произнес:
– Посему надлежит заключить, что в сем деле не все и не везде излагалось согласно с полною истиной?
Свиньин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.
Владыко в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил:
– Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.
Опять четки, опять молчание и наконец тихоструйная речь:
– Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.
– Это действительно так, – заговорил поощренный Свиньин. – Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг…
Четки и тихоструйный перебив:
– Долг службы никогда не должен быть нарушен.
– Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя. Это высокое, святое чувство!
– Святое известно Богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенесть на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нимало не пострадала.
– Но он лишен и награды за спасение погибавших.
– Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас – подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.
Пауза, четки и тихоструй:
– Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее – это то, чтобы хранить о всем деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.
Очевидно, и владыко был доволен.
Глава восемнадцатая
Если бы я имел дерзновение счастливых избранников Неба, которым, по великой их вере, дано проницать тайны Божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и Сам Бог был доволен поведением созданной им смирной души Постникова. Но вера моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.
Лев старца Герасима
Триста лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек, по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более тысячи рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «Мне ничто не страшно», но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство, а потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился.
Стал Герасим с разными людьми советоваться, как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие другое, но все это было Герасиму не по мыслям. Тогда один христианин сказал ему:
– Ты хорошо сделаешь, если поступишь со своим богатством, как советует Иисус Христос: ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.
Герасим послушался – он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.
Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил.
Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери да ползали змеи.
Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают, и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «Отдай все и иди за Мною»[171], – и больше не о чем беспокоиться.
Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.
Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да подойдет назад к своей норке, его опять всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться.
«Ну, – думает раз в большой жар Герасим, – мне этой муки не снесть: вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды, а ни кувшина, ни тыквы, ни какой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, – думает Герасим, – в последний раз к ключу, напьюсь и умру там».
Пошел Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы – как будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах… Смотрит он дальше и видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд, а невдалеке от него валяется еще живой, но только сильно ослабевший ослик, и тяжко вздыхает, и ножонками дрыгает, и губами смокчет.
Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: «Этот еще жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванщики не знали, где найти воду. Прежде чем мне самому помереть, попробую облегчить страдание этого бедного животного».
Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его и доволок до ключа свежей воды. Тут он обтер ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу не опился.
Ослик ожил и поднялся на ножки.
Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его к себе и думал: «Помучусь я еще с ним – окажу ему пользу».
Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден; и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом лежит большой желтый лев с гривою – от сытости валяется и хвостом по земле хлопает.
Герасим подумал: «Ну, должно быть, мой конец: наверно, этот лев сейчас вскочит и растерзает и меня, и осленка». А лев их не тронул, и Герасим благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее мешок, в который можно наливать воду.
Набрал тоже Герасим по пути острых сучьев и сделал из них ослику загородочку, у самой своей норки. «Тут ему будет ночью свежо и спокойно», – думал старец, да и не угадал.
Как только на дворе стемнело, вдруг что-то будто с неба упало над пещеркой, и раздался страшный рев и ослиный крик.
Герасим выглянул и видит, что давешний страшный лев потряс первую сытость и пришел съесть его осла, но это ему не удалось: прыгнув с разбега, лев не заметил ограды и воткнул себе в пах острый сук и взревел от невыносимой боли.
Герасим выскочил и начал вынимать из раны зверя острые спицы.
Лев от боли весь трясся и страшно ревел и норовил хватить Герасима за руку, но Герасим его не пугался и все колючки повынул, а потом взял верблюжью кожу, взвалил ее на ослика и погнал к роднику за свежей водою. Там у родника он связал кожу мешком, набрал ее полну воды и пошел опять к своей норе.
Лев во все это время не тронулся с места, потому что раны его страшно болели.
Герасим стал омывать раны льва, а сам подносил к его разинутой пасти воду в пригоршне, и лев лакал ее воспаленным языком с ладони, а Герасиму было не страшно, так что он сам над собой удивлялся.
Повторилось то же на другой день и на третий, стало льву легче, а на четвертый день как пошел Герасим с ослом к роднику, смотрит – приподнялся и лев и тоже вслед за ними поплелся.
Герасим положил льву руку на голову, и так и пошли рядом трое: старик, лев и осленок.
У ключа старец свободной рукою омыл раны льва на вольной воде, и лев совсем освежел, а когда Герасим пошел назад, и лев опять пошел за ним.
Стал старик жить со своими зверями.
У старца выросли тыквы, он начал их сушить и делать из них кувшины, а потом стал относить эти кувшины к источнику, чтобы они годились тем, у кого не во что захватить с собою воды. Так жил Герасим, и сам питался, и другим людям по силе своей был полезен. И лев тоже нашел себе службу: когда Герасим в самый зной отдыхал, лев стерег его осла. Жили они так изрядное время, и некому было на них удивляться, но раз увидали эту компанию проходившие караваном путники и рассказали про них в жилых местах по дорогам, и сейчас из разных мест стали приходить любопытные люди: всем хотелось смотреть, как живет бедный старик и с ним ослик и лев, который их не терзает. Все этому стали удивляться и спрашивали у Герасима:
– Открой нам, пожалуйста, какою ты силою это делаешь? Верно, ты не простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо: лев лежит рядом с осликом [172].
А Герасим отвечал:
– Нет, я самый обыкновенный человек, и даже, признаюсь вам, что я еще очень глуп: я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел – все они на меня обиделись, и я ушел из города в пустыню.
– Чем же ты обидел?
– Хотел разделить между всеми свое богатство, чтобы все были счастливы, а наместо того они все перессорились.
– Зачем же ты их умнее не поравнял?
– Да вот то-то оно и есть, что равнять-то трудно тех, кои сами не равняются; я сделал ошибку, когда забрал себе много сначала. Не надо бы мне забирать себе ничего против других лишнего – вот и спокойно было бы.
Люди закивали головами.
– Эге! – сказали. – Да это старик-то дурасливый, а между тем все-таки же удивительно, что у него лев осленка караулит и не съест их обоих. Давайте поживем мы с ним несколько дней и посмотрим, как это у них выходит.
Остались с ними три человека.
Герасим их не прогонял, только сказал:
– Вместе жить надо не так, чтобы троим на одного смотреть, а надо всем работать, а то придет несогласие, и я вас тогда забоюсь и уйду.
Три согласились, но на другой же день при них случилась беда: когда они спали, заснул тоже и лев и не слыхал, как проходившие караваном разбойники накинули на ослика петлю и увели его с собою.
Утром люди проснулись и видят: лев спит, а ослика и следа нет. Три и говорят старцу Герасиму:
– Вот ты и в самом деле дождался того, что тебе давно следовало: зверь всегда зверем будет, вставай скорей – твой лев съел наконец твоего осла и, верно, зарыл где-нибудь в песок его кости.
Вылез Герасим из своей меловой норы и видит, что дело похоже на то, как ему трое сказывают. Огорчился старик, но не стал спорить, а взвалил на себя верблюжий мех и пошел за водою.
Идет, тяжко переступает, а смотрит – за ним вдалеке его лев плетется; хвост опустил до земли и головою понурился.
«Может быть, он и меня хочет съесть? – подумал старик. – Но не все ли равно мне, как умереть?
Поступлю лучше по Божию завету и не стану рабствовать страху».
И пришел он, и опустился к ключу, и набрал воды, а когда восклонился – видит, лев стоит на том самом месте, где всегда становился осел, пока старец укреплял ему на спину мех с водою.
Герасим положил льву на спину мех с водою и сам на него сел и сказал:
– Неси, виноватый.
Лев и понес воду и старца, а три пришельца как увидели, что Герасим едет на льве, еще пуще дивились. Один тут остался, а двое из них сейчас же побежали в жилое место и возвратились со многими людьми. Всем захотелось видеть, как свирепый лев таскает на себе мех с водою и дряхлого старца.
Пришли многие и стали говорить Герасиму:
– Признайся нам: ты или волшебник, или в тебе есть особливая сила, какой нет в других людях?
– Нет, – отвечал Герасим, – я совсем обыкновенный человек, и сила во мне такая же, как у вас у всех. Если вы захотите, вы все можете это сделать.
– А как же этого можно достигнуть?
– Поступайте со всеми добром да ласкою.
– Как же с лютым быть ласково? Он погубит.
– Эко горе какое, а вы об этом не думайте и за себя не бойтесь.
– Как же можно за себя не бояться?
– А вот так же, как вы сидите теперь со мной и моего льва не боитеся.
– Это потому нам здесь смело, что ты сам с нами.
– Пустяки – что я от льва за защита?
– Ты от зверя средство знаешь и за нас заступишься.
А Герасим опять отвечал:
– Пустяки вы себе выдумали, что я будто на льва средство знаю. Бог Свою благость дал мне, чтобы в себе страх победить, – я зверя обласкал, а теперь он мне зла и не делает. Спите, не бойтесь.
Все полегли спать вокруг меловой норки Герасима, и лев лег тут же, а когда утром встали, то увидели, что льва нет на его месте!.. Или его кто отпугнул, или убил и зарыл труп его ночью.
Все очень смутились, а старец Герасим сказал:
– Ничего, он, верно, за делом пошел и вернется.
Разговаривают они так и видят, что в пустыне вдруг закурилась столбом пыль и в этой пронизанной солнцем пыли веются странные чудища с горбами, с крыльями: одно поднимается вверх, а другое вниз падает, и все это мечется, и все это стучит и гремит, и несется прямо к Герасиму, и враз все упало и повалилося, как кольцом, вокруг всех стоявших; а позади старый лев хвостом по земле бьет.
Когда осмотрелись, то увидали, что это вереница огромных верблюдов, которые все друг за друга привязаны, а впереди всех их – навьюченный Герасимов ослик.
– Что это такое сделалось и каким случаем?
А было это вот каким случаем: шел через пустыню купеческий караван; на него напали разбойники, которые ранее угнали к себе Герасимова ослика. Разбойники всех купцов перебили, а верблюдов с товарами взяли и поехали делиться. Ослика же они привязали к самому заднему верблюду. Лев почуял по ветру, где идет ослик, и бросился догонять разбойников. Он настиг их, схватил за веревку, которою верблюды были связаны, и пошел скакать, а верблюды со страха перед ним прыгают и ослика подкидывают. Так лев и пригнал весь караван к старцу, а разбойники все с седел свалились, потому что перепуганные верблюды очень сильно прыгали и невозможно было на них удержаться. Сам же лев обливался кровью, потому что в плече у него стремила стрела.
Все люди всплеснули руками и закричали:
– Ах, старец Герасим! Твой лев имеет удивительный разум!
– Мой лев имеет плохой разум, – отвечал, улыбаясь, старец, – он мне привел то, что мне вовсе не нужно! На этих верблюдах товары великой цены. Это огонь! Прошу вас, пусть кто-нибудь сядет на моего осла и отведет этих испуганных верблюдов на большой путь. Там, я уверен, теперь сидят их огорченные хозяева. Отдайте им все их богатство и моего осла на придачу, а я поведу к воде моего льва и там постараюсь вынуть стрелу из его раны.
И половина людей пошли отводить верблюдов, а другие остались с Герасимом и его львом и видели, как Герасим долго вытягивал и вынул из плеча зверя зазубренное острие.
Когда же возвратились отводившие караван, то с ними пришел еще один человек средних лет, в пышном наряде и со многим оружием, и, завидя Герасима, издали бросился ему в ноги.
– Знаешь ли, кто я? – сказал он.
– Знаю, – отвечал Герасим, – ты несчастный бедняк.
– Я страшный разбойник Амру!
– Ты мне не страшен.
– Меня трепещут в городах и в пустыне – я перебил много людей, я отнял много богатств, и вдруг твой удивительный лев сразу умчал весь наш караван.
– Он зверь и потому отнимает.
– Да, но ты нам все возвратил и прислал еще нам своего осла на придачу… Возьми от меня по крайней мере хоть один шатер и раскинь его, где хочешь, ближе к воде, для твоего покоя.
– Не надо, – отвечал старец.
– Отчего же? Для чего же ты так горд?
– Я не горд, но шатер слишком хорош и может возбуждать зависть, а я не сумею его разделить со всеми без обиды, и увижу опять неровность, и стану бояться. Тогда лев мой уйдет от меня, а ко мне придет другой жадный зверь и опять приведет с собой беспокойство, и зависть, и дележ, и упреки. Нет, не хочу я твоих прохладных шатров, я хочу жить без страха.
Фигура
Глава первая
Когда я еще просвещался в Киеве и в отдаленных думах не имел заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей – старушки, их тетки, – тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека: известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек, которого фамилия была Вигура, но все называли его Фигура.
Об нем здесь и будет поминальная речь.
Глава вторая
Фигура, или, по малороссийскому простому выговору, «Хвыгура», во время моего знакомства имел лет около шестидесяти, но обладал еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение: волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы «сивые». По собственному его выражению, он «сивив з морды – як пес», то есть седел, начиная не с головы, а с усов – как седеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с поволокою, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии.
Жил Фигура совершенным, настоящим подгородным мужиком, на предместии Куриневке, «у своей господи», то есть в собственной усадьбе и при собственном хозяйстве, которое вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам «копал огород», сам его возделывал и засевал овощами и сам же вывозил эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своею телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, гарбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и репку.
Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса.
Также и огурцы, и бураки, и капуста – все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.
Перекупки подольского Житнего базара знали, что «проть Хвыгуры вже не учкнешь», – то есть лучше его ни у кого не достанешь, – но он не любил продавать перекупкам, «щоб людей не мордовали», а продавал прямо «людям», то есть прямым потребителям.
К перекупам и перекупкам Фигура «мав зуба» (имел зуб) и любил проникать хитрости этих людей и их вышучивать. Как, бывало, перекуп или перекупка ни переоденутся или кого ни подошлют к возу с подсылом, чтобы забрать товар у Фигуры, – он, бывало, это сейчас проникнет и на вопрос «почем копа» – отвечает:
– По деньгам, але тыльки шкода що не для твоей милости.
Если же подсыльный станет уверять, что он простой человек и торгует «для сёбе», то Фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему:
– Эге! Ну не юлы – бо не покуришь! – и больше не станет разговаривать.
Фигуру все знали на базаре и знали, что он «як бы то не с простых людей, а тильки опростывся», но настоящего его чина и звания и того, почему он так «опростывся», не знали и узнать этого не добивались.
Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю.
Глава третья
Домик у Фигуры был обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую – крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», то есть девушка, имевшая дитя. Дитя это была прехорошенькая девочка, по имени Катря. По соседству думали, что она «хвыгурина дочка», но Фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал:
– Так-то оно и есть, що моя! Правда, що як Бог мени дав щасте, щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя, а кто ее на свит бидовать пустив, то я вже того добродия не знаю. Але як кто хоче – нехай так и личе: як моя – то нехай моя, – мени все едино.
Но насчет Катри еще немножко сомневались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры без всяких сомнений.
Фигура и к этому тоже пребывал равнодушен, и если ему кто-нибудь Христей подшучивал, так он отвечал только:
– А вам хиба завидно?
Зато же и Фигура, и Христя, да и ни в чем не повинная Катря несли епитимию: из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб, – словом, ничего, имеющего сознание жизни.
Куриневские жинки знали, за что эта епитимия положена.
Фигура же только усмехался и говорил:
– Дуры!
Глава четвертая
Отношения у Христи с Фигурою были премилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали.
Христя держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила себе, Катре и Фигуре, но коров не доила, потому что коровы были «мощные», и их выдаивал сам Фигура соответственными к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, к которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а в праздники пили сушеные вишни или малину – и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя «бигала и митусилась», то есть хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтоб уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; он говорил гостям:
– Позвольте ей свою присягу исполнить.
Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одеть и обуть як слид по закону». В этом была «ее присяга» – ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной.
В разговоре между собою Фигура и Христя относились друг к другу в разных формах: Фигура говорил ей «ты» и называл ее Христино или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой». Катре было девять лет, и она была вся в мать – красавица.
Глава пятая
Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. Христя была «безродна сыротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором, – но наш куриневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел – «бо воны з панами знались», а это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а «якось – не до шмыги» (то есть не идет ему).
– Бог их церковный знае: они вже може яки асессоры, чи якись таки-сяки советники, а мы, як и з рыла бачите, – из простых свиней.
В основе же своего характера и всех поступков куриневский Фигура был такая оригинальная личность, что даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого – дороже небитого.
Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.
Глава шестая
Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами – Михайловским и Софийским, – и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к Фигуре. Там была тишина и покой: играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый Фигура.
Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство, спозаранку начавшееся в моем квартале, а он отвечает:
– И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу и все до сих пор боюсь: как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: «Смотрите – это народное!» А мне еще и тогда казалось: что тут хорошего – хоть бы это и народное! У Исаии-пророка читается: «Праздники ваши ненавидит душа Моя», и я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.
– А можно узнать, что это такое было?
– Я думаю, что можно. Видите… это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели, – тогда у нас были две армии: одна называлась первая, а другая – вторая. Я служил под Сакеном… Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще всё акафисты читает [173]. Великий, Бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет – все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтоб он их видел. Которые умели – хорошо выходило. И мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем.
Глава седьмая
Полк наш стоял на юге, в городе, тут же был и штаб сего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом, под самое Светлое воскресенье. Заступил я караул в двенадцать часов дня в Чистую субботу, и стоять мне до двенадцати часов в воскресенье.
Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека, и шесть объездных казаков.
Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы и сестра… но самое главное и драгоценнейшее – мати… мати моя добродетельница!.. Чудесная у меня была мати – предобрая и пренепорочная – добром скрытая и в добре повитая. До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, – даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «Этих, – говорила, – я живых видела: они мне знакомые, – не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно, – говорит, – с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это от Бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну и хорошо, – отвечала она, – як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это всё делают какие-нибудь «поныряющие в домы и прельщающие женища, всегда учащеся и николи же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало».
Я о моей матери никогда не могу воспоминать спокойно – непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вот она теперь всех провожает в село, с вечера на заутреню, а сама сироток сберет, неодетых, невычесанных, – всех сама у печки перемоет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет… Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней бы и жил и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим?.. Все для смертного бою. А впрочем, что я так очень скучаю. – Стыдно!.. Я ведь жалованье за службу получаю и чинов заслуживаю, а вон солдат – он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия, – ему куда для сравнения тяжелее. а ведь живет же, терпит и не куксится. Бодрости себе надо поддать – все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и наконец опять самое ясное приходит от матери: она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе». Ну вот, солдатам хуже, чем мне.
Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую! Угощу их, что ли, чаем напою, – разговеюсь с ними на мои гроши!
Понравилось.
Глава восьмая
Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенок (шестьдесят красных яиц), да хлеба шафранного на все, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было.
Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар – и очень занялся тем: по скольку кусков на всех людей достанется.
И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди – с ними никто не нежничает, – им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь – скажу: «Ребята! Христос воскресе!» – и предложу им это мое угощение.
А стояли мы в карауле за городом, как всегда пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кордегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты и я, – часовые наружи, а казаки – трое с солдатами, а трое в разъезд уехали.
Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службе непременно скоро кончиться – скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и потчевать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум… дерутся… Я – туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я получаю пощечину. Что вы смотрите? Да – настоящую пощечину, и трах – с одного плеча эполета прочь!
Что такое?.. Кто меня бьет?
И главное дело – темно.
– Ребята! – кричу, – братцы! Что это делается?
Солдаты узнали мой голос и отвечают:
– Казаки, ваше благородие, винища облопались!.. Дерутся.
– Кто же это на меня бросился?
– И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть – в ногах лежит без памяти, а двух там на погребице вяжут. Рубиться хотели.
Глава девятая
Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. «Тебя ударили – так это бесчестие, а если ты побьешь на отместку – тогда ничего, – тогда это тебе честь…» Убить его, этого казака, я должен!.. Зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено?.. Кинусь – заколю его! Непременно надо заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить! За это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.
А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это я понял кто! Это так Бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое несомненное удостоверение, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а Бог-то веки веков будет всей вселенной командовать! А если Он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с Тем, Кто Сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и Ты простил. а я что пред Тобою. я червь. гадость. ничтожество! Я хочу быть Твой: Я простил! Я Твой.
Вот только плакать хочется!.. Плачу и плачу!
Люди думают, что я это от обиды, а я уже – понимаете. я уже совсем не от обиды.
Солдаты говорят:
– Мы его убьем!
– Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать!
Спрашиваю старшего: куда его дели?
– Мы, – говорит, – ему руки связали и в погреб его бросили.
– Развяжите его скорее и приведите сюда.
Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо, как по воздуху, и, точно сноп, опять упал в ноги и вопит:
– Ваше благородие!.. Я несчастный человек!..
– Конечно, – говорю, – несчастный.
– Что со мною сделали!..
И плачет горестно так, что даже ревет.
– Встань! – говорю.
– Не могу встать, я еще в исступлении…
– Отчего ты в исступлении?
– Я непитущий, а меня напоили. У меня дома жена молодая и детки. и отцы старички старые. Что я наделал?..
– Кто тебя упоил?
– Товарищи, ваше благородие, – заставили за живых и за мертвых в перезвон пить. Я непитущий!
И рассказал, что заехали они в шинок и стали его товарищи неволить – выпить для Светлого Христова Воскресения, в самый первый звон, – чтобы всем живым и умершим «легонько взгадалося», – один товарищ поднес ему чару, а другой – другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься, и ударить, и эполет сорвать.
Вот вам и приключение! Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел… Стонет:
– Детки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. Женка бессчастная!..
Глава десятая
Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и – вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло: рассуждать опять начинаю: ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался – сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример.
И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет… какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть. Я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том Ему совсем напротив над людьми делать.
«Нет, – думаю, – этого нельзя: я спутался – лучше я отстраню от себя это пока. хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу.»
Взял в руки яйцо и хотел сказать: «Христос воскрес!» – но чувствую, что вот ведь я уже и схитрил. Теперь я не Его – я Ему уж чужой стал. Я этого не хочу. не желаю от Него увольняться. А зачем же я делаю, как те, кому с Ним тяжело было. который говорил: «Господи, выйди от меня: я человек грешный!» Без Него-то, конечно, полегче. Без Него, пожалуй, со всеми уживешься. ко всем подделаешься.
А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мне легче было! Не хочу!
Я другое вспомнил… Я Его не попрошу уйти, а еще позову. Приди – ближе! И зачитал: «Христе, свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякого человека, грядущего в мир.»
Между солдатами вдруг внимание. кто-то и повторил:
– «Всякого человека!»
– Да, – говорю, – «всякого человека, грядущего в мир», – и такой смысл придаю, что Он просвещает того, кто приходит от вражды к миру. И еще сильнее голосом воззвал: – «Да знаменуется на нас, грешных, свет Твоего лица!»
– «Да знаменуется!.. Да знаменуется!» – враз, одним дыханием продохнули солдаты. Все содрогнулись. все всхлипывают. все неприступный свет узрели и к нему сунулись.
– Братцы! – говорю. – Будем молчать!
Враз все поняли.
– Язык пусть нам отсохнет, – отвечают, – ничего не скажем.
– Ну, – я говорю, – значит, Христос воскрес! – и поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!»
И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду Бога молить. священника упрошу, чтобы мне питинью наложил».
– Бог с тобой, – говорю, – еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей.
– Нет, – плачет, – я, ваше благородие, и водки не буду пить, и пойду к батюшке.
– Ну, как знаешь.
Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали; но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу.
Глава одиннадцатая
На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:
– Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие!
Я отвечаю:
– Точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но Бог нас вразумил, и все кончилось благополучно.
– Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания… и вы это считаете благополучным? Да у вас что же – нет, что ли, ни субординации, ни благородной гордости?
– Господин полковник, – говорю, – казак был человек непьющий и обезумел, потому что его опоили.
– Пьянство – не оправдание!
– Я, – говорю, – не считаю за оправдание, – пьянство – пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил.
– Вы не имели права прощать!
– Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать.
– Вы после этого не можете более оставаться на службе.
– Я готов выйти.
– Да; подавайте в отставку.
– Слушаю-с.
– Мне вас жалко, но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила.
Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения.
Полковнику это ужасно не понравилось.
– Что, – говорит, – вы мне с христианством! Ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать: он явился и открыл свою совесть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеич простил его не для вас, а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к Сакену; он сам с вами поговорит – ему и рассказывайте про христианство: он церковное Писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться… Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.
Это мне, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.
– Слушаю-с, – говорю, – господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился, – все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет.
Командир рукой махнул.
– Говорите что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает – это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.
Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела, когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чудные, а полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то Боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским – киевского ректора (Иннокентия Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают; а вы ставьте на свое место Сакена, а на мое – самого смирного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».
Глава двенадцатая
Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение… Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения. Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..
Опять из-за этого всю ночь не спал и на другой день встал рано и являюсь утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет – я молчу и чувствую, что сон меня клонит, – совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось – Боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему – все равно что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, – иные и сами тоже были богомолы, – другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял.
Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все подпишет.
На мою долю как раз такое счастие и досталось: как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:
– Вы хорошо попали; нынче его обо всем можно просить; он теперь намолившись.
Я полюбопытствовал:
– Почему это заметно?
Опытный отвечает:
– Разве не видите – у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки… как будто свет сияет… Значит, будет ласковый.
Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.
Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти.
«Ну, – думаю, – тут будет развязка». И сон прошел.
Глава тринадцатая
В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.
Сакен прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:
– Ваш полковой командир за вас заступается. Он вас даже хвалит – говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!
Я отвечаю, что я об этом и не прошу.
– Не просите! Почему же не просите?
– Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном.
– Вы горды!
– Никак нет.
– Почему же вы так говорите – «о невозможном?» Французский дух! Гордость! У Бога все возможно! Гордость!
– Во мне нет гордости.
– Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!.. Своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть… Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя. Что это вам пришла за фантазия!..
– Казак, – говорю, – по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.
– А вы ему это простили?
– Да, я не мог не простить!..
– На каком же основании?
– Так, по влиянию сердца.
– Гм!.. Сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце. Вы по крайней мере раскаиваетесь?
– Я не мог иначе.
– Значит, даже и не каетесь?
– Нет.
– И не жалеете?
– О нем я жалею, а о себе нет.
– И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?
– Во второй раз, я думаю, даже легче будет.
– Вон как!.. Вон как у нас!.. Солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.
Я подумал: «Цыц! Не смей этим шутить!» – и молча посмотрел на него с таковым выражением.
Он как бы смутился, но опять по-генеральски на-петушился и задает:
– А где же у вас гордость?
– Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.
– Вы дворянин?
– Я из дворян.
– И что же, этой… noblesse oblige… [174] дворянской гордости у вас тоже нет?
– Тоже нет.
– Дворянин без всякой гордости?
Я молчал, а сам думал:
«Ну да, ну да: дворянин, и без всякой гордости, – ну что же ты со мной поделаешь?»
А он не отстает – говорит:
– Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой – о благородной гордости?
Я опять промолчал, но он еще повторяет:
– Я вас спрашиваю о благородной гордости, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем».
Тогда я, чувствуя себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна Богу.
Сакен вдруг отступил и говорит:
– Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю, сейчас перекреститесь!
Я перекрестился.
– Еще раз!
Я опять перекрестился.
– И еще… до трех раз!
Я и в третий раз перекрестился.
Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:
– Не надо про сатану! Вы ведь православный?
– Православный.
– За вас восприемники у купели отреклись от сатаны. и от гордыни и от всех дел его и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.
Я плюнул.
– И еще!
Я еще плюнул.
– Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!
Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.
– Вот так!.. А теперь. скажите, того. Что же вы будете с собой делать в отставке?
– Не знаю еще.
– У вас есть состояние?
– Нет.
– Нехорошо! Родственники со связями есть?
– Тоже нет.
– Скверно! На кого же вы надеетесь?
– Не на князей и не на сынов человеческих: воробей не пропадает у Бога, и я не пропаду.
– Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?
– Никак нет – не хочу.
– Отчего? Я могу написать Иннокентию.
– Я не чувствую призвания в монахи.
– Чего же вы хотите?
– Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе: я это сделал просто…
– Спасти свою душу! Понимаю вас, понимаю! Я вам потому и говорю: идите в монахи.
– Нет, я в монахи не могу, и спасать свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.
– Наказание бывает человеку в пользу. «Любяй наказует». Вы не дочитали. А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?
– Нет, благодарю покорно.
– Это отчего?
– Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить. я туда неспособен.
– Ну, в провианты?
– Тоже не гожусь.
– Ну, в цейхвартеры! Там, случается, бывают люди и честные.
Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.
А Сакен стоит передо мною – и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляет:
– В Писании начитан; благородной гордости не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?
А мне только спать хочется.
– Никак нет, – говорю, – я ни в кого не влюблен.
– Жениться не намерены?
– Нет.
– Отчего?
– У меня слабый характер.
– Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы – вы боитесь женщин… да?
– Некоторых боюсь.
– И хорошо делаете! Женщины суетны и. есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.
– Я сам боюсь быть обманщиком.
– То есть. Как?.. Для чего?
– Я не надеюсь сделать женщину счастливой.
– Почему? Боитесь несходства характеров?
– Да, – говорю, – женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот.
– А вы ей докажите.
– Доказать все можно, но от этого выходят только споры, и человек делается хуже, а не лучше.
– А вы и споров не любите?
– Терпеть не могу.
– Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?! Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.
– Не думаю.
– Почему? Почему не думаете-то? Почему?
– Призвания нет.
– А вот вы и ошибаетесь – прощать обиды, безбрачная жизнь. это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? Мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго.
– Я мяса совсем никогда не ем.
– А зато у них прекрасные рыбы.
– Я и рыбы не ем.
– Как, и рыб не едите? Отчего?
– Мне неприятно.
– Отчего же это может быть неприятно – рыб есть?
– Должно быть, врожденное – моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.
– Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?
– Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно есть!
– Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! Очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!
– Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!
– Нет, пойдете, – таких, которые и рыб не едят, очень мало! Вы схимник! Я сейчас напишу.
– Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.
Глава четырнадцатая
Сакен наморщился.
– Это, – говорит, – вы Библии начитались – а вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверки и кривотолки. Библия опасна – это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.
«Фу ты, Господи! – думаю. – Что же это за мучитель такой!»
И говорю ему:
– Ваше сиятельство! Я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.
– Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!
Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том: когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать…
А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:
– Милый друг! Вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..
– Да, – отвечаю, – непонятно!
Чувствую, что мне теперь все равно, – что я вот-вот сейчас тут же, стоя, усну, – и потому инстинктивно ответил:
– Непонятно.
– Ну так помолимся, – говорит, – вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае. Много раз я перед ним упадал в недоумении и когда вставал – мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон. Я начинаю.
Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет превечный открывая Тебе».
А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра – так и пошел свайкой спускаться вниз куда-то все глубже к самому центру земли.
Чувствую, что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят, – клокочут зиждящие силы». А потом и не помню уже ничего.
Возвращаюсь опять от центра к поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит.
Что это такое за место? Заспал и запамятовал.
Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется…» Потрогал его. ничего – парной, теплый, и смотрю – и он просыпается и шевелится. И тоже сел на ковре и на меня смотрит. Потом говорит:
– Что вижу?.. Фигура!
Я отвечаю:
– Точно так.
Он перекрестился и мне велел:
– Перекрестись!
Я перекрестился.
– Это мы с вами вместе были?
– Да-с.
– Каково!
Я промолчал.
– Какое блаженство!
Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает:
– Видели, какая святыня!
– Где?
– В раю!
– В раю? Нет, – говорю, – я в раю не был и ничего не видал.
– Как не видал! Ведь мы вместе летали. Туда. вверх!
Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз.
– Как вниз!
– Точно так.
– Вниз?
– Точно так.
– Внизу ад!
– Не видал.
– И ада не видал?
– Не видал.
– Так какой же дурак тебя сюда пустил?
– Граф Остен-Сакен.
– Это я граф Остен-Сакен.
– Теперь, – говорю, – вижу.
– А до сих пор и этого не видал?
– Прошу прощения, – говорю, – мне кажется, будто я спал.
– Ты спал!
– Точно так.
– Ну так пошел вон!
– Слушаю, – говорю, – но только здесь темно – я не знаю, как выйти.
Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал:
– Zum Teufel! [175]
Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.
Глава пятнадцатая
Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже – это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, – и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может, он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался, а я вижу, что я порченый, что я ничего обещать не могу, да я не смею и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы… Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою. я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое. Перебирал я, перебирал, что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю.
Но меня, однако, ждала еще награда и по службе.
Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:
– Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?
– Как же, – отвечаю, – мы молились.
– Вместе в блаженные селения парили?..
– То есть. как это вам доложить.
– Да, вы – большой политик! Знаете, вы и достигли, – вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.
– Я, – говорю, – пенсии не выслужил.
– Ну, уж это теперь расчислять поздно – уж от него пошло представление, а ему не откажут.
Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.
– Ничего, – говорили, – мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.
Тоже доброжелатели!
А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил… Невелика господка, да добра… Може, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты… Бидна Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел. Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки идти. А я вызверывся да говорю ей:
– Чи ты с самаго роду так дурна, чи ты сумасшедшая! Що тоби такэ поднялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим молоком годувати! Нехай их яка пани породыла, та сама и годует: так от Бога показано, – а ты ходы впрост до менэ та пильнуй свою дытыну.
Она встала – подобрала Катрю в тряпочки и пишла – каже:
– Пиду, куды минэ доля моя ведэ!
Так вот и живем, и поле орем, и сием, а чого нэма, о том не скучаем – бо все люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!
По моим сведениям, Фигура умер в конце пятидесятых или в самом начале шестидесятых годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.
Под Рождество обидели (Житейские случаи)
На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, которые мы долгие веки делаем сообща всем миром и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого, – человека, которого знает множество людей в Петербурге, – под праздник обидели, а он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы прослушайте, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается.
Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мною делом. Настоящее его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно, а для вас, как его ни зовут, – это все равно: дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнесся к обидчикам и к обиде. Человек, про которого я говорю, не богатый и не бедный, одинок, холост и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так не по скупости, а он стеснялся – какого нрава или характера поступит к нему служащий человек, да и что этому человеку делать при одиноком? Исскучается слуга от нечего делать и начнет придираться и ссориться, и выйдет от него не угодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой нрава спокойного и уступчивого, пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется. Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной, и прожил много лет благополучно. Хозяйства он никакого дома не держит, а необходимые послуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит. Квартира небольшая, однако в три комнатки и помещается во втором этаже, посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться, и, как я говорю, много лет прошло совершенно благополучно, а вдруг теперь под Рождество случилась большая обида.
Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем родном городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьею над ворами, и вот что об этом рассказывают. Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная, и окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самою крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы, да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться. А воры, как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться: в кладовой было множество всякого добра: и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста, и сукон – всего набито от потолка до самого до полу… Как смелому вору такое дело бросить? Вот воры и придумали смелую штуку.
Один вор, бессемейный, говорит другому, семейному:
– Я хорошее средство придумал: у тебя есть сынишка пяти годов – он еще маленький и тельцем мягок, – он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем, мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое Рождество – скажи, что пойдешь помолиться к заутрене, да и пойдем все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плеча станет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опояшем крепко веревкою и дадим ему скрытный фонарь с огнем да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшется, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает, а мы станем таскать да все и повытаскаем, а потом опять дитя само подпояшется – мы и его назад вытащим и поделим все на три доли с половиною: нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли, и от нас ему сладких закусочек – пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится. Отец-то вор – хорош, видно, был – не отказался от этого, а согласился; и как пришел вечер сочельника, он и говорит жене:
– Я ноне пообщался сходить в монастырь ко всенощной – там благолепное пение, собери со мной паренька. Я его с собой возьму – пусть хорошее пение послушает.
Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за Московскою заставою и начали пить водку и пиво умеренно; а дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось; а как ночь загустела и целовальник стал на засов кабак запирать, они все встали, зажгли фонарь и ушли, и ребенка с собой повели, да все, что затевали, то все сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать: мальчонка оказался такой смышленый и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи, а они все вытаскивают, и наконец столько всякого добра натаскали, что видят – им втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего. Тогда нижний и говорит среднему, а средний тому, который наверху стоит:
– Довольно, братцы, нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтобы он опоясался веревкою, и потянем его вон наружу.
Верхний вор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчику:
– Довольно брать, больше не надобно… Теперь сам себя крепче подпояшь да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем.
Мальчик опоясался, а они стали его тащить и уже до самого до верха почти вытащили, как вдруг – чего они впотьмах не заметили – веревка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалася и вдруг лопнула, так что мальчишка назад в обворованную кладовую упал, а воры, от этой неожиданности потерявши равновесие, и сами попадали… Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай… Сейчас все люди проснутся и выскочут, и тогда, разумеется, ворам гибель. К тому же как раз сближалося время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутрене, и тогда непременно воров изловят с поликою. Воры схватили кто что успел зацепить и бросились наутек, а в купеческом доме все вскочили, и пошли бегать с фонарями, и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок и что очень много покрадено, а на полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет.
Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой… И стали все суетиться и кричать, что теперь делать: давать ли знать о том, что случилося, в полицию или самим гнаться за ворами? А гнаться впотьмах-то не знать в какую сторону, да и страшно, потому что воры ведь небось на всякий случай с оружием и впотьмах убьют человека, как курицу. У нас в городе воры ученые – шапки по вечерам выходили снимать и то не с пустыми руками, а с такой инструментиной вроде щипцов с петелькою, – называлась «кобылкою». (Об ней в шуйских памятях писано.) А купец, у которого покражу сделали, отличный человек был – умный, добрый, и рассудительный, и христианин; он и говорит своим молодцам:
– Оставьте, не надобно. Чего еще! Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит.
А молодцы говорят:
– То и есть правда: нам Господь дитя на уличенье злодеев оставил. Это перст видимый: по нем все укажется, каких он родителей, – тогда все и объявится.
А купец говорит:
– Нет, не так: дитя – молодая душа неповинная, он не добром в соблазн введен – его выдавать не надобно, а прибрать его надобно; не обижайте дитя и не трогайте: дитя – Божий посол, его надо согреть и принять как для Господа. Видите, вон он какой… познобившись весь, да и трясется, испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика… Бог с ним совсем, что у меня пропало, они меня совсем еще не обидели, а это дитя ко мне Бог привел, вы и молчите, может быть, оно у меня и останется.
И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил, и он у купца и остался, и купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе, и вышел из мальчика прекрасный, умный молодец, и все его в доме любили. А у купца была одна только дочь, а сыновей не было, и дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилася. И стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене:
– Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять, а для чего мы ей станем на стороне жениха искать, Это ведь дело сурьезное, особливо как мы люди с достатками, и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое, и тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет.
Жена отвечает:
– Это правда, так всегда уже водится.
– То-то и есть, – говорит купец, – еще навернется какой-нибудь криводушник да и прикинется добрым, а в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь: загубим ведь мы девку как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее.
– Как же так? – говорит жена.
– А вот мы как дело-то сделаем: обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый, да и дочь – что греха таить – вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся.
Согласились так и повенчали молодых; а старики дожили свой век и умерли, а молодые все жили, и тоже детей нажили, и сами тоже состарились. А жили все в почете и в счастии, а тут и новые суды пришли, и довелось этому приемышу, тогда уже старику, сесть с присяжными, и начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал, и сидит слушает, а сам то бледнеет, то краснеет, и вдруг глаза закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздалися рыдания. Председатель суда спрашивает:
– Скажите, что с вами?
А он отвечает:
– Отпустите меня, я не могу людей судить.
– Почему? – говорят. – Это круговой закон: правым должно судить виноватого.
А он отвечает:
– А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать.
Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили, а он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на веревке в кладовую спускался, и пойман был, и помилован, и остался как сын у своего благодетеля, и всех это его покаяние тронуло, и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлою неосужденою виною, – все к нему относились с почтеньем по-прежнему, как он своею доброю жизнью заслуживал.
Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались: какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души.
– Утешаться надо, – говорю, – что такое добро в людях есть.
– Да, – отвечает приятель, – хорошо утешаться, а еще лучше того – надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться.
Так мы говорили (это на сих днях было), а назавтра такое случилося, что разве как только в театральных представлениях все кстати случается. Приходит ко мне мой приятель и говорит:
– Дело сделано.
– Какое?
– У меня неприятности.
Думаю: верно, что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный.
– Нет, – говорит, – неприятность огромная: кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на один час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась… Смотрю, на полу ящик из моего письменного стола лежит и все высыпано… золотая цепочка валяется и еще кое-что ценное брошено, а взяты заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил, да древних монеток штук шестьсот, да конверт, в котором лежало пятьсот рублей на мои похороны и билет на могилу рядом с матерью…
Я и слова не нахожу, что ему сказать от удивления. Что это? Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готово уже в таком самом роде повторение. Точно на экзамен его вызвали. «Ну-ка, мол, вот ты вчера чужой душой утешался, так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух довлеющий?» Присел я молча и спрашиваю:
– Что же вы сделали?
– Да ничего, – отвечает, – покуда еще не сделал, да не знаю, и делать ли? Говорят, надо явку подавать…
И спрашивает меня по-приятельски: каков мой совет? А что тут советовать? Про явки ему уже сказано, а в другом роде – как советовать? Пропало не мое, а его добро – чужую обиду легко прощать…
– Нет, – говорю, – я советовать не могу, а если хотите, я могу вам сказать, как со мною раз было подобное и что дальше случилося.
Он говорит: пожалуйста, расскажите.
Я и рассказал, что раз со мною и с вором случилося.
Сделал я раз себе шубу, и стала она мне триста рублей, а была претяжелая. Так, бывало, плечи отсадит, что мочи нет. Я и взял с нею дурную привычку идучи все ее с плеч спускать и от того скоро обил в ней подол. Утром в Рождественский сочельник служанка говорит мне:
– Шуба подбилася: я по-портновски мех подшить не умею, посажу на игле, весь подол станет морщиться; дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть – очень хорошо починку делает; не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру ее назад принесет.
Я отвечаю: «Хорошо». Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом, своему знакомому портнишке. А сочельник пришел с оттепелью, капели капали: вечером мне шуба не понадобилась – в пальто было впору. Я про шубу забыл и не спросил ее, а на Рождество слышу, в кухне какой-то спор и смущение: дворник бледный и испуганный, не с праздником поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет и сам портнишка пропал… Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал. Он подал явку, а шубы моей, разумеется, все нет как нет, и говорят, что и портного нет… Жена у него осталась с двумя детьми – один лет трех, а другой грудной… Бедность, говорят, ужасающая: и женщина и дети страшные, испитые, жили в угле, да и за угол не заплочено, и еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, будто муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать, да с тех пор и сам не возвращается… Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли… Пропал портнишка, как в воду канул… Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал, как вдруг неожиданно на первой неделе Великого поста прибегает ко мне дворник… весь впопыхах и лепечет скороговоркою:
– Пожалуйте к мировому, я портнишку подсмотрел… подсмотрел его, подлеца, как он к жене тайно приходил, и сейчас его поймал и к судье свел. Он там у сторожа… Сейчас разбор дела будет… скорее, пожалуйста… подтвердить надо… ваша шуба пропала.
Я поехал… Смотрю, действительно сторож бережет какого-то человека худого, тощего, волосы как войлочек, ноги портновские – колесом изогнуты, и весь сам в отрепочках – починить некому, и общий вид какой-то полумертвый. Судья спрашивает меня: пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила? Я отвечаю по правде: была шуба такая-то, заплочено было триста рублей, а потом ношена и сколько стоила во время пропажи – определить не могу; может быть, на рынке за нее и ста рублей не дали бы. Судья стал допрашивать портного – тот сразу же во всем повинился:
– Я, – говорит, – ее подшил и к дворнику понес, чтобы отдать и деньги за работу получить… На грех дворника дома не было и дверь была заперта, а господина я не знал по фамилии, ни где живут, а у нас в сочельник в семье не было ни копеечки. Я и пошел со двора, да и заложил закладчику шубу, а на взятые под залог деньги купил чайку-сахарцу, пивка-водочки, а потом утром испугался и убежал, и последние деньги пропил, и с тех пор все путался.
А теперь он и не знает, где и квиток потерял, и закладчика указать не может.
– Виноват, пропала шуба.
– А сколько, по-вашему, шуба стоила?
Портной не стал вилять и говорит:
– Шуба была хорошая.
– Да сколько же именно она могла стоить?
– Шуба ценная…
– Сто рублей она могла, например, стоить?
Портной себя превосходит в великодушии:
– Больше, – говорит, – могла стоить.
– И полтораста стоила?
– Стоила.
Словом – молодец портной: ни себя, ни меня не конфузит. Судья и зачитал: «По указу», и определил портного на три месяца в тюрьму посадить, а потом чтобы он мне за шубу деньги заплатил. Вышло, значит, мне удовлетворение самое полное, и больше от судьи ожидать нечего. Я пошел домой, портнишку повели в острог, а его жена с детьми завыли в три голоса. Чего еще надобно?
Дал Бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному, по-русски называли «комчугою». Верно ей дано это название! Днем эта болезнь еще и так и сяк – терпеть можно, а как ночь придет, так она начинает «комчить», и нет возможности ни на минуту уснуть. А как лежишь без сна, то невесть что припоминается и представляется, и вот у меня из головы не идет мой портнишка и его жена с детьми… Он теперь за мою шубу в остроге сидит, а с бабой и детьми-то что делается?.. И при нем-то им было худо, а теперь небось беде уж и меры нет… А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего он мне никогда, этот портнишка, заплатить-то не может, да если бы я и захотел что-нибудь с него донимать по мелочи, так от всего от этого будет только «сумой пахнуть»… Никогда я этого донимать не стану… А зачем же была эта явка-то подана? И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал узнать: жива ли портнишкина жена и что с нею и с детьми ее делается? Дворник узнал и говорит: «Ее присуждено выселить, и как раз их сегодня выгоняют: за ними за угол набралось уже шесть рублей». Вот те мне, и ахти мне! А «комчуга» ночью спать не дает и в лица перекидается: задремишь от усталости, а портнишка вдруг является и начинает холодным утюгом по больным местам как по болвашке [176] водить… И все водит, все разглаживает да на суставах острым углом налегает…
И так он меня прогладил, что я поскорее дал шесть рублей, не полегчает ли если уж не на теле, то хоть на совести, – потому, так я уверен, что в бедствиях портновской семьи это моя жестокость виновата. Жена портного оказалась дама чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за шесть рублей… А сама вся в лохмотьях, и дети голые… Дал им еще три рубля… А как ночь, так портнишка опять идет с холодным утюгом… и зачем это я только наделал?.. Рассердишься и начинаешь думать: а как же мне иначе было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать? Так все и сомневаются. А тут Пасха пришла… Портному еще полтора месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по два много раз, а к Пасхе надо что-нибудь увеличить им пенсию… Ну, по силам своим и увеличил, да жена его о себе иначе понимать стала и на меня недовольна и сердится:
– Кормильца нашего, – говорит, – оковал: что я с детьми теперь сделаю? Ты нас убил – тебя Бог убьет.
И смешно, и досадно, и жалко, и совестно: несравненно бы лучше было, если бы моя шуба с портным вместе пропала с глаз моих. Было бы это тогда и милосерднее, да и выгоднее: а теперь если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей – корми воровскую семью, а то где твоя совесть-то явится? Заморить-то ведь это и палач может, а ты небось за один стол не хочешь сесть ни с палачом, ни с доносчиком… Кормлю я кое-как семью портнишкину, а на душе все противнее… Чувствую, что будто я сделал что-то такое, хуже чем чужую шубу снес… И никак от этого не избавиться… И вот под самую Пасху все пошли к утрене, а я больной остался один дома и только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалует орловский купец Иван Иванович Андросов… Старичок был небольшой, очень полный, с совершенно белой головой, и лет сорок тому назад умер и схоронен в Орле. Последние годы перед своею кончиною он находился в чрезвычайной бедности, а имел очень богатого зятя, который каким-то неправдами завладел его состоянием. Отец мой этого старика уважал и называл праведником, а я только помню, что он ходил в садах яблони прививать и у нас, бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет: он встает, и кресло на нем висит, как раковина на улитке. Никогда он ни о чем не тужил и про все всегда говорил весело, а когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, то он, бывало, всегда одинаково отнекивался:
– Ну, так что ж!
– А вы бы, Иван Иванович, жаловались.
А он отвечает:
– Вот тебе еще что ж!
– А помрешь с голоду?
– Ну, так что ж!
– И схоронить будет некому.
– Вот тебе еще что ж!
Говорили: он глуп. А он не был глуп: он пришел к нам на Рождество и все ел вареники и похваливал.
– Точно, – говорит, – будто я тепленькими хлопочками напихался, и вставать не хочется.
И так и не встал с кресла, а взял да и умер, и мы его схоронили. Ведь такой человек очевидно знал, что делал! «В бесстрашной душе ведь Бог живет». Так-то бы, мол, кажись, и мне следовало сделать: «Пропала!» – «Ну, так что ж…» – «А жаловаться?» – «Вот тебе еще что ж!» И куда сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее.
Тут как я это рассказал, мой обокраденный приятель и взял меня на слове.
– Вот, – говорит, – и я думал, так и я все так и сделаю. Ничего я никому не подам: и не хочу, чтобы начали тормошить людей и отравлять всем Христово Рождество. Пропало, и кончено: «Ну, так что ж, да и вот тебе еще что ж?»
На этом он дело и кончил, и я ему ничего возражать не смел, но потом досталось мне мучение: в один день довелось мне говорить об этом со многими и ото всех пришлось слышать против себя и против его все несхожее. Все говорили мне: «Это вы глупо обдумали!.. Так только потачка всем… Вы забыли закон!.. Всякий один другого исправлять должен и наказывать. В этом первое правило».
Читатель! Будь ласков: вмешайся и ты в нашу историю, вспомяни, чему тебя учил сегодняшний Новорожденный: наказать или помиловать? Если ты хочешь когда-нибудь «со Христом быть» – то ты это должен прямо решить, и как решить – тому и должен следовать… Может быть, и тебя «под Рождество обидели» и ты это затаил на душе и собираешься отплатить?.. Пожалуй, боишься, что если спустишь, так тебе стыдно будет… Это очень возможно, потому что мы плохо помним, в чем есть настоящее «первое правило»… Но ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко: обдумай – с кем ты выбираешь быть: с законниками ли разноглагольного закона или с Тем, Который дал тебе «глаголы вечной жизни»… Подумай! Это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не труден… Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу Того, Который сказал тебе: «Прости обидчику и приобрети себе в нем брата своего». Я тебе рассказал пустяки, а ты будь умен – и выбери себе и в пустяках-то полезное, чтобы было тебе с чем перейти в вечность.
1890
Неразменный рубль
Глава первая
Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько раз его ни выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что между прочим надо взять черную без единой отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.
Здесь надо стать, пожать кошку посильнее, так чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, – ни больше, ни меньше, как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда наконец этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный – то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.
Конечно, это поверье пустое и недостаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.
Глава вторая
Раз, во времена моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и между прочим добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости… Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.
Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники – с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще – «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство.
– Какое? – спросил я.
– А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.
Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.
Глава третья
Няня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками [177] и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.
– Ну, вот тебе беспереводный рубль, – сказала она. – Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один – совершенно один – можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоем же кармане.
– Да, – говорю, – я уже все это знаю.
А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:
– Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность – твой рубль в то же мгновение исчезнет.
– О, – говорю, – бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.
Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.
– Прекрасно, – сказала бабушка, – но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.
– Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.
– Очень рада, посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян: помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.
– В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?
Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.
– О, моя милая бабушка, – отвечал я, – вам и не будет надобности давать мне советы: я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.
– В таком разе идем, – и бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.
Глава четвертая
Погода была хорошая – умеренный морозец, с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчики из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и… я посмотрел на бабушку…
Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:
– Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностию. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?
Я опустил руку, и… мой неразменный рубль был в моем кармане.
«Ага, – подумал я, – теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее».
Глава пятая
Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, – мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочки, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане.
– Невесте идет принарядиться, – сказала бабушка. – Это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, – от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.
Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастие прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтиря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.
Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман, рубль был снова на своем месте.
Я стал покупать шире и больше – я брал все, что по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные: так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке – гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего – на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.
– Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.
И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили – как я умен, богат и добр.
Мне стало беспокойно и скучно.
Глава шестая
А в это самое время, откуда ни возьмись, ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:
– Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.
– Да, если эта будет вещь ненужная, так я ее, разумеется, не куплю.
– Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.
Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.
Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.
– Я ничего не вижу в этом хорошего, – сказал я моему новому спутнику.
– Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите – за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкою. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.
Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.
Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.
– И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?
– Да, я это думаю, – отвечал пузан.
– Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! – воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал:
– Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?
Глава седьмая
Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:
– Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.
– Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.
Он очень лукаво улыбнулся и молвил:
– Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, – вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится.
– Прекрасно, – отвечал я, – я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.
– Нет, прежде извольте отсчитать деньги.
– Хорошо.
Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но… карман мой был пуст. Мой неразменный рубль уже не возвратился. он пропал. он исчез. его не было, и на меня все смотрели и смеялись.
Я горько заплакал и. проснулся.
Глава восьмая
Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.
Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.
– Что же, – сказала бабушка, – сон твой хорош, особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль, по-моему, – это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутии четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастия своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив – чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что – очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стеклышки, и – рубль твой растаял. Этому и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении.
– Кроме одного, моя дорогая.
Бабушка улыбнулась и сказала:
– Ну конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами.
– Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.
Бабушка подумала и сказала:
– Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но… если ты желаешь за это получить гораздо большее счастие, то. я тебя понимаю.
И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это мною было сделано, то сердце исполнилось такою чистейшею радостию, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом – полное счастие, при котором ничего больше не хочешь.
Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.
О серии
По словам А. П. Чехова, «человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек». Как тут не вспомнить и крылатую фразу Тертуллиана о том, что «душа человека по природе своей христианка»!
Русская литература с ее вниманием к человеческой душе, к «проклятым вопросам» бытия пронизана поиском веры, стремлением «дойти до самой сути». Именно такие произведения – рассказывающие о силе духа, поднимающие вопросы об истинном смысле жизни, о Боге и человеке – представлены в серии «Классика русской духовной прозы».
Эта серия объединила книги, которые при других обстоятельствах едва ли могли бы оказаться на одной полке. Наряду с хрестоматийными «Повестями Белкина» и «Тарасом Бульбой» вы встретите здесь и менее популярные произведения русских классиков, а также сможете познакомиться с творчеством авторов не так хорошо известных современному читателю, например с художественной прозой протоиерея Валентина Свенцицкого. Некоторые произведения, такие как повесть «Архиерей» иеромонаха Тихона (Барсукова), для многих станут открытием. В серию также вошла яркая проза современных писателей, продолжающих традиции классической литературы.
Мы рекомендуем
1. Александр Сергеевич Пушкин. Повести
2. Николай Васильевич Гоголь. Повести
3. Федор Михайлович Достоевский. Повести и рассказы
4. Антон Павлович Чехов. Повести и рассказы
5. Иван Алексеевич Бунин. Рассказы
6. Л. Пантелеев. Повести и рассказы
7. Константин Николаевич Леонтьев. Дитя души (повесть). Мемуары
8. Валентин Павлович Свенцицкий. Избранное
9. Василий Акимович Никифоров-Волгин. Дорожный посох (повесть). Рассказы
10. Иван Сергеевич Шмелев. Няня из Москвы
11. Алексей Константинович Толстой. Князь Серебряный
12. Священник Николай Агафонов. Повести и рассказы
13. Борис Николаевич Ширяев. Неугасимая лампада
14. Алексей Николаевич Варламов. Повести и рассказы
15. Александр Иванович Куприн. Повести и рассказы
16. Владимир Галактионович Короленко. Повести и рассказы
17. Борис Константинович Зайцев. Избранное
18. Иеромонах Тихон (Барсуков). Архиерей
19. Иван Сергеевич Шмелев. Повести и рассказы
Следите за новинками серии!
Об издательстве
«Живи и верь»
Для нас православное христианство – это жизнь во всем ее многообразии. Это уникальная возможность не пропустить себя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе к Богу. Именно для этого мы издаем книги.
В мире суеты, беготни и вечной погони за счастьем человек бредет в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо – это изменение человеческой души. От зла – к добру! От бессмысленности – к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!
Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере в многосложном современном мире, ощущая достоинство и глубину собственной жизни.
Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и радость, помогут найти главное в своей жизни!
Примечания
1
День памяти святого Василия Великого – 14 января (1 января по ст. ст.).
(обратно)2
То есть не тремя, а двумя пальцами, как старовер.
(обратно)3
Скиния (греч.) – переносная церковь.
(обратно)4
Изограф – иконописец. Новгородская иконописная школа (XIV–XV века) и продолжавшая ее традиции строгановская характеризовались мелким письмом по золоту.
(обратно)5
Деисус (Деисис) – трехличная икона – Богоматери, Спасителя и Иоанна Предтечи.
(обратно)6
Индикт – церковное исчисление времени, при котором мерой отсчета был пятнадцатилетний период. Началом отсчета было 1 сентября. Здесь: посвященная этому дню многоличная икона.
(обратно)7
Святцы – здесь: двенадцать икон с изображением святых, чтимых в каждом месяце. Собор – икона с изображением архангелов Михаила или Гавриила, держащих икону Младенца Христа. Отечество – икона с изображением Бога Саваофа с Младенцем Христом на руках в окружении архангелов.
(обратно)8
Шестоднев – икона с шестью сюжетными изображениями, к каждому дню недели. Целебники – иконы с изображением святых, избавлявших от болезней.
(обратно)9
Сюжет иконы, на которой изображены три святых в гостях у Авраама.
(обратно)10
Олинфы – оливковые деревья.
(обратно)11
Тороци (тороки) – ток Божественного или ангельского слуха, изображаемый на иконах в виде струи или лучей.
(обратно)12
Рясно – ожерелье или подвески.
(обратно)13
Пернат (пернач) – булава с перистым набалдашником.
(обратно)14
Рамена – плечи.
(обратно)15
Веселиил – главный мастер, которому было поручено изготовление Скинии собрания, построенной евреями в пустыне после их исхода из Египта.
(обратно)16
Пестрядь – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из пестрых ниток.
(обратно)17
Штоф – здесь: плотная шелковая ткань с разводами.
(обратно)18
Тябло – киот, полочка, ярус иконостаса.
(обратно)19
Аналогий (аналой) – высокий церковный столик для
чтения стоя.
(обратно)20
Начал – молитва раскольников.
(обратно)21
Старинный способ обозначения нот, без линеек.
(обратно)22
Амалфеев рог – рог изобилия.
(обратно)23
Мраволев – фантастическое животное, смешение муравья со львом.
(обратно)24
Гуменцо (гуменце) – темя, выстригаемое при посвящении церковнослужителей.
(обратно)25
Щаповатый (щапливый) – нарядный, щегольской.
(обратно)26
Велиар (библейск.) – темная, мрачная сила.
(обратно)27
Оцет (пол.) – уксус.
(обратно)28
Колоника – загустевший на осях телеги деготь.
(обратно)29
Жвир (пол.) – крупный песок.
(обратно)30
Балда – здесь: большой молот, кувалда.
(обратно)31
Потаскун – развратник, блудник.
(обратно)32
Нетяг – дармоед, тунеядец.
(обратно)33
Заставки – здесь: подставные иконы.
(обратно)34
Омет – здесь: кайма платья.
(обратно)35
Цыбастая – тонконогая.
(обратно)36
Сойга (сайга) – степная коза.
(обратно)37
Срачица (церк.) – сорочка.
(обратно)38
Гаплик – застежка.
(обратно)39
Остегны – шаровары.
(обратно)40
Шпилман (нем.) – странствующий музыкант; здесь в ироническом смысле.
(обратно)41
Ботвит – бодрится, чванится, бахвалится.
(обратно)42
Слышишь, ты (идиш).
(обратно)43
Ротитися – божиться.
(обратно)44
Иродиада – жена своего дяди, иудейского царя Филиппа, добившаяся смертной казни Иоанна Крестителя, который разоблачил ее преступную связь с братом Филиппа Иродом Антиппой.
(обратно)45
Кучился – умолял.
(обратно)46
Котёлки – баранки.
(обратно)47
Водный труд – водянка.
(обратно)48
Амос (VIII век до н. э.) – библейский пророк, проповедовавший милосердие к бедным.
(обратно)49
Петр Могила (1596–1647) – митрополит Киевский, издавший в 1646 г. руководство к церковной службе (требник).
(обратно)50
Вапа – краска.
(обратно)51
Мстера – поселок во Владимирской области, древнейший центр русской миниатюрной живописи и иконописи.
(обратно)52
Ушаков Симон (Пимен) Федорович (1626–1686) – выдающийся русский художник и теоретик искусства, призывавший к «правдивому отображению земной красоты».
(обратно)53
Парамшин – русский иконописец XIV века.
(обратно)54
В дальнейшем было установлено, что эти так называемые «капонические створы» (по имени итальянского коллекционера Капони) написаны во второй половине XVII века. Не подтверждается и тот факт, что «створы» были подарены итальянцу самим Петром I, хотя несомненно, что они выполнены русскими мастерами.
(обратно)55
Князь Потемкин-Таврический – Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) – политический и государственный деятель при дворе Екатерины II. В 1783 г. получил титул «Таврический» за присоединение к России Крыма.
(обратно)56
Студодейный – непотребный.
(обратно)57
Митра – головной убор, часть богослужебного облачения в ряде христианских церквей.
(обратно)58
Даниил – пророк, предсказывавший падение Вавилона, приход Мессии, восстановление Иерусалима и смерть Христа.
(обратно)59
Притоманный (диалект.) – сородич, близкий.
(обратно)60
Пакибытие – духовное возрождение.
(обратно)61
Клинцы, Злынка, Орел – центры старообрядчества.
(обратно)62
Оле – увы.
(обратно)63
Рефть – краска, смесь голубого и черного цветов. Нефть – белая краска, обычно смешивавшаяся с золотом.
(обратно)64
Нарохтиться – бахвалиться.
(обратно)65
Аристетелевы (Аристотелевы) врата – сборник неканонических текстов, запрещенный на Руси в 1551 г. как еретический.
(обратно)66
Невегласы – здесь: бессмыслица, заблуждение.
(обратно)67
Анахорит (анахорет) – отшельник.
(обратно)68
Избутелый – гнилой.
(обратно)69
Восточная (греко-православная) ветвь христианства, в отличие от западной (римско-католической).
(обратно)70
Свайка – изогнутый металлический прут (обычно на деревянной ручке), используемый для плетения веревочных, лыковых и других изделий.
(обратно)71
То есть идолопоклонническая.
(обратно)72
Вавилон – здесь: мирская жизнь.
(обратно)73
Согласно Евангелию от Матфея, иудейский царь Ирод, чтобы избавиться от новорожденного Христа, приказал уничтожить всех младенцев мужского пола.
(обратно)74
Пядница (пядь) – расстояние между большим и указательным пальцами, раздвинутыми по плоскости. Здесь: доска соответствующей меры.
(обратно)75
Левкас – шпаклевка у иконописцев, смесь клея с мелом.
(обратно)76
Соломия – мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова.
(обратно)77
Сухолапль – птица из породы чаек.
(обратно)78
Бокан (бакан) – краска багряного цвета.
(обратно)79
Вохра (вохря) – желтая краска.
(обратно)80
Крыга – льдина, плывущая по реке.
(обратно)81
Халепа – зимняя непогода, мокрый снег.
(обратно)82
Еспер-звезда – планета Венера.
(обратно)83
Долонь (устар.) – ладонь.
(обратно)84
Басма – тонкий образной оклад, тисненое серебро
или кожа.
(обратно)85
Ковчежец – ларец для хранения религиозных реликвий.
(обратно)86
Корнавка – куртка.
(обратно)87
Нырище – развалины, руины.
(обратно)88
Шафран – краска ярко-красного цвета, приготавливаемая из одноименного растения.
(обратно)89
Катавасия – песнопение, которое исполняется обоими клиросами (хорами), выходящими в середину храма.
(обратно)90
Головщик – управляющий одним из клиросов.
(обратно)91
Половый – о масти животного: бледно-желтый, палевый.
(обратно)92
Штунда – одна из южнорусских сект, отчасти сходная с баптистами.
(обратно)93
Волна (южн.) – шерсть, особенно овечья.
(обратно)94
1 Ин. 4: 18.
(обратно)95
Неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Памятник».
(обратно)96
Кануфер – пижма бальзамическая, трава с сильным запахом, употребляемая как пряность.
(обратно)97
Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) – русский генерал, соратник Суворова и Кутузова.
(обратно)98
Молокане – религиозная секта в России, придерживавшаяся аскетических правил жизни и не признававшая обрядов Православной Церкви.
(обратно)99
«Прохладный вертоград» – лечебный справочник, переведенный с греческого Симеоном Полоцким для царевны Софьи в XVII веке.
(обратно)100
Веред – чирей, нарыв.
(обратно)101
Во удесех – в членах.
(обратно)102
Сафонова жила – жила между большим и указательным пальцами.
(обратно)103
Спатика – жила на правой стороне тела.
(обратно)104
Базика – жила на левой стороне тела.
(обратно)105
Дондеже – пока.
(обратно)106
Антель – проскурняк (лечебная трава).
(обратно)107
Водка буглосовая – настоянная на траве буглос (воловий язык).
(обратно)108
Митридат – по имени врача Митридата Эвпатора (132-63 гг. до н. э.) – универсальное лечебное средство из пятидесяти четырех элементов.
(обратно)109
Сворбориновый уксус – настоянный на шиповнике.
(обратно)110
Оленьи слезы, или безоар-камень, – камень из желудка козы, ламы, используемый как народное лекарство.
(обратно)111
Егорий светлохрабрый – день памяти святого Георгия Победоносца (23 апреля по ст. ст.).
(обратно)112
Никодим (1786–1839) – епископ Орловский в 18281839 гг.
(обратно)113
Иметь еще одну кавалерию – стать кавалером ордена еще раз.
(обратно)114
Аполлос (1745–1801) – епископ Орловский в 17881798 гг. и богослов.
(обратно)115
Юрьева роса – роса в Юрьев день (23 апреля по ст. ст.), еще одно название дня Егория светлохраброго.
(обратно)116
С Ивана до полу-Петра – с 8 мая до 30 июня.
(обратно)117
Слух, молва (лат.).
(обратно)118
Федосеевцы – старообрядческая секта, выделившаяся из беспоповцев в начале XVIII века; проповедовали безбрачие, не признавали молитвы за царя. Пилиппоны (филипповцы) – старообрядческая секта, проповедовавшая культ самосожжения; отделилась от беспоповпев в 30-х гг. XVIII века Перекрещиванцы (анабаптисты) – религиозная секта, в которой обряд крещения производился над взрослыми людьми, с целью «сознательного» приобщения их к вере. Хлысты – религиозная секта, возникшая в России в XVII веке; «радения» сопровождались ударами хлыстом, исступленными песнопениями, прыжками.
(обратно)119
Зодия (греч.) – одна из двенадцати частей зодиака.
(обратно)120
Плезирная трубка – подзорная труба.
(обратно)121
Краевич Константин Дмитриевич (1833–1892) – русский ученый и педагог.
(обратно)122
То есть не распространял на Россию библейское пророчество Даниила о Пришествии Мессии через 70 * 7 лет («седьмины»). (Прим. автора.)
(обратно)123
Поппе (Поп А.) (1688–1744) – английский поэт, автор поэмы «Опыт о человеке».
(обратно)124
По-видимому, речь идет о мощах епископа воронежского Тихона Задонского, открытых в августе 1861 г.
(обратно)125
Девясил – растение, используемое в народе для лечения грудных болезней.
(обратно)126
Надхождение стени (ст. – слав.) – приступ боли (стенаний).
(обратно)127
Нивари (церк. – слав.) – земледельцы.
(обратно)128
Рыбари (церк. – слав.) – рыбаки.
(обратно)129
Корчемство – торговля спиртными напитками, независимая от государственной.
(обратно)130
Пихтерь – большая высокая корзина.
(обратно)131
Хрептуг – мешок, торба с кормом для лошадей.
(обратно)132
То есть при проктологических проблемах.
(обратно)133
Одрец – носилки.
(обратно)134
Пупавки – ромашки.
(обратно)135
Архитриклин (греч.) – старейшина, хозяин.
(обратно)136
Совестный суд – учреждение в старой России, где спорные дела решались не по закону, а по совести судей.
(обратно)137
До кончиков ногтей (фр.).
(обратно)138
То есть освобождение крестьян без земли.
(обратно)139
Номады (греч.) – кочевники.
(обратно)140
Сердовые – средних лет люди.
(обратно)141
Белый – старый (человек).
(обратно)142
Святой Антоний Великий (III век до н. э.) – подвижник, пустынник, многие годы боровшийся с искушениями и видениями.
(обратно)143
То есть герой принадлежит к староверам.
(обратно)144
Сдание – ответ, возражение.
(обратно)145
Деян. 2: 23.
(обратно)146
Мф. 5: 44.
(обратно)147
Цитата из Библии в древнерусском переводе: Еккл.
12: 12.
(обратно)148
См.: Лк. 7: 36, 44.
(обратно)149
Евр. 13: 8.
(обратно)150
Мф. 9: 11; Мк. 2: 16; Лк. 5: 30.
(обратно)151
Мф. 8: 8.
(обратно)152
Откр. 22: 20.
(обратно)153
Срящите (церк. – сл.) – встречайте.
(обратно)154
Вонмем (церк. – сл.) – слушайте.
(обратно)155
Рим. 12: 20.
(обратно)156
Мф. 5: 44; Лк. 6: 27.
(обратно)157
Пахва – седельный ремень с кольцом, в которое продевается хвост лошади, чтобы седло не сползало ей на шею.
(обратно)158
Паперсь – ремень или тесьма в конском уборе на нижней части конской груди.
(обратно)159
«Змеиные головки» – привески, украшения, часть конской сбруи.
(обратно)160
Орчак – остов седла.
(обратно)161
Вальтрап – верхнее покрывало на седло или на потник под седло.
(обратно)162
Чайного ликера (фр.).
(обратно)163
Высшей школы (фр.).
(обратно)164
Обры (др. – рус.) – авары, кочевые племена Центральной Азии, Западной Сибири, Приуралья и Поволжья.
(обратно)165
Дулебы – объединение восточнославянских племен на территории Западной Волыни.
(обратно)166
Моя дорогая (фр.).
(обратно)167
Рученец – срок.
(обратно)168
Со стрелами Амура (фр.).
(обратно)169
Из пресных вод (фр.).
(обратно)170
Точку над i (фр.).
(обратно)171
Мф. 19: 21.
(обратно)172
Ис. 11: 6.
(обратно)173
Сакен тогда еще был жив. (Прим. авт.)
(обратно)174
Благородное происхождение обязывает (фр.).
(обратно)175
К черту! (нем.)
(обратно)176
Болвашка – деревянная портновская колодка, на которой разутюживают. (Прим. авт.)
(обратно)177
Мармотки (фр.) – тюлевое украшение женских головных уборов.
(обратно)
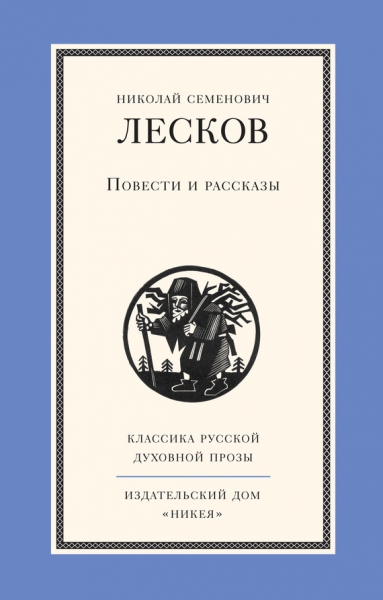
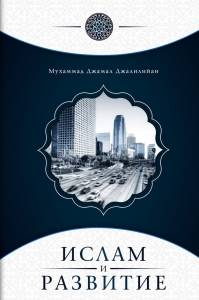
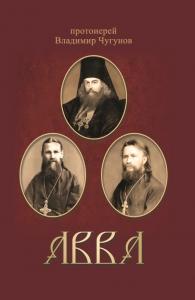
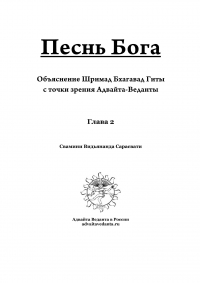





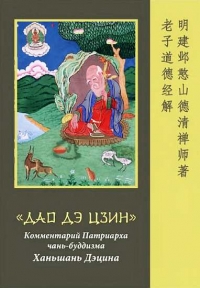
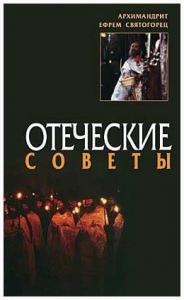
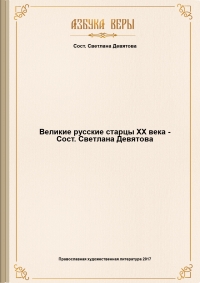
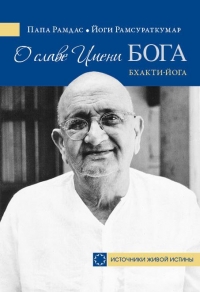
Комментарии к книге «Повести и рассказы», Николай Семенович Лесков
Всего 0 комментариев