Избранные творения
Большое огласительное слово
Предисловие
Руководителям к благочестивой жизни необходимо огласительное слово, чтобы Церковь могла приумножаться от приращения числа спасаемых, когда преподаваемое слово веры достигает и до слуха неверных. Но не один и тот же способ учения пригоден для всех приступающих к слову. Напротив того, надлежит соображать оглашение с разностями верований, имея в виду одну и ту же цель слова, но неоднообразно пользуясь ведущими к ней средствами. Ибо иными понятиями предзанят иудействующий, а иными — живущий в эллинстве; аномей же, манихей, последователи Маркиона, Валентина, Василида и остальной список заблуждающихся по разным ересям, поскольку каждый из них предзанят собственными своими понятиями, делают необходимым вступать в борьбу с их собственными предубеждениями. Ибо с родом болезни соображать должно и способ врачевания: не уврачуешь одним и тем же в эллине многобожие и в иудее неверие в единородного Бога; и введенных в заблуждение ересями не отвратишь одним и тем же от обманчивых, ими составленных понятий о догматах. Чем исправил бы иной Савеллиева последователя, тем не окажет пользы аномею; спор с манихеем не будет полезен иудею. Но, по сказанному, надлежит смотреть на предубеждения в людях и вести речь сообразно с заблуждением каждого при всяком собеседовании, предварительно излагая некие начала и разумные требования, чтобы из признаваемого согласно обеими сторонами мысль последовательно раскрывалась сама собою.
Поэтому, когда идет собеседование с кем–либо из эллинствующих, хорошо положить такое начало речи: спросить, предполагает ли он, что есть Божество, или согласен с учением атеистов? Если утверждает, что Бога нет, то пусть искусно и премудро распоряжаемым в мире приведен будет к признанию, что есть некая сила, показывающая этим о себе, что она превыше всего. Если же не сомневается, что Бог есть, но склоняется на предложения множества божества, то будем с ними рассуждать в таком порядке: совершенным или недостаточным признает он Божество? И так как, вероятно, естеству Божию припишет совершенство, то потребую у него совершенства во всем, что умопредставляется в Божестве так, чтобы не представлялось оно смешанным из противоположностей, из недостаточного и совершенного. Но будет ли подлежать умозрению относительно к силе, или относительно к понятию о добре, или относительно к премудрости, нетлению и вечности и всякому иному боголепному представлению; на основании этого рассуждения согласно признаем о естестве Божием, что во всем усматривается совершенство. Когда же будет уступлено нам это, тогда нетрудным сделается ум, развлекаемый множеством богов, привести к исповеданию единого Божества. Ибо если соглашается о подлежащем признавать его во всем совершенным, утверждает же, что много совершенных, у которых отличительные черты те же, то по всей необходимости должен будет у не различающихся никаким видоизменением, но представляемых в одних и тех же чертах или указать особенность, или, если мысль не находит ничего особенного, не придумывать различия в том, в чем нет различающего. Ибо, если не отыскивает ни такой разности, что одно больше, а другое меньше, так как понятие совершенства не допускает меньшинства; ни такой, что одно хуже, а другое предпочтительнее, потому что никто не предположит Божества в том, чему не вовсе чуждо наименование худшего; ни такой, что одно старо, а другое ново, ибо не всегда существующее не подходит под понятие о Божестве; напротив того, и само понятие о Божестве одно, потому что, согласно с разумом, ни в чем не отыскивается никакой особенности: то погрешительное представление множества богов по всей необходимости принуждено ограничиться исповеданием единого Божества. Если равно приписываются благость и справедливость, премудрость и могущество, одним и тем же образом признаются нетление и вечность, а также всякое благочестивое умопредставление, то устранением всякой во всяком отношении разности необходимо устраняется из догмата мысль о множестве богов, так как тождество во всем к единому догмату возводит и веру.
Глава 1. Бытие Сына Божия
Но как слово благочестия и в единстве естества усматривает некое различие ипостасей, то, чтобы спором с эллинами учение наше не было увлечено в иудейство, искусным неким различением понятий надлежит опять исправить погрешности и в этом. И не признающие наш догмат не допускают, что Божество бессловесно. Признаваемого же ими достаточно к утверждению нашего учения. Ибо, кто признает, что Бог не бессловесен, тот, без сомнения, согласится, что небессловесный имеет слово. Но подобоименно называется словом и человеческое слово. Поэтому если скажет, что подобно нашим словам разумеет и Божие слово, то следующим образом возведется к высшему понятию. По всей необходимости должно верить, что слово, как и все прочее, сообразно с естеством. Ибо и в человечестве усматриваются некая сила, и жизнь, и мудрость; но по сей подобоименности никто не будет представлять себе, будто бы в Боге таковы же и жизнь, и сила, и мудрость; напротив того, по мере нашего естества умаляется с ним вместе и значительность таковых именований. Поскольку естество наше тленно и немощно, то и жизнь поэтому скорогибнуща, и сила не самостоятельна, и слово летуче. В рассуждении же Естества верховного, с величием созерцаемого в Нем, возвышается и все утверждаемое о Нем. Поэтому о Слове Божием будет признано, что, хотя называется Оно Словом, однако же не имеет сходства с нашим словом, преходящим в нечто неосуществившееся, и не в одном порыве произносимого вся Его ипостась. Напротив того, как наше естество, будучи скоротечным, имеет скоротечное и слово, так Естество нетленное и всегда сущее имеет вечное и самостоятельное Слово. Если же вследствие этого будет признано, что Слово Божие существует вечно, то по всей необходимости должно будет признавать, что ипостась Слова — в жизни. Ибо непозволительно думать, будто бы Слово, подобно камням, существует неодушевленным. А если существует нечто как разумное и бесплотное, то, конечно, оно живет. Если же разлучено с жизнью, то, без сомнения, уже не ипостась. Напротив того, доказано, что нечестиво признавать Божие Слово неипостасным. Итак вследствие этого доказано также, что Слово это должно представлять себе в жизни. Поскольку же, по всей вероятности, всякий уверен, что естество Слова просто и не показывает в себе никакой двойственности и сложности, то никто не будет представлять себе Слова в жизни по причастию жизни. Ибо если утверждать, что одно состоит в другом, то такое предположение не исключает сложности; напротив того, когда признана простота Слова, по всей необходимости надобно думать, что Слово есть не причастие жизни, а сама жизнь. Поэтому если Слово живет, будучи самой жизнью, то, конечно, имеет силу свободного произволения, потому что ничто не имеющее произволения не принадлежит к числу живых. Вследствие же сказанного благочестиво заключить, что произволение это и могущественно. Ибо если кто не признает могущественным, то этим самым подает, конечно, мысль о бессилии. Но понятие о бессилии далеко от понятия о Божестве, потому что в Божественном естестве не представляется ничего несообразного. По всей необходимости силу Слова должно признавать такой же, каково и преднамерение, чтобы в простом не оказывалось какого–либо смешения и стечения противоположностей — бессилия и силы, усматриваемых в одном и том же преднамерении, если только на одно достанет у Него силы, а для другого Оно бессильно. Необходимо также признавать, что произволение Слова, на все имея силу, не имеет наклонности ни к чему худому, потому что всякое стремление ко злу чуждо естеству Божию. Напротив того, что есть доброго, всего того хочет, а чего хочет, то, без сомнения, для Него возможно; возможного же не оставляет Оно неисполнимым, но всякое произволение сделать доброе приводит в действенность; добро же — мир и все, что в нем оказывается мудрого и искусного. Итак, все есть дело Слова живого и самостоятельного, потому что Оно Слово Божие, — Слова, свободно избирающего, потому что живет, Слова, могущего все, что ни избирает, Слова, избирающего, без сомнения, доброе, премудрое и что только лучшее по значению.
Итак, поскольку мир, как признано, есть нечто доброе, в предыдущих же словах доказано, что мир есть дело Слова, свободно избирающего и имеющего силу творить доброе; и это Слово есть иное с Тем, чье оно Слово (потому что это именование некоторым образом есть относительное), и в названии «Слово» необходимо подразумевать и Отца Слова; не будучи чьим–либо словом, Оно не было бы и Словом. Итак, если разумение слушающих по относительному значению названий различает и само Слово, и Того, от Кого Оно, то нет опасности, чтобы наше таинство, находясь в противоборстве с эллинскими понятиями, уступило предпочитающим иудейское мнение; напротив того, равно избежит оно несообразности в учении и эллинов и иудеев, исповедуя, что есть живое, действенное и творческое Божие Слово, которого не допускает иудей, и что неразличны по естеству и само Слово, и Тот, от Кого Оно. Как о своем слове говорим, что оно от ума, но не совершенно одно и то же с умом и не вовсе иное с ним, поскольку оно от ума, т. е. нечто иное, а не ум; а поскольку приводит в обнаружение сам ум, то не может быть представляемо инаковым от ума. Напротив того, будучи одно с ним по естеству, каково в подлежащем; так и Слово Божие по самостоятельности Своей отличается от Того, от Кого имеет ипостась, а поскольку показывает в Себе то же, что усматривается в Боге, то по естеству есть одно и то же с Ним, находимым по тем же самым признакам. Ибо благость ли, могущество ли, премудрость ли, вечность ли бытия, непричастность ли пороку, смерти и тлению, совершенство ли во всем или что–либо совершенно этому подобное сделается признаком, Входящим в понятие об Отце, то по тем же самым признакам найдешь и существующее от Него Слово.
Глава 3. Непостижимость Троицы
Поэтому, кто до точности вникает в глубины таинства, тот, хотя объемлет душой некое скромное по непостижимости понятие об учении боговедения, не может, однако же, уяснить словом этой неизреченной глубины таинства: как одно и то же и числимо, и избегает счисления; и раздельным кажется, и заключается в единице; и различается по ипостаси, и не делится в подлежащем; и опять иное есть Тот, Кто имеет Слово и Духа. Но, когда уразумеешь различаемое в Них, единство естества не допускает опять разделения, так что держава единоначалия не делится, рассекаемая на разные Божества, и учение не согласуется с иудейским догматом, но среди двух предположений проходит истина, низлагающая каждую из ересей, и из каждой заимствующая для себя полезное. Ибо догмат иудея низлагается исповеданием Слова и верою в Духа, а многобожное заблуждение эллинствующих уничтожается единством по естеству, отвергающим мысль о множестве. Но опять по надлежащем исправлении нечестивого предположения в том и другом пусть останутся из иудейского понятия единство естества, а из эллинства — одно различие по ипостасям. Ибо как бы неким исправлением погрешающих о едином есть число Троицы, а вдающихся в множество — учение о единстве.
Глава 4. Ответ на возражение иудеев
Но если иудей прекословит этому, то наш ему ответ не будет для нас затруднителен по собственному его учению. Ибо обнаружение истины исчерпается в догматах, в которых он воспитан. Что Слово Божие и Дух Божий суть самосущно существующие силы, которыми сотворено все пришедшее в бытие и содержатся все существа, это ясно доказывается богодухновенными Писаниями. Но достаточно упомянуть об одном свидетельстве, отыскивание же многих предоставить более трудолюбивым. Сказано: «Словом Господним небеса утвердшиася, и Духом уст Его вся сила их» (Пс. 72:6). Каким Словом и каким Духом? Слово — не речение, и Дух — не дуновение. Ибо неужели подобным нашему естеству человекообразно будут представлять себе и Божество и станут учить, что Творец Вселенной действует таким же, как и мы, словом и таким же духом? Но произойдет ли от речений и от дуновения такая сила, достаточная к составлению небес и сил небесных? Ибо если Божие Слово подобно нашему речению и Дух Божий подобен нашему духу, то у подобных, без сомнения, и сила подобна, и Божие Слово имеет столько же силы, сколько и наше. Но не действенны и не ипостасны дыхания, исходящие вместе с речениями. Не действенными и неипостасными выдают их, конечно, те, которые Божие низводят до подобия с нашим словом. Если же, как говорит Давид, небеса утвердились Словом Господним и силы их возымели состав свой в Божием Духе, то твердо таинство истины, научающее исповедовать Слово в сущности и Дух в ипостаси.
Глава 5. Переход к учению о Боговоплощении. Создание человека и его свобода
Но, хотя бытия Божия Слова и Духа равно не оспорит и эллин из общих понятий, и иудей на основании Писаний, однако же, домостроительства Бога Слова по человечеству равно не одобрит каждый из них, находя невероятным и неприличным утверждать это о Боге. Поэтому прекословящих из другого начала убедим поверить И этому. Веруют ли они, что приведено все в бытие Словом и премудростью Создавшего Вселенную, или невероятно для них и это положение? Но если не соглашаются, что созданием существ управляли Слово и премудрость, то началом Вселенной поставят бессловесие и неискусство. Если же это нелепо и нечестиво, то, без сомнения, соглашаются, что и по их признанию управляют существами Слово и премудрость. Но в предшествовавшем этому доказано, что Слово есть не само это речение, или от какого–либо познания или от мудрости происшедшее, но некая по сущности существующая сила, свободно избирающая все доброе и согласно с избранием имеющая возможность сделать это. А так как мир есть добро, то причина его есть сила, вожде девающая и творящая добро. Если же самостоятельность всего мира зависит от силы Слова, как показала последовательность речи, то по всей необходимости и для частей мира не должно примышлять какой–либо иной причины состава их, кроме того же Слова, Которым все пришло в бытие. Но пожелает ли кто наименовать Его Словом, или премудростью, или силою, или Богом, или иным чем высоким и досточтимым, не будем об этом беспокоиться. Ибо какое бы ни было найдено речение или имя, указывающее на подлежащее, обозначаемое этими звуками, есть одно — вечная Божия сила, творящая существа, изобретающая дотоле неосуществленное, содержащая приведенное в бытие, предусматривающая будущее. Итак, этот Бог, Слово, Премудрость, Могущество, как оказалось, по связи речи есть Творец естества человеческого, не какой–либо необходимостью приведенный к устроению человека, но по преизбытку любви приведший в бытие такое живое существо. Ибо не должно было оставаться и свету Его незримым, и славе незасвидетельствованной, и благости неизведанной, и всему прочему, что усматривается в естестве Божием, праздным, если бы не было наслаждающегося этим причастника. Поэтому если человек для того и приходит в бытие, чтобы сделаться причастником божественных благ, то по необходимости устраивается таким, чтобы ему быть способным к причастию благ. Как глаз по причине естественно скрытого в нем луча бывает в общении со светом, врожденной силой привлекая ему сродное, так необходимо было в естестве человеческом сраствориться чему–то сродному с Божеством, чтобы сообразно с этим желать ему свойственного. Ибо и в естестве бессловесных что получило в удел жить в воде и в воздухе, то и устроено сообразно с каждым родом жизни, так что по известному сложению тела в том и другом из бессловесных свойственны и сродны одному воздух, другому вода. Так и человеку, приведенному в бытие для наслаждения божественными благами, должно было иметь в естестве что–либо сродное с тем, чего он причастен. Поэтому–то украшен он и жизнью, и словом, и мудростью и всеми боголепными благами, чтобы по причине каждого из этих даров иметь ему вожделение свойственного. Поскольку же в числе благ, свойственных естеству Божию, находится и вечность, то надлежало, без сомнения, естеству нашему по устройству своему не быть лишенным удела и в ней и иметь в себе бессмертие, чтобы по врожденной ему силе могло познавать превысшее Существо и желать вечности Божией. Это и книга миробытия многообъемлющим словом выразила в одном речении, когда говорит, что человек сотворен по образу Божию. Ибо в этом подобии по образу заключается, конечно, исчисление отличительных черт Божества, и к такому учению близко то, что исторически рассказывает об этом Моисей, в виде повествования предлагая нам догматы. Этот рай, это отличительное свойство плодов, вкушение которых служит не к наполнению желудка, но дает вкусившим ведение и вечность жизни, — все это согласно с тем, что о человеке усмотрено нами прежде, а именно что естество его первоначально было доброе и изобиловало благами.
Но оспаривать, может быть, станет сказанное тот, кто смотрит на настоящее и подумает обличить это учение в неправде, потому что человека видит теперь не в том, но, по–видимому, почти в противоположном состоянии. Ибо где богоподобие души? Где не подлежащее страданию тело? Где вечность жизни? Человек смертен, страстен, скорогибнущ, по душе и по телу расположен ко всякому роду страстей. Это и подобное этому утверждая о естестве и нападая на это, возражающий положит, что предложенное учение о человеке им опровергнуто. Но, чтобы речь нимало не уклонилась от естественной связи, кратко рассудим и об этом. Настоящая несообразность человеческой жизни не служит достаточным изобличением, будто бы человек никогда не был в добром состоянии. Поскольку он есть Божие дело и Бог это живое существо по благости привел в бытие, то никто не вправе так думать о том, чему причиной создания была благость. Напротив того, иная тому вина, что в таком состоянии мы теперь лишены предпочтительнейшего. Начало же у нас и для этого опять слова не вне того, на что согласны возражающие. Кто сотворил человека быть причастником собственных Своих благ и в естестве человеческом уготовал повод ко всем для него совершенствам, чтобы при каждом вожделение стремилось к подобному, тот не лишил бы наилучшего и драгоценнейшего из благ — разумею дар непорабощения и свободы. Ибо если бы какая–либо необходимость возобладала над человеческою жизнью, то с этой стороны стал бы неверен образ, по этому несходству сделавшись далеким от Первообраза. Ибо естество, подчиненное и порабощенное каким–либо необходимостям, могло ли бы именоваться образом естества царственного? По такому уподоблению во всем Божеству человеку должно было, без сомнения, иметь в естестве самовластие и непорабощенность, чтобы причастие благ было наградой добродетели. Итак, спросишь: почему же по всему почтенный наилучшими дарами променял блага на худшее? Но и на это ответ ясен. Всякое происхождение зла имело начало не в Божием изволении, потому что порок не подлежал бы порицанию, творцом и отцом приписывая себе Бога. Напротив того, зло зарождается как–то внутри, составляемое свободным произволением тогда, когда происходит какое–то удаление души от благого. Ибо, как зрение есть деятельность естества, а слепота — лишение естественной деятельности, так и добродетель противоположна пороку. Невозможно представить иного происхождения пороку, кроме отсутствия добродетели. Как за отъятием света последует мрак, а при свете его нет, так, пока в естестве добро, порок сам по себе неосуществим; удаление же лучшего делается происхождением противоположного. Итак, поскольку в этом и состоит отличительное свойство свободы, чтобы желаемое избирать свободно, то виновник для тебя настоящих зол — не Бог, устроивший естество нерабственное и независимое, но неразумие, вместо хорошего избравшее худое.
Глава 6. Как произошло падение человека
Но спросишь, может быть, и о причине греха по произволу, ибо к этому ведет связь речи. Итак, опять найдется у нас основательное некое начало, из которого объяснится и этот вопрос. Таково некое учение, принятое нами от отцов. И учение это не баснословное сказание, но в самом естестве нашем черпает свою вероятность. Двоякое нечто примечается в существах, так как взгляд на них делится на умственный и чувственный. И, кроме того, в естестве существ не может оставаться ничего неподходящего под это разделение. Эти–то виды существ различаются между собой великой бездной, так что ни чувственное не имеет признаков умственных, ни умственное — чувственных, а, напротив того, каждое отличается противоположными чертами. Ибо естество умственное есть нечто бесплотное, неосязаемое, не имеющее вида, а чувственное по самому имени подлежит наблюдению чувств. Но, как в самом чувственном мире при великом взаимном противлении стихий приметна некая стройность, устанавливаемая из противоположного той Премудростью, Которая правит Вселенной, и, таким образом, во всей твари происходит согласие с самой собой и союз единодушия нимало не расторгается естественным противлением, — так, подобно этому, по Божией премудрости происходит некое смешение и срастворение чувственного с умственным, так что все в равной мере бывает причастно прекрасного и ни одно из существ не остается без удела в наилучшем естестве. Поэтому соответственная умному естеству область есть тонкая, разумная, удободвижная сущность, по премирному жребию в собственном естестве имеющая великое сродство с умственным. Но по наилучшему промышлению и с естеством чувственным бывает некое срастворение умственного, чтобы в твари, как говорит апостол, «ничтоже» было «отметно» (1 Тим. 4:4) и лишено Божественного общения. Поэтому–то смесь из умственного и чувственного показывается естеством Божиим в человеке, как научает книга миробытия. Ибо сказано: «Взем персть от земли, созда Бог человека» (Быт. 2:7) и собственным Своим вдуновением сообщил созданию жизнь, чтобы земное превознеслось с божественным и единая некая благодать равночестно проходила по всей твари при растворении дольнего естества с естеством премирным. Итак, поскольку умная тварь осуществлена прежде и каждая из ангельских сил по Власти правящей всем снабжена некою деятельностью к составлению Вселенной, то была некая сила, поставленная содержать надземную страну и обладать ею, на это самое укрепленная той Силой, Которая домостроительствует во Вселенной. Потом уготована земная тварь, изображение горней силы (и это живое существо — человек, в котором боговидная красота умственного естества срастворена с неизреченной некой силой); и тот, кому дано в удел смотрение над всем надземным, признает для себя опасным и несносным, если из подручного ему естества окажется какая сущность, уподобляющаяся превысшему достоинству.
Но как в страсть зависти впал тот, кто вовсе не для зла сотворен Создавшим Вселенную по благости, описывать это в подробности не входит в настоящий труд, а для неверующих можно будет и кратко предложить об этом слово.
Различие добродетели и порока представляется не как различие каких–либо двух ипостасных явлений. Напротив того, как не существующему противополагается существующее и нельзя сказать, будто бы не существующее ипостасно отличается от существующего, (утверждаем же, что небытие противоположно бытию; таким же образом и порок противоположен понятию добродетели не как что–либо само по себе существующее, но как нечто разумеемое под отсутствием лучшего. И, как говорим, что зрению противоположна слепота, под слепотою разумея не что–либо само по себе существующее, но лишение предшествующей способности, так утверждаем, что и порок усматривается в лишении добра как бы некая тень, появляющаяся по удалении луча. Поэтому, так как естество несозданное не допускает до себя движения, сопровождаемого превращением, преложением, изменением, все же осуществленное творением в сродстве с изменением, потому что и самая ипостась твари начата изменением, тем, что Божественной силой не существующее преложено в существующее, а созданной была и упомянутая сила, свободным движением избирающая угодное ей; то, поскольку смежила она разумение для доброго и чуждого зависти, подобно закрывшему реками взоры и в солнце усматривающему тьму, по тому самому, что не захотела уразуметь доброе, уразумела противное доброму — и это зависть. Неоспоримо же, что начало каждой вещи есть причина (Непосредственно за ним происходящего. Например, следуют за здравием благосостояние, деятельность, жизнь в удовольствии; за болезнью — немощь, недеятельность, жизнь скучная, а равно и все прочее непосредственно за своим началом. Поэтому, как бесстрастие служит началом и основанием жизни добродетельной, так от зависти происшедшая наклонность к пороку стала путем ко всякому вслед за ней оказавшемуся злу. Ибо, кто однажды возымел склонность ко злу, отвращением от благодати породив в себе зависть, тот, подобно камню, который, отторгаясь от вершины горы, собственной тяжестью гонится по скату, и сам, разорвав естественные связи с добром, отяготев и преклонившись к пороку, самовольно, как бы бременем некиим увлеченный, доходит до крайнего предела лукавства, и после того, как силу разумения некую от Сотворившего имел в содействие к причастию лучшего, сделал содейственницей к изобретению злобных измышлений, коварно с обманом приступает к человеку, убедив его самому себе нанести смерть и стать самоубийцей. И, как человек, укрепленный Божиим благословением, велик был по достоинству, потому что поставлен был царствовать над землей и над всем, что на ней; имел прекрасный вид, потому что соделался образом красоты первообразной; бесстрастен был по естеству, потому что был подобием Бесстрастного; исполнен же дерзновения, лицом к лицу наслаждаясь самым богоявлением; это же в противнике разжигало страсть зависти, а невозможно ему было каким–либо усилием и по принуждению произвести, что хотелось, потому что сила Божия благословения превозмогла его принуждение, — то ухищряется поэтому сделать человека отступником от укрепляющей его силы, чтобы стал он удобоуловимым для его злокозненности. И, как в светильнике, когда фитиль объят огнем, если кто, не имея сил погасить пламя дуновением, примешает к маслу воду, то этой выдумкой ослабит пламя, так и сопротивник, обманом примешав к человеческому произволению порок, сделал так, что стало угасать и ослабевать благословение, с оскудением которого по необходимости входит противоположное. Противополагается же как жизни — смерть, силе — немощь, так благословению — проклятие, дерзновению — стыд, и всякому благу разумеемое противоположно. Поэтому–то теперь, когда подобное начало послужило поводом к такому концу, человечество видим среди настоящих зол.
Глава 7. Почему Бог не виновник зла
И никто да не спрашивает: неужели Бог, предвидя человеческое бедствие, какое постигнет людей по неблагоразумию, приступил к созданию, тогда как человеку, может быть, было бы полезнее не приходить лучше в бытие, нежели пребывать во зле. Ибо это в основание заблуждения своего полагают вовлеченные в обман манихейскими догматами, будто бы доказывая этим, что Творец естества человеческого не добр. Если, хотя и ничего не знает Бог о существующем, однако же, человек во зле, то не устоит понятие о благости Божией, если только Богом введен в жизнь человек, который имел жить во зле. Ибо если доброго естества и деятельность непременно добрая, то скорбная и скорогибнущая жизнь эта, говорят противники, не может быть признана созданием Доброго. Напротив того, виновником такой жизни надо полагать иного, имеющего естество, склонное к недоброму. Все это и тому подобное для глубоко принявших в себя, подобно обманчивой какой–то краске, еретическое это обольщение по причине видимой вероятности имеет, кажется, некоторую силу; но для более проникающих в истину ясно усматривается, как это нетвердо и каким подручным служит указанием обмана. И мне кажется, хорошо будет апостола представить защитником этого извинения. Ибо в Послании к Коринфянам он различает плотские и духовные состояния душ, показывая, думаю, словами своими, что хорошее или худое надлежит оценивать не чувством, но поставив ум вне телесных явлений, естество хорошего и протвоположиого ему обсуждать само в себе. Ибо «духовный» , сказано у апостола, «востязует вся» (1 Кор. 2:15). У распространяющих подобные сказанным выше учения причиной измышления их могло, думаю, послужить то, что, ограничивая доброе приятностью телесного наслаждения (поскольку естество тела, будучи сложным и близким к разложению, по необходимости подлежит страданиям и недугам, и за этими страданиями последует такое же болезненное некое чувство), думают они, что сотворение человека есть дело недоброго; так что если бы мысленный взор их простерся выше и, отвратя ум от расположения к удовольствиям, бесстрастно воззрели они на естество существ, то признали бы, что зло не иное что есть, как порок. Всякий же порок, не как что–либо само по себе существующее и оказывающееся самостоятельным, имеет ту отличительную черту, что он есть недостаток добра. Ибо вне свободного произволения нет никакого самобытного зла; но зло потому и называется злом, что оно не добро; несуществующее же не состоялось; а создатель несостоявшегося не есть Создатель существ состоявшихся. Следовательно, не причина зол Бог — Творец существ, а не того, что не существует; Создавший зрение, а не слепоту; добродетель, а не лишение таковой указавший в подвиг произволению; живущим добродетельно предположивший благой конец, и тому, что угодно Ему самому, подчинивший естество человеческое не каким–либо необходимым принуждением, как одушевленный некий сосуд, невольно привлекая его к хорошему. Но если, когда в ясную погоду чисто сияет свет, добровольно кто–либо заслоняет зрение веками, то не солнце — причина того, что человек не видит.
Глава 8. Значение болезней и смерти
Но негодует, конечно, у кого в виду разрушение тела, и тяжело ему делается, что жизнь наша сокрушается смертью. Итак, в горестном этом событии да усматривает преизбыток Божия благодеяния, ибо это скорее, может быть, приведет его в удивление милостивой попечительности Божией о человеке. Желательно жить причастным жизни по наслаждению вожделенным. А если кто проводит жизнь в мучениях, то таковой признает для себя более предпочтительным не существовать, нежели существовать и страдать. Поэтому исследуем, имеет ли что иное в виду Податель жизни, кроме того, чтобы жизнь наша была для нас как можно лучшей?
Поскольку свободным движением вовлекли мы себя в общение со злом, с каким–то удовольствием, как бы отраву некую, приправленную медом, примешав к естеству зло, а через это лишившись блаженства, которое, как представляем, в том и состоит, чтобы не страдать, преобразились в порок, то по этой причине человек, подобно какому–то скудельному сосуду, опять разлагается в землю, чтобы по отделении воспринятой им скверны воскресением мог быть воссоздан в первоначальный вид. Такой же догмат излагает нам Моисей исторически и загадками. Впрочем, и в загадках заключающееся учение ясно. Ибо говорит он, что, когда первые человеки коснулись запрещенного и обнажили себя от оного блаженства, тогда Господь налагает на первозданных «ризы кожаны» (Быт. 3:21), как мне кажется, не к этим именно кожам обращая смысл речи (ибо с каких закланных животных сняты кожи и придумано одеяние людям?). Но поскольку всякая кожа, отделенная от животного, мертва, то думаю, что после этого Врачующий нашу порочность, чтобы не навсегда в нас оставалась она, конечно промыслительно, наложил на людей возможность умирать, которая была отличием естества бессловесного. Ибо риза есть нечто извне на нас налагаемое, служащее телу на временное употребление, не сродняющееся с естеством. Поэтому, по особому смотрению, с естества бессловесных перенесена мертвость на естество, сотворенное для бессмертия, покрывает его внешность, а не внутренность, объемлет чувственную часть человека, но не касается самого Божия образа. Да и чувственное разлагается, а не уничтожается, ибо уничтожение есть превращение в ничто, а разложение есть разрешение опять на те стихии мира, из которых вещь составилась. Но, что в этих стихиях, то не погибло, хотя и избегло от постижения нашего чувства. Причина же разложения явна из приведенного нами примера. Поскольку чувственность в свойстве с дебелым и земным, лучшая же и высшая оценка прекрасного по одобрению чувств стала погрешительной, а погрешность в оценке прекрасного произвела осуществление противоположного состояния, то часть нас самих, соделавшаяся непотребной, разлагается от принятия в себя противного. Пример же выражается так: положи, что составлен из брения некий сосуд и по какому–то умышлению наполнен растопленным свинцом. Влитый же в него свинец отвердел и остается таким, что не может быть вылит, но хозяин сосуда хочет сделать его годным для себя; зная же скудельное искусство, отбивает со свинца черепки, а потом опять для собственного употребления делает сосуд в прежнем виде, ненаполненный примешанным веществом. Так и Создатель нашего сосуда, поскольку к чувственной части, разумею тело, примешался порок, разложив все вещество, принявшее в себя зло, и снова воссоздав в воскресении без примеси противного, восстанавливает сосуд в первобытную красоту. Но связь некоторая и общение греховных страстей бывает в душе и теле, т. е. некое сходство смерти телесной с душевной смертью, ибо как в плоти смертью называем удаление жизни чувственной, так и в душе отлучение жизни истинной именуем смертью же. Поэтому, так как, по сказанному прежде, одно некое есть общение зла, усматриваемое в душе и теле (потому что зло приходит в действие через душу и через тело), то смерть разложения вследствие наложения мертвых кож не касается души, ибо как может разложиться то, что несложно? А поскольку есть потребность, чтобы каким–либо врачеванием и от души отняты были приросшие к ней скверны, то поэтому в настоящей жизни для уврачевания таковых ран предложено врачевство добродетели; если же душа остается неуврачеванной, то сберегается для нее врачевание в жизни будущей. Но, как в телесных страданиях есть некоторые разности: одни из них удобно, а другие с трудом принимают врачевание и к прекращению укоренившегося в теле страдания употребляются резания, прижигания и горькие лекарства, так подобное нечто к уврачеванию душевных недугов обещает и будущий суд. Для людей слабых это угроза и восстание печалей, чтобы страхом болезненного воздаяния уцеломудрились мы до избежания порока, а по вере людей более осмысленных это врачевание и цельба от Бога, возводящего тварь Свою в первоначальную благодать. Как те, которые резанием или прижиганием сводят с тела неестественно наросшие мозоли и бородавки, не без мучения оказывают уврачевание благодетельствуемому, однако же не ко вреду терпящего производят резание, так и все вещественные излишества, какие ожесточают души наши, оплотяневший от общения со страстями, во время суда обрезываются и изглаждаются этой неизреченной мудростью и силой врачующего болящих, как говорит Евангелие, по сказанному: «Не требуют здравии врача, но болящий» (Мф. 9:12). Поскольку же в душе произошло великое сродство со злом, то, как срезывание зудящей бородавки колет поверхность тела (ибо сверх естества с естеством сросшееся каким–то сочувствием связуется с подлежащим и происходит странное некое срастворение чуждого с нашим, так что чувство, разлучаясь с неестественным, уязвляется и болит), — так, когда душа измождается и, как говорит негде пророчество, «истаявает в обличениях» (Пс. 38:12) о грехе, тогда по причине глубоко проникшего свойства со злом необходимо последуют за сим некие несказанные и невыразимые болезни, описание которых не изобразимо словом в той же мере, как и естество чаемых благ. Ибо и те и другие не подчиняются силе слов и недоступны гаданию разума. Поэтому, кто взирает на ту цель, какая у премудрости Домостроительствующего во Вселенной, тот никак не найдет основания Зиждителя людей по малодушию наименовать виновником зол, говоря, что Он или не знает будущего, или и знает, но сотворил человека не без наклонности к недоброму, потому что и зная будущее не остановил стремления к тому, что делается. Ибо, что человечество уклонится от добра, это знал Тот, Кто все содержит силой прозорливости и наравне с прошедшим видит будущее. Но, как видел Он уклонение, так разумел и воззвание человека снова к добру. Поэтому что было лучше? Вовсе ли не приводить в бытие нашего рода, так как предвидел, что в будущем погрешит против прекрасного, или, приведя в бытие, и заболевший наш род снова воззвать в первоначальную благодать? По причине же телесных страданий, необходимо постигающих нас по скоротечности естества, именовать Бога творцом зол или вовсе не признавать Его создателем человека, чтобы не мог быть почитаем виновником того, что причиняет нам мучение, — это знак крайнего малодушия в оценивающих добро и зло чувством, которые не знают, что по естеству добро только то, чего не касается чувство, а зло — одно только отчуждение от добра. Различать же добро и зло по трудам и удовольствиям свойственно естеству бессловесному; у бессловесных уразумение истинно хорошего не имеет места, потому что непричастны они ума и мысли.
А что человек есть прекрасное Божие дело и приведенное в бытие для более еще прекрасного, это явно не только из сказанного, но и из тысячи других свидетельств, которых множество по их бесчисленности обойдем молчанием. Наименовав же Бога Творцом человека, не забыли мы, о чем рассуждали вначале, обращаясь к эллинам, где нами было доказано, что Божие Слово, как самосущное и ипостасное, вместе есть и Бог, и Слово, сообъемлющее всю творческую силу; лучше сказать, Оно — Сама эта сила, имеет стремление ко всякому делу доброму, приводит в исполнение все, чего ни пожелает, потому что Его хотению сопутствует сила; Его изволение и дело есть жизнь существ; Им приведен в жизнь и человек, богоподобно украшенный всеми достоинствами. Поскольку же по естеству неизменно только то, что не как сотворенное имеет бытие, а что несозданным естеством произведено из несуществующего, то, прямо начав бытие превращением, всегда продолжает изменяться, будет ли оно поступать согласно с естеством, когда изменение направлено непрестанно к лучшему, или совратится с прямого пути, когда последует движение в противоположную сторону. Итак, поскольку к созданным принадлежит и человек, то переменчивость естества поползнулась у него в противоположную сторону. А как однократное удаление от благ последовательно вводит все виды зол, так что отвращением от жизни введена смерть, с оскудением света произошла тьма, по отсутствии добродетели она замещена пороком, и по отсутствии какого–либо из благ занято его место в списке противоположным, то человека, в такие и подобные бедствия впадшего по неразумию (невозможно было и сохранить благоразумие отвратившемуся от благоразумия и восхотеть чего–либо мудрого удалившемуся от мудрости), кому должно было снова воззвать к первоначальной благодати? Кому приличествовало исправление падшего, или воззвание погибшего, или руководство заблудшего? Кому другому, конечно, как не Господу естества?! Ибо одному только Давшему жизнь вначале возможно и вместе прилично было воззвать и жизнь погибающую. Это–то и слышим в таинстве истины научаемые, что Бог сотворил человека вначале и спас его, когда тот пал.
Глава 9. Достойно ли Бога то, что говорится о Христе?
Но касательно изложенного доселе возражающий, смотря на связь речи, согласится, может быть, с учением, потому что в сказанном, по–видимому, нет ничего чуждого боголепному образу мыслей. Но не с таким расположением примет, что следует далее и чем наиболее усиливается таинство истины. Человеческое рождение, возрастание от младенчества до совершеннолетия, вкушение, питие, утомление, сон, печаль, слезы, оклеветание, судилище, крест, смерть, положение во гроб — все это, входя в состав таинства, ослабляет как–то веру людей низкого образа мыслей, так что они вследствие сказанного прежде не принимают и того, что говорится впоследствии. Не допускается и боголепная мысль о воскресении из мертвых по неприличию понятия о смерти. Но думаю, что, освободив несколько помысл от плотской дебелости, должно наперед уразуметь о хорошем и нехорошем, что такое само по себе и по каким признакам понимается то и другое. Ибо никто из людей рассудительных, конечно, не станет противоречить, что по природе одно только из всего постыдно, именно порочная страсть; в чем же нет порока, то чуждо всякого срама. А, к чему не примешано ничего противоположного, то, без сомнения, принадлежит к числу хорошего, и истинно хорошее не имеет примеси противоположного. Все же, что усматривается в области хорошего, боголепно. Поэтому пусть или докажут, что рождение, воспитание, возрастание, постепенное усовершенствование естества, испытание смерти, возвращение от смерти суть пороки; или если соглашаются, что исчисленное не принадлежит к порокам, то по необходимости признают, что чуждое порока нимало не постыдно. Когда же доказано, что, без сомнения, это хорошо, не жалки ли по своему неразумию утверждающие, будто бы хорошее не боголепно?
Глава 10. Как Божество могло ограничиваться телом?
Но скажут: естество человеческое мало и ограниченно, а Божество беспредельно — как же беспредельное может быть объято атомом? Но кто говорит, будто бы ограниченностью плоти как бы сосудом каким объята беспредельность Божества? И во время нашей жизни духовное естество не бывает заключено внутри пределов плоти. Напротив того, телесный объем ограничивается собственными частями, а душа движениями мысли свободно простирается по всей твари, возносясь до небес, погружаясь и в бездны, проходя всю широту Вселенной, с пытливостью ума проникая в подземелья, а нередко касается мыслью и небесных чудес, не тяготясь бременем тела. Если же душа человека, необходимостью естества соединенная с телом, свободно бывает всюду, то какая необходимость утверждать, будто бы Божество стесняется естеством плоти, и по доступным нашему разумению примерам не составить о Божественном домостроительстве какой–либо приличной догадки? Как в светильнике усматривается огонь, объявший собою подложенное вещество, и Слово различает огонь на веществе и вещество, воспламеняющее огонь, на самом же деле нельзя, отделив это одно от другого, показать пламень сам по себе, в отдельности от вещества, напротив того, и пламень и вещество составляют из себя одно: так (в этом примере никто да не принимает в рассмотрение истребительную силу огня, а напротив того, взяв в образе одно то, что прилично, да отринет несвойственное и несоответственное), подобно тому что пламя, как видим, зависит от подложенного вещества и не заключается в веществе, что препятствует, представив себе единение и сближение Божеского естества с человечеством, и при сближении этом сохранить боголепную мысль, уверовав, что Божество, хотя было и в человеке, не подлежало никакому ограничению?
Глава 11. Как Божество соединилось с человечеством?
Если же спрашиваешь: как Божество соединяется с человечеством? — то смотри, прежде следует тебя спросить: какое сродство у души с плотью? Если же неизвестен способ соединения души твоей с телом, то, конечно, не должно тебе думать, чтобы и то стало доступно твоему постижению. Но, как здесь и уверены мы, что душа есть нечто иное с телом, потому что плоть, разъединенная с душой, делается мертвой и бездейственной и не знаем способа соединения, так и там, хотя признаем, что естество Божеское велелепно отличается от естества смертного и скоротечного, однако же невместимо для нас уразумение способа, каким Божество соединяется с человечеством. Напротив того, что Бог родился в естестве человека, не сомневаемся в этом по причине повествуемых чудес, но отказываемся исследовать, как родился, потому что это выше доступного помыслам. Ибо веруя, что всякое телесное и умственное бытие осуществлено естеством бесплотным и несозданным, вместе с верой в это не входим в исследование, из чего и как осуществлено. Но принимая, что приведено в бытие, оставляем неизведанным тот способ, каким составилась Вселенная, как вовсе несказанный и неизъяснимый.
Глава 12. Какие доказательства, что Бог явился во плоти?
А кто требует доказательств того, что Бог явился нам во плоти, пусть обратит взор на силу. Ибо и вообще, что есть Бог, на это едва ли имеет кто другое доказательство при свидетельстве дел. Поэтому как, взирая на Вселенную, рассматривая законы домостроительства в мире, благодеяния, свыше оказываемые нашей жизни, понимаем, что выше всего есть некая сила, которая творит совершающееся и охраняет существа, — так и в рассуждении явившегося нам во плоти Бога достаточным доказательством Божественного пришествия признаем многодейственные чудеса, в описанных делах открыв все, чем отличается естество Божие. Божие дело — оживотворять людей; Божие дело — охранять существа промыслом; Божие дело — подавать пищу и питье получившим в удел плотскую жизнь; Божие дело — благодетельствовать нуждающемуся; Божие дело — истощенное немощью естество снова возвратить в себя здравием; Божие дело — равно обладать всей тварью: землей, морем, воздухом, надвоздушными пространствами; Божие дело — на все иметь довлеющую силу, и, прежде всего, быть сильнее смерти и тления. Поэтому если бы в сказании о воплотившемся Боге недоставало чего–либо из этого, то чуждые нашей веры по праву отвергали бы наше таинство. А если все, из чего составляется понятие о Боге, усматривается в сказаниях о Нем, что препятствует вере?
Глава 13. Как может Бог родиться и умереть?
Но говорят: рождение и смерть свойственны естеству плотскому. И я говорю то же. Но, что прежде рождения и что после смерти, в том нет ничего общего с нашим естеством. Ибо, взирая на оба предела человеческой жизни, с чего начинаем и чем оканчиваем? Человек, начав бытие страданием, страданием и довершает. А там и рождение началось не страстью, и смерть кончилась не страданием, ибо и рождению не предшествовало чувство удовольствия, и за смертью не последовало тление. Не веришь ты чуду? Радуюсь этому неверию. Тем самым, что рассказываемое тебе почитаешь превышающим веру, признаешь, конечно, что чудеса эти сверхъестественны. Поэтому доказательством божественности Явившегося да будет тебе само то, что проповедь сообщает не события естественные. А если бы повествуемое о Христе заключалось в пределах естества, то где было бы Божественное? Если же слово превышает естество, само то, чему не веришь, для тебя доказательство, что проповедуемый есть Бог. Человек рождается от супружеской четы, а по смерти предается тлению. Если бы проповедь заключала в себе это, то, конечно, не подумал бы ты, что тот, в ком засвидетельствованы отличительные свойства нашего естества, есть Бог. Поскольку же слышишь, что, хотя Он родился, однако же и способом рождения, и тем, что не допустил до себя изменения через тление, выступил из общих с естеством нашим пределов, то вследствие этого хорошо будет обратить неверие на другое: не почитать Его одним из видимых в природе человеком. Кто не верит, что таковой есть человек, тот по всей необходимости приведен будет к вере, что Он есть Бог. Ибо повествоваший, что Он родился, повествовал вместе, что и родился так именно. Поэтому если вследствие сказанного верно, что Он родился, то по этому же самому, конечно, вероятно и то, что родился именно так. Ибо сказавший о рождении присовокупил, что родился от Девы. И упомянувший о смерти засвидетельствовал и о воскресении по смерти. Поэтому если по слышимому допускаешь, что родился и умер, то по тому же самому допустишь, конечно, что и рождение и смерть Его изъяты от страдания. Но это выше естества, следовательно, не в пределах естества, конечно, и Тот, Кто оказывается родившимся сверхъестественно.
Глава 14. Какова же причина такого унижения Божества?
Поэтому какая же, говорят, была причина Божеству снизойти до такого унижения, при котором колеблется вера, недоумевая, точно ли Бог — существо невместимое, недомыслимое, иеизглаголанное, превышающее всякую славу и всякое величие, соединяется с малоценной оболочкой естества человеческого, так что и высокие Его действия уничижаются этим соединением с ничтожным?
Глава 15. Ответ на поставленный выше вопрос и начало ответа на следующий: почемy Он не спас человека одним повелением?
Не затрудняемся дать на это боголепный ответ. Спрашиваешь о причине, по которой Бог родился среди людей? Если отнимешь от жизни оказанные свыше благодеяния, то не в состоянии будешь сказать, почему познаешь Божество. Ибо из того, что испытываем, познаем Благодетеля; имея перед глазами совершающееся, по нему заключаем о естестве действующего. Поэтому если особый признак естества Божия есть человеколюбие, то имеешь ответ на предложенный тобою вопрос, имеешь причину явления Божия среди людей. Немоществовавшее наше естество возымело нужду во врачующем; человек, подвергшийся падению, возымел нужду в подъемлющем; уклонившийся от жизни возымел нужду в оживотворяющем; удалившийся от причастия блага возымел нужду в возводящем ко благу; заключенному во тьме стало нужно пришествие света; пленник ощутил потребность в искупителе, узник — в защитнике, содержимый под игом рабства — в освободителе. Неужели этого было мало и недостойно того, чтобы преклонить Бога снизойти для посещения естества человеческого, когда человечество было в таком жалком положении?! Но можно было, говорят, и человеку оказать благодеяниe, и Богу пребыть нестраждущим, ибо по изволению своему Создавший Вселенную и единым движением воли Осуществивший несуществующее, почему и человека не вводит полномочной некоей и Божественною властью, похитив у сопротивной силы, в первоначальное состояние, если то Ему угодно, но идет дальними обходами, облекаясь в телесное естество, вступая в жизнь посредством рождения, переходя по порядку все возрасты, потом вкушая смерть и, таким образом, достигая цели Воскресением собственного Своего тела, как будто невозможно Ему было, пребывая на высоте Божественной славы, спасти человека Своим повелением, оставив в стороне такие околичности? Поэтому необходимо, чтобы и таким возражениям противопоставили мы истину, и ничто не препятствовало вере пытливо исследующих таинственное учение. Итак, рассмотрим сперва (что отчасти исследовано уже и выше) стоящее в противоположность добродетели. Как свету тьма и жизни смерть, так, очевидно, добродетели противоположен порок, а не другое что кроме него. Как из множества усматриваемых в творении существ ничто другое не состоит в противоположности свету и жизни: ни камень, ни дерево, ни вода, ни человек, ни какое–либо иное существо, кроме того, что собственно почитается противоположным, каковы тьма и смерть, — так и в рассуждении добродетели никто не скажет, что какую–либо тварь, кроме понятия порока, разумеет ей противоположной. Поэтому если бы учение наше утверждало, что Божество рождено порочно, то возражающий имел бы случай нападать на веру нашу, так как о Божием естестве думаем несообразное и несходное. Ибо непозволительно утверждать, будто бы истинная премудрость, благость, нетление (и если еще есть какое высокое понятие и именование) впадает в противоположное. Итак, если истинная добродетель есть Бог, а добродетели противоположно не естество какое, но порок, Бог же рождается не в пороке, но в естестве человеческом; и одно только неприлично и постыдно — порочная страсть, в которой Бог и не был, и быть по естеству Своему не может, то почему стыдятся этого исповедания, что Бог соединился с естеством человеческим, когда в составе человека относительно к добродетели не усматривается ничего противного? Ибо ни дар слова, ни дар разума, ни способность приобретать познания, ни другое что этому подобное, составляющее особенность человеческой сущности, не противны понятию добродетели.
Глава 16. Пpетеpпело ли Божество страдание?
Но самая изменчивость нашего тела, говорят, есть страдательное состояние, и, кто в теле, тот бывает в страдании, но Божество бесстрастно. Следовательно, странно это понятие о Боге, если только утверждают, что бесстрастный по естеству входит в общение со страданием. Но и на это воспользуемся опять тем же ответом, что страдательным состоянием иное называется в собственном смысле, а иное — по неточному словоупотреблению. Что касается свободного произволения и от добродетели обращает к пороку, то подлинно есть страдание; все же, что в естестве усматривается переходным, идущим особой последовательностью, то в более собственном смысле можно назвать скорее делом, нежели страданием. Таковы, например, рождение, возрастание, поддержание тела посредством притекающей и извергаемой пищи, стечение в теле стихий и опять разложение сложившегося и переход в сродное. Чего же, по сказанию нашего таинства, коснулось Божество? Собственно ли так называемого страдательного состояния, которое есть порок, или естественного движения? Если бы в учении утверждалось, что Божество допустило до себя недозволенное, то должно было бы бежать от такого нелепого догмата, как не предлагающего о Божием естестве ничего здравого. Если же говорит, что Бог коснулся нашего естества, и первое бытие и особое существование которого возымели начало от Бога, то в чем погрешает проповедь против боголепного образа мыслей, когда в понятиях о Боге не входит в веру никакого страдательного расположения? Ибо не говорим, что врач подвергается страданию, когда врачует страждущего, — напротив того, ухаживающий за больным, хотя и касается недуга, сам остается свободен от страдания. Если рождение само по себе не есть страдание, то и жизнь никто не назовет страданием. Напротив того, к человеческому рождению приводит сладострастие и стремление живых к пороку — это есть недуг естества. Но таинство говорит, что Божество чисто от того и другого. Поэтому если рождение чуждо сластолюбию и жизнь — пороку, то какое остается страдание, в котором бы, по словам таинства благочестия, имел общение Бог? Но если страданием назовет кто разлучение тела и души, то справедливо было бы прежде наименовать так соединение обоих. Ибо если расторжение соединенных есть страдание, то и сопряжение разъединенных может быть страданием, потому что и в сочетании раздельных и в разделении состоявших в связи представляется некое движение. Поэтому, чем именуется последнее движение, тем надлежит называть и предшествующее. Если же первое движение, которое именуем рождением, названо будет страданием, то страданием же должно назвать и то, которым разрешается соединение тела и души. Но о Боге говорим, что был Он в том и другом движении нашего естества — и в том, которым душа соединяется с телом, и в том, которым тело разлучается с душой. А о человеческом составе, по причине неизреченного и невыразимого этого срастворения, смешанного в рассуждении того и другого, т. е. чувственного и духовного, предусмотрено то, что единение однократно соединенных, разумею душу и тело, продолжается и навсегда. Ибо, когда естество наше, следуя свойственному для него порядку и в Воплотившемся подвигнуто было к разделению души и тела как бы липким каким составом, разумею Божественную силу, снова сопряг Он разделенное, приведя расторгнутое в неразрывное единение. И это есть воскресение — того, что прежде было сопряжено и по разложении взаимно соединяется, возвращение в неразлагаемое единение, чтобы человечеству возвратилась первоначальная благодать и снова вступили мы в вечную жизнь, когда примешавшийся к естеству порок по причине разложения нашего состава исчезает в нас, как бывает это с жидкостью, которая, когда сосуд с ней разбит, не будучи ограждаема ничем, разливается и пропадает. Но, как начало смерти, происшедши в одном, перешло на весь человеческий род, таким же образом и начало воскресения через Единого распростирается на все человечество. Кто воспринятую Им душу снова соединил с собственным Своим телом той силой Своей, которая при первом составлении срастворена была и с телом и с душой, Тот неким более общим способом соединил духовную сущность с чувственной, начало по порядку успешно сведя с концом. Ибо когда в воспринятом Им на Себя человеческом составе по разрешении душа снова возвратилась в тело, тогда соединение разделенного, как от некоего начала, в возможности равно переходит на весь человеческий род. И это есть таинство домостроительства Божия о человеке и воскресения из мертвых. Хотя смертью разлучается душа с телом и не нарушается необходимый порядок естества, однако же Бог воскресением снова сводит их между собой, чтобы послужить для них разграничительным пределом того и другого, и смерти и жизни, когда, как в Себе самом составит разделенное смертью естество, так и Сам соделается началом соединения разделенного.
Глава 17. Возобновление вопроса: почемy не одним повелением спас человека, но понадобился такой окольный путь?
Но не решено еще сделанное нам возражение, скажет иной, в сказанном же находит для себя большую силу предлагаемое нам неверными. Ибо если, как показало слово, во Христе столько силы, что в Его власти низложение смерти и вшествие жизни, то почему не волей единой производит желаемое, но околичным путем совершает наше спасение: рождается, воспитывается, испытанием смерти спасает человека? Можно Ему было и не подвергаться этому и спасти нас. На такое замечание людям благомыслящим достаточно сказать в ответ, что больные не предписывают врачам, как ухаживать за ними, и с благодетелями не входят в состязание о роде лечения, не говорят, почему врачующий прикоснулся к страждущему члену и для прекращения болезни придумал такое средство, когда нужно было другое; напротив того, взирая на конец благодеяния, с благодарностью принимают благотворение. Но поскольку, как говорит Пророк, «множество благости» Божией доставляет сокровенную пользу (Пс. 30:20) и еще не усматривается ясно в настоящей жизни (а если бы ожидаемое было перед очами, то не имело бы силы все то, что говорят вопреки неверные; теперь же усматриваемое ныне одной верой ожидает грядущих веков, чтобы стать для них откровенным), то необходимо какими–либо умозаключениями изыскать по возможности решение предложенного вопроса, подобное предшествовавшим.
Глава 18. Историческое доказательство пришествия Божия в мир: идолопоклонники и иудеи
Уверовавшим, что Бог приходил в мир, напрасно, может быть, и порицать это пришествие, будто оно совершено не премудро и не лучшим каким способом. Ибо для тех, которые не слишком упорствуют против истины, немаловажным доказательством Божия пришествия служит явленное прежде будущей жизни в настоящем веке, разумею свидетельство самих событий. Кто не знает, как все части Вселенной наполняла демонская прелесть, посредством идолопоклонства возобладав людскою жизнью, как всем народам в мире обратилось в закон в идолах служить демонам закланием в жертву животных и принесением на жертвенники мерзостей? Но с тех пор, как, по слову апостола, «явися благодать Божия спасительная всем человеком» (2 Тим. 2:11), пришедшая в естестве человеческом, все, как дым, обратилось в ничто, почему прекратились неистовства прорицалищ и провещаний, уничтожились ежегодные празднества и кровавые скверны гекатомб; у многих народов вовсе не стало храмов, притворов, капищ, жертвенников и всего другого, что служителями идолов направляемо было к обольщению себя самих и использующих это, так что во многих местах и не помнят, бывало ли когда это; по всей же Вселенной воздвигнуты вместо этого во имя Христово храмы и жертвенники, везде досточестное и бескровное священнодействие и высокое любомудрие, более делом, нежели словом преспевающее, небрежение о телесной жизни и презрение к смерти, какое явно показали принуждаемые гонителями отступить от веры, в ничто вменив телесные уязвления и осуждение на смерть, чему, конечно, не подвергли бы себя, если бы не имели ясного и несомненного доказательства о Божием пришествии. То же самое достаточно сказать иудеям в знамение, что пришедший — Тот, в Кого они не веруют, потому что до Христова Богоявления славна была у них столица царей в Иерусалиме, знаменит его храм, законны ежегодные жертвы и все, что для таинников, способных уразумевать, подробно изложено законом в загадках, согласно с узаконенным у них изначала служением благочестия, было дотоле невозбранно. Но как увидели Ожидаемого, о Котором наперед научены были и пророками и законом, и вере в Явившегося предпочли исполненное заблуждений суеверие, которое худо отринув, хранили речения закона, служа более по обычаю, нежели по разуму, — то после этого явившейся благодати они не приняли и что было досточестного в их богослужении, то осталось в одних только рассказах об этом; храма не узнаешь и по следам; славный этот град оставлен в развалинах; не остается у иудеев ничего из узаконенного в древности — напротив того, и само досточтимое ими в Иерусалиме место по повелению властвующих сделалось для них недоступным.
Глава 19. Необходимо все же убеждать невеpyющих
Впрочем, поскольку все это ни эллинствующим, ни главным преподавателям иудейских учений не кажется составляющим признаков Божия пришествия, то хорошо будет особо повести речь и о сделанных возражениях, почему естество Божие соединяется с нашим, самим собою спасая человечество, а не повелением совершая предположенное? Поэтому какое же может быть у нас начало, которое бы последовательно речь нашу привело к поставленной цели? Какое, кроме этого изложить кратко благочестивые понятия о Боге?
Глава 20. В Божиих действиях должны обнаpyжиться вместе благость и справедливость
Итак, по признанию всех, должно веровать, что Бог не только могущественен, но и справедлив, благ, премудр, имеет все, что разум относит к наилучшему. Поэтому при настоящем домостроительстве следует не того хотеть, чтобы в совершающемся одно из боголепных свойств обнаруживалось, а другое нет. Ибо вообще никакое из высоких этих именований само по себе, по одиночке, в отдельности от других, не есть добродетель. И доброе, если не сопряжено со справедливым, премудрым, могущественным, не есть действительно доброе, потому что несправедливое, непремудрое или немогущественное не есть доброе. И могущество, отделенное от справедливого и премудрого, не представляется добродетелью, потому что такой род могущества есть зверский и насильственный. А также сказать должно и о прочем: если мудрое выступит из пределов справедливого или если справедливое не будет вместе с могущественным и добрым, то подобное этому иной скорее наименует в собственном смысле пороком. Ибо почему кто–либо причислит к добру то, чему недостает совершенства? Если же во мнениях о Боге надлежит стекаться всем совершенствам, то посмотрим, домостроительство Божие о человеке имеет ли недостаток в каком–либо из боголепных понятий? В Боге, конечно, ищем мы знаков благости. Возможно ли какое–то более явственное свидетельство доброты, чем это — сделать своим бежавшего на противную сторону, и естеству постоянному, неизменному в добре, не согласоваться в действиях с изменчивостью человеческого произволения? Бог не пришел бы, как говорит Давид, «во еже спасти нас» (Пс. 79:3), если бы не благость вложила такое намерение. Но и благость этого намерения не принесла бы пользы, если бы не премудрость делала человеколюбие действенным. Ибо что до тех, которые в болезненном состоянии, то многим, может быть, хотелось бы, чтобы больной не страдал. Но это доброе изволение те только приводят в исполнение над больными, которым в исцелении больного содействует какая–то сила искусства. Итак, с благостью, без всякого сомнения, должна быть сопряжена мудрость. Каким же образом в совершившемся вместе с благостью оказывается и мудрость? Таким, что доброе видим не в одном только намерении. Ибо как намерение сделалось бы явным, не будучи обнаружено событиями? Дела же, последовательно происходящие в какой–либо связи и в порядке, показывают премудрость и искусство Божия домостроительства. А как, по сказанному прежде, мудрость, сопряженная со справедливостью, без сомнения, делается добродетелью (взятая же в отдельности, сама по себе не останется и благостью), то в учении о домостроительстве спасения человеческого хорошо будет рассматривать во взаимной связи два свойства — разумею премудрость и справедливость.
Глава 21. Начало объяснения справедливости домостpоительства спасения: человек свободно уклонился от блага
Поэтому какая справедливость? Помним, без сомнения, сказанное, как следовало, в начале слова, а именно что человек устроен по подобию Божия естества, сохраняя в себе это подобие Божеству и в прочих добрых качествах, и в свободе произволения, но будучи, по необходимости, естества изменчивого. Ибо, кто начало бытия имеет через изменение, тому невозможно, конечно, не быть изменчивым, потому что сам переход из небытия в бытие есть некое изменение, при котором неосуществленное Божией силой преложено в сущность. И по другой причине в человеке необходимо оказывается изменчивость по тому самому, что человек был подобием естества Божия, а уподобляемое, если бы не имело какой–либо инаковости, конечно, было бы тождественно с тем, чему уподобляется. Поэтому, так как инаковость с Первообразом созданного по образу состоит в том, что Первообраз по естеству неизменен, а образ не таков, напротив же того, по изложенной причине и осуществился через изменение, и изменяется, конечно, по тому самому, что есть подобие, а изменение есть движение, непрестанно простирающееся из одного состояния, в каком вещь находится, в другое, — то два есть вида такого движения: одно совершается всегда к добру, в нем поступление вперед не имеет остановки, потому что не достигается предел пути; другое противоположно, в том его и состоятельность, что не бывает состоятельным, потому что противление добру, как сказано прежде, в таком же смысле отличается от добра, в каком не существующее называем отличным от существующего и небытие от бытия. Итак, поскольку по удопревратному и изменчивому стремлению и движению невозможно естеству в самом себе пребывать неподвижным, то к чему–либо непременно устремляется произволение, естественно вовлекаемое в движение пожеланием лучшего. Но иное действительно хорошо по естеству, а иное не таково и прикрашено каким–то признаком хорошего. Решать это поставлен внутри нас ум, и нам предстоит или улучить действительно хорошее, или, отвратившись от него, по какому–либо обману видимостью увлечься в противоположное, как нечто подобное, по сказанию народной басни, случилось с псом, который, увидев в воде отражение того, что нес он во рту, бросил настоящую пищу, разинув же пасть, чтобы схватить подобие пищи, остался голодным.
Глава 22. Справедливость домостроительства спасения — в ненасилии над дьяволом
Итак, поскольку ум, ошибившись в пожелании подлинного добра, уклонился к тому, что не существует, лестью худого советника и изобретателя порока убежденный, будто бы хорошо то, что противоположно хорошему, ибо лесть не подействовала бы, если бы на уде порока не был наподобие наживки нацеплен призрак хорошего, — итак, поскольку человек добровольно подвергся этому бедствию, по сластолюбию подчинив себя врагу жизни, то требуй от меня понемногу всего, что приличествует понятиям о Боге: благость, правда, могущество, нетление и если чем еще означается совершенство. Бог, как благой, исполняется милосердия к падшему и, как премудрый, знает способ, как возвратить; делом же мудрости был и суд справедливости, ибо истинной справедливости никто не припишет неблагоразумию. Поэтому что же в этом справедливо? То, что против овладевшего нами не употреблено никакого насильственного полновластия, и по преизбытку силы Восхитивший нас у владеющего не оставил поработившему человека сластолюбием никакого повода к оправданию. Так, отдавшие свободу свою за деньги — рабы купивших, сделавшиеся продавцами самих себя, и ни им самим, ни другому кому не позволительно провозглашать их свободу, хотя бы продавшие себя на это бедствие были люди и благородного происхождения. Да и если кто, радея о проданном, употребит насилие против купившего, то, самовластно отнимая приобретенного в собственность законно, почтен будет несправедливым. Но, если угодно, снова купить такого никакой закон не воспрещает.
Глава 23. Премудрость домостроительства спасения — в сокрытии Божества
Поскольку мы себя таким же образом добровольно продали, то освобождающему нас по благости снова должно было изобрести не насильственный, но справедливый способ возвращения. А этот способ таков: войти в сделку с владеющим, чтобы взял, какую пожелает, цену за обладаемого. Поэтому что же, как вероятно, лучше было владеющему избрать и взять? По ходу дела можно составить некоторую догадку о его пожелании, а потом ясны для нас будут признаки искомого. Итак, кто по причине, представленной в начале этого сочинения, завистью к благоденствующему закрыл глаза для добра и в себе породил мрак порока и заболел началом и основанием наклонности к худому и как бы матерью прочих пороков — любоначалием, тот обменял ли бы на что обладаемого, кроме чего–либо очевидно высшего и большего, чтобы полнее удовлетворить в себе страсти кичливости, за меньшее получая большее вознаграждение? Но в повествуемом от века ни в чем не знал ничего подобного тому, что усматривал в видимом тогда, в безмужнем чревоношении и нерастленном рождении, в девственных сосцах, в голосах невидимых существ, свыше свидетельствующих о сверхъестественном достоинстве, в исцелении естественных недугов, совершаемом Им без каких–либо средств, а одним только словом и устремлением воли, в возвращении умерших к жизни, в устрашении демонов, во власти над воздушными волнениями, в хождении по морю, между тем как пучина не делится на две части и не обнажает дна проходящим подобно тому, что было в чудотворении Моисеевом, но поверхность воды сверху обращается в сушу под стопою и с надежной упругостью поддерживает след, в раздаянии пищи какого угодно количества, в обильных угощениях среди пустыни для многих тысяч учреждаемых, которым не небо дождит манну, не земля, из собственного своего естества уготовляя пищу, доставляет удовлетворяющее потребности, но из таинственных сокровищниц Божией силы исходит щедрость, готовый хлеб, возделываемый руками прислуживающих и умножаемый насыщением ядущих, и услаждение рыбами, не морем принесенными на их потребу, но Тем, Кто и самый род рыб посеял в море. И кто опишет по порядку одно за другим евангельские чудеса? Эту–то силу усматривая в Нем, враг видел, что предлагаемое ему в обмен больше того, чем обладает. Поэтому Его избирает стать ценой за содержимых под стражей смерти. Но врагу невозможно было воззреть на непокрытый ничем образ Божий, не увидев в нем какой–либо части той плоти, которую покорил уже себе грехом. Поэтому Божество прикрывает себя плотью, чтобы враг, взирая на знакомое и сродное ему, не ужасался приближения преизбыточествующей силы и, приметив, что сила незаметно более и более проявляется в чудесах, признал для себя явившееся более вожделенным, нежели страшным. Видишь, как благость сопрягается со справедливостью и премудрость не отделяется от них. Примыслить, чтобы Божественная сила соделалась доступной по причине телесного покрова, и домостроительству о нас не воспрепятствовал страх высокого явления — это, без сомнения, служит доказательством вместе и благости, и премудрости, и справедливости. Ибо пожелать спасти есть свидетельство благости; соделаться же искупительной ценой за обладаемого другим показывает справедливость и примышлением недоступное для врага сделать доступным — есть доказательство высочайшей премудрости.
Глава 24. В чем проявилось могущество Божества
Но внимательно следовавшему за порядком сказанного естественно спросить, где же усматривается в сказанном могущество Божества, где нетление Божественной силы? Потому, чтобы и это сделалось ясным, рассмотрим последствия таинства, в которых более всего показывается срастворенное с человеколюбием могущество. Итак, во–первых, само то, что всемогущее естество смогло снизойти до низости человечества, служит большим доказательством могущества, нежели великие и сверхъестественные чудеса. Если Божественной силой совершается что–либо великое и высокое, то это как–то естественно и последовательно. И нисколько не оказывается странным для слуха, если сказать, что всякая тварь в мире и все, что умопредставляется вне видимого, составлены Божественным могуществом, осуществлены Божией волей, как ей благоугодно. А снисхождение к уничиженному есть некий преизбыток силы, не встречающей ни малейшего препятствия в сверхъестественном. Ибо, как сущности огня свойственно стремление вверх и никто не почтет достойным удивления, что с пламенем делается естественно, а если кто увидит, что пламень течет вниз, подобно тяжелым телам, то подобное этому вменяется в чудо, каким образом огонь остается огнем и в образе движения отступает от естества, стремясь вниз, — так и Божественное, все превосходящее могущество не столько показывает величие небес, сияние светил, благоустройство Вселенной, непрестанное домостроительство существ, сколько снисхождение к немощи нашего естества. Как высокое усматривается в уничиженном и высота не уничижается? Как Божество, соединившись с человеческим естеством, и последним делается, и первым пребывает? Ибо, по сказанному прежде, сопротивная сила не имела возможности стать в общение с явно присутствующим Богом и перенести ничем не прикрытое Его явление. Поэтому, чтобы требующему за нас выкупа можно было взять таковой, Божество сокрылось под завесой нашего естества, и враг, как жадная рыба, вместе с приманкой плоти проглотил крючок Божества, а таким образом по водворении жизни на место смерти и по явлении света на место тьмы уничтожилось представляющееся противоположным свету и жизни. Ибо нет возможности и тьме оставаться в присутствии света и быть смерти, когда действует жизнь. Итак, вкратце повторив весь ход таинства, мы совершенно оправдаем Божественное домостроительство перед обвиняющими за то, что Божество не само собою совершает спасение человеческое. Ибо во всем о Божестве должны иметь боголепные понятия, не разуметь о нем иное высоко и не низводить иного из боголепного достоинства, но веровать, что в рассуждении Бога непременно имеет место всякая высокая и благочестивая мысль, по связи завися одна от другой. Итак, доказано, что благость, премудрость, справедливость, могущество, недоступность тлению — все открывается в понятии домостроительства о нас. Благость постигается в произволении спасти погибшего. Премудрость и справедливость показаны в способе нашего спасения. А могущество видно в том, что стал Он в подобии человеческом, в уничиженном виде нашего естества и смерти подал о Себе надежду, будто бы она в силах по подобию людей овладеть Им; но, будучи в ее власти, совершил то, что свойственно Ему по Божеству; свойственно же свету уничтожение тьмы, а жизни — истребление смерти. Итак, поскольку, совратившись с правого пути, в самом начале уклонились мы от жизни и вовлечены были в смерть, то научаемся ли чему невероятному из таинства, если постигают оскверненных грехом чистота, умерших жизнь, заблудших путеводство, так что и скверна очищается, и заблуждение исправляется, и умершее возвращается в жизнь?
Глава 25. Ответ тем, кто удивляются, что Божество было в человеческом естестве
А что в естестве нашем пребывало Божество, это не крайне малодушным, наблюдающим сущее, нимало не дает основания находить то странным. Ибо кто такой по душе младенец, который, смотря на Вселенную, не верит, что во всякой вещи есть Божество, проникающее и объемлющее ее и в ней пребывающее? Ибо все зависит от Сущего и ничему невозможно быть, имея бытие не в Сущем. Поэтому если все в Божестве и Оно во всем, то чего стыдятся в домостроительстве таинства научающего, что среди людей пребывал Бог, о Котором веруют, что Он и теперь не вне людей? Ибо, хотя способ присутствия Божия в нас неодинаков с тем, однако же что Бог в нас, равно признается и ныне и тогда. Как теперь в нас пребывает Содержащий естество в бытии, так тогда вступил в единение с нашим, чтобы оно соединением с Божественным стало Божественно, изъято от смерти, избавлено от мучительства сопротивника. Ибо Его возвращение от смерти и для смертного рода делается началом возвращения в жизнь бессмертную.
Глава 26. Оправдание премудрости домостроительства
Но иной, может быть, при исследовании этой справедливости, усматриваемой в этом домостроительстве, и премудрости, приходит к мысли, что в таком способе примышлен за нас Богом некий обман. Ибо, что Бог, неузнанный врагом, не откровенным Божеством, но сокрытым под естеством человеческим, входит к обладающему, это, некоторым образом, есть некий обман и обольщение, так как обманывающим свойственно надежды тех, против кого злоумышляют, обращать на одно, а делать не то, на что они надеялись. Но, у кого перед очами истина, тот согласится, что это–то всего наиболее свойственно справедливости и премудрости. Ибо дело справедливости — воздавать каждому по достоинству, а дело премудрости — и не нарушать справедливости, и доброй цели человеколюбия не разлучать с правдивым судом, но то и другое благоискусно сопрягать между собою, по справедливости воздавая, что чего достойно, а по благости не отступая от цели человеколюбия. Итак, посмотрим, не усматриваются ли в совершившемся оба эти качества. Ибо воздаяние по достоинству, которым вводится в обман обманщик, показывает справедливость. А цель совершаемого делается свидетельством благости действующего. Справедливости свойственно воздавать каждому тем, чему кто прежде положил начала и причины, как и земля воздает плоды по роду вложенных в нее семян. А премудрости свойственно в способе воздаяния подобным не отступать от лучшего. Ибо, как злоумышляющий на жизнь и исцеляющий подвергшегося злоумышлению одинаково примешивают к пище состав, только один примешивает яд, а другой врачевство от яда, и способ врачевания нимало не вредит цели благодеяния, и хотя обоими примешивается состав в пищу, но, обращая внимание на цель, одного хвалим, а на другого негодуем, — так и здесь по закону справедливости обманщик воспринимает то, чему семена вложил по собственному произволению, потому что обманувший человека приманкой удовольствия и сам обманывается человеческим видом. В цели же соделанного есть перемена к лучшему. Ибо один употребил обман к растлению естества, а справедливый, вместе благой и премудрый, измышлением обмана воспользовался ко спасению растленного, благодетельствуя тем не только погибшему, но и самому причинившему нашу погибель. Ибо от приближения смерти к жизни, тьмы к свету, тления к нетлению происходит уничтожение и превращение в ничто худшего, польза же от этого для очищаемого. Ибо, как по примеси малоценного вещества к золоту обрабатывающие его, все чуждое и негодное истребляя обращением в пищу огню, драгоценнейшее вещество снова приводят в естественный ему блеск, и не без труда, правда, совершается это отделение, потому что в продолжение некоторого времени истребительной силой огня уничтожается примесь, по крайней мере служит неким уврачеванием золоту истощение в нем бывшего в ущерб его доброте, — таким точно образом, когда смерть, тление, тьма и, ежели есть какое еще порождение порока, возникли у изобретателя зла, приближение Божественной силы, подобно огню, произведя уничтожение противоестественного, оказывает естеству благодеяние нетлением, хотя и трудно такое разделение. Поэтому и самому противнику, если бы восчувствовал он благодеяние, не показалось бы сомнительным, что совершенное справедливо и спасительно. Как ныне те, кому во время лечения делают порезы и прижигания, негодуют на врачей, мучимые болью от резания, но, если от этого выздоравливают и болезненное ощущение прижигания пройдет, то принесут благодарение совершившим над ними это врачевание, — таким точно образом, когда по истечении долгого времени изъято будет из естества зло, ныне к ним примешанное и сроднившееся с ними, поскольку совершится восстановление пребывающих ныне во зле в первоначальное состояние, единогласное воздастся благодарение всей твари и всех, претерпевших мучение при очищении, и даже не имевших нужды в начале очищения. Это и подобное этому преподает великое таинство Божия вочеловечения. Ибо тем самым, что приобщился человечеству, приняв на себя все свойственное естеству: рождение, воспитание, возрастание, и дошедши даже до смерти, совершил Он все сказанное прежде, и человека освободя от порока, и врачуя самого изобретателя порока. Ибо очищение болезни, хотя оно и трудно, есть врачевание недуга.
Глава 27. Рождение Богочеловека не противоречит понятию о Боге
А вступившему в единение с естеством нашим, конечно, следовало во всех его свойствах принять общение с нами. Ибо, как смывающие нечистоту с одежды не делают так, чтобы иные пятна оставить, а другие вывести, но всю ткань с одного конца до другого очищают от загрязнения, чтобы одежда стала одинаковой цены во всех частях своих, от мытья получив равную чистоту, — так, поскольку жизнь человеческая осквернена грехом в начале и конце и во всех средних частях, то омывающая сила должна коснуться всего и не делать так, чтобы одно уврачевано было очищением, а другое оставлено без уврачевания. Поэтому–то, так как жизнь наша двумя пределами отделена и здесь и там, разумею начало и конец, то на обоих пределах исправительная для естества сила оказывается и начала коснувшейся, и до конца простершей свое действие, и объявшей все, что в середине между началом и концом. А так как вход в жизнь эту для всех людей один, то приходящему к нам откуда должно переселяться в эту жизнь? С неба, может быть, скажет гнушающийся человеческим бытием, как чем–то срамным и бесславным. Но человечество не было на небе; никакой болезни греха не поселялось в премирной жизни. А Вступивший в единение с человеком с целью пользы совершил это единение. Поэтому, где не было зла, и не жили человеческой жизнью, почему кто–то потребует, чтобы там облекся Бог в человека, лучше же сказать и не в человека, а в какой–то кумир и подобие человека?
Но какое было бы исправление нашему естеству, если бы, когда болезнует земное живое существо, Божественное посещение приняло какое–либо существо другое, небесное? Ибо невозможно исцелеть больному, если не принял уврачевания собственно страждущего члена. Поэтому если бы больное было на земле, Божественная же сила не коснулась больного, имея в виду приличное для себя, то бесполезен был бы для человека труд Божественной силы над тем, что не имеет ничего общего с нами. Ибо Божеству равно неприлично (если вообще позволительно под неприличным разуметь что иное, кроме порока, и бесславие не больше уменьшается, по крайней мере для поставляющего по малоумию Божественное величие в том, чтобы не допускать общения со свойствами нашего естества) если облечется Божество телом небесным, а не земным. Ибо пред Всевышним и Неприступным по высоте естества вся тварь равно отстоит от Него долу и все равнозначно ниже Его. Совершенно неприступное не то, что для иного приступно, а другой приблизиться к тому не может, — напротив того, Оно равно выше всех существ. Поэтому земля не далее по достоинству, и небо не ближе, и существа, обитающие в каждой стихии, в этом отношении не разнятся между собой, так что одни касаются недоступного естества, а другие отделены от Него; разве предположим, что обладающая всем сила не равно проникает все существа, но в иных преизбыточествует, а в других она недостаточна, и вследствие этого кажется, что Божество по разности в большем и меньшем, высшем и низшем сложно, само с собою несходно, если только по естеству представляемо будет от нас далеким, а кому–нибудь другому — близким и по близости сделается удобопостижимым. Но истинное учение ни долу, ни горе не видит ничего для сравнения с высоким достоинством, потому что все в равной мере ниже силы, всей управляющей, так что если земное естество почтут недостойным единения с Божеством, то не найдется никакого другого, имеющего это достоинство. Если же все в равной мере лишено этого достоинства, то Богу прилично благодетельствовать имеющему в том нужду. Итак исповедуя, что врачующая сила явилась там, где была болезнь, уверовали ли мы во что–нибудь чуждое боголепному понятию?
Глава 28. О том, что наше рождение и соответствующие члены тела — не зло, но, напротив, должны быть в почете
Но смеются над естеством нашим и позорят способ нашего рождения, а через это думают сделать смешным таинство, как будто неприлично для Бога таким путем войти в общение с человеческой жизнью. Но об этом говорено уже было прежде, а именно, что одно только гнусно по естеству своему — зло и ежели еще что состоит в свойстве с пороком. А порядок естества, установленный Божиим изволением и законом, далек от укоризны в пороке. Иначе обвинение падет на Создателя естества, если и естество укоренено будет в чем–то гнусном и неприличном. Итак, если Божество чуждо одного порока, а порок по естеству не существует, таинство же сказует, что Бог был в человеке, а не в пороке, и если путь для человека в мире, которым рождаемое вступает в жизнь, один, то по какому же закону для Бога постановляют другой способ вступления в жизнь, хотя и признают верным, что изнемогшее в пороке естество посещено Божественной силой, но с неудовольствием взирают на способ посещения по незнанию, что всякое устройство тела само по себе имеет равную цену и ничто, содействующее в нем поддержанию жизни, не заслуживает осуждения, как что–либо нечестное или дурное. Ибо все устройство органических членов направлено к одной цели; цель же эта — человеку пребывать в жизни. Поэтому, как прочие органы поддерживают в человеке настоящую жизнь, будучи разделены каждый для особого действования, и ими в порядке содержатся чувствующая и деятельная силы, так родотворные органы имеют промышление о будущем, вводя собой преемство естеству. Поэтому если будешь смотреть на пользу, то после которого из признаваемых благородными будут они вторыми и после которого по справедливости не могут быть признаны предпочтительнейшими? Ибо не глазом, не слухом, не языком, не другим каким чувственным органом непрерывно продолжается род наш; все это, как сказано, служит для настоящего употребления, а в тех органах соблюдается человечеству бессмертие, так что смерть, всегда против нас действующая, некоторым образом бездейственна и безуспешна, потому что природа возобновляет себя, вознаграждая недостаток рождающимися. Итак, что же неприличное содержит в себе наше таинство, если Бог вступил в единение с человеческой жизнью посредством того, чем естество борется со смертью?
Глава 29. Почемy Бог медлил с приходом?
Но оставляя это, покушаются опять другим опорочить учение и говорят: «Если соделанное Богом прекрасно и боголепно, то для чего замедлял благодеяние? Почему, хотя порок был изначала, не пресек его возрастания в большую меру?» На это у нас краткое слово, что замедление благодеяния нам было делом премудрости и промышления о полезном для естества. Ибо и в телесных болезнях, когда какой–нибудь испорченный сок проникнет в скважины тела, пока не обнаружится на поверхности все, что противоестественно вошло внутрь, искусно следующие за ходом болезней не дают врачевств, сжимающих тело, но ждут, чтобы все, кроющееся внутри, вышло наружу, и тогда уже против обнаруженной болезни употребляют врачевство. Итак, после того как болезнь греховная однажды уязвила естество человечества, общий для всех Врач ожидал, чтобы никакого вида лукавства не осталось скрытым в естестве. Поэтому не тотчас после Каиновой зависти и братоубийства начинает врачевание человека, потому что не стал еще видим порок растлившихся при Ное и не обнаружились и жестокая болезнь содомского беззакония, и богоборство египтян, и гордыня ассириян, и беззаконное Иродово детоубийство, и все другое, упоминаемое историей, и что вне истории сделано в последующих родах, когда корень зла многообразно пророс в человеческих произволениях. Итак, поскольку порок достиг самой высшей меры, не было уже ни одного вида лукавства, на которое бы не отважились люди, то, чтобы врачевание действовало на всякий недуг, врачует поэтому не начинающуюся, но в полную силу пришедшую болезнь.
Глава 30. Почему не сразу после пришествия Христова исчез грех? Почему не все уверовали?
Если же кто думает уличить наше учение тем, что и по употреблении врачевания жизнь человеческая оскверняется еще грехами, то пусть путеводит его к истине одно из знакомых ему подобий. Как у змеи, если получит смертельный удар в голову, не тотчас вместе с головой умирает влачимая сзади часть тела, но, хотя голова мертва, однако же хвост одушевлен еще собственной своей раздражительностью и не лишается жизненной силы, — так можно видеть, что и порок, пораженный смертельным ударом, тревожит еще жизнь своими остатками. Но, перестав и за это порицать учение таинства, ставят ему в вину то, что не всех людей проницает вера. И говорят: «Почему благодать простерлась не на всех — напротив того, иные приступили к учению, не малая же часть остается неприступившей, без сомнения, потому что Бог или не хотел, или не мог, чтобы благодеяние для всех было щедро? А то и другое не освобождает от порицания. Ибо неприлично Богу и не хотеть, и не быть в силах делать добро». «Поэтому если вера есть нечто доброе, то почему, — спрашивают, — благодать не на всех»? Итак, если бы и нами в слове было утверждаемо это, что вера по Божию изволению дается в удел людям и одни призываются, а другие не имеют части в призвании, тогда кстати было бы взводить такое обвинение на таинство. Если же призвание для всех равноценно, не различает ни достоинств, ни возрастов, ни разности по народам (ибо для этого при самом начале проповеди служители слова по вдохновению Божию вдруг соделались единоязычными со всеми народами, так что никто не лишен был возможности участвовать в благах), то основательно ли обвиняют еще Бога в том, что не всеми возобладало слово? Ибо имеющий власть над Вселенной по преизбытку чести, уделенной человеку, предоставил иному и в нашей быть власти, и над этим каждый сам единственный господин. А это есть произволение, нечто не рабственное, но самовластное, состоящее в свободе мысли. Итак, подобное обвинение справедливее возложить на тех, которые не были приведены к вере, а не на призывавшего к согласию. Ибо когда Петр в начале проповедовал слово в многолюдном собрании иудеев и в один раз три тысячи приняли веру, неуве–ровавших было больше, нежели уверовавших, однако апостола не порицали за неуверовавших. Ибо при общем предложении благодати отвергшемуся ее добровольно несправедливо было обвинять в этом злосчастии не себя, а другого.
Глава 31. Почему Бог не приведет всех к вере, если Он хочет этого?
Но не имеют недостатка в хитром возражении и на подобное этому. Ибо говорят: «Бог, если бы хотел, мог и упорно противящихся принужденно привлечь к принятию проповеди. Но где будет их свобода? Где похвала преуспевающим?» Одних неодушевленных и бессловесных можно чужой волей приводить к чему угодно; словесное же и разумное естество, если перестало действовать свободно, утратило вместе и дар разумности. Ибо на что будет употреблять разум, если власть избирать, что заблагорассудится, лежит на другом? Если же произволение остается недейственным, то по необходимости уничтожается добродетель, встретившая себе препятствие в неподвижности произволения. Если же нет добродетели, то жизнь теряет цену, ум уступает место судьбе, отъемлется похвала у преуспевающих, грех непобедим, различие в жизни не определено. Ибо кто еще будет вправе осуждать невоздержанного или хвалить целомудренного, когда у всякого готов этот ответ: «Из всего, что бывает с нами, ничто не в нашей воле, но человеческие произволения могущественнейшим владычеством приводятся к тому, что угодно обладающему». Итак, не благости Божией вина, что не во всех бывает вера, но расположения принимающих проповедь.
Глава 32. Зачем нужна была смерть и притом такая позорная — на кресте?
Что еще сверх этого произносят возражающие? Наиболее то, что высочайшему естеству вовсе не должно было доходить до испытания смерти, но и без этого по преизбытку силы было можно с удобством совершить что угодно. А если и непременно это требовалось по какой–то таинственной причине, то не следовало подвергаться позору бесчестного образа смерти. Ибо какая смерть, говорят, была бы бесчестнее крестной? Поэтому что же скажем и на это? То, что рождение делает необходимой смерть. Ибо, Кто однажды признал себя причастным человечеству, Тому должно было принять на себя все отличительные свойства естества. Поэтому, так как жизнь человеческая отличена двумя пределами, и, если бы переступивший один предел не коснулся следующего за ним, намерение осталось бы совершенным вполовину, потому что не коснулся другого отличительного свойства в естестве нашем. Но, может быть, иной, точнее изучив таинство, с большим правом скажет, что не по причине рождения последовала смерть — напротив того, ради смерти принято рождение. Ибо Присноживущий принимает на себя телесное рождение, не в жизни имея нужду, но нас возвращая от смерти к жизни. Итак, поскольку должно было совершиться возвращение от смерти целого естества нашего, то, как бы к лежащему простирая руку и для этого приникнув к нашему трупу, настолько приблизился к смерти, что коснулся омертвения и собственным Своим телом дает естеству начало воскресения, силой Своей восстановив целого человека. Поскольку не от иного, но из нашего смешения была богоприемная плоть, в воскресение превознесенная вместе с Божеством, то, как в нашем теле действенность одного из чувственных органов приводит в сочувствие все соединенное с этим членом, так, поскольку все естество есть как бы одно некое живое существо, воскресение части распространяется на все, по непрерывности и единению естества будучи передаваемо от части целому. Поэтому что невероятного узнаем из таинства, если стоящий склоняется к падшему, чтобы восставить лежащего? О кресте же, не заключает ли он в себе другого какого более глубокого понятия, пусть доведываются испытатели сокровенного. А какое дошло до нас по преданию, состоит в следующем. В Евангелии говорится и делается все согласно с высшей и божественной жизнью и нет ничего такого, в чем не оказывалось бы непременно некое примешение Божественного к человеческому, и когда слово или дело производится по–человечески, разумеемое в сокровенном смысле указывает на Божество. И в этом отношении последовательно будет не то, чтобы на одно обращать внимание и упускать из виду другое, но то, чтобы, как в бессмертном усматривают человеческое, так в человеке доведываться Божественного. Ибо, так как Божеству свойственно проникать во все и сраспростираться с естеством существ во всякой части (ничто не может пребывать в бытии, не пребывая в сущем, собственно же и первоначально сущее есть Божие естество, о котором по необходимости принуждает верить, что Оно во всех существах, само пребывание существ), то от креста, по наружному своему виду разделенного четырехчастно, так что от середины, в которой сопрягается он сам с собою, счисляются четыре конца, научаемся тому, что во время смертного домостроительства на нем распростерт был Тот, Кто все связует и сообразует с Собою, различные естества существ приводя Собою в единое согласие и стройность. Ибо в существах представляется иное или вверху, или внизу, или мысль идет к тому, что на сторонних пределах.
Поэтому обозрим ли умом состав или небесных, или подземных, или по обе стороны Вселенной пределов, повсюду помыслу нашему встречается Божество, одно созерцаемое в существах, во всякой их части и содержащее все в бытии. Но естество это надобно ли наименовать Божеством, или Словом, или Могуществом, или Премудростью, или другим чем высоким и наиболее способным показать подлежащее, учение наше нимало не спорит о слове, или имени, или образе речи. Итак, поскольку вся тварь к Нему обращает взор, вокруг Него состоит и через Него делается сама с собой связной, потому что Им связуется горнее с дольним и друг с другом то, что по сторонам, то длжно было не слухом только руководиться нам к уразумению Божества, но и зрение сделать учителем высших понятий, чем подвигшись, и великий Павел тайноводствует народ ефесский, учением вложив в них силу познать, «что есть глубина, и высота, и широта, и долгота» (Еф. 3:18). Ибо каждый конец креста именует собственным его именем, высотой называя, что вверху, глубиной, что внизу, а широтой и долготой — поперечные протяжения. А в другом месте подобное понятие яснее, как думаю, представляет филиппийцам, которым говорит, что о «имени» Иисуса Христа «всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних» (Флп. 2:10). Здесь под одним названием объемлет среднее и земное, наименовав земным все, что в середине между небесным и преисподним. Вот что дознали мы о таинстве креста. А что после этого по порядку содержит в себе учение, то таково, что и неверные не признают в этом ничего чуждого боголепному понятию. Ибо то, что не остался во владычестве смерти, что язвы, произведенные на теле железом, не сделались ни малым препятствием к Воскресению, что свободно является ученикам по Воскресении, когда хочет; пребывает с ними, будучи невидимым, становится посреди, не имея нужды входить дверями, укрепляет учеников дуновением духа, обещается быть с ними, никаким не ограничивается пространством, видимым образом восходит на небо, а духовно пребывает повсюду, и что еще подобного этому содержит в себе история, нимало не имеет нужды в помощи умозаключений для доказательства, что это божественно и есть дело высочайшей и все превозмогающей силы. Об этом, думаю, не должно и говорить подробно, потому что учение само по себе показывает сверхъестественность. Но, поскольку некоторую часть таинственных учений составляет и домостроительство купели (угодно ли кому будет наименовать это крещением, или просвещением, или пакибытием, спорить об имени не станем), то хорошо сказать кратко и об этом.
Глава 33. Крещение — рождение в нетленную жизнь. Ответ на недоумение, как вода может возрождать
Когда услышат от нас подобное следующему: поскольку мертвенное переходит к жизни, то следовало, чтобы вместо первого рождения, вводящего в жизнь смертную, изобретено было другое рождение, не растлением начинающееся и не нетлением оканчивающееся, но вводящее рожденного в жизнь бессмертную. Ибо, как от смертного рождения и рождаемое по необходимости смертно, так рождаемое рождением, не допускающим растления, не подлежит истлению смерти. Когда услышат это и подобное этому и узнают предварительно способ, а именно что молитва к Богу, призвание небесной благодати, вода, вера нужны к совершению таинства возрождения, тогда, взирая на видимое, затрудняются верить, находя, что совершаемое телесно не соответствует обетованию. Почему, говорят, молитва и призвание Божественной силы, совершаемое над водой, делаются главной причиной жизни для посвящаемых? Для них, если не крайне упорны, чтобы довести их до согласия на этот догмат, достаточно простого слова. Ибо спрошу: поскольку всякому известен способ плотского рождения, то как делается человеком, что полагается в основание составу живого существа? Но об этом невозможно сказать ничего такого, что по какому–либо умозаключению нашло бы себе вероятность. Ибо что общего у человеческого семени с качеством, усматриваемым в человеке? Вполне сложившийся человек есть существо словесное и осмысленное, одаренное умом и знанием, а семя отличается каким–то влажным качеством, и понятие о нем не заключает в себе ничего более усматриваемого чувством. Поэтому какой, вероятно, ответ дадут нам спрошенные, как поверить, что человек образовался из семени, такой мы дадим спрашивающим о возрождении, совершаемом водой. Ибо и там всякий спрошенный прежде всего может сказать, что человек образуется Божественной силой, без присутствия которой семя осталось бы неподвижным и бездейственным. Итак, если там не подлежащее производит человека, но Божественная сила в естество человеческое претворяет видимое, то крайняя будет непризнательность там, свидетельствуя о столь великой силе в Боге, думать, что в этом деле Божество бессильно исполнить Свою волю. Говорят: «Что общего между водой и жизнью?» Что же общего, спросим и мы, между влажностью и Божиим образом? Но там нимало не странно, если по воле Божией влага превращается в благороднейшее живое существо. Равным образом и об этом скажем: ничего нет удивительного, если присутствием Божественной силы рожденное в тленном естестве преобразуется в нетление.
Глава 34. Откуда мы знаем, что благодать Божия действует в крещении?
Но требуют доказательства, что призываемое Божество присутствует при совершаемых освящениях. Требующий этого пусть снова прочтет исследованное прежде. Ибо довод заключается в том, что Божественна сила, явившаяся нам во плоти, служит подтверждением настоящего учения. Если доказано, что Явившийся во плоти, показавший Свое естество чудесами совершенного Им есть Бог, то доказано вместе и то, что во все время призывания пребывает Он при совершаемом. Как у каждого существа есть некая особенность, знакомящая с естеством, так особое свойство Божественного естества есть истина. Но Бог обетовал всегда оставаться соприсущим с призывающими Его, быть среди верующих, во всех пребывать и соприсутствовать с каждым, поэтому в другом доказательстве о присутствии Божием при совершаемом не имеем нужды, как самими чудесами уверившись, что Бог есть, так не сомневаясь, что по нелживости обетования обетованное исполняется. А что молитвенное призывание предшествует в Божественном домостроительстве, это служит неким избытком в доказательстве, что совершаемое приводится в исполнение Богом. Ибо если и при другом способе произведения на свет людей стремления рождающих, хотя бы ими и не было в молитве призываемо Божество, как сказано выше, рождаемое производят Божией силой, по удалении которой усилие их недейственно и бесполезно, то тем более при духовном способе рождения, где Бог, как веруем, обетовал присутствовать при совершаемом и делу придал Свою силу, и где наше произволение имеет стремление к вожделеваемому, если надлежащим образом присовокупится пособие молитвы, предприемлемое совершится более благоуспешно. Но, как молящиеся Богу, чтобы воссияло им солнце, нимало не замедляют этим того, что непременно должно быть, и никто не скажет, что бесполезно усердие молящихся, если просят Бога о том, что непременно будет, так и верующие, что по не ложному обетованию Возвестившего благодать непременно присуща возрождаемым посредством этого таинственного домостроительства, или приобретают приращение некое благодати, или не отвращают от себя той, какая уже есть. Что Бог непременно соприсущ, уверяет в этом то, что обетовавший есть Бог, а свидетельством Божества являются чудеса, поэтому нет никакого сомнения, что Бог присущ во всем.
Глава 35. Смысл троекратного погружения при Крещении
Схождение же в воду и троекратное пребывание в ней человека заключает в себе другое таинство. Поскольку способ спасения нашего сделался действительным не столько вследствие преподанного предписания, сколько от того самого, что сделал Вступивший в общение с человеком, сам делом совершив жизнь, чтобы воспринятой Им и обоженной плотью спасено было все ей сродное и с ней однородное, то необходимо стало примыслить некий способ, в котором было бы некое сродство и подобие в происходящем между последующим и предшествующим. Поэтому надо видеть, в чем оказывается действующим Началовождь жизни нашей, чтобы, как говорит апостол, по Начальнику (Евр. 12:2) спасения нашего благоуспевало подражание в последующих. Как учащиеся стройному в вооружении движению, по примечаемому ими у обучившихся военным порядкам, достигают воинской опытности, а кто не выполняет на деле того, что ему прежде показано, тот остается лишенным такой опытности: таким же образом и при равной тщательности о добре непременно одинаково необходимо последовать и подражать Началовождю нашего спасения, приводя в действие то, что Им прежде было показано. Ибо невозможно направить к равному пределу идущих неодинаковыми путями. Как затрудняющиеся проходить по извилинам лабиринтов, если встретят кого опытного в этом, следуя позади его, проходят по разнообразным и обманчивым изворотам зданий, где не пройти бы, если бы шли не по следам ведущего, так разумей, что и лабиринт этой жизни неисходен для естества человеческого, если не будет кто держаться того же пути, которым Бывший в этом лабиринте поставил Себя вне его ограды. Лабиринтом же называю иносказательно неисходное тление смерти, в котором заключен жалкий род человеческий. Что же видели мы в Начальнике спасения? Трехдневную мертвость и снова жизнь. Следовательно, надлежало, чтобы и в нас примышлено было некое такое же подобие. Поэтому какое же это примышление, которым и в нас исполняется подражание совершенному Им? Все умершее имеет для себя свое собственное и естественное место — землю, на которую склоняется и в которой бывает скрыто. Но великое между собой сродство имеют земля и вода, единственные из стихий, которые тяжелы, стремятся вниз, одна в другой пребывают и одна другой удерживаются. Поэтому, так как смерть Началовождя нашей жизни сопровождалась погребением под землей и произошла по общему закону естества, то подражание смерти, совершаемое нами, изображается в ближайшей к земле стихии. И как тот Человек свыше, восприняв на Себя мертвость вместе с положением в землю, трехдневным восстал опять к жизни, так и всякий, кто в единении с Ним по естеству тела, имея в виду преуспеть в том же, т. е. достигнуть этого предела жизни, вместо земли наливая воду и погружаясь в эту стихию, троекратным повторением подражает трехдневной благодати воскресения.
Но подобное этому сказано было и прежде, а именно что по домостроительству Промыслом Божиим на естество человеческое наслана смерть, чтобы, по очищении от порока во время разрешения тела и души, человек снова воскресением воссоздан был здравым, бесстрастным, чистым и чуждым всякой примеси порока. Но в Началовожде нашего спасения домостроительство воспринятой смерти возымело окончательное совершенство, вполне приведенное в исполнение по особой цели; ибо смертью разъединено соединенное и снова сведено воедино разделенное, чтобы, по очищении естества разложением бывшего в единении, — разумею душу и тело, возвращение разрешенного в один опять состав сделалось чистым от чуждой примеси. А как в последующих Началовождю естество их не вмещает в себя точного подражания во всем, но, приняв в себя ныне, сколько возможно, прочее предоставляет последующему за этим времени, то чему же здесь подражание? Тому, что в образе умерщвления, представляемом посредством воды, производится уничтожение примешавшегося порока, правда не совершенное уничтожение, но некоторое пресечение непрерывности зла, при стечении двух пособий к истреблению злого, покаяния согрешившего и подражания смерти, которыми человек отрешается несколько от союза со злом, покаянием будучи приведен в ненавидение порока и в отчуждение от него, а смертью производя уничтожение зла. А если бы подражающему возможно было принять на себя совершенную смерть, то сделанное им было бы не подражанием, а отождествлением, и зло уничтожилось бы в целости естества нашего, так что, как говорит апостол, человек единожды навсегда умер бы греху (Рим. 6:2). Но как, по сказанному, в такой мере подражаем высочайшей силе, в какой вмещает это нищета нашего естества, то, трижды возливая на себя воду и снова восходя от воды, подражаем спасительному погребению и воскресению, совершившемуся в трехдневный срок, представив в мысли то, что, как в нашей власти вода, и пребывание в воде, и нахождение из нее, так во власти Того, Кто владычествует над Вселенной, было, погрузившись в смерть, как мы в воду, снова войти в собственное Свое блаженство.
Поэтому если кто примет во внимание, что более согласно с разумом, если будет судить о совершаемом по силе каждого, то не найдет никакого разногласия в совершаемом тем и другим, сколько возможно по мере естества. Ибо, как человек, если захочет, может безопасно прикасаться к воде, так Божественной силе в бесконечное число крат легче смерть и то, чтобы принять ее и не подвергнуться страданию. Поэтому–то необходимо нам в воде усматривать мысленно благодать воскресения и через это познавать, что равно для нас удобно и креститься в воде, и снова воспрянуть от смерти. Но, как в делах житейских одно главнее другого, и, хотя дело не было бы успешно без этого другого, однако же, если кто начало сравнивает с концом, то сравниваемое с концом начало дела покажется ничем (ибо что равного между человеком и полагаемым в состав этого живого существа; однако же если нет последнего, не произойдет и первое); так и то, что в великом воскресении по естеству важнее, здесь имеет свои начала и причины; ибо невозможно совершиться тому, если бы не предшествовало это. Невозможно же, говорю, человеку без возрождения в бане крещения достигнуть воскресения, имея в виду не просто возрождение и изменение нашего естества (ибо к этому, без сомнения, должно идти естество по домостроительству Учредившего, побуждаемое даже и собственными нуждами, хотя человек получит благодать в бане крещения или останется и непричастным этого освящения), но восстановление в состояние блаженное, божественное и далекое от всяких печалей. Ибо не все, что воскресением снова возвращается в бытие, входит в ту же жизнь, но великая пропасть между очистившимися и имеющими нужду в очищении. Для кого в этой жизни предшествовало очищение баней крещения, тем будет исход к сродному, а чистому усвояется бесстрастие, и что в бесстрастии блаженство, — то несомненно. Но в ком огрубели страсти и не произведено никакого очищения скверны ни таинственной водой, ни призыванием Божественной силы, ни исправлением посредством покаяния, тем по всей необходимости должно быть в соответствующем этому состоянии. А поддельному золоту прилично горнило, чтобы по истреблении примеси к ним порока впоследствии долгие века естество их сохранялось чистым пред Богом. Поэтому, так как в огне и в воде есть некая очистительная сила, то таинственной водой омытые от скверны зла не имеют нужды в ином роде очищений, а не освященные этим очищением по необходимости очищаются огнем.
Глава 36. Вера и вода полагают начало вечному спасению
И общий смысл, и учение Писания показывают, что не омытому до чистоты от всех нечистот порока невозможно вступить в божественный лик. Это–то, будучи мало само по себе, служит началом и основанием великих благ. Малым же называю по легкости преспеяния. Ибо какой труд в этом — веровать, что Бог вездесущ, что, как сущий во всех, присущ и в призывающих Его животворящую силу, а как присущий творит то, что Ему свойственно? Особенное же свойство Божией деятельности — спасение имеющих в Нем нужду, а спасение действительно совершается очищением в воде, и очистившийся делается причастником чистоты; подлинно же чистое есть Божество. Видишь, что нечто малое поначалу, т. е. вера и вода, так благоуспешны; вера предоставлена нашему произволению, а вода в тесной связи с человеческой жизнью; но как велико и важно происходящее от них благо, когда в свойстве с ним состоит и Божество!
Глава 37. Таинство Причастия
Но так как существо человеческое есть нечто двойное, срастворенное из души и тела, то спасаемым необходимо тем и другим следовать за Руководящим к жизни. Поэтому душа, соединившись с Ним верой, в этом имеет основание спасения, ибо в единении с жизнью есть приобщение жизни. А тело иным способом вступает в приобщение и единение со Спасающим. Ибо как, приняв по чьему–либо злоумышлению в себя отраву, тлетворную ее силу ослабляют другим составом; и противоядию так же, как и губительному веществу, надо войти во внутренности человека, чтобы ими всему телу уделена была целебная сила: так, вкусив разрушающего естество наше, по необходимости возымели мы нужду в том, чтобы разрушаемое совокупляло снова воедино так, чтобы такое противоядие, будучи принято нами, своим противодействием отразило вредность отравы, прежде этого сообщенную телу. Что же это за противодействие? Не иное что, как то Тело, которое оказалось сильнейшим смерти и послужило началом нашей жизни. Ибо как, по слову апостола, «мал квас все смешение» делает подобным себе (1 Кор. 5:6), так и Тело, преданное на смерть Богом, входя в наше тело, целое изменяет и превращает в Себя. Как по примешении тлетворного к здоровому все срастворение стало ни к чему не годным, так и бессмертное Тело, когда бывает в принявшем Его, все превращает в Свое естество. Но невозможно чему–либо стать внутри тела иначе, как вошедши во внутренности ядением и питьем. Поэтому необходимо возможным для естества способом принять в себя животворящую силу Духа.
Поскольку же одно только оное богоприемное Тело приняло в Себя эту благодать, и доказано, что нашему телу невозможно иначе достигнуть бессмертия, как в общении с бессмертным став причастным нетлению, то надлежит рассмотреть, как стало возможно, что одно это Тело, в целой Вселенной всегда разделяемое стольким тысячам верных, в каждом из части делается целым и само в себе также пребывает целым. Поэтому, чтобы вера наша, обращая внимание на последовательность речи, не имела никакого сомнения в рассуждении предложенной мысли, надлежит заняться несколько в слове естествословием тела. Кто не знает, что естество тела нашего само по себе, в собственной своей ипостаси, жизни не имеет, но с помощью извне притекающей силы поддерживает себя и пребывает в бытии, непрестанным движением привлекая в себя недостающее и отторгая от себя излишнее. И, как некий мех, наполненный какой–либо влагой, если влитое будет выходить дном, не сохранит своего вида по объему, когда в происходящую пустоту не будет сверху вливаемо что–либо другое; поэтому, кто смотрит на объемистую поверхность такого сосуда, тот знает, что она не собственно принадлежит видимому, но что влитое в мех придает вид внешнему его объему; так и устроение нашего тела для своего состава, сколько известно нам, не имеет ничего собственного, но пребывает в бытии привходящей в него силой, и эта сила есть и называется «пища;» да еще не одна и та же для всех питающихся тел, но некая каждому приличная дается в удел Домостроителем природы. Ибо одни из животных питаются, вырывая себе корни, другим пищей служит трава, а пища иных — мясо. Человеку по преимуществу пищей бывает хлеб, и для поддержания и сохранения влажности питьем — не одна только вода, но нередко подслащаемая вином в пособие той теплоте, которая в нас. Поэтому, кто взирает на это, тот, по возможности, имеет в виду объем нашего тела. Ибо когда бывает это во мне, соответственно своим свойством делается кровью и телом, по претворении пищи пременяющей силой в вид тела.
По исследовании этого объясненным способом должно снова возвратиться мыслью к предложенному. Ибо спрашивалось, как одно это Тело Христово оживотворяет весь человеческий род тех, в ком есть вера, всем будучи разделяемо и само не умаляясь. Итак, может быть, мы близки уже к правдоподобному ответу. Ибо если ипостась всякого тела бывает из пищи, а пища есть еда и питье; и для еды служит хлеб и для питья — вода, подслащаемая вином; Слово же Божие, по объясненному в первых Главах, как Бог и Слово, вступило в единение с естеством человеческим и, будучи в нашем теле, не иной какой новый состав устроило естеству человеческому, но обыкновенными и приличными средствами продолжало существование Тела Своего, снедью и питьем поддерживая его ипостась; снедью же был хлеб, — то поэтому, как относительно к нам, о чем говорено уже неоднократно, кто видит хлеб, тот некоторым образом видит человеческое тело, потому что хлеб, будучи в теле, делается телом, так и там богоприемное Тело Принимавшего в пищу хлеб в некотором отношении было с Ним одно и то же по причине, как сказано, в естестве тела преложенной пищи. Ибо, что свойственно всякой плоти, то признано и об оной Плоти, а именно что и оное Тело поддерживалось хлебом. Но Тело то вселением Бога Слова претворено в возведенное до Божеского достоинства, поэтому не без основания верую, что хлеб, освящаемый Божиим Словом, и ныне претворяется в Тело Бога Слова. Ибо и то Тело в действительности было хлеб, освящалось же обитанием Слова, обитавшего во плоти. Поэтому от чего хлеб, в том Теле претворившись, принял Божественную силу, от того же самого равное этому бывает и ныне. Ибо там благодать Слова святым делала Тело, состав которого был из хлеба и которое некоторым образом само было Хлеб; и здесь также хлеб, по слову апостола, «освящается Словом Божиим и молитвою» (1 Тим. 4:5), не ядением и питьем входя в Тело Слова, но прямо претворяясь в Тело Слова, как сказано Словом: «Сие есть Тело Мое» (Мф. 26:26). А поскольку всякая плоть питается и влагой (ибо без сочетания с ней землянистое в нас не может продолжать жизни; как твердой и крепкой пищей подкрепляем твердое в теле, так и влаге доставляем приращение из однородного с ней вещества, которое, перейдя в нас, прелагающей силой обращается в кровь, особенно если у вина позаимствует силу к претворению в теплоту), то потому Богоприемная Плоть Бога Слова в состав Свой приняла и эту часть. И явившееся Слово для того соединилось с бренным естеством человеческим, чтобы общением с Божеством обожилось и человечество, поэтому по домостроительству благодати посредством плоти сообщает Себя всем уверовавшим, у которых состав из вина и хлеба, срастворяясь с телами их, чтобы единением с бессмертным и человек соделался причастником нетления. Дает же это, силою благословения естество видимого преобразив в Тело и Кровь.
Глава 38. Нужно еще кратко изложить крещальную веру
В сказанном, думаю, ни малого нет упущения относительно того, что требует исследования о таинстве, кроме учения о вере, которое кратко изложим и в настоящем сочинении. А для требующих более совершенного изъяснения, предложили уже мы его в других своих трудах, с возможным для нас тщанием в точности раскрыв это учение. Это те наши сочинения, в которых входили мы в состязание с противниками и сами по себе занимались исследованием касательно предлагаемых нам вопросов. В настоящем же слове рассудили мы столько сказать о вере, сколько заключает в себе евангельское слово, чтобы рождаемому духовным возрождением знать, от кого он рождается и каким делается живым существом. Ибо этот только вид рождения во власти человека — стать тем, чем сам изберет.
Глава 39. Необходимое условие рождения свыше — вера в Троицу
Прочие рождаемые происходят на свет от похоти рождающих; рождаемый же духовно зависит от свободы рождаемого. Итак, поскольку опасность в том, чтобы по свободе предоставленного каждому выбора не ошибиться в действительно полезном, то сказываю, что стремящемуся к собственному своему рождению хорошо будет предузнать своим рассудком, какой отец принесет ему пользу и от кого лучше образоваться его естеству, ибо сказано, что таковым порождением свободно избираются родители. Итак, поскольку все существующее делится на два рода — на созданное и несозданное — и естество несозданного обладает неизменяемостью и непреложностью, тварь же по превратности изменяема, то по рассудку избирающий полезное, какого естества изберет скорее соделаться чадом, представляющегося ли превратным или обладающего непреложностью, постоянством и всегда одинаковым пребыванием в добре? И как в Евангелии преподано о трех Лицах и о трех Именах, от которых бывает рождение верующих, и рождаемый о Троице равно рождается от Отца и Сына и Святого Духа, ибо о Духе Евангелие говорит так: «Рожденное от Духа дух есть» (Ин. 3:6), и Павел рождает о Христе (1 Кор. 4:6), и Отец есть отец всем (Флп. 1:2), то да трезвится при этом мысль слушателя, чтобы не сделаться ему порождением естества непостоянного, когда возможно виновником собственного своего естества сделать непреложного и неизменяемого. Ибо по расположению сердца у приступающего к домостроительству и совершаемое имеет силу, так что исповедующий Святую Троицу несозданной вступает в непревратную и неизменяемую жизнь, а кто По ложному понятию видит в Троице естество созданное и после этого крестится в Нее, тот снова рождается в превратную и изменяемую жизнь, ибо рождаемое по необходимости однородно с естеством рождающих. Поэтому что полезнее: войти ли в жизнь непревратную, или опять валяться в жизни непостоянной и изменяемой? Итак, поскольку для всякого имеющего сколько–нибудь разума явно, что постоянное несравненно предпочтительнее непостоянного, совершенное — недостаточного, ни в чем не имеющее нужды — нуждающегося, то, чему некуда идти выше и что всегда пребывает в совершенстве добра, с преспеянием простирающегося вперед, то имеющему ум необходимо избрать одно из двух: или уверовать, что Святая Троица — естество несозданное, и, таким образом, Ее в духовном рождении сделать вождем собственной жизни, или, если кто признает, что Сын и Святой Дух вне естества первого, истинного и благого Бога, разумею Отца, и во время возрождения не приемля веры в Троицу, то да не остается в неведении, что, сам себя предавая естеству недостаточному, имеющему нужду в благодеющем, и отринув веру в существо превысшее, некоторым образом вводит себя опять в однородное с собой. Ибо, подчинившись чему–либо тварному, сам того не замечая, надежду спасения полагает не в Боге. Ибо всякая тварь в сродстве с собою имеет и прочие твари по тому самому, что наравне с ними приходит в бытие из небытия. И, как в строении тела все члены имеют взаимное сродство, хотя одни из них по достоинству ниже, а другие выше, так и тварное естество соединено между собой по общему закону для твари, и разность в нас по преимуществу и недостаточности не лишает тварь сродства с самой собой. Ибо в том, что равно представляется нам прежде несуществовавшим, хотя в иных отношениях и была бы разность, с этой стороны не находим никакого различия по естеству. Поэтому если человек, будучи тварью, думает, что твари — и Дух, и Единородный Бог, то, напротив, должен будет освобождать себя от безнадежности перехода в лучшее состояние. Ибо совершающееся в нем подобно понятиям Никодима, который, узнав от Господа, что должно родиться свыше, но не вмещая еще в уме учения о таинстве, увлекся помыслами к материнской утробе (Ин. 3:4). Поэтому если человек обратится не к Естеству несозданному, но к сродственной и, так же как сам он, служебной твари, то рождение его дольнее, а не свыше. Евангелие же говорит, что рождение спасаемых свыше (Ин. 3:3).
Глава 40. Без чего Крещение бесполезно
Но кажется мне, что это огласительное слово в сказанном доселе не заключает еще достаточного учения. Ибо должно, думаю, обращать внимание и на то, что после этого и что оставляют в небрежении многие из приступающих к благодати крещения, самих себя вводя в обман и почитаясь только возрожденными, а не действительно таковыми делаясь. Ибо возрождением совершаемое претворение нашей жизни не будет претворением, если останемся в том же состоянии, в каком и теперь. Кто пребывает в том же состоянии, о том не знаю, почему можно было бы подумать, что он сделался кем–то иным, когда не переменилось в нем ни одного из отличительных признаков. Ибо что спасительное возрождение приемлется для обновления и преложения естества нашего — это явно всякому, но человечество само по себе от крещения не приемлет изменения; ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое что, собственно служащее отличительной чертой естества человеческого, не приходит в изменение, ибо изменение было бы к худшему, если бы изменилось какое–либо из этих отличительных свойств естества. Итак, если рождение свыше делается воссозданием человека, а это не допускает перемены, то должно рассмотреть, с претворением чего благодать возрождения совершенна. Явно, что с изглаждением дурных признаков в естестве нашем происходит переход в лучшее. Итак, если, по слову Пророка, измывшись в этой таинственной бане, стали мы чисты произволениями, смыв лукавства от душ (Ис. 1:16), то соделались лучшими и претворились в лучшее. Если же баня послужила телу, а душа не свергла с себя страстных нечистот — напротив того, жизнь по тайнодействию сходна с жизнью до тайнодействия, то, хотя смело будет сказать, однако же скажу и не откажусь, что для таких вода остается водой, потому что в рождаемом нимало не оказывается дара Святого Духа, когда не только гнусная раздражительность, страсть любостяжательности, распутные и непристойные мысли, надменность, зависть, гордыня служат поруганием Божия образа, но у него и прибытки неправды остаются, и прелюбодеянием приобретенная жена даже после этого продолжает служить его сладострастию. Если это и подобное этому одинаково бывает и прежде и после крещения в жизни крестившегося, то нельзя определить, что в нем изменено, видя его тем же, чем был он прежде. Обиженный, оклеветанный, лишенный собственности не усматривают на себе никакой перемены в сказанном. Не слышат и от него Закхеевых слов: «Аще кого ним обидел, возвращу четверицею» (Лк. 19:8). Что говорили о нем до крещения, то же самое говорят и теперь; теми же называют именами — корыстолюбцем, падким на чужое, радующимся человеческой беде. Итак, кто остается таким же, каким был, и потом разглашает о перемене в нем на лучшее, произведенной крещением, тот да слышит Павлове слово: «Аще кто мнит себе быти что, ничтоже сый, умом летит себе» (Гал. 6:6), ибо, чтобы тебе «быти что», надобно сделаться этим. «Елицы прияша Его», говорит о возрожденных Евангелие, «даде им область чадом Божиим быти» (Ин. 1:12). А кто сделался чьим–либо чадом, тот конечно, однороден с родившим. Поэтому если принял ты Бога, сделался чадом Божиим, покажи произволением, что и в тебе Бог, покажи в себе Родившего. По каким признакам познаем Бога, теми же признаками и сделавшемуся сыном Божиим надлежит доказать близость свою с Богом. «Он отверзает руку и исполняет всякое животно благоволения» (Пс. 144:16), «оставляет беззакония» (Мих. 7:18), «раскаивается о зле» (Ин. 3:10), «благ Господь всяческим» (Пс. 149), «и не гнев наводяй на всяк день» (Пс. 7:12), «прав Господь Бог и несть неправды в Нем» (Пс. 91:16) и все подобное этому, что узнаем о Боге из различных мест Писания. Если ты таков, то действительно сделался чадом Божиим. А если остаешься с прежними признаками порока, то напрасно разглашаешь о своем рождении свыше. Пророчество скажет тебе, что ты сын человеческий, а не сын Вышнего, любишь суету, ищешь лжи (Пс. 4:3). Не знаешь разве, что человек не иначе делается сыном Божиим, как только когда делается святым? К этому необходимо присовокупить и остальное, что блага, по обетованиям уготованные жившим хорошо, таковы, что не могут быть изображены словом. Ибо как изобразить, «ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша» (1 Кор. 2:9)? Да и мучительная жизнь грешников не имеет никакого сравнения с тем, что огорчает чувство к здешней жизни — напротив того, какими известными здесь наименованиями ни назовешь тамошние наказания, не в малом будет разность. Ибо, слыша слово «огонь», научен ты представлять мысленно иное нечто от огня здешнего, потому что огню тому предается, чего нет в здешнем. Ибо тот огонь не угасает, для этого же огня открыто опытом много угашающих средств, а между огнем угашаемым и не допускающим угашения великая разность. Поэтому последний есть нечто иное, а не то же, что и первый. И опять слышишь ты о черве; не обращайся мысленно по одноименности к червю земному. Ибо присовокупление, что червь не умирает, подает мысль рузуметь другое какое–то естество сверх известного нам. Итак, поскольку предоставлено надежде будущей жизни, чтобы по праведному суду Божию от произволения каждого рождалось то, что сообразно ему, то делом целомудренных будет взирать не на настоящее, но на то, что будет после, а в течение этой краткой и временной жизни полагать основания неизреченного блаженства, и благим произволением сделать для себя чуждым испытание зол, как ныне, в этой жизни, так и после всего, в вечном воздаянии.
О жизни Моисея законодателя, или о совершенстве в добродетели
Вступление
Что испытывают на себе охотники смотреть на конские ристалища, о ком из состязующихся в скорости бега заботятся они, хотя бы у того не было ни малого недостатка в усердии ускорить бег, из заботливости, однако же, о его победе подают ему голос сверху, следя за ним глазами по всему поприщу, и увеличивают (по их мнению) стремительность ездока, крича в то же время на коней, протягивая к ним руки и размахивая ими; а все это делают не потому, что этим действительно способствуют победе, но чтобы из благорасположения к состязающимся в жару усердия и голосом, и телодвижениями выразить свою заботливость, — подобное нечто, кажется, делаю и я с тобою, дражайший для меня из друзей и братьев, и когда ты прекрасно подвизаешься в божественном течении на поприще добродетели, частыми и легкими скачками стремишься достигнуть почести вышняго звания (Флп. 3:14), и голос подаю тебе, и побуждаю тебя поспешать, и прошу заботливо усилить скорость. Делаю же не каким–либо неразумным усердием движимый к этому, но, как возлюбленному чаду, желая доставить тебе удовольствие.
Поскольку письмо, недавно тобою присланное, сообщило мне прошение, чтобы дали мы тебе какое–либо правило для совершенной жизни, то признал я приличным удовлетворить этому. Хотя иное в сказанном не будет, может быть, и сколько–нибудь для тебя полезным, однако же не останется, конечно, бесполезным то самое, что послужу для тебя примером благопокорности. Если мы, поставленные заменять собою отцов для стольких душ, признаем приличным для этих седин принять приказ целомудрствующей юности, то тем паче естественно в тебе преимуществовать преспеянию в благопокорности, когда юность твоя под руководством нашим обучается добровольному послушанию.
Но об этом довольно. Время уже приступить к предложенному, призвав Бога быть наставником в слове.
Просил ты меня, любезная глава, описать тебе, какая жизнь совершенна, — просил, имея в виду, конечно, узнать, каким образом, если в слове найдено будет искомое, указанные черты совершенства прилагать к собственной своей жизни. А я равно не силен в том и другом и утверждаю, что, как объять умом совершенство, так и показать в жизни, что мог бы постигнуть ум, выше моих сил. А может быть, не я один, но многие из великих и преимуществующих в добродетели сознаются, что подобное дело и для них недоступно. Но, чтобы не подать мысли, будто бы, говоря словами Псалмопевца, тамо убоялся я страха, идеже не бе страх (Пс. 13:5), яснее представлю тебе свою мысль.
Совершенство во всем другом, что измеряется чувством, ограничивается каким–либо известными пределами, например относительно к количеству будет ли это чем непрерывным и раздельным. Так как всякая мера количества объемлется своими какими–либо пределами и, кто видит локоть или число десять, тот знает, чем начинается и чем кончается то, в чем должно заключаться совершенство. О добродетели же узнаем мы от апостола, что у нее один предел совершенства — не иметь самого предела. Даже сам сильный и высокий разумом божественный апостол в течении своем поприщем добродетели никогда не останавливался, простираяся в предняя (Флп. 3:13), потому что небезопасна ему была остановка в этом течении. Почему же? Потому что всякое добро по природе своей не имеет предела, ограничивается же приближением к противоположному, например, жизнь — к смерти, свет — к тьме. И вообще всякое добро оканчивается всем тем, что представляем себе противоположным добру. Как конец жизни есть начало смерти, так и остановка в течении поприщем добродетели делается началом течения по пути порока. Поэтому не лжет наше слово, утверждая, что в добродетели достижение совершенства невозможно.
По крайней мере, им доказано, что заключающееся в пределах еще не есть добродетель. Поскольку же сказал я, что и ведущим добродетельную жизнь невозможно достигнуть совершенства, то слово об этом объяснено будет так. Первоначально и в собственном смысле добро — то, что естеством своим имеет благость: это Само Божество, которое, чем умопредставляется по естеству, то действительно и есть, тем и именуется. Поэтому так как доказано, что нет иного предела добродетели, кроме порока, а Божество не допускает противоположного, то следует, что естество Божие неограниченно и беспредельно. Но идущий путем истинной добродетели не иного чего причастен, как Самого Бога, потому что Он есть всесовершенная добродетель. Итак, поскольку знающим то, что по естеству прекрасно, непременно вожделенно причастие его (а оно не имеет предела), то по необходимости вожделение причащающегося, простираясь в беспредельность, не имеет остановки. Следовательно, всеконечно, нет средств достичь совершенного, потому что совершенство, по сказанному, не объемлется пределами, у добродетели же один предел — беспредельность. Как же кому дойти до искомого предела, не находя самого предела?
Впрочем, потому что искомое вовсе недостижимо, как доказало слово, не должно нерадеть о заповеди Господней, которая говорит: Будите совершени, яко же Отец ваш Небесный совершен (Мф. 5:48). В том, что прекрасно по естеству, хотя и невозможно улучить все, для имеющих ум великая выгода: не остаться не улучившим и части. Поэтому должно прилагать все тщание о том, чтобы не вовсе лишиться возможного совершенства, но столько приобрести его, сколько успеем узнать искомое. Ибо, может быть, иметь у себя прекрасное для того, чтобы всегда желать приобрести его еще больше, есть уже совершенство человеческой природы.
Прекрасным мне кажется делом советником в этом употребить Писание. Ибо где–то в пророчестве Исаии говорит Божий глас: Воззрите на Авраама отца вашего, и на Сарру породившую вы (Ис. 51:2). Конечно же, повеление такое дает слово блуждающим вне пути добродетели, чтобы, как на море унесенные с прямого пути, ведущего к пристани, исправляют ошибочное свое направление по усмотренному знаку, увидев поднимающийся с высокого места вверх факел или открывшуюся вершину какой–либо горной высоты, то подобно этому примером Сарры и Авраама направили снова путь свой в пристань Божией воли те, которые блуждают по житейскому морю с утратившим кормило умом. Поскольку человеческое естество делится на мужской пол и женский и обоим равно предоставлено во власть избрание пути к добродетели и к пороку, то каждому полу Божиим словом указан соответственный образец добродетели, чтобы те и другие, взирая на сродное им: мужи — на Авраама, а другая часть — на Сарру, — оба пола по свойственным им образцам направлялись к жизни добродетельной. Поэтому, может быть, достаточно для нас будет памяти одного какого–либо мужа, благоискусного по жизни, чтобы послужить факелом и показать, как можно в отверстую пристань добродетели ввести душу, не дав ей испытать невзгод среди обуреваний житейских и потерпеть крушение в пучине порока от непрерывного треволнения страстей. Для того–то, вероятно, и представляется историей во всей точности образ жизни высоких мужей, чтобы подражанием их преспеяниям последующая наша жизнь была направлена к добру.
Итак, что же, спросит иной, если я не халдей, как упоминается об Аврааме, и не воспитанник дочери царя египетского, как говорится в Писании о Моисее, и вообще в подобном этому по жизни не имею ничего сходного с кем–либо из древних, то как же поставлю себя в один ряд с одним из них, не имея и возможности в своих занятиях подражать человеку, столь от меня отдаленному? На это скажем вопрошающему: быть халдеем не признаем пороком или добродетелью; не жизнью в Египте, не пребыванием в Вавилоне человек делается далеким от жизни добродетельной. А также не во Иудеи только бывает ведом Бог достойным, и не Сион один, как можно подумать с первого взгляда, есть Божие жилище (Пс. 75:1–2). Напротив того, нам потребны некое более тонкое разумение и более острый взор, чтобы усмотреть из истории, от каких халдеев или египтян держа себя вдали и от какого вавилонского освободившись плена, взойдем на высоту блаженной жизни.
Поэтому образцом жизни для нас пусть будет в этом слове представлен Моисей, которого жизнь изобразив сперва кратко, как дознали ее из Божественного Писания, потом поищем приличного истории смысла к извлечению правил добродетели, чтобы по ним познать совершенную жизнь, какая доступна людям.
Часть I. История жизни Моисеевой
Итак, повествуется, что Моисей родился, когда закон мучителя запрещал оставаться в живых рождающимся мужского пола младенцам, но он приятностью своего лица предупредил всякое требовавшееся временем пожертвование и родителей, еще в пеленах увидевших его красоту (Исх. 2:2), побудил к тому, чтобы не поспешили такого младенца предать смерти и, даже когда превозмогла угроза мучителя, не просто ввергли в воды Нила, но, положив в некий ковчег, по пазам помазанный клеем и смолой, потом уже предали потоку (это рассказано тщательно написавшим о нем историю). Поскольку же ковчегом правила некая Божия сила, то он устремлен к возвышающемуся на стороне берегу и в этом месте беспрепятственно прибит к нему стремлением волн. А как на луга того берега, куда был принесен ковчег, пришла царская дочь, то Моисей, издав младенческий вопль в ковчеге, делается находкой царевны. Когда посмотрела на него царевна и увидела красоту младенца, немедленно привлек он благорасположение царевны и взят был ею вместо сына. Но оказав естественное отвращение к иноплеменному сосцу, по примышлению одной из близких по роду был вскормлен материнской грудью. А вышедши уже из детского возраста, питался царской пищей и обучен был внешним наукам, что почиталось славным у внешних, не решился же пользоваться тем долее и признавать матерью эту вымышленную, у которой был он вместо сына, но пожелал возвратиться опять к родной своей матери и жить среди соплеменников.
У одного еврея завязалась борьба с египтянином; Моисей стоит за своего и умерщвляет иноплеменника. Потом схватываются друг с другом два каких–то еврея; Моисей пытается усмирить в них этот враждебный дух, подает совет вести себя как братьям и посредником в ссорах делать не раздражительность, а природу. Но, отвергнутый тем, у кого ввиду была только обида, Моисей бесчестие это обратил в повод к большему любомудрию и, удалившись от пребывания в многолюдном обществе, избрал после этого уединенную жизнь, вступив в связи с одним из иноплеменников — мужем, презирающим лучшее, осмотрительным в суждении о людских нравах и жизни, который из одного поступка, разумею дело с пастухами, усмотрел добродетель юного, а именно что стал за правду, имея в виду не свою пользу, но признавая самую правду по собственной ее природе достойной уважения, наказал неправду пастухов, ничем не провинившихся пред ним. И этот–то иноплеменник, поддавшись Моисею и добродетель его при видимой бедности признав более уважительной, нежели многоцветное богатство, отдает ему в супружество дочь и предоставляет его произволу вести какую угодно жизнь. И ему, уединенно в пустыне занятому попечениями об овцах, нравилась эта на горах уединенная, свободная от всякого торжищного шума жизнь.
Довольно проведено времени в таком роде жизни, говорит история, и было Моисею страшное Богоявление: в самый полдень облистал его взоры другой свет, паче света солнечного. Изумленный необычайностью зрелища, Моисей обращает взор к горе и видит куст, в котором горел пламень огненный, а ветви куста, как под росою, зеленели во пламени; и Моисей сам себе изрекает такие слова: Мимо шед увижду видение великое сие (Исх. 3:3). Сказав же это, не одними уже очами восприемлет чудный свет, но, что всего необычайнее, и слух его озаряется лучами этого света. Уделившаяся обоим чувствам благодать света взоры озаряет блистаниями лучей, а слух просвещает чистыми догматами. Обремененному мертвыми кожами своей обуви Моисею глас этого света воспрещает подходить к горе, позволяет же иззув сапоги от ног, потом уже касаться этой земли, осияваемой Божественным светом (Исх. 3:5).
При этом (так как не надобно, думаю, слишком много останавливаться словом на простой истории этого мужа, как бы достигалось уже тем предположенное) Моисей, укрепленный виденным Богоявлением, получает повеление избавить соплеменников от египетского рабства. И чтобы более ему дознать сообщаемую свыше силу, по Божию повелению делает опыт над тем, что у него в руках. Опыт же был следующий: жезл, выпав из рук, одушевляется, делается живым существом (и это живое существо был змий), но, взятый в руку, опять становится тем, чем был до превращения в зверя. И поверхность руки, сперва вложенной за пазуху, превращается в нечто подобное белизною снегу, а когда снова вложена была за пазуху, возвращает себе естественный свой вид.
Идет Моисей в Египет, ведет с собой супругу–иноплеменницу и рожденных ею детей, и, когда, как повествуется, срете его некий Ангел (Исх. 4:24), приводящий в страх угрозой смерти, жена умилостивляет его сыновней кровию обрезания; тогда происходит встреча с Аароном, который Богом также побужден был идти во сретение (27). Потом оба они живущий в Египте народ созывают в общее собрание и тем, которые злострадали, утружденные работами, возвещают освобождение от рабства, и самому мучителю изрекается об этом слово. При этом негодование мучителя и на приставников, надзирающих за работами, и на самих израильтян делается большим прежнего; урок плинфоделания увеличен, посылается еще более затрудняющий приказ не над брением только видеть себе покой, но изнурять себя собиранием плев и тростия (Исх. 5:12). Фараон (так было имя мучителю египетскому) тем знамениям, какие Моисей совершал Божией силой, предприемлет ухищренно противопоставить чародеяния волхвов, и, когда Моисей в глазах египтян снова превратил жезл свой в зверя, чародейство думало совершить равное чудо и над жезлом волхвов. Это ухищрение обличено тем, что совершилось: змий из превращенного Моисеева жезла пожрал посохи у волхвов, т. е. их змеев, и тем показал, что жезлы волхвов не имели никакой — ни оборонительной, ни даже жизненной силы, кроме одного вида, какой ухищренное чародейство показывало глазам легко обольщаемых.
Тогда Моисей, видя, что единомысленно с предводителем злобы все ему подвластное, наносит общий удар всему египетскому народу, никого не изымая из числа испытывающих бедствие. А с ним к такому нападению на египтян, как подвластное некое воинство, подвиглись сами стихии существ, видимые во Вселенной: и земля, и огонь, и воздух, и вода, — по произволению людей изменяя свои действенные силы. И одной и той же силой в одно и то же время и в одном и том же месте наказываемо было бесчиние, а нестраждущим оставалось свободное от греха. Тогда все водное естество в Египте по повелению Моисея обратилось в кровь, так что и рыбы от этого преложения воды в плотскую дебелость подверглись порче; для одних только почерпающих евреев кровь была водой, почему и чародейству открылась возможность воде, находимой ими у евреев, ухищренно придавать кровавый вид. А также, когда пресмыкающиеся жабы наполнили Египет (нарождение их, объясняемое не по какой–либо естественной последовательности, не простерлось бы до такого множества — напротив того, само повеление составиться жабам обновляло эту появившуюся тогда породу живых тварей), все египетское терпело вред, утесняемое в жилищах этими пресмыкающимися, а жизнь евреев была свободна от этой неприятности. Так и воздух ночью и днем ничем не различался для египтян, пребывающих в одинаковом мраке, а у евреев в этом не было никакой перемены против обыкновенного. Таким же образом и все иное: град, огонь, струпы, песьи мухи, туча саранчи, — на египтян каждое такое бедствие действовало по обыкновению, а евреи по слухам и рассказам знали о страдании обитающих с ними, сами не испытывая никакого приражения к себе подобных зол. Потом гибель первородных производит еще более точное различие между евреем и египтянином: египтяне обливаются слезами при утрате им любезнейших, а евреи пребывают в совершенном безмолвии и в безопасности; им обезопашено спасение излиянием крови во всяком входе, когда на обою подвою и на сопряженном с ними праге сделаны были знамения кровью (Исх. 2:7).
При этом, когда египтяне поражены были несчастьем, постигшим первородных, и каждый свое и все общее оплакивали горе, Моисей распоряжается исшествием израильтян, предуготовив их к тому повелением унести с собою под видом займа испрошенное богатство Египтян. Совершен трехдневный путь вне Египта, говорит еще история, и тяжело стало царю египетскому, что Израиль уже не в рабстве и, вооружив всех подданных, с конной силой гонится он за народом Божиим. Израильтяне, увидев снаряженных коней и множество оружия, как неискусные в войне и не приготовленные к таким чудным для них делам, немедленно поражаются страхом и восстают на Моисея. Тогда–то, что всего удивительнее, как рассказывает история о Моисее, делясь надвое в своей деятельности, он голосом и словом ободряет израильтян и повелевает пребывать им в доброй надежде, а внутренне умом приносит Богу моление за приведенных в ужас. И путеводится свыше данным советом, как избежать опасности; Сам Бог (как говорит история) внимает его безмолвному воплю (Исх. 14:15).
По Божией силе народом предводительствовало облако, не по общему закону естества образовавшееся (так как не из паров каких или курений был состав его в воздухе, сгущаемом парами по причине туманного их сложения, сгнетаемого или сжимаемого в себя самого ветрами), — напротив того, это облако, по свидетельству Писания, как нечто высшее человеческого понятия и его превосходящее, такое было чудо, что, освещаемое палящими лучами солнца, служило народу стеной, оттеняя что было над ним и топкой росой увлажняя знойный воздух, а ночью обращалось в огонь, с вечера до утра собственным своим светом озаряя израильтян. На это облако взирал и сам Моисей, и народ научал следовать за его появлением.
Когда пришли к Чермному морю, куда привело предводившее в шествии облако, народ окружен был сзади целым войском египетским. Израильтянам не оставалось никакого средства и некуда было бежать от беды, потому что захваченным в середине угрожали и враги и вода; тогда–то подвигнутый Божией силой Моисей совершил то, что всего невероятнее. Приблизясь берегом к воде, поражает он море жезлом, и оно делится от удара. И, как обыкновенно бывает со стеклом: если какой части сделается сверху трещина, то по прямой черте идет она и до другого края — так и по всему морю: как скоро с одного края разделилось оно под жезлом, так и до противоположного берега продолжалось расторжение волн. Моисей, по мере того как делилось море, сходя в глубину со всем народом ниже вод с ненамокаемым, как бы от солнечных лучей осушаемым телом, пеший по сухому дну моря проходит бездну, не боится этого внезапного остенения из волн, когда здесь и там с обеих сторон морская вода отвердевает наподобие стены. Когда же и фараон с египтянами вторгся в море по этому новопроложенному в водах пути, опять сливается вода с водой и по взаимном соединении разделенных частей моря в прежний вид воды принимают одну непрерывную поверхность. Израильтяне отдохнули уже на краю берега от длинного и усиленного шествия по морю, когда воспели победную песнь Богу, воздвигшему тогда для них бескровный победный памятник по истреблении под водою всего египетского воинства и даже с конями, с оружием и с колесницами.
Потом Моисей простирается вперед и, совершив трехдневный безводный путь, приходит в затруднение, не имея чем утолить жажду ополчения. Было какое–то озеро, при котором расположились они станом, но вода в нем морская, лучше же сказать, и морскую превосходила она горечью. Итак, когда, стоя при воде, сгорали жаждой воды, Моисей, по данному свыше совету, близ этого места найдя некое дерево, ввергает его в воду. И вода немедленно делается годной к питью: дерево своей силой претворяет свойство воды из горечи в сладость. Поскольку же облако пошло вперед, то пошли и они, путеводимые его движением, как и всегда делали это: прекращая шествие, где остановившееся облако давало знак к отдохновению, и опять отправляясь в путь, когда облако предваряло их в шествии. Следуя этому путеводителю, достигают места, изобильного годной для питья водой, в избытке омываемого двенадцатью источниками. Было тут семьдесят финиковых пальм, которых при малом числе достаточно было, чтобы чрезвычайной их красотой и величиной произвести удивление в зрителях. И отсюда также путеводное облако, воздвигнув ополчение, ведет его в другое место. А это была какая–то пустыня на сухом, ничем не покрытом песке, в стране, не орошаемой никакой водной влагой; и там опять, когда народ стала томить жажда, некий камень, ударенный Моисеевым жезлом в его вершину, издает сладкую и годную для питья воду в обилии, превышающую потребность многочисленного народа.
Вот оскудел запас снедей, какой заготовили израильтяне на путь, выходя из Египта, народ стал мучиться голодом, тогда происходит чудо всех чудес невероятнейшее: не из земли по общему закону является им пища, но источается свыше, с неба, наподобие росы. К утру разливалась у них роса, и эта роса для собирающих делалась пищей, потому что разлитое не водяная была капля, как обыкновенно в росе, но вместо капель падали какие–то как бы ледяные округленные куски, по виду походившие на кориандровы семена (по выговору поселян: колиандровы), но вкус их уподоблялся сладости меда. В этом чуде усматривалось вместе и другое: все, выходившие для сбора, в разных, как вероятно, возрастах и при разных силах приносили один другого не меньше по разности сил — напротив того, собираемое соразмерялось с потребностью каждого так, что и сильнейший не имел у себя избытка, и у менее сильного не оказывалось недостатка. При этом история говорит еще о другом чуде, а именно: каждый, принеся на день, ничего не откладывал до следующего дня, у спрятавшего же по какой–то бережливости часть пищи от настоящего дня к следующему отложенное делалось негодным в пищу, превращаясь в червей. Но есть и другое нечто необычайное в истории об этой пище. Поскольку один из дней седмицы по какому–то таинственному закону почтен был бездействием, то в день, предшествующий ему, и пищи выпадало с прежними днями в равной мере, и усердие собирающих бывало одинаковое, но собранного оказывалось вдвое против обычной меры, так что не было предлога по необходимости в пище нарушать закон о бездействии. И в этом еще больше выказывалась Божия сила тем, что излишек, в другие дни делавшийся негодным к употреблению, в один пяток, день перед субботой (так было имя дню бездействий), будучи сбережен, оставался неповредившимся так, что оставшееся оказывалось свежим, как бы выпадшее в тот же день.
Потом у израильтян начинается война с неким иноплеменным народом (Писание восставших тогда на них именует амаликитянами). И в это время народ израильский в первый раз вооружается, чтобы стать в боевой порядок, впрочем не все, составив одно воинство, но избранные по доблести подвиглись в битву, да и из них самые отборные вступили в сражение, на котором Моисей показал опять новый способ военачальства; войско против амаликитян вывел тогда Иисус, бывший после Моисея вождем народа, а Моисей вне поля сражения на одном видном издали холме возводит взор к небу, по обе же его стороны стоят два близких ему человека. Тогда–то, как узнаем из истории, совершилось такое чудо: Егда воздвизаше Моисей руце к небу, подвластные ему усиливались против врагов, егда же опускаше, войско его уступало стремительности иноплеменников (Исх. 17:11). Заметив это, предстоящие Моисею, подошедши к нему с обеих сторон, поддерживали руки его, по какой–то сокровенной причине делавшиеся тяжелыми и неудободвижными. Поскольку же не было у них столько сил, чтобы поддерживать Моисея в прямом положении, то седалище его подперли камнем и так сделали, что у Моисея при их помощи руки воздвигнуты были к небу и иноплеменники решительно побеждены израильтянами.
Но на том же месте оставалось облако, предводительствовавшее народом в путешествии, и по всей необходимости народу надлежало не трогаться с места, потому что некому было предводительствовать при переходе в другое место. Так без всяких усилий были у них удобства к жизни: свыше воздух дождил им готовый хлеб, а внизу камень доставлял питие, и облако избавляло от неприятности воздушных перемен (днем служило ограждением от зноя, а ночью рассеивало мрак, освещая какими–то огневидными лучами) — беспечально было для них это пребывание в пустыне при подошве горы, где раскинут был стан. Здесь–то Моисей наставлял израильтян какому–то неизреченному таинству; сама же сила Божия превосходящими слово чудесами тайноводствовала и весь народ, и самого вождя. А тайноводство это совершилось так.
Наперед сказано народу быть далеким от всяких других осквернений, какие примечаются по телу и по душе, и очистить себя некими кроплениями, даже определенное число дней воздерживаться от самого брака, чтобы сподобляющийся таинству, омывшись от всего страстного и телесного, приступил к горе чистым от страсти. Имя горе этой было Синай. И восхождение на нее в это время дозволено было одним существам словесным, и из них одному мужскому полу, и притом очистившимся от всякой скверны. Употреблены же всякая осторожность и предусмотрительность, чтобы ни одно бессловесное не всходило на гору. А если бы случилось это, то было поведено народу побивать камнями все, что ни появлялось бы на горе из естества бессловесного. Потом разлитый в воздухе свет вместо чистой прозрачности начал затемняться мглой, так что гора, вокруг объятая мраком, стала невидима. Появлявшийся из мрака огонь делал видение для зрителей страшным, объем горы представлялся со всех сторон поглощенным, и все видимое вслед за промелькнувшим огнем покрывалось дымом. Моисей же ведет народ к восхождению, и сам, несмело взирая на видимое, но изумевая душою от боязни, содрогаясь телом от страха, не скрывает пред израильтянами душевного страдания, по признается перед ними, насколько поражен видимым и трепещет телом. Ибо видимое было таково, что не посредством только глаз приводило душу в ужас, но и посредством слуха сообщало ей страшное: все дольнее сокрушал поразительный свыше глас, которого и первое приражение было тягостно и невыносимо всякому слуху: он уподоблялся звуку труб, но грозной и поразительной звучностью превосходил всякий подобный образец; с продолжением же времени глас делался еще страшнее, потому что звук его непрестанно усиливался и становился еще более поразительным. Да и глас этот был членораздельный: Божией силой, без способствующих выговору орудий самый воздух членораздельно образовывал в себе слово. И слово это не просто было членораздельное, но узаконяло Божественные повеления. И продолжающийся глас, возрастая, усиливался, труба звучала громче себя самой, предшествующие звуки превосходя всегда последующими.
Весь народ не имел столько сил, чтобы выносить видимое и слышимое, и потому общее всеми приносится прошение Моисею, чтобы он стал посредником закона, и народ не отказывается, как Божиему велению, верить всему, что ни возвестит Моисей по научению свыше. Поэтому снова все силы сходят к подошве горы, оставлен один Моисей, показавший в себе противное или то, чем был он действительно. Даже когда все, сообща участвуя в деле, предаются страху, Моисей, оставшись один, поступает смелее окружавших его. Почему и из этого делается явным, что не собственной его немощью был тот страх, который объял его вначале, но потерпел он это по сочувствию с пораженными страхом. Поэтому, когда, как некое бремя, сложив с себя боязнь народа, пришел он в себя, тогда осмеливается вступить и в самый мрак и пребывает внутри незримого, став уже невидимым для взирающих на него (так как, проникнув в неисповедимость Божественного тайноводства, там и сам незрим, и сопребывает с Незримым). А тем, что сделано им, научает он, как думаю, что намеревающемуся быть в единении с Богом должно выйти из всего видимого, напрягая разумение свое к Незримому и Непостижимому, как бы к какой вершине горы, уверовать, что Божество там, куда не восходит понятие. В этом состоянии Моисей приемлет заповеди Божии. И они были учение добродетели, сущность которого — благочестие, усвоение самых приличных представлений о Естестве Божием, о том, сколько Оно превыше всякого доступного разуму понятия и образца, не уподобляясь ничему познаваемому. И Писание в представлениях о Боге повелевает не иметь в виду ничего умопостигаемого и Естество, все превышающее, не уподоблять чему–либо познаваемому рассудком, но веровать, что Оно есть, а что Оно такое, или сколь велико, или откуда, или каким образом — оставлять без изысканий как непостижимое.
Но Писание, преподавая учение об общих и частных законах, присовокупляет и то, сколько есть нравственных преуспеяний. Вообще закон запрещает всякую неправду, обязывая иметь любовь к соплеменнику, а по утверждении этого непременно требует по порядку за тем следующее: не делать никакого зла ближнему. В законах же подробных предписывается почтение родителям и излагается перечень запрещаемых погрешностей. И как бы по предочищении ума этими законами возводится Моисей к совершеннейшему тайноводству в мгновенном ему Божией силой предуказании некоей скинии.
А скиния была храм, имеющий красоту в неизъяснимом некоем разнообразии. Тут были преддверия, столпы, завесы, трапеза, светильник, алтарь кадильный, жертвенник, очистилище, внутренность святилища, сокровенная и недоступная. Красоту и расположение всего этого, чтобы чудо это не утратилось из памяти и могло быть показано дольним, повелевается Моисею не одному только писанию предать его, но вещественным устроением сделать подобие невещественного этого создания, взяв для этого наиболее блистательные и видные вещества из находимых на земле. Из них всего более было золота, которым вокруг облиты были столпы. С золотом вместе употреблено и серебро, украшавшее собой верхи и основания столпов, чтобы, как я думаю, более блистало золото среди отличающегося цветом на обоих концах. А в ином почтено полезным и вещество меди: оно служило надглавием и основанием серебряных столпов. Завеса же и покровы, чем были обтянуты бока храма и верх над столпами, — все приготовлено было прилично ткацким искусством из вещества, пригодного для каждого дела. У одних из тканей цвет был синева, багряница, огнезрачность червленой красоты, белизна виссона — этот самородный и безыскусственный вид. На само тканье взяты для одного лен, а для другого волосы, по местам же для красоты строения употреблены красные кожи. И это Моисей по сошествии с горы устроил при содействии других по представленному ему образцу здания.
Тогда же, пребывая в этом нерукотворном храме, получает Моисеи закон об иерее, вступающем в святилище: каким убранством надлежит ему отличаться; и Писание излагает в подробности законы о внутреннем и наружном облачении. Началом облачения в одежды служит не сокрытое что–либо, по видимое: ризы верхние, испещренные разными цветами, именно теми же, с какими устроена была завеса, но преимуществующие перед золотой прядью. Эти верхние ризы по обеим сторонам соединялись застежками, а это были изумруды, обделанные кругом в золото. Единственной красотой этих камней служил блеск, издававший от себя какие–то зеленоватые лучи, а искусственной была чудная резьба. И красу эту составляла не художественная насечка черт для изображения каких–либо идолов, но имена патриархов, начертанные на двух камнях: по шести на каждом. К ним привешены были спереди щитки и витые верви, сплетенные между собой одна поперек другой с правильной расстановкой наподобие сетки, опускались сверху от застежки по обе стороны щитков, чтобы, как думаю, более заметной казалась красота плетения, просвечиваемого тем, что под ним. На груди иерея выдавалось то золотое украшение, в котором вделано было несколько, по числу патриархов, разных родов камней, расположенных в четыре ряда, и в каждом ряду по три; камни эти сделанными на них начертаниями показывали соименных коленам патриархов. Под верхними ризами была риза внутренняя (Исх. 28:31), от шеи доходившая до края ног, благолепно украшенная привесками бахромы. А внизу подол красиво был убран не только испещренной тканью, но и золотыми привесками, и это были золотые звонки и пуговицы, рядами расположенные на подоле. Была также головная повязка вся из синевы, а спереди на челе — дощечка из чистого золота с начертанными на ней какими–то таинственными письменами. Были и пояс, стягивающий просторное облачение, и убранство сокровенных одежд, наконец, все, что под видом облачения загадочно научало священнической добродетели.
Когда же Моисей, объятый этим невидимым мраком, по неизреченному Божию наставлению изучил такие вещи с приращением таинственных познаний, стал выше себя самого, тогда опять, исшедши из мрака, сходит к соплеменникам сообщить им о чудесах, открытых ему при Богоявлении, предложить законы, соорудить народу храм и установить священство по образу, показанному ему на горе. Нес он в руке и священные скрижали, которые были Божиим обретением и даром, ни в каком предварительном содействии не имея нужды к своему происхождению — напротив того, каждая из скрижалей: и вещество ее, и начертание на ней — равно были делом Божиим. Впрочем, народ не допустил до себя дара: прежде чем предстал законодатель, необузданно предавшись идолослужению. Немало прошло времени, пока Моисей в собеседовании с Богом занят был Божественным тайноводством: в продолжение сорока дней и стольких же ночей под покровом мрака причащался он присносущной той жизни, был даже вне естества, потому что в это время не имел нужды в пище для тела. Тогда–то народ, подобно ребенку, оставшемуся без надзора пестуна, несмысленными стремлениями вовлекается в бесчиние и, восстав на Аарона, приводит священника в необходимость предводить ими в идолослужении. Идол сделан из золотого вещества (и идолом был телец); народ восхищался своим нечестием, но Моисей, подходивший к ним, сокрушает скрижали, которые нес от Бога, чтобы израильтяне, лишившись богоприемного дара, понесли достойное за свой проступок наказание. Потом, руками левитов очистив скверну кровью соплеменников, а гневом своим на согрешивших умилостивив Божество, уничтожив же идола, наконец, по сорокадневном пребывании на горе снова приносит скрижали, на которых Писание произведено Божией силой, тогда как вещество их обделано Моисеевой рукой. Приносит их снова, в продолжение такого числа дней превзошедши само естество и соблюдши иной некий образ жизни, а не тот, какой узаконен для нас, не принимая внутрь тела своего ничего такого, что оскудение естества нашего подкрепляет пищей.
И после этого сооружает скинию, дает законные предписания, устанавливает священство по преподанному ему Богом. И когда по Божию указанию уготовил вещественным построением все это: скинию, преддверия и что внутри скинии, алтарь кадильный, жертвенник, светильник, завесы, очистилище во святилище, священнические украшения, миро, различные жертвоприношения, очистительные, благодарственные, спасительные в бедах, умилостивительные в прегрешениях, — когда все это Моисей должным образом привел в порядок, тогда в близких к нему возбуждает зависть — этот недуг, сродный природе человеческой; так что и Аарон, почтенный саном священства, и сестра его Мариам, какой–то свойственной женщинам ревностью подвигнутая к той чести, какой удостоен от Бога Моисей, высказывают нечто такое, чем раздражено Божество и потому наказало прегрешения. Здесь Моисей еще более достоин удивления за свое незлобие, потому что Бог наказует неразумную женскую зависть, а он, успев в том, что естество превозмогло в нем и самый гнев, умилостивляет к сестре Бога.
И народ предался опять бесчинию, к преступлению же привела неумеренность в наслаждениях чрева: израильтянам стало недостаточно в здравии и беспечально поддерживать жизнь подаваемой свыше пищей, пожелание плотей, приверженность к мясоястию делали то, что египетское рабство казалось для них предпочтительнейшим настоящих благ. Моисей доносит Богу о возобладавшей ими страсти. И Бог тем, что дает получить желаемое, научает, что не должно желать этого, именно же насылает множество каких–то птиц, летающих почти по земле, которые тучей и стаями устремляются на ополчение; удобство ловить доводит пожелание мяса до пресыщения, а неумеренное употребление снеди превращает у них вдруг телесные срастворения в тлетворные соки, и насыщение оканчивается болезнью и смертью. Такого примера и им самим, и видящим их достаточно стало, чтобы уцеломудрить народ.
Потом посылаются Моисеем соглядатаи в ту страну, в которой по Божию обетованию надеялись обитать израильтяне. Поскольку же не все они возвестили правду, но некоторые сделали ложные и нерадостные показания, то народ опять поступил с Моисеем гневно. Но Бог отчаявшихся в Божием содействии осуждает не увидеть обетованной им земли. Между тем у идущих далее по пустыне снова недоставало воды и вместе утратилось памятование о Божием могуществе, и после бывшего прежде чуда с камнем не верили теперь, что не будут нуждаться ни в чем потребном; отринув же благие надежды, дали место укоризнам, ропща на самого Бога и на Моисея, так что и Моисей, по–видимому, преклонился перед неверием народа, впрочем, опять сотворил пред ними чудо, несекомый камень претворив в естество вод. Когда же рабское это наслаждение снедями опять возбудило в них вожделение чревоугодия и, не будучи лишены ничего необходимого для жизни, возмечтали о египетском пресыщении, тогда, подобно бесчинным юношам, вразумляются сильнейшими ударами бичей: появившиеся у них в стане змеи угрызением своим сообщают смертоносный яд. Один за другим падают угрызенные животными, и законодатель, возбужденный Божиим советом, слив медное подобие змея, делает его на некоей высоте видимым для всего стана и таким образом останавливает в народе гибель от змей. Кто взирал на это медное изображение, тому нимало не страшно было угрызение живого змея, потому что зрение по какому–то необъяснимому противодействию ослабляло яд.
Опять происходит в народе восстание на Моисея за предводительство, и некоторые усиливаются себе присвоить священство. Но Моисей делается молитвенником пред Богом за погрешивших; впрочем, правда суда Божия превозмогает Моисееву сострадательность к соплеменникам. Земля, разверзши зев, по воле Божией снова сходится сама с собой, прияв во внутренность всех со всем их родом, превознесшихся перед начальством Моисеевым. И неистово домогавшиеся священства числом около двухсот пятидесяти, будучи пожжены огнем, страданием своим уцеломудривают соплеменников. Но для большего удостоверения людей в том, что благодать священства от Бога дается удостоившимся ее, Моисей берет жезлы от каждого колена у начальствующих ими и по означении письменами на каждом жезле, кем он дан (в числе их был и жезл священника Аарона), полагает их во храм, потом объявляет народу приговор Божий о священстве, так как из всех жезлов один жезл Ааронов прозяб и от этого дерева произрос и созрел плод (а плодом был орех). Величайшим чудом даже для неверующих показалось, что дерево без коры, остроганное, не имеющее корня, вдруг утучняется, производит то же, что и укорененное в земле, потому что и землю, и кору, и влагу, и корень, и ветви заменяет дереву Божия сила.
При этом, проводя воинство землями иноплеменных народов, Моисей налагает на себя клятву, что не дозволит своему народу проходить нивами и виноградниками, но будет соблюдать царский путь (Чис. 21:22), не уклоняясь ни вправо, ни влево. Но так как неприятели и этим не были умирены, то, преодолев сопротивника в битве, полновластно совершает переход. Потом некто Валак, владеющий многочисленнейшим племенем (имя же племени было мадианитяне), устрашенный поражением перед этим погибших и не дожидаясь того, чтобы и самому пострадать так же от израильтян, употребляет в дело не помощь оружия и телесной силы, но бесполезное чародейство в лице некоего Валаама, который почитался сведущим в этом, и пользовавшиеся им были уверены, что он имеет некую силу в подобных делах. Знал он птицегадательное искусство, страшен был и тем, что по какому–то содействию демонов причинял людям некоей ухищренной силой неисцельные бедствия. Он–то, следуя за теми, которые вели его к царю этого народа, научается голосом ослицы, что путь его не будет удачен. Потом, из некоего явления дознав, что ему делать, находит, что злотворное волшебство бессильно причинить какой–либо вред людям, которым вспомоществует Бог. Вместо же демонской силы исполнившись Божественного вдохновения, провещевает такие глаголы, которые прямо служат пророчеством о том, что впоследствии имело произойти к лучшему. Тем самым, что воспретило искусству действовать во зло, приведенный в ощущение Божией силы, отложив свое прорицательное искусство, пророчествует он по Божией воле. После этого сокрушен народ иноплеменнический, потому что в войне сильнее его стал народ Божий, который потом побежден страстью распутства к пленницам. Когда Финеес застигнутых в срамном деле пронзил одним ударом, прекратился Божий гнев на предавшихся с неистовством этим непозволенным связям.
Тогда законодатель, взошедши на высокую некую гору и издали увидев страну, которая по Божию обетованию отцами уготована была израильтянам, переселяется из жизни человеческой, не оставив ни знака на земле, ни памяти во гробах о своем преселении, тогда как время не повредило красоты его, не помрачило света очей его, не ослабило сиявшей на лице его благодати, но всегда был он одинаков и вместе с изменяемостью естества сохранял непреложность красоты.
Итак, вот что из истории мужа дознали мы с первого взгляда и пересказали тебе кратко, хотя в ином встречался повод по необходимости распространить слово. Но время вспомянутую нами жизнь применить к предположенной нами цели слова, чтобы из сказанного прежде сделано было какое–либо привношение в описание добродетельной жизни. Потому возвратимся к началу повествования о Моисее.
Часть II. Взгляд на жизнь Моисееву
Когда закон мучителя повелевал истреблять мужской пол, тогда рождается Моисей. Поэтому как можем по произволению подражать этому, случайными обстоятельствами сопровождаемому, рождению Моисея? Конечно, скажет иной, не от нас зависит, чтобы человек своим рождением подражал славному этому рождению. Но нимало не трудно начаться подражанию и тем, что, по–видимому, весьма затруднительно. Ибо кто не знает, что все подлежащее изменению никогда не остается одним и тем же, но непрестанно из одного обращается в другое, вследствие изменения делаясь всегда лучшим или худшим. Разумей же это применительно. Вещественное и страстное расположение, к которому особенно поползновенна природа человеческая, это женственное в жизни, когда рождается, угодно бывает мучителю, а твердость и неослабность добродетели, это мужское порождение, враждебно мучителю и подозрительно тем, что может восстать против его власти. Поэтому, что как ни есть изменяется, тому, конечно, должно непрестанно рождаться, потому что в природе удобопревратной не увидишь ничего пребывающего всегда одинаковым; а так родиться зависит не от постороннего побуждения, подобно тому как рождают что–либо телесное — напротив того, по собственному произволению совершается подобное рождение, и мы бываем некоторым образом отцами себя самих, рождая себя такими, какими сами желаем, и по собственному своему произволению уроками добродетели или порока образуя себя в какой желательно нам пол, мужской или женский. Конечно, и нам можно против воли и к огорчению мучителя произойти на свет лучшим рождением и, хотя бы это было вопреки мудрованию мучителя, явиться и вступить в жизнь на удовольствие родителям прекрасного этого плода (а это суть помыслы, делающиеся отцами добродетели). Поэтому слово это учит, как, заимствовав повод из истории, можно со всей ясностью раскрыть загадочный смысл, положить начало добродетельной жизни, родиться к скорби врага, т. е. неприятным для него образом рождения, в котором болезни рождения терпит произволение. Ибо не иначе может кто–либо причинить скорбь сопротивнику, как показав в себе такие признаки, которые бы служили свидетельством победы над ним.
От одного и того же произволения зависит, без сомнения, родить это мужское и доблестное порождение, вскормить его приличными снедями, позаботиться, чтобы безвредно спаслось оно из воды, так как приносящие свои порождения в дар мучителю, обнажив и без присмотра, предают чад речному потоку; разумею же поток жизни, волнуемый непрерывными страстями, отчего впадшее в этот поток погрязает и лишается дыхания под водами. Но целомудренные и попечительные помыслы — отцы мужского порождения, когда необходимость жизни принуждает их добрый плод свой предать житейским волнам, предаваемое потоку обезопашивают ковчегом, чтобы не погрязло в глубине. Ковчегом же, составленным из разных дощечек, пусть будет обучение, твердо связанное из различных уроков и поддерживаемого им носящее над житейскими волнами, при котором и носимый стремлением волн не слишком далеко увлечется волнением вод, но, оставаясь при твердом береге, т. е. вне житейского волнения, самым стремительным течением вод неизвестно как будет отталкиваем к суше. И это познаем на опыте, потому что не погрузившихся еще в человеческие обольщения самых житейских дел непостоянное, туда и сюда уклоняющееся движение отталкивает от себя, как некое бесполезное бремя, признавая их людьми беспокойными по своей добродетели. Но кто стал вне таковых волнений, да подражает Моисею, не щадя слез, хотя и приведен в безопасность в ковчеге, потому что слезы — тщательный страж для спасающихся добродетелью.
Если же бесчадная и бесплодная царская дочь (под именем которой, думаю, разумеется собственно внешнее любомудрие), присвоив себе новорожденного, готовится назваться его матерью, то слово это позволяет до тех пор не отвергать свойства с этой лжеименной матерью, пока новорожденный видит в себе несовершенство возраста. А кто приходит уже в возраст, как дознаем в примере Моисея, тот почтет для себя стыдом именоваться сыном бесчадной по естеству. Ибо внешнее обучение действительно бесчадно: всегда страждет болезнями рождения, но никогда не рождает ничего живого. И любомудрие это после долговременных болезней рождения какой показало плод, достойный столь многих и великих трудов? Не все ли в виде ветреных пузырей и недоношенными извергаются прежде, чем придут в свет боговидения? А, вероятно, могли бы они сделаться имеющими человеческий образ, если бы не были вовсе сокрыты в недрах бесчадной мудрости. Поэтому, кто у египетской царевны прожил столько времени, сколько нужно, чтобы не казаться непричастным уважаемого египтянами, тот да возвратится к матери по естеству, от которой да не удаляется и во время своего воспитания у царевны, питаясь материнским молоком, как рассказывает история. И это, кажется мне, учит тому, чтобы, если во время обучения упражняемся в науках внешних, не лишали и мы себя млека воспитывающей нас Церкви, т. е. тех установлений и обычаев, которыми питается и укрепляется душа и из которых она заимствует для себя средства к возрастанию.
Истинно же то слово, что среди двух врагов будет тот, кто внимает учениям внешним, а не отеческим, потому что еврейскому понятию противится иноплеменник в Богопочтении, усиливаясь показать, что он крепче израильтянина, да и кажется таковым для многих легкомысленных, которые, оставив отеческую веру и сделавшись преступниками отеческого учения, вступили в борьбу заодно с врагом. Но кто, подобно Моисею, велик и благороден душой, тот противоборствующего слову благочестия умерщвляет своим ударом.
А иной и иначе найдет в нас подобную борьбу. Ибо человек как бы некоей наградой за подвиг поставлен на середину между держащимися противных сторон — и к кому присоединяется, того и делает победителем противника. Например, идолослужение и благочестие, невоздержанность и целомудрие, справедливость и неправда, кичливость и скромность ума, и все, представляемое противоположным, явная есть борьба какого–то египтянина с евреем. Поэтому Моисей примером своим наставляет нас быть в единении с добродетелью, как с единоплеменником, убивать же восстающего с противной стороны на добродетель. Ибо действительно преодоление благочестия делается смертью и истреблением идолопоклонства; так и справедливостью умерщвляется неправда, и скромностью убивается кичливость.
Но бывает также в нас и восстание друг на друга единоплеменников. Ибо не имели бы места вероучения лукавых ересей, если бы одни помыслы против других, более истинных, не выступали в сопротивных рядах. Если же будем немощны для того, чтобы самим собою отдать преимущество справедливости, потому что худшее пересиливает своими умствованиями и отвергает владычество истины, то нам должно как можно скорее бежать отсюда к важнейшему и более возвышенному учению таинств, подобно указуемому этой историей образцу. И хотя бы потребовалось снова вступить в единение с иноплеменным, т. е. нужда заставила быть в единении с внешним любомудрием, решимся и на это, отогнав лукавых пастырей от неправедного употребления колодцев, т. е. учителей худому обличив в лукавом употреблении обучения, уединимся потом в самих себя, не входя в связи и сближения с какими–либо любителями споров, но будем жить вместе с теми, которые единомысленны и единомудренны с пасомыми у нас, между тем как все движения души нашей, подобно овцам, управляются волей руководственного разума. И таким образом нам, неуклонно пребывающим в этом мирном и безмятежном житии, воссияет тогда истина, лучами своими озаряющая душевное зрение. Истина же, явившаяся тогда Моисею в неизреченном этом световодстве, есть Бог.
Если же и терновым некиим кустом воспламеняется тот свет, которым просвещается душа пророка, то не бесполезно будет и это сделать нам предметом исследования. Ибо если истина есть Бог, а также истина есть свет и оба эти высокие и божественные именования евангельское слово присвояет явившемуся нам во плоти Богу (Ис. 4:6), то следует, что такое добродетельное житие возводит нас к ведению этого света, который нисходит даже до естества человеческого, воссияв не от какого–либо звездного светила, почему нельзя было бы признать его сиянием дольного вещества, но от земного куста, и превосходя светлостью лучей небесные светила. А этим обучаемся и таинству, явленному в Деве, от которой в рождении воссиявшей человеческой жизни свет Божества сохранил воспламененную купину несгораемой, так что и по рождении не увял стебель девства. Этим светом научаемся и тому, что нам делать, чтобы стать в лучах истины, а именно что невозможно связанными ногами взойти на ту высоту, где усматривается свет истины, если не будет разрешена на душевных стопах эта мертвенная и земная кожаная оболочка, возложенная на естество вначале, когда обнажило нас преслушание Божией воли. И, таким образом, как скоро совершится это с нами, последует за тем ведение истины, которое служит очищением от предположения о несуществующем, т. е., по моему понятию, определением истины не составлять себе ложного понятия о сущем. (Ибо ложь есть какое–то рождающееся в уме представление о не сущем, будто бы существует то, чего нет, а истина есть несомненное понятие о сущем.) И, таким образом, даже тот, кто в продолжение долгого времени среди безмолвия любомудрствовал о предметах возвышенных, едва составит понятие о том, что такое в действительности сущее, по естеству своему имеющее бытие, и что такое не сущее, по видимости только имеющее бытие, тогда как естество само по себе несущностно. И это, кажется мне, познал тогда великий Моисей, наученный Богоявлением, а именно что из всего объемлемого чувством и созерцаемого умом ничто не есть сущее в подлинном смысле, кроме превысшей всего сущности, которая всему причина и от которой все зависит. Ибо если мысль и другое что усматривает в числе существ, то ни в одном из этих существ не видит ум такого, которое бы не имело нужды в другом и которому было бы возможно прийти в бытие без причастия истинно Сущего.
Всегда одно и то же, неувеличиваемое и неумаляемое, ко всякой перемене — в лучшее ли то или худшее — равно неподвижное, потому что худшее ему чуждо, а лучшего нет; во всем другом не имеющее нужды, единое всем вожделеваемое, единое, чего все причастно, единое причастием причащающихся не уменьшаемое, — вот действительно в подлинном смысле сущее, и понятие об этом сущем есть ведение истины. Поэтому, как тогда достигший этого Моисей, так ныне всякий, кто, подобно ему, отрешает себя от земной оболочки, видит свет купины (т. е. обращает взор к воссиявшему для нас от плоти — этого тернового куста — лучу, который, как говорит Евангелие, есть Свет истинный (Ин. 1:9) и Истина (14:6)), делается таким, что может послужить ко спасению других, истребить превозмогающее на зло мучительство и привести в свободу все, подпавшее жестокому рабству, между тем как измененная десница и жезл, обращенный в змия, творят чудеса, чем, как думаю, загадочно изображается тайна во плоти Господней явившегося людям Божества, которым совершается низложение мучителя и освобождение им обладаемых. К этой же мысли приводит меня евангельское и пророческое свидетельство, ибо Пророк говорит: Сия измена десницы Вышняго (Пс. 6:11); потому что, хотя Божественное естество умопредставляется неизменяемым, однако же по снисхождению к немощи естества человеческого изменилось в наш образ и вид. Ибо и там рука законодателя, вложенная за пазуху, изменила цвет в противоестественный, и опять, быв за пазухой, возвратила себе собственную природную красоту. И единородный Бог, находящийся в недрах Отчих, Он есть десница Вышнего, когда явился нам из недр, изменился в подобное нам; когда же, понесши на Себе наши немощи, бывшую у нас и, подобно нам, изменившую цвет руку возвратил в собственное Свое недро (недро же Десницы — Отец), тогда бесстрастного естества не изменил в страдания, но изменяемое и страстное общением с неизменяемым преложил в бесстрастие.
И превращение жезла в змия да не смущает христолюбцев тем, что понятие о таинстве приспособляем к животному противного вида, ибо Сама Истина не отвергает этого изображения, когда говорит в Евангелии: Якоже Моисей вознесе змию в пустыни: тако подобает вознестися Сыну человеческому (Ин. 3:14). Слово это ясно, так как если отец греха в Божественном Писании наименован змием и рожденное змием, без сомнения, есть змий, то следует, что грех соименен с породившим его. Апостольское же слово свидетельствует, что Господь ради нас соделался грехом (2 Кор. 5:21), восприяв на Себя греховное наше естество. Следовательно, образ этот справедливо прилагается к Господу. Ибо если грех есть змий и Господь соделался грехом, то тот, кто есть грех, соделывается для нас змием, чтобы поглощать и истреблять египетских змиев, оживотворяемых волхвами, а по совершении этого снова обращаться в жезл, которым уцеломудриваются согрешающие и упокоеваются восходящие крутым и неудобопроходимым путем добродетели, в добром уповании опираясь на жезл веры, потому что есть вера уповаемых извещение (Евр. 11:1). Поэтому, кто уразумел это, тот прямо делается Богом воспротивившихся истине и приводимых в изумление этой вещественной и неосуществимой прелестью, которыми, как нечто суетное, пренебрегается то, чтобы послушать Сущего, ибо говорит Фараон: Кто есть, его же послушаю гласа? Не вем Господа (Исх. 5:2). Одно же только, именно вещественное и плотское, признают достойным уважения преданные скотской чувственности. Поэтому если кто укреплен будет озарением света и приобретет столько силы и власти над сопротивниками, то, как некий борец, достаточно обучившийся у наставника подвижническому мужеству, смело и с уверенностью приготовится к борьбе с врагами, имея в руке этот жезл, т. е. слово веры, которым будет поборать египетских змиев.
Последует же за ним и супруга–иноплеменница, потому что и из внешнего обучения допускается нечто в сожитие с нами к плодоношению добродетели. И нравственное естественное любомудрие и высокому по жизни может иногда служить сожительницей, подругой и сообщницей, если только ее порождения нимало не принесут иноплеменной скверны. Ибо, пока не обрезана и не отъята эта скверна, чтобы истреблено было все как вредное и нечистое, угрожает страхом смерти встречающий Ангел, но его умилостивляет сожительница отъятием отличительного свойства, по которому познается иноплеменное, доказывая, что порождение ее чисто. Думаю же, что понявшему это историческое повествование из сказанного делается явной последовательность преуспеяний в добродетели, какую показывает слово, непрерывно следующее за связью исторических загадок. Ибо в уроках любомудрого порождения есть нечто плотское и закрытое, но, что остается по отъятии покрова, то не лишено израильского благородства. Например, и внешнее любомудрие говорит, что душа бессмертна — вот порождение благочестивое. Но утверждать, что будто бы душа из одного тела переходит в другое и словесное естество меняет на бессловесное — это есть уже плотское и иноплеменное необрезание. А подобно этому, и многое другое. Любомудрие говорит, что Бог есть, но признает Его вещественным; исповедует, что Он Создатель, но для создания имеет нужду в веществе; соглашается, что Он всемогущ и благ, но во многом уступает необходимости судьбы; и что если пересказать в подробности, как добрые учения внешнего любомудрия оскверняются нелепыми прибавлениями? По отъятии только этих последних ангел Божий соделывается к нам милостив, радуясь истинному порождению таких учений.
Но возвратиться должно к последовательности слова, чтобы и нам, когда будем близки к египетским овигам, встретилось со временем братское вспомоществование. Ибо знаем, что у Моисея в начале добродетельной его жизни происходит бранная и воинственная встреча: египтянин притесняет еврея и также еврей восстает на единоплеменника. Если же он своими добродетелями при долговременной попечительности, вследствие бывшего в высшей степени озарения достигнув большего из душевных преуспеяний, имеет дружественную и мирную встречу, по Божию внушению навстречу ему выходит брат, то (если это историческое событие применить к иносказательному воззрению) и мы найдем это небесполезным для своей цели. Ибо действительно преуспевающим в добродетели оказывается от Бога данное естеству нашему вспоможение, которое по первоначальному бытию предваряет, но является и познается тогда уже, когда, при внимательности и попечительности достаточно освоившись с высшим житием, приуготовимся к труднейшим подвигам. Но, чтобы не разрешать нам загадку загадкой же, мысль свою об этом изложим открытее.
Есть некое учение, заимствующее достоверность из отеческого Предания, и оно говорит: когда естество наше пало в грех, Бог падения нашего не оставил Своим Промыслом, но в помощь жизни каждого приставляет ангела из принявших бесплотное естество; но и с противной стороны растлитель естества ухищряется на то же посредством некоего лукавого и злотворного демона, который бы вредил человеческой жизни. Человек же, находясь среди этих двух сопровождающих его, так как цель каждого из них противна другому, сам собою делает одного сильнейшим другого. Добрый ангел предуказывает помыслам блага добродетели, какие преуспевающими открываются в уповании. А другой показывает вещественные удовольствия, от которых нет никакой надежды на блага: только настоящее, вкушаемое, видимое порабощает чувства маломысленных. Поэтому если кто чуждается того, что манит к худому, устремив помыслы к лучшему, и порок как бы поставил позади себя, а душу свою, как некое зеркало, обратил лицом к упованию благ, чтобы в чистоте собственной его души напечатлелись все изображения и представления указуемой ему Богом добродетели, то встречает его тогда и оказывает ему вспоможение брат, ибо по дару слова и по разумности души человеческой ангел некоторым образом делается человеку братом (как сказано), являясь ему и при нем находясь тогда, когда приближаемся к фараону.
Но в той мысли, что такой взгляд ума можно во всей связи приспособить к целому изложению истории, если что–либо в написанном окажется не подходящим под это разумение, ради того самого никто да не отвергает всего, а, напротив того, пусть всегда помнит цель нашего слова, которую имея в виду, излагаем это, наперед сказав в самом начале, что жития мужей благоискусных предлагаются потомству в образец добродетели. Для подражающих же делам их невозможно идти по тем же самым следам — найдется ли, например, еще народ, по переселении размножающийся в Египте? Также найдется ли порабощающий его мучитель, неприязненно расположенный к мужскому полу и заботящийся о размножении пола более нежного и немощного? Найдется ли где и все прочее, что содержит в себе эта история? Итак, поскольку оказывается невозможным чудесам этих блаженных подражать в тех же самых событиях, то заимствуемое из действительного исследования событий пусть будет прилагаемо к какому–либо нравственному учению, и ревнителям добродетели да послужит это некоторым пособием для такой жизни. Если же какое–либо из исторических событий самая необходимость вещей принуждает оставаться вне связи принятого разумения, то, отложив его в сторону, как неполезное и не служащее нашей цели, должны мы не прерывать учения о добродетели. А говорю это, имея в виду мнение об Аароне и предупреждая то возражение, какое можно сделать на основании последующих событий.
Иной скажет: у ангела, как существа разумного и бесплотного, есть родство с душой, и несомненно то, что он старше нас по устроению, оказывает помощь вступающим в борьбу с сопротивными, но нет основания в образе ангела представлять себе Аарона, который содействовал израильтянам в идолопоклонстве. В ответ такому, отступив от связи речи, скажем то же, что сказано прежде: если что не служит цели, то ради этого да не опровергается в слове согласие в прочем; и брат, и ангел есть нечто одноименное, по своему значению равно прилагаемое к тому и другому из существ противоположных, потому что в Писании именуется не только ангел Божий, но и ангел сатанин, и не только доброго, но и злого называем братом; Писание так говорит о добрых: Братия в нуждех полезни да будут (Притч. 17:17), и о противоположных им: Всяк брат запинанием запнет (Иер. 9:4). Упомянув же об этом не в связи речи кратко и точнейшее обозрение отлагая до места, собственно ему принадлежащего, коснемся теперь того, что предлежит нам.
Итак, кто сам себя укрепил явившимся ему светом и приобрел себе такого брата, поборника и помощника, тот смело ведет с народом слово об Истине, напоминает об отеческом благородстве и подает мысль, как освободиться от брения и тяжкого плинфоделания. Чему же научает нас эта история? Тому, чтобы не отваживался говорить народ тот, кто такой же жизнью не приготовил слова для собеседования со многими. Ибо видишь: Моисей, будучи еще юным, пока до такой меры не возрос в добродетели, не признан способным к тому, чтобы стать советником мира и для двоих, враждующих между собою, а теперь ведет речь со многими вдруг тысячами. И едва не громогласно вопиет тебе эта история: не отваживайся, как учитель, подавать совет слушателям, если великой и продолжительной попечительностью не укрепил для этого сил своих.
Но слова оказались действительными, свобода возвещена, слушатели одобрены и вожделевают ее; этим раздражается враг и послушных слову подвергает большему страданию. То же самое бывает и ныне. Ибо многие из принявших учение, освобождающее от мучителя, и последовавших проповеди и доныне от сопротивных терпят приражения искушений. И, как многие из них, окрепнув от приражений к ним горестей, делаются благоискусными и более твердыми, так иные из немощных в подобных обстоятельствах падают духом, открыто говоря, что гораздо лучше было бы для них оставаться не слышавшими проповеди о свободе, нежели по этой причине испытывать такие бедствия. То же самое произошло и тогда: израильтяне по малодушию обвиняли возвестивших им освобождение от рабства. Но тем паче да не ослабевает слово, привлекающее к прекрасному, хотя иной, как младенец и несовершенный умом, по непривычке к искушениям детски боится их. Ибо вредоносный и тлетворный демон о том и старается, чтобы подчинившийся ему человек не на небо взирал, но поникал очами к земле и делал в себе из брения плинфы. Что служащее к вещественному наслаждению непременно берется из земли или воды это для всякого явно. Что со тщанием добывается для чрева и снедей, что признается богатством — это смешение земли и воды и делается и именуется брением. Жадные до таких бренных удовольствий, наполняя себя ими, никогда не сохраняют полной той пустоты, которая их приемлет в себя. Напротив того, непрестанно наполняемое делается пустым для притекающего вновь. Так и плинфоделатель, имея в виду плинфу за плинфой, без труда может уразуметь эту загадку: удовлетворив своему пожеланию в чем–либо одном из того, о чем человек старался, если пожелание склонится к чему–либо другому, оказывается также и в этом неудовлетворенным. А если и в том удовлетворится, для другого опять ощущает в себе пустоту и простор. И это не перестает непрерывно в нас совершаться, пока не кончит кто этой вещественной жизни.
Что же такое стеблие и плева из стеблий, которую повинующийся мучительным приказаниям принужден примешивать к плинфе? И Божественным Евангелием, и высоким гласом апостола истолковано это нам, а именно что и плева (Мф. 3:12; 1 Кор. 3:12) равно служит пищей огню. Поэтому, когда кто из преданных добродетели пожелает порабощенных прелестью отвлечь в жизнь любомудренную и свободную, тогда ухитряющийся против душ наших, по слову апостола, на различные козни (Еф. 6:11) закону Божественному противопоставить умеет обольстительные лжеумствования. Говорю же это, обращая речь к египетским змиям, т. е. к различным козням прелести, обращаемым в ничто Моисеевым жезлом, которого, сколько было нужно, в довольной мере касалось уже наше обозрение.
Поэтому тот, кто приобрел этот непреоборимый жезл добродетели — жезл, уничтожающий жезлы ухищренные, — неким путем и последовательно восходит к большим чудесам. Чудотвореиие же не с целью изумить слышащих совершается, но имеет в виду пользу спасаемых, потому что чудесами добродетели истребляется враждебное для них и умножается им соплеменное. Постараемся же познать прежде всего само общее из чудес частных, цель, к какой они возводят: тогда только возможно для нас будет составить приличное понятие и о каждом чуде в отдельности. Ибо учение истины неодинаково действует, смотря по расположениям приемлющих слово. Хотя слово всем равно показывает худое или доброе, однако же, кто с убеждением приемлет показанное, у того ум во свете, а кто упорствует и не соглашается обратить душевный взор к лучу истины, для того пребывает мрак неведения. Если понятие наше о чем–либо подобном несложно в своей целости, то не другое оно, конечно, и в подробностях, как показало в слове частное исследование. Поэтому неудивительно, что еврей, живя среди иноплеменников–египтян, остается не претерпевающим египетских бедствий. Ибо можно видеть, что и ныне совершается то же. В многолюдных городах, когда жители держатся противоположных мнений, для одних сладок и чист поток веры, которым орошает их Божественное учение, а для держащихся египетского образа мыслей вода эта делается поврежденной кровью. Лжемудрование прелести покушается нередко и еврейское питие скверной лжи обратить в кровь, т. е. и наше учение даже нам показать не таким, какое оно в действительности. Но не сделает пития этого совершенно негодным к употреблению, хотя без труда придает ему кровавый вид для обмана; потому еврей пьет истинную воду, не обращая внимания на обманчивый вид, хотя бы противники и старались уверить, что это кровь.
Так и этот гнусный и крикливый род жаб, эти животные, пресмыкающиеся и скачущие, неприятные не только по виду, но и по зловонию кожи, вползают и в дома, и на ложи, и в хранилища к египтянам, но не касаются жизни евреев. Ибо тлетворные порождения греха действительно составляют род жаб, зарождающихся, как в грязи, в нечистом сердце человеческом. Эти–то жабы живут в домах у уподобляющихся египтянам избранием рода жизни, являются у них на трапезах, не удаляются с лож, проникают в хранилища жизненных припасов. Ибо, как скоро увидишь нечистую и невоздержанную жизнь, подлинно из брения и грязи рождающуюся и при уподоблении бессловесным в образе своего поведения не держащуюся в точности ни того, ни другого естества, поймешь, что, кто по природе человек, тот по страсти делается скотом и тем показывает в себе этот земнородный и обоюдный образ жизни; и найдешь при этом признаки подобной болезни не на ложах только, но и на трапезе, и в хранилищах, и по всему дому. Такой во всем выражает свое распутство, так что по заботам, какие в доме, всякому легко узнать жизнь и невоздержанного, и благонравного человека. Если в доме развратного на штукатурке стены какими–либо искусственными изображениями указывается служащее к воспламенению страстного сластолюбия и напоминающее собою свойство болезни, потому что при виде бесчестных зрелищ вливается в душу страсть, то у целомудренного приняты во всем осторожность и предусмотрительность, чтобы сохранить око чистым от страстных зрелищ. А также и трапеза чиста у целомудренного, но полной жаб и многих мяс оказывается она у пресмыкающегося в грязной жизни. Заглянешь ли в его кладовые, т. е. в сокровенности и тайны его жизни, тем паче в них у непотребных найдешь кучу жаб.
Если же история рассказывает, что у египтян произвело этот жезл добродетели, тогда не смущает нас сказанное. Ибо история говорит также, что и мучитель ожесточен Богом. За что был бы осужден тот, кто по необходимости получил бы свыше жестокое и упорное расположение сердца? Подобное этому говорит и божественный апостол: Яко же не искусиша имети Бога в разуме, сего ради предаде их Бог в страсти бесчестия (Рим. 1:28), разумея это о мужеложниках и опозоривших себя бесчестными и несказанно распутными нравами. Но хотя так выражено сказанное в Божественном Писании, однако же не Бог делает предающимся страсти бесчестия того, кто стремится к этому. И фараон не по Божию изволению ожесточается, и не добродетелью производится эта кипящая жабами жизнь. Ибо если бы угодно это было Божией воле, то, без сомнения, такое изволение простиралось бы равно на всех, так что относительно к жизни не усматривалось бы различия между какой–либо добродетелью и пороком. Если же каждый по–своему пользуется жизнью: одни преуспевают в добродетели, а другие впадают в порок, — то никто не имеет основания высшим каким–либо необходимостям, установленным Божией волей, вменять эти разности в жизни, которые содержит во власти своей произвол каждого. Поэтому, кто предается страсти бесчестия, о том можно ясно узнать у апостола. Кто не искусил имети Бога в разуме, того не Бог, наказуя за то, что не познано им бытие Божие, предает страсти, но то самое, что не познает он Бога, служит причиной, по которой вовлекается он в жизнь страстную и бесчестную. Как если бы кто сказал, что такого–то ввергло в ров солнце, на которое он взглянул, то не заключим, что светило, предавшись гневу, столкнуло в ров не хотевшего увидеть его, но каждый, рассуждая основательно, поймет сказанное так, что не смотрящему на солнце и не пользующемуся светом его это самое служит причиной падения в ров, — так законно будет понимать и апостольское слово, что не разумеющие Бога предаются в страсти бесчестия. И египетский мучитель ожесточается Богом не в том смысле, что Божиим изволением в фараонову душу вложено упорство, но в том, что фараонов произвол по наклонности к пороку не принял слова, смягчающего упорство. Так и жезл добродетели, явленный египтянам, еврея делает чистым от кипящей жабами жизни, а жизнь египетскую показывает страждущей от такой болезни.
Но вот и другой случай: Моисей простирает на жаб руки и они исчезают. Это же, как можно узнать, совершается и ныне. Ибо уразумевшие это простертие рук законодателевых (уразумеешь же непременно, что говорит тебе эта загадка, а именно через законодателя Моисея дает познать истинного Законодавца, а через простертие рук — Простершего руки на кресте), хотя незадолго до этого жили нечистыми и полными жаб помыслами, как скоро обратят взоры к Простершему за нас руки, освободятся от лукавого их сожительства по умерщвлении и истреблении страсти. А действительно освободившимся от такой болезни по умерщвлении пресмыкающихся движений воспоминание о прежней жизни делается каким–то неуместным и зловонным, неприятным душе по причине стыда, как говорит апостол тем, которые, отложившись от порочной жизни, приступили к добродетели: Кий убо тогда иместе плод, о них же стыдитеся (Рим. 6:21)?
В этом же смысле разумей и то, что от жезла воздух в глазах египтян очерняется, а для евреев озаряется солнцем, чем и подтверждается особенно основание высказанной нами мысли, что не понудительная некая свыше сила заставляет одного быть во мраке, а другого во свете. Напротив того, мы, люди, у себя дома, в своем естестве и произволе, имеем причины и света и тьмы, делаясь тем, чем сами пожелаем. Ибо, по сказанию истории, не по причине какой–либо стены или горы, преграждающей зрение и останавливающей лучи, когда евреи наслаждались светом, египтяне оставались нечувствительными к этому дару. Так во власть каждому равно предоставлена жизнь в свете, но одни ходят во тьме, лукавыми предначинаниями вводимые в греховный мрак, другие озаряются светом добродетели. Если же после трехдневного злострадания во тьме и египтяне делаются причастниками света, то, может быть, возбудившись этим, кто–либо из живших прежде по–египетски через познание Распятого и при помощи покаяния возведет мысль к прехождению от порока к добродетели. Ибо такая, по сказанию истории, осязаемая тьма (Исх. 10:21) и по самому имени, и по значению его имеет великое сродство со тьмой неведения и греха. Но та и другая тьма разрешается, как скоро Моисей (что разумелось и в сказанном прежде) простирает руки над пребывающим во тьме.
А равно, согласно с этим, можно разуметь и тот печной прах, который производит болезненные струпы на египтянах (Исх. 9:8–9) и загадочно под именем печи означает наказание геенским огнем, угрожающее и уготовляемое только тем, которые живут подобно египтянам, т. е., как говорили мы неоднократно, живут худо и не поклоняются простертию рук Христовых. Есть ли же кто истинный израильтянин и сын Авраамов Аврааму уподобляется жизнью, так что своим произволением доказывает тесное родство с избранным, то он спасается от такого печного мучения. Но и то, что, по данному нами истолкованию, простертием рук Моисеевых означается и для живущих подобно египтянам, может некогда послужить уврачеванием от мучения и избавлением от наказаний.
А о мелких тех скнипах, которые неприметным угрызением причиняют боль египтянам, о песьих мухах, при угрызении болезненно впивающихся в тела, об истреблении плодов земледелия плугами, о пламенниках, падающих свыше вместе с каменным градом, да потрудится иной и сам в связи с исследованным прежде, идя тем же путем, составить о каждой казни приличное понятие, так как все это, но сказанному выше, производит египетский произвол, налагает же на египтян нелицеприятное Божие правосудие. Но, следуя этому, и мы будем разуметь так, что горестное посылается от Бога достойным того, каждый же сам для себя бывает виновником таких бичей, собственным своим произволом уготовляя себе ожидающие его скорби, как говорит апостол, обращая речь к одному из таких: По жестокости твоей и не покаянному сердцу собиравши себе гнев в день гнева и откровения праведнаго суда Божия, Иже воздаст коемуждо по делам его (Рим. 2:5–6). Как от беспорядочного рода жизни во внутренностях составляется тлетворный желчный какой–то сок и врачу, с помощью искусства извлекшему его рвотой, не поставляется в вину, будто бы сам он произвел в теле этот болезненный сок, тогда как он произведен беспорядочным употреблением пищи, а врачебная наука извела его наружу, — так, хотя говорится, что имеющим злое произволение от Бога бывает скорбное воздаяние, но сообразнее с разумом понимать это так, что такие страдания заимствуют свое начало и причину в нас самих. Ибо для жившего безгрешно нет ни тьмы, ни червя, ни геенны, ни огня, ни чего–либо иного страшного по наименованию, и на самом деле, как история говорит, что для евреев не существовали египетские казни. Поэтому если в одном и том же, что одному служит во зло, а другому — нет, разность произволения то и другое показывает в противоположности, то ясно, что никакое зло не может состояться без нашего произвола.
Но приступим к продолжению слова, предыдущими исследованиями достаточно научившись, что и сам Моисей, и всякий, подобно ему возвысившийся добродетелью, как скоро долговременным попечением о правой высокой жизни и озарением свыше укрепил душу, почитает для себя утратой для единоплеменных ему не быть руководителем к свободной жизни. И пришедши к ним, представлением тяжких страданий влагает в них сильнейшее пожелание свободы, готовясь избавить соплеменников от бедствий, предает смерти всякого египетского первенца. А это делает, узаконивая нам уничтожать первое зарождение зла, потому что иначе невозможно избегнуть египетской жизни. И мне кажется, прекрасно сделаем, если не оставим эту мысль без обозрения. Ибо если кто обратит внимание только на историю, то как сохранится боголепное понятие о происшедшем по ее сказанию? Несправедливо поступает египтянин, и за него терпит наказание недавно родившийся младенец, которому по несовершенству возраста неизвестно и различие между добром и злом, которого жизнь не причастна порочной страсти, потому что младенчество его не дает в себе и места страсти; не знает он разности между правой и левой рукой, к одной кормилице обращает взоры; одно у него телесное ощущение скорбного — слеза; а если получит то, чего желает природа, выражает удовольствие улыбкой. И он–то удовлетворяет правосудию за отеческий грех. Где же правда? Где благочестие? Где святость? Где Иезекииль, который взывает: Душа согрешающая, та умрет: не возмет неправды отца своего рожденный им (Иез. 18:20)? Почему история узаконивает противное слову Писания? Поэтому согласнее с разумом будет, держась смысла, возводящего выше, если и совершилось что преобразовательно, верить, что Законодатель в описании совершившегося излагает правило. Излагаемое же здесь правило таково: при помощи добродетели борющемуся с каким–либо пороком должно уничтожать в себе первые начала злых дел, ибо с истреблением начала уничтожается вместе и следующее за ним, как Господь учит в Евангелии, едва не ясными словами, говоря об умерщвлении первенцев египетских зол, когда повелевает умертвившим в себе похоть и гнев не бояться уже ни скверны прелюбодеяния, ни ужасов убийства, потому что и то и другое не бывает само собою, если гнев не породит убийства и похоть — прелюбодеяния. Поэтому если чреватый грехом прежде прелюбодеяния рождает похоть и прежде убийства — гнев, то убивающий первенца, без сомнения, убивает и последующее за первенцем поколение, как и поразивший голову змеи умерщвляет целый ее состав, какой влачит она за собою сзади.
Но этого не может быть, если во входах наших не излита та кровь, которая обращает в бегство всегубителя. И если надлежит точнее понять в сказанном заключенный смысл, то история к уразумению этого приводит тем и другим: как тем, что умерщвляются первенцы, так и тем, что вход огражден кровью, ибо там уничтожается первое устремление зла, а здесь истинным Агнцем отвращается первый к нам вход порока. Не тогда примышляем изгонять всегубителя, когда он уже вошел, но, чтобы не проникло к нам и само начало, поставляем по закону стражу. А стражей и ограждением служит кровью Агнца положенное знамение на праге и на подвоях входа (Исх. 12:7). И этим Писание загадочно преподает о душе нашей то же естествословие, какое измыслила и внешняя ученость, разделяющая душу на силу разумную, вожделетельную и раздражительную. Говорят же, что подчинено им и вожделение, с обеих сторон поддерживающее познавательную силу души, что рассудок, будучи сопряжен с обеими силами, правит ими и от них заимствует силу, раздражительностью укрепляется в мужестве, а вожделением возвышается до причастия добра. Поэтому, пока душа ограждена таким соотношением своих сил, как бы клиньями какими, твердо сплоченная своими понятиями о добродетели, пользуется она всяким взаимным их содействием к произведению прекрасного, между тем как рассудок сам собою доставляет безопасность силам, а частью и от них заимствуется равным даром. Если же это соотношение сил будет извращено и высшее сделается низшим, так что рассудок, ниспав до попираемого, вожделевательное и раздражительное расположение поставит вверху себя, то всегубитель проникнет тогда во внутренность, и вшествию его не препятствует никакое противодействие крови, т. е. пребывающим в таком расположении не помогает вера во Христа, ибо поведено помазать кровью сперва верхний брус в двери, а потом уже касаться обоих подвоев. Но как же помазать кому сперва верх, когда не отыскивается верх?
Если же не оба эти действия: и избиение первенцев, и излияние крови — совершаются у израильтян, то нимало не дивись этому и не отвергай поэтому предложенного умозрения об истреблении зла, как оказывающегося несоответственным истине. Ибо теперь под разностью имен: израильтянин и египтянин — разумели мы разность добродетели с пороком. Итак, если по высшему смыслу предполагается под именем израильтянина разуметь добродетельного, то основательно будет кому–либо требовать, чтобы избиваемы были не начатки порождений добродетели, но то, что полезнее уничтожать, нежели воспитывать. Поэтому справедливо научены мы Богом, что должно убивать начатки египетского поколения, чтоб оскудевало зло, умаляемое истреблением начатков. Такое разумение согласно и с историей. Ибо через пролитие крови совершается охранение израильских порождений, чтобы доброе пришло в совершенство, а что, достигнув совершенства, умножает египетский народ, то прежде усовершения во зле уничтожилось. Этому же знающим предлагаемому нами высшему понятию содействует то, что вслед за этим входит в обозрение этой истории. Ибо назначается пищей для нас сделаться тому телу, из которого излита кровь, и показуемая на дверях удаляет от нас губителя египтян.
И наружность вкушающих пищу эту представляется внимательной, озабоченной, не как у веселящихся на пирах, у которых руки свободны, облачение одежд легкое, на ногах нет путнической обуви; а здесь все тому противно: ноги сжаты обувью, пояс прижимает облекающий хитон его к чреслам, в руке жезл грозный для псов. В таком–то виде предлагается им снедь без всякой поварской приправы, как случилось с поспешностью изготовленная на огне, и вкушающие ее со всею скоростью, спеша один перед другим, пока не употребится вся плоть агнца; поглощая, что есть на костях, не касаются они того, что внутри костей, потому что запрещено сокрушать кости этого агнца, а, что остается от этой снеди, то истребляется огнем. Из всего этого ясно, что здесь буква указует на высший некий смысл и этот закон объясняет нам не образ вкушения (для подобных вещей достаточный законодатель — природа, вложившая в нас пожелание нищи) — напротив того, означается этим нечто другое. Ибо что будет для добродетели или для порока от того, что пища принята так или иначе? распущен или стянут у ядущего пояс? ноги босые или надета обувь? в руке у него жезл или отложен в сторону? Но явно, что собой загадочно показывает этот путнический по наружности наряд. Ибо прямо повелевает познать здешнюю жизнь — то, что как путники проходим мы настоящую жизнь, вместе с рождением по самой необходимости побуждаемые к исшествию, к которому надлежит иметь в готовности и руки, и ноги, и всем прочим обезопасить себя на путь.
Чтобы терния этой жизни (а терния эти — грехи) не уязвили босых и ничем не охраненных ног, наденем на ноги жесткость сапог, а это — воздержанная и строгая жизнь, которая сама собою сокрушает и стирает острия терний, препятствует греху, из малого и незаметного взявшись начала, проникать до внутренности. Хитон, спущенный до ног и покрывающий их собою, послужит препятствием протекающему путь этот со тщанием, а под хитоном по связи понятий да разумеется у нас обильное наслаждение тем, что наиболее ценится в этой жизни, сокращаемое несколько целомудренным помыслом, этим поясом путника. Что пояс есть целомудрие, свидетельствуется это тем способом, по какому приводится в действие жизнь. И жезл, защищающий от зверей, имеет значение надежды, которой и подкрепляем душу в изнеможении и отражаем от себя оскорбительное. Под снедью же, предлагаемой нам прямо с огня (Исх. 12:8), разумею ту горячую и пламенеющую веру, которую приемлем без замедления и которой вкусив сколько с первого раза принято ядущим, все сокровенное в этих твердых и неразлагаемых понятиях и глаголах оставляем без пытливости и разведывания, предавая такую пищу огню.
В уяснение этих загадок скажем то, что те Божественные заповеди, которых смысл с первого взгляда удобопонятен, надлежит исполнять не лениво и не принужденно, но подобно алчущим с желанием насытиться предлагаемым, чтобы пища эта послужила для нас напутствием к здравию. А какие понятия сокровенны (например: что такое сущность Божия? что было до сотворения? что вне видимого? какая была нужда в сопротивном? — и все подобное, исследованием чего занимается одно любопытство), об этом не разыскивать должно, но познание этого предоставить единому Святому Духу, испытующему, как говорит апостол, глубины Божия (1 Кор. 2:10). Ибо, что в Писании вместо Духа многократно упоминается и именуется огонь, известно это каждому, кто изучал Писание. К такой же мысли приводит нас и наставление премудрости: Крепльших себе не испытуй (Сир. 3:21), т. е. не сокрушай костей слова, потому что нет тебе потребности в сокровенном.
Так, Моисей силой изводит народ из Египта; и всякий идущий по следам Моисея тем же образом освободит от египетского мучительства всех, кем только руководит его слово. Но следующим за этим вождем к добродетели, думаю, не должно быть скудным в египетском богатстве и нестяжателями иноплеменных драгоценностей, но, взяв у противников всю собственность, надлежит иметь это у себя как заем, что сделать народу и повелевается тогда Моисеем. Не одобрит законодателева решения кто по первому взгляду поймет это так, что будто бы Моисей велит давших в заем лишить собственности и делается наставником несправедливости. Но никто и не скажет, что законодатель действительно отдал такое приказание, имея в виду последующие законы, решительно воспрещающие всякую обиду ближнему, хотя иным и кажется справедливым делом, что израильтяне этим примышлением взяли с египтян заслуженную плату, ибо вина не меньше, если такой приказ не чисто от лжи и обмана. Кто взял что–нибудь взаем и не отдает опять заимодавцу, если это чужое, поступает несправедливо, как отнявший собственность. Если же завладеет и своим, но обманув заимодавца надеждой получить назад, то, без сомнения, будет назван обманщиком. Поэтому того смысла, какой представляется с первого взгляда, приличнее понятие высшее, повелевающее добродетельно ведущим свободную жизнь заготовлять богатство внешнего образования, которым украшаются иноплеменники по вере. Ибо нравственную и естественную философию, геометрию и астрономию, и словесные произведения, и все, что уважается пребывающими вне Церкви, наставник добродетели повелевает, взяв в виде займа у богатых подобным этому в Египте, хранить у себя, чтобы употребить в дело при времени, когда должно будет Божественный храм таинства украсить словесным богатством. Так, собирающие себе такое богатство, каждый от себя приносит его Моисею, трудящемуся над скинией свидения, уделяя на устроение святыни. Это, как можно видеть, делается и ныне. Многие внешнюю ученость, как некий дар, приносят Церкви Божией. Таков был и Великий Василий, прекрасно во время юности купивший египетское богатство, принесший его в дар Богу и этим богатством украсивший истинную скинию Церкви.
Но возвратиться должно к тому, с чего мы начали. Тех, которые обратили уже взор к добродетели и в жизни последуют законодателю, когда оставят они пределы египетского владычества, сопровождают какие–то приражения искушений, причиняющие затруднения, страхования и крайние опасности, которыми приводимый в боязнь ум не утвердившихся еще в вере впадает в совершенное отчаяние сподобиться благ. Но если будет Моисей или кто из подобных ему вождей народа, то он противопоставит страху совет, устрашенный ум ободряя упованием на Божественную помощь, чего, впрочем, не было бы, если бы сердце предстоящего не возглаголало к Богу. Ибо многие из поставленных на такое предстояние заботятся только о внешнем, чтобы оно было в хорошем положении, а о сокровенном, что видимо одному Богу, мало у них попечения. Не так было у Моисея: в чем он повелевает израильтянам благодушествовать, не произнося, по–видимому, никакого гласа к Богу, о том вопиет, как свидетельствует об этом Сам Бог, научая, думаю, словом этим и нас, что благозвучен и доходит до Божия слуха такой именно глас — не вопль, с напряжением издаваемый, но помышление, воссылаемое от чистой совести.
А кто таков, тому для помощи в законных борениях малым уже оказывается брат, — тот именно брат, по Божией воле встретивший Моисея идущего к египтянам, которого слово это представило в чине ангела. Напротив того, бывает тогда явление превысшего Естества, открывающее Себя в такой мере, в какой может вместить естество приемлющее. Что так было тогда, слышим это из истории, и что так бывает всегда, познаем умным воззрением. Ибо, когда побежит кто от царя египетского и вне уже его пределов убоится приражения искушений, тогда вождь указует ему неожиданное спасение свыше. Когда окружающий преследуемого силой своей враг по необходимости делает для него проходимым море, к которому ведет вождь — облако (вот имя вождю, какое бывшим прежде нас прекрасно принято в значении благодати Святого Духа), тогда этим–то вождем совершается путеводительство достойных к добру. Кто ему последует, тот переходит через воду вслед за шествующим по морю вождем, которым даруется безопасность в свободе по уничтожении в воде преследовавшего в рабстве.
Ибо кто не знает, что египетское воинство — наши многоразличные душевные страсти, которыми порабощается человек? Это кони, это колесницы и всадники на них, стрелки, пращники, тяжело вооруженные, и прочее множество вражеской дружины. Ибо скажет ли кто, что раздражительные помыслы или стремления к удовольствию, к печали, к любостяжательности отличаются чем–либо от упомянутого воинства? Злословие — вот камень, прямо пущенный из пращи; порыв раздражительности — вот копье, потрясающее острием; а страсть к удовольствиям будем представлять себе конями, с неудержимым каким–то порывом влекущими за собою колесницу и трех всадников в ней, которых именует история тристатами.
Под этими тремя, несущимися на колеснице, научившись предварительно таинственному значению подвоев и прага, уразумеешь, конечно, тречастное разделение души, возводя понятие к разумному, вожделевательному и раздражительному в душе. Итак, все это и все единоплеменное с ним вместе с вождем лукавого нашествия впадает за израильтянином в воду. С этого времени естество воды под водительством веры в жезл и освещающего облака делается животворным для прибегающих к воде и мертвящим для гонителей.
Сверх этого история научает, какими надлежит быть проходящим через воду, именно по исшествии из воды ничего не привлекающим за собою из сопротивного воинства. Ибо если выйдет с кем враг, то и после воды остается он в рабстве, извлекши живым мучителя, которого не потопил в глубине. А этим (чтобы уяснить кому для себя эту загадку, раскрыв ее вполне) означается, что все преходящие через таинственную воду в крещении должны умертвить в воде все полчище греха, как–то: любостяжательность, бесчинное пожелание, хищнический замысел, страсть кичливости и гордыни, вспыльчивость, гнев, мстительность, зависть, ненависть, так как страстям некоторым образом обычно следовать за естеством человеческим, должны они умертвить в воде все это и подобное этому, равно и самые порочные движения мысли и их последствия, как в таинстве Пасхи, ибо это имя той жертвы, кровь которой для воспользовавшегося ею делается возбранением смерти. Поэтому, как там закон повелевает есть хлеб пресный — пасху (а опреснок изготовляется без примеси старой закваски) и этим дает разуметь, что пресекшему непрерывное последование времени обращением к лучшему должно уже к последующей жизни не примешивать никакого остатка греха, но положить после этого особое начало жизни, — так и здесь требуется, чтобы в спасительном крещении, как бы в некоей глубине потопив всякое египетское лицо, т. е. всякий вид греха, исходили мы одни, не вовлекая в жизнь ничего иноплеменного. Ибо это–то самое узнаем из истории, которая говорит, что в одной и той же воде жизнью и смертью различаются враждебное и дружественное: враждебное предается тлению, а дружественное оживотворяется. Так многие из принявших таинственное крещение по незнанию законных предписаний предшествовавшую в жизни закваску порока примешивают к жизни по крещении и после того, как перешли воду, своими начинаниями вместе с собою изводят живым и египетское воинство. Ибо иной прежде дара крещения обогатился хищничеством и неправдой или клятвопреступлением приобрел что–либо во владение, или прелюбодейно жил с женой, или отваживался в жизни на иное что–либо непозволительное и думает, что и после купели, продолжая наслаждение добытым прежде, свободен от греховного рабства как не усматривающий, что покорен лукавым властителям. Ибо свирепый и неистовый властелин — страсть непотребства, удовольствиями, как бичами какими, терзающая раболепный помысел. Другой подобный властелин — любостяжательность, не дающая никакого покоя своему служителю, который, чем больше работает, услуживая велениям владыки и приобретая по его пожеланиям, тем к большему всегда понуждается труду. И все иное, что делается ради греха, принадлежит к числу мучителей и властителей; и если кто служит им, то хотя бы перешел он через воду, по моему мнению, еще не коснулся воды таинственной, которой свойственно истреблять лукавых мучителей.
Но обратимся опять к тому, что следует в слове. Кто прешел разумеемое нами море и видит в нем мертвым этого умопредставляемого египтянина, тот не только обращает взоры к Моисею, этому жезлоносцу добродетели, но преимущественно верует Богу, как говорит слово повествования, покорствует же и угоднику Его Моисею (Исх. 14:31). Это, как видим, бывает и ныне с истинно перешедшими воду: они, предав себя самих Богу, повинуются и покоряются, как говорит апостол (Евр. 13:17), служащим Божеству в священстве.
За этим следует трехдневный от моря путь; и на нем, когда на некоем месте расположились станом, найденная вода сперва оказалась негодной к питью по причине горечи, но вложенное древо сделало ее приятным для жаждущих питьем. Сказание это сообразно с ходом дел. Оставившему египетские удовольствия, которым служил он до перехода через море, удаленная от удовольствий жизнь кажется сперва трудной и неприятной, но если вложено будет в воду древо, т. е. если кто примет таинство воскресения, которому начало положено древом (слыша же о древе, конечно, будешь разуметь крест), то всякой сладости, удовольствием исполняющей чувство, делается тогда более сладкой и более годной для питья добродетельная жизнь, услаждаемая надеждою будущего.
Место остановки в дальнейшем путешествии, украшенное финиковыми деревьями и источниками, упокоевает утомленных путников. Двенадцать источников водных, текущих там чистой и сладкой струей, и семьдесят финиковых деревьев величественных, сеннолиственных, с годами достигших высокого роста. Что же находим в этом по последовательному порядку истории? То, что таинство древа, которым вода добродетели делается годной для жаждущих, приводит нас к двенадцати источникам и семидесяти финиковым деревьям, т. е. к евангельскому учению, в котором двенадцатью источниками служат апостолы. Такое число на эту потребность избрал Господь и сделал, что через них источается слово, как и один из Пророков предвозвестил об источающейся от апостолов благодати, когда говорит: В церквах благословите Бога, Господа от источник Исраилевых (Пс. 67:27). А семьюдесятью финиковыми деревами пусть будут, кроме двенадцати учеников, для целой Вселенной поставленные апостолы, которых столько же было числом, сколько, по сказанию истории, и финиковых деревьев. Но в путешествии этом надлежит, думаю, поспешить словом, потому что из немногого, нами применительно представленного для трудолюбивых, легко составить свой взгляд и на прочие станы. А станы эти суть те добродетели, в которых следующий за столпом облачным народ, идя вперед, как бы располагается станом и упокоевается. Поэтому, миновав в слове средние станы, напомню о чудотворении при камне, которого упорное и твердое естество сделалось питием для жаждущих по разрешении упорства в мягкость воды. Но нет никакого труда последовательность истории приспособить к высшему взгляду. Кто египтянина оставил мертвым в воде, сам услажден древом, напоен апостольскими источниками, и упокоевался под тенью финиковых деревьев, тот делается уже способным принять Самого Бога. Ибо камень, как говорит апостол, есть Христос (1 Кор. 10:4), для неверных сухой и упорный, а как скоро приложит кто жезл веры, делающийся годным для питья для жаждущих и текущим внутрь приемлющих Его: Я и Отец Мой, говорит Он, приидем и обитель у Него сотворим (Ин. 14:23).
Но должно также не быть оставленным без особого внимания и то, что по переходе через море после того, как услаждена вода путникам добродетели, после приятного пребывания при источниках и финиковых деревьях и после пития из камня, тогда только делается совершенное истощание египетских путевых запасов. И таким образом, когда не осталось у них никакой иноплеменной пищи, взятой из Египта, свыше истекает пища, какая–то вместе разнообразная и однообразная, ибо по видимости была она однообразна, но в качестве имела разнообразие, для каждого делаясь сообразной роду его пожелания. Чему же этим научаемся? Тому, сколькими очистительными средствами надлежит очищать себя человеку от египетской и иноплеменной жизни, чтобы влагалище души своей сделать пустым от всякой греховной пищи, какую уготовляют египтяне, и потом уже чистой душой принимать в себя свыше сходящую пищу, которую не сеяние при помощи земледелия произрастило нам, но которая есть готовый несеяный и неоранный хлеб, сходящий свыше, обретаемый же на земле.
По загадочному смыслу истории, без сомнения, уразумеешь это истинное брашно (Ин. 6:55), а именно что хлеб сходяй с небесе (Ин. 6:33) не есть что–либо нетелесное. Ибо нетелесное как будет пищей телу? А нетелесное, без сомнения, не есть тело. Тело же хлеба этого не возделывало ни орание, ни сеяние, но земля, оставаясь такой, какая она есть, оказывается исполненной этой Божественной пищи, которой причащаются алчущие, этим чудотворением предварительно научаемые таинству Девы. Поэтому невозделанный хлеб есть и Слово, при разнообразии качества изменяющее силу свою соответственно способности ядущих, ибо не только может быть хлебом, но соделываться и млеком, и мясом, и овощем, и всем, что есть только пригодного и нравящегося из предложенного в пищу, как учит предложивший нам, ученикам своим, такую трапезу, божественный апостол Павел, который слово свое обращает для более совершенных в твердую и плотяную пищу и для изнемогающих в питие, для младенствующих же в молоко (1 Кор. 3:2).
А те чудеса, какие повествует об этой пище история, служат уроками для жизни добродетельной. Ибо говорит она, что всем предлагалась равная доля пищи, не по различию силы собирающих, которая не избыточествовала сверх потребности и не имела недостатка (Исх. 16:18). А это, по моему рассуждению, есть совет, вообще предлагаемый всем добывающим вещественные средства к поддержанию жизни не переступать пределов потребности, но хорошо знать, что в деле пропитания для всего одна мера — дневное продовольствие. Если приготовлено во много раз больше потребности, чреву не свойственно преступить собственную свою меру, и оно не расширяется по мере избытка припасов; но, как говорит история, непреизбыточествова иже много прият, потому что негде было положить излишнее, и иже мало, не менее прият (Исх. 16:18), потому что потребность удовлетворялась соразмерно с найденным. А тем, что у скрывающих излишнее избыток превращается в червей, слово это некоторым образом громко вопиет любостяжательным, что все удерживаемое сверх потребности по этому любостяжательному вожделению на следующий день, т. е. в ожидаемой жизни, для скрывающего это делается червем. Но, кто слышит о черве этом, тот, конечно, поймет это о черве неумирающем, которому дает жизнь любостяжательность.
А то, что отложенное только на субботу оставалось целым, не подвергаясь никакой порче, заключает в себе такой совет: тогда полезно для тебя любостяжательное произволение, когда собираемое не терпит порчи; тогда полезно для нас делаемое, когда, прешедши пятницу этой жизни, по смерти будем в бездействии, ибо день предшествующий субботе, есть и именуется приуготовление (пятница) к субботе, а это есть настоящая жизнь, в которую заготовляем себе нужное для жизни грядущей. В ней не совершается ни одно из дел, дозволенных нам ныне: ни земледелия, ни торговли, ни военной службы, ни чего–либо другого, озабочивающего нас здесь, даже и вовсе ничего, но, живя в совершенном покое от таких дел, будем собирать там плоды семян, посеянных нами ныне в настоящей жизни, и плоды нетленные, если семена настоящей жизни добрые, тленные же и гибнущие, если такими произрастит их нам делание этой жизни. Ибо сказано: Сеяй в духа, от духа пожнет живот вечный; а сеяй в плоть, от плоти пожнет истление (Гал. 6:8). Но одно уготовление к лучшему в собственном смысле именуется пятницей, почему постановляется она законом и отложенное при ней есть нетление. Но разумеемое в противном смысле должно быть наименовано не пятницей, а превращением пятницы. Потому–то одну только пятницу, служащую к преуспеянию, узаконяет людям история, о противоположном же смысленным дает разуметь самим умолчанием.
Но, как при воинских наборах предводитель сперва обращает внимание на заготовление съестных припасов и потом уже дает знак выходить на войну, таким же образом и воины добродетели, приняв запас таинственной снеди, потом уже начинают брань с иноплеменниками, предводителем в битве имея преемника Моисеева, Иисуса. Примечаешь ли, как последовательно идет слово? Пока человек, угнетенный лукавым мучительством, еще немощен, не мстит он врагу сам собою, потому что не в силах, но другой сражается за немощных и наносит врагу удар за ударом. Когда же освободится от рабства преобладающим, усладится древом, упокоится от трудов в пристанище под финиковыми деревьями, познает таинство камня и приобщится небесной пище, тогда уже не чужой рукой мстит неприятелю, но, как бы вышедши уже из детского возраста и достигнув цветущей юности, сам собой вступает в борьбу с сопротивником, имея военачальником не Моисея, служителя Божия, но Самого Бога, у Которого Моисей был служителем. Ибо закон, данный вначале в образе, и тень грядущего не остается ратоборствующим в действительных борениях, военачальствует же исполнитель закона и преемник Моисеев, предвозвещаемый соименностью тогдашнего военачальника.
А народ, если видит руки законодателя воздетыми, берет в битве верх над врагом, если же видит опущенными, уступает врагу. И воздеяние Моисеевых рук означает взгляд на закон с понятиями самыми высокими, а преклонение к земле — низкое, по земле пресмыкающееся истолкование и соблюдение закона по его букве. Отягчавшие руки Моисеевы поддерживает священник, употребляя содейственником близкого ему по роду. И это не вне связи с рассмотренным, потому что истинное священство по причине соединенного с ним Божия слова тяготой иудейского смысла до земли униженную действенность закона снова возводит на высоту и падающий закон подпирает камнем, чтобы он, восстав под образом воздеяния рук, показывал взирающим свою цель. Ибо действительно способными это видеть в законе усматривается таинство креста. Поэтому, говорит где–то Евангелие что от закона йота и черта не преходят (Мф. 5:18), означая две черты: одну поперек и другую сверху вниз, которыми написуется образ креста, что было видимо тогда и в Моисее, который разумеется здесь вместо закона и для взирающих на него служит причиной торжества и победы.
Последовательным опять неким восхождением слово руководствует мысль нашу на высоты добродетели. Ибо, кто подкрепился в силах пищей, показал эту силу в борьбе с противниками и оказался победителем над противоборствующими, тот возводится тогда к такому Боговедению. А этим научает нас слово, в чем и сколько надлежит преуспеть по жизни, чтобы осмелиться потом приступить мыслью к горе Боговедеиия, услышать глас труб, войти во мрак, где Сам Бог, и начертать на скрижалях Божественные письмена, и если они сокрушатся по чьему–либо прегрешению, снова представить Богу руками истесанные скрижали, и чтобы на них Божественным перстом начертались письмена, не приведенные в исполнение на первых.
Но лучше будет последовательно, по порядку самой истории, приспособить смысл ее к высшему разумению. Когда кто, взирая на Моисея и на облако (которые оба путеводят идущих стезей добродетели, и Моисей при этом заменяет законные предписания, а облако — предводителя в законе) умом, достигшим чистоты, в прехождении через воду, убив и отделив от себя иноплеменника, вкусит Мерры, т. е. жизни, удаленной от удовольствий, которая на первый раз кажется вкушающим горькой и противной, а в принявших древо производит сладостное ощущение, и потом, насладившись красотами евангельских финиковых деревьев и источников, исполнившись живой воды, которая есть камень, приняв в себя небесный хлеб и показав свое мужество над иноплеменниками, причем причиной победы служит воздеяние рук законодателя, предуказующее собою таинство креста, тогда возводится он к созерцанию Превысшего естества. Путем же к такому ведению бывает для него чистота не только тела, очищаемого какими–либо окроплениями, но и одежд, измовенных водою от всякой нечистоты. А это значит, что намеревающемуся приступить к созерцанию всего сущего должно очистить себя во всем, быть чистым и нескверным по душе и по телу, омывшим с себя нечистоту соответственно душе и телу, чтобы могли мы оказаться чистыми пред Тем, Кто видит сокровенное, и чтобы благоприличие в видимом сообразно было внутреннему расположению души. Поэтому перед восхождением на гору по Божию повелению измываются ризы (Исх.19:10), и ризами гадательно означается благоприличная наружность жизни. Ибо никто не скажет, что эта чувственная нечистота риз для восходящих к Богу бывает препятствием к этому восхождению — напротив того, думаю, что ризами прекрасно именуется вся наружность житейских занятий. Исправив это и как можно дальше отогнав от горы стадо бессловесных, приступает потом человек к восхождению до высоких понятий. А что ни одному бессловесному не дозволяется являться у горы, это, по моему предположению, значит, что в созерцании умопредставляемого превышается знание, доставляемое чувством. Ибо природе бессловесных свойственно распоряжаться по одному чувству без участия ума: ими руководит зрение, нередко и слух приводит в стремление к чему–нибудь и все иное, от чего чувство приходит в деятельность, имеет великую силу в бессловесных. Созерцание же Бога совершается не по видимому и не по слышимому и никаким из обыкновенных понятий не объемлется, ибо этого око не виде и ухо не слыша и это не есть что–либо из входящего обыкновенно на сердце человеку (1 Кор. 2:9). Напротив того, намеревающемуся приступить к уразумению высокого надлежит предочистить нрав свой от всякого чувственного и бессловесного движения, омыв ум от всякого мнения, составляемого по какому–либо предположению, и отлучив себя от привычного собеседования со своей сожительницей, т. е. с чувственностью (она есть как бы супруга и сожительница нашей природы), и когда станет кто чист от всего этого, тогда уже осмеливаться ему приступить к горе.
Подлинно крутая и неприступная гора — богословие, и к подгорию его едва подходит большая часть людей, разве что Моисей и при восхождении будет вмещать в слух звуки труб, которые, по точному слову истории, по мере восхождения делаются еще более крепкими (Исх. 19:19). А проповедь о Божием естестве действительно есть труба, поражающая слух: велико открываемое с первого раза, но больше и важнее достигающее слуха напоследок. Закон и Пророки вострубили о Божественной тайне домостроительства о человеке, но первые гласы слабы были для того, чтобы достигнуть до непокорного слуха, и потому отяжелевший слух иудеев не принял гласа труб. Но с продолжением времени трубы, как говорит Писание, сделались более крепкими, потому что последние звуки, изданные евангельской проповедью, достигли слуха. Так, Дух впоследствии громче звучал в своих орудиях, и звук делался более напряженным. Орудия же, издававшие один духовный звук, были пророки и апостолы, от которых, как говорит псалмопение, во всю землю изыде вещание их, и в концы Вселенныя глаголы их (Пс. 18:5).
Если же множество не вмещает сходящего свыше гласа, но представляет самому Моисею узнать тайны и преподать народу учение, которое узнает он по наставлению свыше, то это введено и в Церкви. Не все сами собой доходят до уразумения тайн, но, избрав из себя способного вместить божественное, с благопризнательностью преклоняют пред ним слух, почитая верным все, что услышат от этого посвященного в Божественные тайны. Ибо не все, как сказано, апостолы, не все пророки (1 Кор. 12:29). Но не во многих церквах соблюдается это ныне. Ибо многие имеющие еще нужду в очищении от сделанного в прежней жизни, какие–то неомытые, оскверненные житейскими привязанностями, прикрываясь своим неразумным чувством, осмеливаются на Божественное восхождение, где приводятся в колебание собственными своими помыслами, потому что еретические мнения делаются какими–то камнями, совершенно погребающими под собой самого изобретателя худых учений.
Что же означается тем, что Моисей пребывает во мраке и в нем только видит Бога? Ибо повествуемое ныне кажется несколько противоположным первому Богоявлению. Тогда Божество видимо было во свете, а теперь — во мраке. И это не считаем выходящим из ряда представляющегося высшему нашему взгляду. Учит же этим слово, что ведение благочестия в первый раз бывает светом для тех, в ком появляется. Почему представляемое в уме противоположно благочестию есть тьма, а отвращение от тьмы делается причастием света. Ум же, простираясь далее, с большей и совершеннейшей всегда внимательностью углубляясь в уразумение истинно постижимого, чем паче приближается к созерцанию, тем более усматривает несозерцаемость Божественного естества. Ибо оставив все видимое, не только то, что восприемлет чувство, но и то, что видит, кажется, разум, непрестанно идет к более внутреннему, пока пытливостью разума не проникнет в незримое и непостижимое и там не увидит Бога. Ибо в этом истинное познание искомого: в том и познание наше, что не знаем, потому что искомое выше всякого познания, как бы неким мраком объято отовсюду непостижимостью. Поэтому и возвышенный Иоанн, бывший в таком светозарном мраке, говорит: Бога никто же виде нигде же (Ин. 1:18), — решительно утверждая этими словами, что не людям только, но и всякому разумному естеству недоступно ведение Божией сущности. Поэтому Моисей, когда стал выше ведением, тогда исповедуется, что видит Бога во мраке, т. е. тогда познает, что Божество в самом естестве Своем то самое и есть, что выше всякого ведения и постижения. Ибо сказано: Вниде Моисей во мрак, иде же бяше Бог (Исх. 20:21). Кто же Бог? Тот, Кто положи тьму закров Свой (Пс. 17:12), как говорит Давид. В этом мраке и посвященный в тайны.
Но бывший там, чему предварительно наставлен был мраком, тому снова обучается мраком же, чтобы, как думаю, для нас стало тверже это учение, засвидетельствованное Божиим гласом. Ибо слово Божие, во–первых, запрещает людям уподоблять Божество чему–либо познаваемому (Исх. 20:4), так как всякое понятие, согласно с каким–либо удобопостижимым представлением составляемое по некоему естественному уразумению и предположению, созидает Божий кумир, а не возвещает о Самом Боге. Но добродетель по благочестию делится на два вида, относясь частью к Божеству, а частью к преспеянию нравов, потому что и чистота нрава есть часть благочестия. Поэтому, познав, во–первых, что надлежало познать о Боге (а познанием было не знать о Боге ничего познаваемого человеческим разумением), потом научается Моисей и второму виду добродетели, познав, какими упражнениями достигаем преспеяния в добродетельной жизни.
После всего Моисей вводится в нерукотворенную скинию. Кто же последует за ним, когда входит он в такие тайны и столько возвышается умом? Тот, кто, как бы ступая с вершины на вершину, восхождением на высоты непрестанно становится выше и выше себя самого. Так, Моисей сперва оставляет предгорие, отделившись от всех оказавшихся немощными к восхождению. Потом приемлет слухом звуки труб, возносясь на высоту восхождения. При этом проникает в невидимое святилище Боговедения и даже в нем не останавливается, но переходит в нерукотворенную скинию, ибо в этом встречает действительно предел и сам возвысившийся такими восхождениями. Мне кажется, что и в другом смысле небесная труба делается учителем для восходящего к нерукотворенному входу. Ибо устроение небесных чудес, взывающее о являемой в существах премудрости и проповедующее в видимом великую славу Божию, по сказанному: Небеса поведают славу Божию (Пс. 18:2), — по ясности и доброзвучности наставления само делается велегласной трубой, как говорит один из пророков: вострубил Бог свыше. А, кто очистил себя и изострил слух сердца, тот, приняв этот звук, разумею производимый обозрением существ, путеводится им к ведению Божией силы, так что проникает разумом туда, где Сам Бог. Это в Писании и именуется мраком, который, по толкованию, как сказали мы, означает неведомое и незримое. В нем–то быв, Моисей видит нерукотворенную скинию, которую показывает дольним в вещественном подобии.
Какая же это нерукотворенная скиния, показанная Моисею на горе? Та, на которую повелевается ему взирать как на Первообраз, чтобы рукотворенным устройством ее показать нерукотворенное чудо. Ибо сказано: Виждь, да сотвориши все по образу, показанному тебе на горе (Исх. 25:40). Эти золотые столпы, утвержденные на серебряных основаниях и с серебряными же надглавиями, еще другие приличные столпы, у которых надглавия и основания из вещества меди и в середине между концами серебро; внутри же у всех столпов — дерево, не принимающее в себя гнилости; от наружности кругом разливается блистание таких веществ; некий также кивот сияет чистым золотом; и то, на чем держится золотой этот оклад, тоже дерево, не принимающее в себя гнилости. При этом некий светильник, один в стволе при основании, а кверху делящийся на семь ветвей, с равным числом кругов на ветвях. Вещество светильника — золото, в составе его никакой пустоты, ни даже деревянной внутри опоры. Сверх всего алтарь, очистилище и так называемые херувимы, крылами которых осенен ковчег, — все это было золото, не на внешней только поверхности имело доброцветность, но все было цельное, одно и то же вещество простиралось внутрь до самой глубины. Сверх того были испещренные завесы ткацкого искусства, в которых цветы для красоты ткани взаимно были переплетены между собою; этими завесами отделялось в скинии то, что было видимо и доступно некоторым из священнодействующих, от того, что для всех непроницаемо и недоступно; и прежде упомянутой части имя было: Святое, а сокровенной: Святое святых. Кроме того, купели, кадильники, облачение внешними опонами, опоны власяные и кожи, окрашенные в красный цвет, — это и все прочее, что Моисей приготовляет по Божию слову, какой ум уразумеет во всей точности, чему нерукотворенному служит это подобием? Какую пользу взирающим приносит это вещественное подобие виденного Моисеем на горе?
Но хорошо, кажется мне, поступим, точное рассуждение об этом предоставив тем, кто имеют силу духом испытывать глубины Божии, если только найдется кто–либо такой, кто может, как сказал апостол, духом глаголать тайны (1 Кор. 14:2). А то, что о предложенном мнении сказано нами по догадке и предположительно, предоставим на суд читателям признать достойным того, чтобы это или отвергнуть, или принять, как принявший на себя суд решить своим умом. Поэтому, последуя Павлу, отчасти раскрывающему в этом тайну, и взяв для себя в сказанном хоть малый предлог, утверждаем, что Моисей в образе научен был тайне скинии, объемлющей собою Вселенную. Скиния же эта да будет Христос, Божия Сила и Божия Премудрость; она нерукотворна по собственному своему естеству, допускает же устроение, когда должно стало скинии этой быть водруженной в нас, так что некоторым образом она есть и несозданная и созданная: как предсуществующая, она не сотворена, а как принявшая этот вещественный состав, стала сотворенной. Сказанное нами, вероятно, не неясно для принявших в точности таинство нашей веры. Ибо единое из всего и что было прежде веков, и что произошло напоследок веков, что не имело нужды во временном происхождении (как иметь нужду во временном рождении тому, кто прежде времен и веков?) и ради нас, по безрассудству растливших бытие свое, допустило то, что пришло в бытие, подобно нам, чтобы ставшее вне сущего снова возвести в сущее. А это есть Единородный Бог, в Себе все объемлющий, но и в нас водрузивший Свою скинию.
Если же скинией именуется столь великое благо, то нимало не смущайся, христолюбец, что заключающаяся в речении выразительность умаляет величие естества Божия, ибо и никакое другое из имен недостойно естества, означаемого им, но все одинаково ниже точного значения, как признаваемые малыми, так и те, в которых предположительно усматривается некое величие понятий. Но, как из всех прочих имен каждое в известном значении благочестиво употребляется в показание Божией силы — таковы, например, имена: врач, пастырь, покровитель, хлеб, ангел, виноградная лоза, путь, дверь, обитель, вода, камень, источник и все иное, что говорится о Боге — так в некоем боголепном значении именуется Он и этим словом — скиния. Ибо объемлющая все существа сила, в которой обитает вся полнота Божества, — этот общий покров Вселенной, — Тот, Кто все в Себе содержит, в собственном смысле именуется скинией.
Необходимо же, чтобы ведение было соответственно имени, и каждая часть видимого руководила к какому–либо взгляду, открывающему боголепное представление. Итак, поскольку великий апостол говорит, что завесой в дольней скинии является плоть (Евр. 10:20), говорит же, думаю, потому что состав ее — из различных четырех стихий, и, вероятно, самому апостолу, когда было ему видение скинии и восхищен он был в пренебесные святилища, открыты были Духом тайны рая, то хорошо будет обратить внимание на такое частное истолкование, приноровив к части и целый наш взгляд на скинию. Извлечем же из собственных слов апостола объяснение загадочных представлений о скинии. В одном месте говорит он о Единородном, Которого разумеем под скинией: Яко Тем создана быша всяческая, яже видимая, яже невидимая, аще престоли, аще власти, аще начала, аще господствия, аще силы (Кол. 1:16). Поэтому добровидные и златокованые столпы, носила, кольца и эти херувимы, прикрывающие крыльями кивот и все прочее, что заключает в себе описание сооружения скинии (если кто, взирая на это, будет иметь высший взгляд), суть премирные силы, созерцаемые в скинии, по Божественному изволению поддерживающие собою Вселенную. Там истинные наши носила — посылаеми в служение за хотящих наследовати спасение (Евр. 1:14), как бы кольцами какими прикрепленные к спасаемым нашим душам, лежащих на земле поднимающие на себе в высоту добродетели. О херувимах же Писание, сказав, что они крыльями покрывают таинства, положенные в кивоте Завета, подтверждает этим представленный нами взгляд на скинию, ибо знаем, что это имя употребляется о тех силах, вокруг Божия естества созерцаемых, которые видели умом Исаия и Иезекииль. Да и кивот Завета, покрываемый крыльями, да не представляется чем–то странным для слуха, потому что и у Исаии узнаем подобное этому загадочно сказанное Пророком о крыльях. Здесь упоминается кивот, а там — лицо, но под тем и другим одно существо разумеется, чем, как мне кажется, и дается нам понять, что взгляд на неизреченное недоступен. И если слышишь о светильниках, раздельно держащихся на одном подсвечнике, чтобы воссиявающий всюду свет был богат и обилен, то не погрешишь, рассуждая, что этой скинии приличны многообразные облистания Духа, как говорит Исаия, различая семь светлостей Духа (Ис. 11:2). А очистилище, думаю, не требует и истолкования, так как сокровенное его значение раскрыто апостолом, который говорит: Его же предположи Бог очищение (Рим. 3:25) душ наших. Слыша об алтаре и алтаре кадильном, представляю мысленно непрестанно совершаемое в этой скинии поклонение пренебесных сил, ибо сказано, что язык не только земных и преисподних, но и небесных воссылает хвалу Началу всех, а это есть приятная Богу жертва — плод устен, как говорит апостол (Евр. 13:15), и благоухание молитв. Если же в числе преобразований усматриваем окрашенную кожу и волосяные ткани, то этим не нарушается неразрывная цельность взгляда. Пророческое око, пришедши в видение Божественного, усматривает там предопределенное спасительное страдание, которое означается тем и другим из сказанного. Как красный цвет толкуется кровь, так волосы — умерщвление, потому что волос на теле лишен ощущений, почему и служит знаком в собственном смысле мертвости.
Итак, все это усматривает Пророк, когда возводит взор к горней скинии. Если же кто обратит взгляд на дольнюю скинию, то, поскольку у Павла нередко Церковь именуется Христом, хорошо сделает, признав, что служители Божественного таинства, которых Писание называет столпами Церкви, а также апостолы, учители и пророки именуются одними и теми же именами. Ибо не Петр только, Иоанн и Иаков суть столпы Церкви, и не один Иоанн Креститель бе светильник горя (Ин. 5:35), но и все послужившие утверждением Церкви и по делам своим сделавшиеся светилами называются и столпами, и светильниками. Вы есте свет мира, говорит Господь апостолам (Мф. 5:14). А Божественный апостол и другим еще повелевает быть столпами, говоря: Тверди бывайте не поступни (1 Кор. 15:58), — и Тимофея устроил он в прекрасный столп, сделав его, как сам выражается, столпом и утверждением истинной Церкви (1 Тим. 3:15). В этой скинии всегда видимы и жертвы хваления, и фимиам молитвы, приносимые и утром и вечером. Дает же это разуметь великий Давид, исправляя в воню благоухания пред Богом фимиам молитвы и с воздеянием рук священнодействуя жертву (Пс. 140:2). А кто слышит о купелях, тот, без сомнения, представит в уме таинственной водой омывающих скверну грехов: купелью был Иоанн, во Иордане омывая крещением покаяния; купелью был Петр, однажды вдруг тысячи приведший к воде; купелью был Филипп для евнуха Кандакии. Купелями бывают и сообщающие благодать всем причащающимся этого дара. Не погрешит против надлежащего разумения и тот, кто предположит, что опоны (Исх. 26:1), во взаимном между собой соединении объемлющие вокруг скинию, означают исполненное любви и мира единомыслие верующих. Ибо так истолковал Давид, который говорит: Полагаяй пределы твоя мир (Пс. 147:3). А кожа червленая [1] и опоны [2] власяные [3], служащие к украшению скинии, получат сообразное себе значение, т. е. умерщвление греховной плоти, загадочно изображенное червленой кожей, и суровый образ жизни по воздержанию, чем особенно украшается скиния Церкви, потому что кожи, не имеющие в себе данной природой жизненной силы, от червленой краски делаются благоцветными. А это научает нас тому, что цветущая Духом благодать не в ком другом бывает, а только в умертвивших себя греху. Если же червленым цветом означается в слове целомудренная стыдливость, то охотно соглашаюсь на такое суждение. Но сплетение волос, производя грубую и жесткую для осязания ткань, дает подразумевать суровое воздержание, изнуряющее силы неразлучных с нами страстей, все же подобное этому доказывает собой девственная жизнь, изнуряющая плоть живущих так. Если же внутренность скинии, называемая Святое святых, для многих недоступна, то и этого не считаем противоречащим последовательности наших разумений. Ибо истина сущих действительно есть нечто святое, даже Святое святых, и для многих неприкосновенное и неприступное. Поскольку она пребывает в сокровенной и неизглаголанной глубине таинственной скинии, то познанию о превышающих понятие сущих надлежит быть непытливым. Должно веровать, что искомое есть, однако же не подлежит взорам всех, а пребывает неизглаголанным в сокровенных глубинах мысли.
Этому и подобному научившись из видения того, что в скинии достигшее до чистоты и возведенное на высоту такими зрелищами душевное Моисеево око снова восходит на самый верх иных представлений, изучая облачение священства. Сюда относится риза внутренняя (Исх. 28:31), риза верхняя и этот сияющий блеском различных камней наперсник [4], и повязка на голове, и над ней дшица (Исх. 29:6), надраги (Лев. 6:10), пуговицы, звонцы (Исх. 28:33). Потом поверх всего — слово и явление, и в обоих усматриваемая истина, также с обеих сторон примкнутые к ним нарамники с начертанными на них именами патриархов. Множество этих облачений, да и самые именования их таковы, что невозможно точное в подробности их обозрение. Ибо что за наименования телесных одежд: явление, слово, истина? Конечно, этим явно показывается, что историей описывается не это, не чувственное облачение, а душевное убранство, истканное добродетельными предначинаниями.
Цвет подира — синева (28:32); некоторые из объяснявших слово это прежде нас говорят, что таким цветом означается воздух. Но действительно ли такой цвет имеет какое–либо сродство с цветом воздуха, этого не намерен я утверждать в точности, но и не отвергаю утверждаемого, потому что понятие это согласно с надлежащим взглядом на добродетель, а именно требует, чтобы намеревающийся быть священнослужителем пред Богом, тело свое представить в священнодействие и сделаться не мертвенным закланием в жертве живой и в служении словесном не повреждал души каким–либо грубым и многоплотяным облачением жизни, но чистотой ее, подобно какой–либо паутинной нити, утончал все житейские предначинания, приближался к тому, чтобы стать парящим горе, легким, воздушным и сокрушить в себе это телесное естество. В таком случае, когда услышим последнюю трубу по гласу Повелевающего, оказавшись необременными и легкими, превыспренне вместе с Господом понесемся по воздуху, никаким бременем не увлекаемые на землю. Поэтому, кто по совету Псалмопевца, истаял, яко паучину, душу свою (Пс. 38:12), тот облекся в воздушный хитон, нисходящий от главы до края ног.
Закон требует, чтобы добродетель не была в чем–то скудна. Поэтому золотые звонцы, привешенные к пуговицам, означают сияние добрых дел. Ибо два рода деятельности, которыми собирается богатство добродетели: вера в Бога и совестливость в продолжение жизни — вот те пуговицы и звонцы, которые великий Павел придает одежде Тимофеевой, говоря, что должно ему иметь веру и благую совесть (1 Тим. 1:19). Итак, часто и велегласно да звучит вера в проповеди о Святой Троице, а жизнь да уподобляется свойству гранатового плода, ибо наружная сторона этого плода негодна в пищу, будучи покрыта твердой и жесткой скорлупой, но внутренность приятна для зрения по разнообразию и строгому порядку в устройстве плода, а еще приятнее для вкуса, услаждая чувство. И любомудренная и суровая жизнь, будучи непривлекательна и неприятна для чувства, исполнена благих надежд, услажденная собственным своим плодом. Ибо, когда Делатель наш раскроет в свое время гранатовый плод жизни и покажет красоту заключенного в нем, тогда вкушающим сладостно будет причащение собственных своих плодов. И Божественный апостол говорит где–то: Всякое наказание в настоящее время, т. е. что первоначально встречается прикасающемуся к гранатовому плоду, не мнится радость быти, но печаль. Последи же плод мирен воздает (Евр. 12:11) — это сладость охотно вкушаемой внутренности.
Повелевает же Писание, чтобы хитон этот был и с ометами; ометы же суть шаровидные привески, привешиваемые не ради нужды, но для украшения. А из этого дознаем, что не заповедью только должна измеряться добродетель, но нужно, чтобы и нами было нечто изобретаемо из примышляемого извне, и к одежде придавалось некое прибавление украшения, как и поступал Павел, от себя соплетавший прекрасные ометы к заповедям. Хотя закон повелевает служащим олтарю с олтарем делиться (1 Кор. 9:13), не запрещает сестру жену водити (9:5) и проповедающим благовестие от благовестия жити (9:14), Павел проповедует Евангелие даром, терпя и жажду, и голод, и наготу. Вот те прекрасные ометы, которые прибавлением своим к заповедям украшают хитон.
Потом сверх подира налагаются две ризы, спускающиеся от плеч до груди и по спине, соединяемые между собою на обоих плечах двумя застежками. А застежками служат камни, из которых каждый имеет начертанными на себе шесть имен патриархов, ткань этих риз пестрая. Синева соплетена с багряницей, и червленый цвет примешан к виссону, а между всем этим рассыпана золотая нить, так что от этой разновидности в цвете одна некая срастворенная красота блистает на ткани. А что узнаем из этого, состоит в следующем: верхнее облачение есть все, что, собственно, составляет украшение сердца, слагается из многих различных добродетелей. Синева соплетается с багряницей, потому что с чистотой жизни сопрягается царство. Червленица соплетается с виссоном, потому что светлая и чистая жизнь обыкновенно соединена как–то бывает с румянцем стыдливости; просиявающее же между этими цветами золото загадочно дает уразуметь сокровище, предоставленное такой жизни. Патриархи, начертанные на нарамниках, немало привносят к такому нашему убранству, потому что прежними примерами добрых мужей паче украшается человеческая жизнь.
К украшению же верхних риз прилагается еще другое сверху украшение — это щитцы от злата (Исх. 28:13), висящие на том и другом нарамнике, поддерживающие собой нечто из золота в виде четырехугольника, издающее блеск от двенадцати камней, которые расположены рядами; рядов было четыре, и каждый заключал в себе по три камня. В камнях нельзя было находить сходства у одного с другим, но каждый украшался особенным своим блеском. Таков наружный вид украшения. А подразумеваемое значение щитцев, висящих с плеч, обоедесноручность действующего оружием против сопротивника, чтобы, так как, по сказанному несколько выше, добродетель преуспевает верой и благой в этой жизни совестью, ясно было, что под прикрытием щитцев безопасен человек с обеих сторон, оставаясь неуязвимым от подобных стрел при помощи оружий правды десных и шуих (2 Кор. 6:7). Четырехугольное же украшение, с обеих сторон поддерживаемое щитцами, где на камнях написаны были соименные коленам патриархи, служит покрывалом сердца, и этим слово научает нас, что двумя щитцами отразивший стрелы лукавого украсит собственную свою душу всеми добродетелями патриархов, когда каждый из них своим блистанием воссияет на ризе добродетели. А вид четырехугольника да будет для тебя указанием необходимости твердо пребывать в добре, потому что такое очертание, при прямых сторонах равно опираясь на углы, с трудом прелагается в другой вид. Привязи, которыми украшения эти прикреплялись к плечам, по моему мнению, служат повелением заботиться о высокой жизни, почитать себя обязанными к любомудрию созерцательному присоединять и деятельное так, чтобы сердце служило знаменованием созерцания, а рамена — дел. Голова же, украшенная увяслом, означает венец, уготованный жившим хорошо, и его украшает напечатленный на золотой дощечке таинственным начертаниями.
На облеченного в такое украшение не возлагается обувь, чтобы не был он обременен в шествии и не затруднялся в движении возложением на себя мертвых кож по тому разумению, какое внушено было при воззрении на гору. Поэтому, не могла обувь сделаться украшением ног, будучи при первом тайнодействии отринута, как препятствие к восхождению.
Восшедший же на такую высоту обозренными у нас по порядку восхождениями несет в руках богосозданные скрижали, которые содержат на себе Божественный закон, но сами сокрушаются, сокрушаемые ожесточенным упорством согрешивших. Грех же состоял в сотворении идола в образе тельца, этого изваянного идолопоклонникам кумира. Моисей, обратив его в порошок, всего растворил в воде и сделал питием для согрешивших, чтобы всеми мерами привести в уничтожение то вещество, которое послужило людскому нечестию. Этим наипаче тогда и о том, что совершается ныне, в наши времена, пророчески возвещала история. Ибо вся идольская прелесть уничтожена совершенно, будучи истреблена устами благочестивых, которые добрым исповеданием совершили в себе уничтожение нечестивого вещества; и установленные древле идолослужителями таинства сделались истинно мимотекущей и неосуществимой водой, истребляемой теми самыми устами, которые некогда предавались идолобесию. Ибо, когда видишь, что подверженные прежде такой суете ныне истребляют и уничтожают идолов, на которых была у них надежда, не покажется ли и тебе, что история ясно взывает: всякий идол будет некогда поглощен устами обратившихся от прелести к благочестию? Моисей вооружает левитов на соплеменников, и они, прошедши стан от края до края, без разбора избивают встречающихся, острию меча предоставив решение участи умерщвляемых; всякого, кто ни попадался, равно предавали они смерти, не различая убиваемых людей, не обращая внимания, враг ли кто или друг, сторонний или домашний, родственник или чужой, но было одно какое–то направление руки, одинаково и равно устремленное на всякого встречного. Сказание же об этом может служить для нас следующим полезным уроком: поскольку на худое дело умудрились все целым народом и все ополчение участвовало в грехе, как один человек, то и бич поражает их без различия. Как наносящий удары застигнутому в каком–либо грехе налагает бич на какую бы то ни было часть тела, так что боль, ощущаемая в одном члене, сообщается и всему телу, так и в этом теле, решившемся на грех, всякий член наказываем был одинаково, и бич, обращаемый на части, уцеломудривал целое. Поэтому если равный грех усматривается во многих, гнев же Божий действует не на всех, но только на некоторых, то надлежит разуметь это так, что Бог по человеколюбию исправляет сделанное, и, хотя не все несут на себе удары, однако же все уцеломудриваются и отвращаются от греха ударами частными. Но это еще только исторический смысл написанного, применительный же смысл может оказать нам пользу таким образом: законодатель в общей проповеди говорит всем: Аще кто есть Господень, да идет ко мне (Исх. 32:26), т. е. таков глас закона, повелевающий всем: кто хочет быть другом Божиим, да будет другом мне — закону, потому что друг закону, конечно, и друг Божий. И собравшимся к нему по такой проповеди дает повеление действовать мечом против брата, и друга, и ближнего. Взирая же на последовательность этого обозрения, разумеем это так: всякий помышляющий о Боге и законе, очищается убиением в себе того, что усвоил он на зло себе. Ибо не всякий брат, друг и ближний в Писании понимается хорошо, но иной бывает и брат и чужой, и друг и враг, и ближний и сопротивник. Разумеем же под этими именами постоянные наши помыслы, жизнь которых соделывает нашу смерть, а смерть — нашу жизнь. Такое понятие согласно со сказанным уже в исследовании об Аароне, когда по причине содействия его Моисею представили его споборником, хранителем, ангелом, творящим знамения в устрашение египтян, справедливо имеющим право как на имя старшего, потому что естество ангельское и бесплотное создано прежде естества нашего, так и на имя брата по сродству умопредставляемого ангельского естества с нашим умопредставляемым естеством.
Поскольку же имеет место возражение: как можно полагать, что бы служило к лучшему содействие Аарона, который стал для израильтян служителем при сотворении идола, — то слово наше, и выше еще упоминая об этом, объяснило несколько подобоименность братства, а именно что не одно и то же означается всегда одним и тем же речением, когда одно имя берется в противоположных понятиях. Инаков брат, который истребляет египетского мучителя, и инаков также, который делает израильтянам идола, хотя имя у обоих и одно. На таких–то братьев Моисей обнажает меч. Ибо, о чем дает повеление другим, то же равным образом узаконивает и себе. А убиение такого брата есть уничтожение греха. Ибо всякий, кто уничтожил зло, утвердившееся в ком–либо по совету сопротивника, и в себе убил это зло, жившее некогда грехом. Такое об этом мнение да одерживает паче верх в нас, если и другое нечто возьмем из истории для этого обозрения. Ибо говорится, что по повелению этого Аарона должно было израильтянам обобрать у себя усерязи (Исх. 32:2), и что обобрание их послужило веществом для идола. Поэтому что же скажем? То, что Моисей украсил слух израильтян усерязями, т. е. законом, а лжеименый брат отъемлет приданное слуху украшение и делает из него идола. И при первоначальном вторжении греха было некое отъятие усерязей — совет преступить заповедь. Может ли другом и ближним первозданных почитаем быть змий, советующий как нечто полезное и доброе отступить от Божия повеления? Это и значит отъять у слуха усерязь заповеди. Поэтому убивающий подобных братьев, друзей и ближних услышит от закона такие слова, по сказанию истории, произнесенные Моисем этим убийцам: Наполнисте руки ваша днесь Господу, кийждо в сыне своем и в брате, да дастся на вас благословение (Исх. 32:29).
Но благовременно, кажется, войти в слово этому припоминанию о допустивших грех, чтобы узнать, как богосозданные скрижали, на которых начертан был Божественный закон, падшие из Моисеевых рук на землю и сокрушенные упорством дольнего, Моисей приносит снова, уже не совершенно те же самые, но только с теми же на них письменами. Ибо, взяв скрижали из вещества дольнего, предложил могуществу Начертывающего на них закон. И, таким образом, призывает благодать, на каменных досках неся закон, после того как Сам Бог изобразил слова на камне, потому что и ими путеводимым возможно еще прийти в уразумение Божия о нас промышления. Ибо если истинен Божественный апостол, именующий скрижали сердца (2 Кор. 3:3), т. е. владычественное души, без сомнения же истинен испытующий духом глубины Божии, то последовательно можно из этого узнать, что естество человеческое, устроенное Божиими руками и украшенное неписанными начертаниями закона, вначале было несокрушимо и бессмертно, потому что естественно была в нас согласная с законом воля, обнаруживающаяся в отвращении от зла и в чествовании Божества. Когда же коснулся нас глас греха, который в первом писании именуется гласом змия, а в истории скрижалей гласом поющих от вина (Исх. 32:18), тогда, пав на землю, природа наша сокрушается. Но истинный Законоположник, прообразом Которого был Моисей, снова из земли нашей истесал себе скрижали нашего естества. Ибо не брак соорудил Ему Божественную плоть, но Сам Он делается каменосечцем собственной Своей плоти, исписуемой Божественным перстом. Дух Святый снисшел на Деву, и сила Вышнего осенила Ее (Лк. 1:35). Когда же совершилось это, естество снова приобрело несокрушимость, начертаниями перста соделанное бессмертным. Перстом же во многих местах Писания именуется Дух Святой. И, таким образом, совершается в такой степени и мере претворение прославления Моисеева, что дольнему оку стало невместимо явление этой славы. Изучивший же Божественное таинство нашей веры, без сомнения, знает, насколько согласуется с историей этот высший взгляд. Ибо Восстановитель сокрушенной скрижали нашего естества (уразумеешь, без сомнения, в сказанном Того, Кто уврачевал наши сокрушения), поскольку в древнюю красоту возвел сокрушенную скрижаль нашего естества, как сказано, украсив ее Божественным перстом, делается уже невместимым для взоров недостойных, по превосходству славы став неприступным для взирающих на Него. Ибо поистине, егда приидет, как говорит Евангелие, во славе Своей, и вси Ангели с Ним (Мф. 25:31), и для праведных едва будет вместим и видим, а нечестивый и иудействующий, как говорит Исаия, останется непричастным этого видения. Да возмется нечестивый, говорит, да не видит славы Господни (Ис. 26:10). Но это ввели мы в речь, следуя порядку рассмотренного относительно к высшему взгляду на это место, теперь же возвратимся к тому, что следует.
Почему тот, о ком Божественный глас свидетельствует, что во многих Богоявлениях явственно видел Бога, а именно когда говорит: Лицем к лицу, якоже аще бы кто возглаголал к своему другу (Исх. 33:11), — при всем этом, как не сподобившийся еще того, чего, но свидетельству Писания, должно признать его сподобившимся, молит Бога явить Себя ему (Исх. 33:13), как будто всегда Являвшийся не был еще им видим? И глас свыше, хотя соглашается теперь уступить желанию просящего и не отрекается даже присовокупить ему сей благодати, однако же вводит еще в отчаяние, объявляя, что просимое им и невместимо для жизни человеческой. Но есть, говорит Бог, некое у Мене место, и на месте том камень, а в камне расселина, в которой повелевает пребывать Моисею. Потом налагает Бог руку на устье расселины, проходит мимо, и Моисей видит задняя Повелевавшего и остается в той мысли, что увидел то, о чем просил, и что обетование Божественного гласа неложно (Исх. 33:21–23).
Если взирать на это ограничиваясь буквой, то смысл для ищущих его не только останется неясным, но даже и нечистым от превратного о Боге понятия. Ибо у того только, кто представляется в очертании, есть и переднее и заднее, а всякое очертание есть предел тела, так что представляющий Бога в очертании не признает Его свободным от телесного естества: всякое же тело, без сомнения, сложно, а сложное имеет состав из соединений разнородностей, и о составном никто не скажет, что оно неразлагаемо, а разлагаемое не может быть нетленным, потому что тление есть разложение составного. Поэтому если кто задняя Божия поймет буквально, то последовательно и необходимостью доведен будет до этой нелепости, потому что переднее и заднее, без сомнения, бывает в очертании у тела; тело же разлагаемо и разлагается по собственной своей природе, так как разлагаемо все сложное; разлагаемое же не может быть нетленным. Поэтому, кто рабски следует букве, тот по необходимой связи понятий допустит в Боге тление. Но Бог нетленен и нетелесен. Какой же поэтому смысл приличествует написанному, кроме представляющегося с первого взгляда? Если же в связи речи эта часть написанного принуждает нас отыскивать другой смысл, то, конечно, надлежит тоже разуметь и о целом. Ибо, что разумеем в части, то подобным образом необходимо принимаем и в целом.
Итак, и место у Бога, и камень на том месте, и помещение в камне, которое именуется расселиной, и вшествие туда Моисея, и наложение руки Божией на устье, и прохождение мимо, и воззвание, и после этого видение задних основательнее будет рассматривать по закону возведения смысла к высшему взгляду. Поэтому что же изображается этим? Как готовые к падению тела как скоро приобретут некое стремление катиться по наклонности, хотя после первого движения и никто не будет понуждать их вновь, сами собой сильнейшим порывом несутся вниз, пока путь их покат и клонится книзу, притом не встречается ничего такого, что противным движением пресекало бы их стремление, — так, вопреки этому, душа, отрешившаяся от земного пристрастия, делается несущейся горе и скорой в этом движении вверх, воспаряя от дольнего в высоту. И как свыше ничто не пресекает ее стремления (естество добра к себе привлекает возводящих к нему взоры), то, конечно, непрестанно становится она выше и выше себя самой, по вожделению небесного, как говорит апостол, простираясь в предняя (Флп. 3:13), и будет всегда совершать парение к высшему. Ибо по причине уже приобретенного, вожделевая не оставлять недостигнутой еще выше усматриваемую высоту, непрерывно продолжает стремление к горнему, тем самым, в чем преуспела, непрестанно обновляя усилие к полету. Ибо одна только деятельность, обращенная к добродетели, питает силы трудом, не ослабляя, но увеличивая делом напряжение к нему. Поэтому говорим, что Моисей, всегда бывший великим, нимало не останавливается в восхождении, не полагает себе никакого предела в стремлении к горнему, но, однажды вступив на лествицу, на которой, как говорит Иаков, утверждается Бог (Быт. 23:13), непрестанно восходит на высшую и высшую ступень и не перестает возвышаться, потому что и на высоте находит всегда ступень, которая выше достигнутой им. Отрекается он от ложного родства с египетской царевной; делается отмстителем за еврея; переселяется жить в пустыню, которой не возмущала жизнь человеческая; пасет в себе стадо кротких животных, видит сияние света; по снятии обуви необременительным делает восхождение к свету; избирается для освобождения родственного и единоплеменного народа; видит тонущего врага, покрываемого волнами; располагается станом под облаком; утоляет жажду камнем; на небе возделывает хлеб; потом воздеянием рук побеждает иноплеменника; слышит глас трубы; входит во мрак; проникает в святилище нерукотворенной скинии; изучает тайны Божественного священства; уничтожает идола, умилостивляет Божество; возобновляет закон, сокрушенный грехом иудеев; сияет славой и, превознесенный на такие высоты, пламенеет еще вожделением, ненасытимо ищет большего и, что всегда имел во власти, еще того жаждет; и, как не причастившийся дотоле, домогается улучить это, прося Бога, чтобы явил ему Себя не в такой только мере, в какой вместить он может, но каков Бог Сам в Себе. Мне кажется, что чувствовать это свойственно душе, которая исполнена каким–то пламенеющим любовью расположением к прекрасному по естеству и которую от видимой ею красоты надежда влечет всегда к красоте высшей, непрестанно приобретаемым всегда возжигая в ней вожделение сокровенного. Почему сильный любитель красоты, непрестанно видимое им принимая за изображение вожделеваемого, желает насытиться видением отличительных черт Первообраза. Это–то и выражает такое дерзновенное и преступающее пределы вожделения прошение насладиться красотой не при помощи каких–либо зерцал или в образах, но лицом к лицу. Божественный глас дает просимое, в самом отказе немногими речениями показывая какую–то неизмеримую глубину понятий. Ибо щедродаровитость Божия соизволила исполнить желание Моисея, но не обещала ему какого–либо успокоения и пресыщения в этом желании. Бог не показал бы Себя Своему служителю, если бы видимое было таково, что могло бы успокоить вожделение взирающего. В том и состоит истинное видение Бога, что у взирающего на Него никогда не прекращается это вожделение. Бог говорит: Не возможеши видети лица Моего, не бо узрит человек лице Мое, и жив будет (Исх. 33:20). И это слово показывает не то, будто бы зрение лица Божия для взирающих делается причиной смерти (как возможно лицу жизни стать когда–либо причиной смерти для приближающихся?), но поскольку, хотя Божество по естеству животворяще, однако же собственно отличительным признаком Божественного естества служит то, что Оно выше всего отличаемого по признакам, то полагающий, что Бог есть нечто познаваемое, уклонившись от сущего к тому, что признано существующим в способном вместить это представление, не имеет в себе жизни. Ибо подлинно сущее есть истинная жизнь, а это недоступно ведению. Поэтому если животворящее естество превышает ведение, то постигаемое, без сомнения, не есть жизнь, а что не жизнь, то не имеет свойства сделаться сообщающим жизнь. Поэтому не исполняется желаемое Моисеем в том, в чем вожделение пребывает невыполнимым. Ибо сказанным научается он, что Божество по естеству Своему неопределимо, не включимо ни в какой предел. А если бы Божество могло быть представлено в каком–либо пределе, то по всей необходимости вместе с пределом было бы представляемо и то, что за ним, потому что заключенное в пределы, без сомнения, чем–нибудь оканчивается, как пределом для живущих на суше — воздух, и для живущих в воде — вода. Поэтому, как рыба во всех своих пределах объемлется водой, а птица — воздухом, среда воды для плавающего, а среда воздуха для летающего есть крайняя поверхность предела, объемлющая собой и птицу, и рыбу, за которой следуют или вода, или воздух, — так, если Божество представляемо будет в пределе, необходимо Ему быть объемлемым чем–либо инородным по естеству, а объемлющему, как свидетельствует последовательность речи, во много крат превосходить содержимое. Но признано, что Божество по естеству прекрасно, а что разнородно с прекрасным, то, конечно, есть нечто иное, а не прекрасное, и что вне прекрасного, то заключается в естестве зла. А доказано, что объемлющее во много крат больше объемлемого. Поэтому думающим, что Божество заключено в пределы, по всей необходимости должно согласиться, что Оно объято злом. И как всегда объемлемое умалено перед естеством объемлющим, то следует произойти преобладанию преизобилующего. Итак, заключающий Божество в какой–либо предел допускает возможность над прекрасным возобладать противоположному. Но это нелепо. Поэтому да не разумеется какое–либо постижение невидимого естества. Непостижимому же несвойственно быть объемлемым. Напротив того, всякое вожделение прекрасного, привлекаемое к этому восхождению, всегда возрастает вместе с желанным шествием к прекрасному. И это значит в подлинном смысле видеть Бога: никогда не находить сытости своему вожделению. Но кто видит, как только можно ему видеть, тому надлежит непрестанно возгораться вожделением увидеть еще больше. И, таким образом, никакой предел не пресечет приращения в восхождении к Богу, потому что и прекрасному не отыскивается никакого предела и никаким пресыщением не пресекается усиливающееся вожделение прекрасного.
Но какое это место, разумеемое Богом? Какой это камень? И что опять за вместимость в камне? Какая это рука Божия, закрывающая устье пещеры в камне? Какое это Божие мимохождение? Что такое задняя Божия, видение чего обещает Бог дать Моисею, просившему зрения лицом к лицу? Без сомнения, всему этому и в отдельности взятому надлежит быть чем–то великим и достойным великодаровитости Дающего, чтобы обетование это можно было признать более величественным и превысшим всякого бывшего уже великому служителю Богоявления. Поэтому как же из сказанного уразумеет кто ту высоту, на которую и Моисей после стольких восхождений желает еще восходить, и Сам, любящим Бога вся поспешествующий во благое (Рим. 8:28), под Своим путеводительством облегчает восхождение? Се место у Мене, говорит Бог (Исх. 33:21). С объясненным во взгляде этом прежде согласно, может быть, такое понятие. Указав место, Бог не ограничивает указуемого количеством (ибо для неколичественного нет меры), но умолчанием об очертании относительно к мере руководит слушателя к беспредельному и неизмеримому. Поэтому Слово, кажется мне, выражает такую мысль: поскольку у тебя постоянно вожделение простираться вперед, не имеешь сытости в продолжении своего течения, не знаешь никакого удовлетворения добром, но всегда желание твое стремится к большему, то у Меня такое есть место, что проходящему его никогда невозможно прекратить свое течение. Но это течение в другом смысле есть стояние. Ибо говорит Бог: Поставлю тебя на камени (Исх. 33:21). Всего же чуднее это, почему одно и то же есть и стояние и движение. Кто восходит, тот, конечно, не стоит; и кто стоит, тот не восходит. А здесь само стояние делается восхождением. Это значит, что, чем в большей мере пребывает кто твердым и непреложным, тем успешнее совершает течение добродетели. А кто непостоянен и поползновенен в своих помыслах, не стоит твердо в добре, но влается и скитается, как говорит апостол (Еф. 4:14), колеблемый и сокрушаемый предположениями и сомнениями о существующем, тот никогда не взойдет на высоту добродетели, подобно тому как идущие на возвышение по песку, хотя, по–видимому, и переходят ногами большое пространство, трудятся без пользы, потому что ступни скользят всегда по песку вниз, так что хотя и производится движение, но в движении не происходит никакого поступления вперед. Если же кто, как говорит псалмопение, извлекши ноги из глубокой тины, утвердил их на камени (Пс. 39:3), — камень же есть Христос, всесовершенная добродетель, — то, чем он тверже водружен в добре и не поступен, по совету Павлову (1 Кор. 15:58), тем удобнее совершает течение как бы некими крыльями, пользуясь этим стоянием и твердостью в добре, окрыляя сердце к шествию горе.
Поэтому Показавший Моисею место возбуждает к течению поприщем, а обещая стояние на камне, показывает ему способ Божественного течения. Вместилище же в камне, которое в Писании именуется расселиной, прекрасно истолковал собственными своими словами божественный апостол, говоря, что разорившим земную скинию соблюдается в уповании храмина нерукотворенная небесная (2 Кор. 5:1). Ибо действительно, кто, как говорит апостол, течение совершил на этом широком и пространном поприще, которое в Божественном Писании наименовано местом, и веру соблюл (2 Тим. 4:7) или, как говорится загадочно, утвердил ноги свои на камени, того рука Подвигоположника украсит венцом правды. Но такая награда в Писании именуется различно. Ибо одно и то же здесь называется расселиной камня, а в других местах — сладостью рая (Быт. 3:23), вечным кровом (Лк. 16:9), обителью у Отца (Ин. 14:2), лоном патриарха (Лк. 16:22), страной живых (Пс. 114:8), водой покойной (Пс. 22:2), вышним Иерусалимом (Гал. 4:26), Царствием Небесным (Мф. 7:21), почестью звания (Флп. 3:14), венцом благодатей (Притч. 1:9), венцом доброты (Прем. 5:17), столпом крепости (Пс. 60:4), веселием за трапезою, соседением с Богом, престолом суда (Пс. 9:8), местом именитым (Ис. 56:5) и селением тайным (Пс. 26:9). Поэтому утверждаем, что ту же мысль имеют и причисляющие сюда вшествие Моисеево в камень. Поскольку у Павла под камнем разумеется Христос, все же упование благ, как веруем, во Христе, в Котором, как узнали мы, сокровища благ, то пребывающий в каком–либо благе, конечно, во Христе, содержащем в Себе всякое благо.
А кто достиг этого и покрыт рукой Божией, как возвестило слово, рука же Божия есть зиждущая существа сила, Единородный Бог, Которым вся быша (Ин. 1:3), Который и для совершающих течение служит местом, как путь их течения, по собственному слову Его (Ин. 14:6), для утвердившихся же делается камнем и для успокоившихся — домом, тот услышит тогда Призывающего и будет позади Зовущего, т. е. пойдет вслед Господа Бога, как повелевает закон. Слыша это, уразумел великий Давид и живущему в помощи Вышняго сказал: Плещма Своима осенит тя (Пс. 90:1,4), а это значит то же, что быть позади Бога, потому что плечо принадлежит к задним частям. Да и о самом себе взывает Давид: Прильпе душа моя по Тебе: мене же прият десница Твоя (Пс. 62:9). Видишь, как согласно с историей псалмопение? Как Давид говорит о восприятии десницей прильпнувшего к Богу, так и там касается рука ожидающего Божия гласа в камне и умоляющего о дозволении следовать позади. Да и Господь, вещавший тогда Моисею, став исполнителем собственного Своего закона, подобным этому образом излагает ученикам, раскрывая явный смысл сказанного загадочно: Аще кто хощет по Мне ити, а не предо Мною, говорит Он (Лк. 9:23). И умоляющему о вечной жизни предлагает то же само. Ибо говорит: Прииде, ходи вслед Мене (Мк. 10:21). Но идущий вслед видит задняя. Поэтому Моисей, нетерпеливо желающий видеть Бога, научается теперь, как можно увидеть Бога, а именно что идти вслед Бога, куда ни поведет Он, — значит взирать на Бога, потому что мимохождение Божие означает вождение идущего вслед. Ибо незнающему пути невозможно безопасно совершить его иначе, как следуя за путеводителем. Поэтому путеводитель тем самым, что предшествует идущему вслед, показывает ему путь. А идущий вслед тогда не совращается с прямого пути, когда непрестанно видит задняя вождя. Ибо, кто в движении уклоняется в сторону или направляет взор, чтобы видеть ведущего в лицо, тот пролагает себе иной путь, а не указуемый вождем. Почему говорит Бог руководимому: Лице Мое не явится тебе (Исх. 33:23), т. е. не становись лицом к лицу перед ведущим, потому что шествие твое непременно будет в противоположную сторону; доброе не в лицо смотрит доброму, но следует за ним. Представляемое в противоположности лицом к лицу противостоит доброму. Ибо порок смотрит вопреки добродетели, добродетель же не представляется лицом к лицу противостоящей добродетели. Поэтому Моисей смотрит не в лицо Богу, но видит задняя Его. А кто смотрит в лицо, тот не будет жив, как свидетельствует Божественный глас: Не бо узрит кто лице Господне, и жив будет (Исх. 33:20). Видишь, насколько важно научиться, как ходить вслед Богу, а именно: после высоких восхождений, после страшных и славных Богоявлений к концу только жизни едва удостаивается этой благодати научившийся стать позади Бога. Кто так ходит вслед Бога, тот уже не встречает никакого столкновения с пороком.
После всего порождается зависть к нему братий; зависть — это начало зловредных страстей, отец смерти, первая дверь греху, корень порока, порождение печали, матерь бедствий, повод к непокорности, начало стыда. Зависть изгнала нас из рая, став змием пред Евой, зависть преградила доступ к древу жизни и, совлекши с нас священные одежды, по причине стыда привела к ветвям смоковницы. Зависть вооружила Каина на естество и произвела седмижды отмщаемую смерть (Быт. 4:15). Зависть сделала Иосифа рабом. Зависть — смертоносное жало, скрытое оружие, болезнь естества, желчный яд, добровольное истощение, жестоко язвящая стрела, гвоздь для души, огонь под сердцем, сжигающий внутренности. Для зависти неудача — не собственное свое зло, но чужое добро, и, наоборот, для нее удача — не свое хорошее, но худое у ближнего. Зависть мучится благоуспешностью людей и посмеивается их бедствиям. Сказывают, что питающиеся мертвыми телами грифы мрут от мира, потому что естеству их сродно зловонное и испортившееся. И одержимый этой болезнью при благоденствии друзей как бы от прикосновения какого–то мира гибнет. Если же следствием бедствия усматривает какое–либо страдание, прилетает к страждущему, налагает искривленный свой клюв, извлекая им сокровенные причины безуспешности. Многих прежде Моисея поборола зависть. Но приразившись к этому великому человеку, подобно какому–либо глиняному изваянию, ударившемуся о камень, сама себя сокрушает. Ибо в этом наиболее и оказалась польза хождения с Богом, которое совершал Моисей, протекающий Божиим местом, ставший на камне, вместившийся в его расселине, покрываемый Божией рукой, сзади идущий вслед вождя, не в лицо Ему взирающий, но видящий задняя. Поэтому–то, что по мере возможности соделался он наиблаженным, доказывает тем, что идет вслед Бога, и притом выше полета брошенной из лука стрелы, потому что зависть пускает стрелу в него, но полет ее не достигает высоты, на которой был Моисей. Тетива лукавства была не в состоянии с такой силой выстрелить в Моисея страстью, чтобы от болевших ею прежде дошла и до него. Но, хотя Аарон и Мариам уязвлены были страстью злоречия (Числ. 12:1) и делаются как бы неким луком зависти, вместо стрел поражая его словом, однако же Моисей настолько далек от общения с ними в недуге, что даже врачует заболевших этой страстью, не только сам оставаясь неподвижным к наказанию оскорбивших, но и умилостивляя за них Бога, тем самым показывая, как думаю, что хорошо огражденный щитом добродетели не будет уязвлен остриями стрел, потому что твердость вооружения притупляет острие и отражает стрелы назад. Оружием же, охраняющим от таких стрел, бывает Сам Бог, в Которого облекается водитель добродетели. Ибо сказано: Облецытеся Господем Иисусом (Рим. 13:14). Вот несокрушимое всеоружие, каким оградившись, Моисей лукавого стрелка сделал бездейственным. Так овладело Моисеем смягчающее влечение к оскорбившим: знал он, что справедливо по естеству, и притом в отношении к осужденным на нелицеприятном суде, но сделался молитвенником за братий пред Богом. А этого не сделал бы, если бы не был позади Бога, Который для безопасного вождения путем добродетели показал ему задняя.
А таково и прочее, за этим последовавшее. Поскольку естественный враг человеков не имел возможности сделать вред Моисею, то обращает оружие на тех, кого легче ему уловить. И как бы стрелу какую, пустив в народ страсть чревоугодия, настроил его в пожелании пищи уподобиться египтянам, небесной пище предпочтя ядение египетских мяс. Но высокий душою муж, возносящийся выше такой страсти, всецело предан был будущему наследию, какое обетовал Бог переселенным из мысленного Египта и шествующим в такую землю, в которой течет молоко, смешанное с медом. Поэтому–то соглядатаев делает некими наставниками, извещающими о благах этой земли. И этими соглядатаями, по моему рассуждению, могли быть как подающие благие надежды, т. е. помыслы, порождаемые верою, утверждавшие в уповании на уготованные блага, так и доводящие до отчаяния в добрых надеждах, т. е. помыслы, внушаемые сопротивником, ослабляющие веру в обетования. Но Моисей, не обращая никакого внимания на сопротивных, признает верным возвещающего об этой земле лучшее. Сообщающий же подтверждением своим верность возвещаемому был предводитель лучшего соглядания Иисус. На него взирая, Моисей имел твердые надежды на будущее, признаком тамошнего обилия почитая гроздь виноградную, принесенную Иисусом на жердях (Числ. 13:24). А слыша об Иисусе, описывающем эту землю, и видя гроздь, повешенную на древе, конечно, обратишь мысль к Тому, на что и он взирая, укрепился в надеждах. Ибо гроздь, висящая на древе, Кто иной, кроме того, в последние дни повешенного на древе Грозда, кровь Которого соделалась спасительным питием для верующих?
После того как предрек нам это Моисей загадочно: Кровь гроздову пияху (Втор. 32:14), чем указуется на спасительное страдание, снова продолжается путь по пустыне, и народ, отчаявшийся в обетованных благах, томится жаждой. Но Моисей снова наводняет для них камнем пустыню. А такое слово при умозрительном взгляде да научит нас тому, что такое таинство покаяния. Ибо по однократном вкушении воды от камня обратившиеся к чреву, и плоти, и к египетским удовольствиям осуждаются на глад помыслов о причастии благ. Но возможно им снова при посредстве покаяния обрести камень, который оставили, снова открыть себе водную струю, снова утолить жажду влагой, какую издает камень тому, кто уверовал, что соглядание Иисусово истиннее соглядания сопротивных, кто взирает на Грозд, за нас источивший кровь и обагренный кровью, кто снова древом заставил камень источить им воду. Впрочем, народ не обучился еще ходить по следам великодушия Моисеева, еще увлекается в рабские похоти, склоняется к египетским наслаждениям. История примером их показывает несколько, что человеческая природа всего более преклонна к такой страсти и что тысячи путей ведут к этой болезни. Почему Моисей, как некий врач, умеющий при помощи искусства преодолевать всегда страсть, не позволяет болезни возобладать над ними даже до смерти. Пожелание неуместного породило им змиев, и угрызение сообщило смертоносный яд подвергшимся угрызению, но великий законодатель подобием змия привел в бездействие силу настоящих змиев.
Но время уже яснее раскрыть эту загадку. Одно врачевство от злых этих страстей — очищение душ наших, совершаемое таинством благочестия. Главное же, что приемлется верой в таинстве, есть воззрение на страдание за нас Пострадавшего. Страдание же есть крест. Почему взирающий на Него, как повествует Писание, не терпит вреда от яда похотения? Взирать на крест — значит всю жизнь свою сделать как бы мертвой и распятой для мира, пребывать неподвижным на всякий грех, как говорит Пророк, пригвоздившим страху Божию плоти своя (Пс. 118:120). Гвоздем же, удерживающим плоти, послужит воздержание. Поэтому так как похотение неуместного извлекает из земли смертоносных змиев (потому что всякое порождение лукавого похотения есть змий), поэтому–то закон предуказует нам являемое на древе, и это есть подобие змия, а не змий, как и Божественный Павел говорит: В подобии плоти греха (Рим. 8:3). А истинный змий — грех; кто предался греху, тот облекается в естество змия. Поэтому человек освобождается от греха Принявшим на Себя подобие греха, Тем, Кто сделался подобен нам, превратившимся в собственный вид змия, Тем, Кто угрызения делает несмертельными, но не уничтожает самих змиев. Змиями же называю похотения. Ибо взирающие на крест не подвергаются действию на них лукавой смерти, но не вовсе погибло в них остающееся похотение плоти на дух. И в верных нередко действуют угрызения похотения, но кто взирает на Вознесенного на древо, тот прочь гонит от себя страсть, страхом заповеди, как бы врачевством неким, рассеяв силу яда. А что вознесенный в пустыне змий есть знамение крестного таинства, этому ясно учит Божие слово, когда говорит: Якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися Сыну человеческому (Ин. 3:14).
Грех по какой–то на зло нам последовательности свойственным ему путем идет еще далее, как бы непрерывной некоей цепью простираясь вперед. И законодатель, как некий врач, вместе со стремлением зла простирает и свое врачевство. Поскольку угрызение змиев для взирающих на подобие змия (без сомнения, понимаешь сказанное символически) сделалось недействительным, то иной способ греха примышляется разнообразно ухищряющимся против нас на подобное этому, как и ныне можно видеть совершающимся это во многих. Иные, когда целомудренной жизнью обуздают страсть похотения, самовольно вторгаются в священство, дабы человеческими происками и усилиями присвоить себе рукоположение, оскорбляя Божие домостроительство. А до этого злого следования греху доводит тот, кого обвиняет история в том, что он внушает людям злое. Когда земля по вере в Вознесенного на древо перестала в наказание похотливым рождать змиев и убедились, что не повредят им ядоносные угрызения, тогда в освободившихся от страсти похотения входит недуг гордыни. Признавая низким хранить на себе чин, в который поставлены, сами вторгаются в сан священства, усиливаясь изгнать из него принявших служение это от Бога; погибли они, поглощенные разверстой землей, а, что осталось на земле от подобного скопища, то пожжено молниями. И Писание, думаю, повествованием этим научает, что конец горделивого превозношения есть нисхождение в преисподнюю. И иной на этом, может быть, основании справедливо определяет гордость схождением долу. Если же по предположению многих мысль о том клонится к противному, не дивись этому, ибо многим кажется, будто бы словом «гордость» означается быть выше других. Но истина повествуемого подтверждает наше определение. Ибо если превознесшиеся над другими низошли долу в зиянии расседшейся земли, то никто не осудит определения, по которому гордость есть падение в самые дольние страны. Моисей взирающих на это научает быть скромными и не превозноситься преспеяниями, но всегда хорошо распоряжаться настоящим. Ибо по той причине, что стал ты выше сластолюбия, не имеешь уже права безотчетно предаваться другому роду страсти. Всякая страсть, пока будет страстью, есть падение, в замене же страстей одной другою нет никакой разности падений. Кто поползнулся от скользкости удовольствий, тот пал; и кто запнулся по гордости, также пал. Ни одного же рода падений не изберет для себя имеющий ум, но равно должен избегать всякого падения, пока оно будет падением. Почему если и ныне увидишь кого, что, с одной стороны, свободен от недуга сластолюбия, но, стараясь показать, что он выше других, вторгается в священство, то представляй о нем, что видишь его с высоты гордости падающим в преисподнюю.
Ибо в последующем закон учит, что священство есть достояние Божественное, а не человеческое, учит же этому так: жезлы каждого колена, означив именами давших, Моисей полагает при алтаре, чтобы жезл, отличенный от прочих неким Божественным чудом, соделался свидетельством рукоположения свыше. И поскольку это исполнилось: жезлы других колен остались тем же, чем были, а жезл иерея, укоренившись в себе самом, не от посторонней какой влаги, но вложенной в него Божественной силой произрастил ветвь и плод; и плод пришел в зрелость, плодом же был орех, — то по совершении этого все подвластные Моисею обучились благочинию. По причине же плода, произращенного жезлом иерейским, надобно прийти к мысли, насколько воздержанной, строгой и суровой надлежит быть жизни в священстве по внешнему ее поведению, а внутренне, втайне и невидимо какую содержать в себе питательность, что в орехе обнаруживается, когда питательное со временем созреет, твердая оболочка распадется и древянистый этот покров на питательном плоде будет сокрушен. Если же узнаешь, что жизнь какого–либо так называемого иерея похожа на яблоко, благоуханна, цветет, как роза (весьма же многие из них украшаются виссоном и червленицей, утучняют себя дорогими яствами, пьют вино процеженное, мажутся первыми вонями (Ам. 6:6), и все, что только по первому вкушению кажется сладким, признают необходимым для жизни приятной), то прекрасно будет сказать тебе при этом евангельское слово: вижу плод и по плоду не узнаю древа священства. Инаков плод священства, а инаков — этот; тот плод — воздержание, а этот — роскошь; тот земной влагой не утучняется, а этому с дольних мест стекается много потоков наслаждений, с помощью которых такой красотой рдеет зрелый плод жизни.
Когда же подчиненные Моисея стали свободны и от этой страсти, тогда вступают в иноплеменную жизнь, между тем как закон при уклонениях в другую сторону ведет их царским путем. Ибо путнику уклонение в сторону опасно. Как если две сдвинувшиеся стремнины оставляют одну тропинку на высоком береговом утесе, то идущему по ней не безбедно туда и сюда уклоняться от середины, потому что на обеих, может быть, сторонах за уклонением последует обрыв со стремнины, так и закон требует от идущего по его следам не оставлять пути, как говорит Господь, узкаго и тесного (Мф. 7:14), никакого уклонения ни влево, ни вправо не признавая благоуспешным. И этим словом определяется то учение, что добродетели состоят в середине. Почему всякий порок обыкновенно совершается или от недостатка, или от нарушения меры добродетели; например, относительно к мужеству робость есть некоторый недостаток этой добродетели, дерзость — нарушение меры, но что свободно от того или другого из этих пороков, то усматривается в середине между ними и есть добродетель. Точно так же и все прочее: что заботится о совершеннейшем, держится как–то середины между худым соседством, мудрость занимает середину между хитростью и простотой. Непохвальны ни мудрость змия, ни простота голубя, если каждое из этих свойств взять одно само по себе, но поведение, держащееся середины между тем и другим, делается добродетелью. У кого недостает целомудрия, тот развратен, а, кто им избыточествует, тот сожжен совестью, как определяет апостол (1 Тим. 4:2). Один неудержимо утопает в удовольствиях, другой и браком гнушается наравне с прелюбодейством, поведение же, усматриваемое в середине между этими, есть целомудрие. Поскольку же, как говорит Господь, мир сей во зле лежит (1 Ин. 5:19), а для последователей закона иноплеменно то, что противоположно добродетели, т. е. порок, то проходящий жизнь в этом мире безопасно совершит необходимое это течение добродетели, если сохранит истинно царский путь, углаженный и убеленный добродетелью, нимало не совращаемый пороком на прилежащие распутия.
Но как, по сказанному, с восхождением добродетели вместе восходит и злокозненность противника, отыскивающая применительно к каждому поводы к совращению в грех, то, чем более народ возрастал в жизни но Богу, и сопротивник против этих сильных в военном деле употребляет тогда иную кознь. Когда воюющие видят, что полк превосходящих силами врагов неодолим в открытом бою, тогда преодолевает их, ведя переговоры и ставя засады. Так и полчище злобы против укрепившихся законом и добродетелью не лицом к лицу выводит силы, но в каких–то засадах скрытно строит им козни. Поэтому, злоумышляя на израильтян, призывает в помощь чародейство. И вот история говорит, что был некий волхв (Нав. 13:22) и птицегадатель (Чис. 23:23), по какому–то демонскому действию имел при этом силу вредить, принадлежал же к числу врагов, и властителем мадианитян нанят был своими проклятиями нанести вред живущим по Богу — и он–то клятву переменил в благословение. А мы из связи рассмотренного доселе уразумеваем, что волшебство недействительно против живущих добродетельно — напротив того, подкрепляемые Божией помощью превозмогают всякую кознь. О том, что упомянутый историей занимался птицегадательным волхвованием, свидетельствует она, когда говорит: Волхвования в руке его (Чис. 22:7), и совещается он с птицами, а еще прежде этого сказует, как криком ослицы научен, что предстояло его усилию.
Голос этой ослицы (так как волхву обычно было по какому–то демонскому действию совещаться с голосами бессловесных) Писание представляет как бы членораздельным, показывая, что предзанятые таким демонским обольщением доходят до убеждения принимать слово по некоему наблюдению из голоса бессловесных извлеченное ими наставление. И волхв, внимая этому, тем самым, чем обольщался, научен, что непреоборима сила тех, против кого он нанят. И по евангельской истории к сопротивлению власти Господа готовилось полчище (легион) демонов, но когда приближается к нему Имеющий державу над всеми, возглашает оно о превозмогающей силе и не скрывает истины, что Божие естество — Тот, Кто в надлежащее время наложит наказание на согрешивших. Ибо демонский голос произносит: Вем Тя кто еси, Святый Божий (Мк. 1:24) и Пришел еси прежде времене мучити нас (Мф. 8:29). То же произошло и тогда: сопровождавшая волхва сила демонская открывает Валааму непреоборимость и непобедимость народа Божия.
А мы, приноровляя историю к исследованному доселе, утверждаем, что намеревающийся проклясть живущих добродетельно не может произнести ни одного огорчительного и противного слова, но проклятие обращает в благословение. Разумеется же под этим то, что живущих добродетельно не касается укоризна злоречия. Ибо как нестяжателя укорить в любостяжательности? Как об отшельнике и живущем уединенно распускать кому–либо слух, что он живет распутно? или о кротком, что он раздражителен? или о смиренномудром, что он кичлив? или иное что укоризненное разглашать о людях, которые известны с противной стороны, у которых та и цель, чтобы представить жизнь неуловимой для насмешника. Да посрамится, как говорит апостол, противный, ничто же имея глаголати (Тит. 2:80). Поэтому и голос призванного для проклятия произносит: Что проклену, его же не кленет Господь (Чис. 23:8)? — т. е. как буду злословить не давшего пищи злословию? У него, поскольку взор обращен к Богу, то и жизнь не уязвима пороком.
Впрочем, изобретатель зла, когда не успел в этом, не вовсе перестает примышлять козни тем, на кого злоумышлял, а, напротив того, обращает изобретательность на особую военную хитрость, уловляет естество человеческое в порок приманкой удовольствий. И действительно, удовольствие, подобно какой–то приманке ко всякому пороку, как скоро поставлено на вид, жадные души удобно привлекает удочкой погибели, особенно же естество наше без всякой какой–то осторожности вовлекается во зло сладострастием. Так было и тогда: тех, которые преодолели оружием, показали, что всякое приражение железа уступает крепостью собственной их силе, стремительно обратили в бегство сопротивные дружины, их самих сластолюбие уязвило женскими стрелами. И победившие мужей уступили победу женам. Едва только показались перед ними женщины, вместо оружий противопоставили им свои лица, и они немедленно забыли о силе мужества, раздражение их переменилось в желание нравиться. И в такое пришли состояние, в каком естественно быть до неистовства предавшимся беззаконному смешению с иноплеменницами. Освоение же со злом стало отчуждением помощи доброго, потому что вскоре восстало на них Божество. Но ревнитель Финеес не ждал, чтобы грех был очищен по приговору свыше — напротив того, сам сделался и судьей, и исполнителем казни. Подвигшись гневом на неистовых, исполнил он дело иерея, кровью очистив грех, и кровью не какого–либо невинного животного, не принявшего на себя никакой скверны непотребства, но кровью совокупившихся между собой в грехе. И копье, пронзившее два их тела, успокоило готовое подвигнуться на них Божие правосудие, наслаждение согрешивших слив воедино с их смертью. Но мне кажется, что история эта предлагает людям душеполезный некий совет, научающий нас, что из многих страстей, поборающих человеческие помыслы, ни одна не имеет на нас такой силы, чтобы равняться ей с недугом сластолюбия. Ибо и эти израильтяне, которые показали себя не убоявшимися египетской конницы, победили амаликитян, сделались страшными и после них следовавшему народу, а потом преодолели дружину мадианитян, и они самые внезапно при одном воззрении на иноплеменных женщин поработились этому недугу и этим, как сказано, не иное что доказывают, а только то, что сластолюбие — такой наш враг, который с трудом поборается и преодолевается, который, одним своим появлением одержав верх над непобедимым оружием, воздвиг памятник их бесчестия, стыд побежденных предав позору при свидетельстве дневного света. Сластолюбие в скотов преобразило людей, которых скотское и неразумное стремление к непотребству убедило забыть человеческую свою природу, и они не таят преступления, но величают бесчестием страсти, утешаются скверною срама, подобно свиньям, открыто в глазах других валяются в тине нечистоты.
Чему же научаемся из этого повествования? Тому, чтобы, познав с какой силой вовлекает в зло недуг сладострастия, как можно дальше от подобного соседства отстраняли мы жизнь свою, и чтобы не мог каким бы то ни было путем прокрасться к нам этот недуг, подобный какому–то огню, одним приближением производящему губительное запаление. Этому учит Соломон, советуя в книге Премудрости обнаженной ногой не касаться горящего угля и не класть огня в пазуху (Притч. 6:27–28), так как в нашей воле пребывать в бесстрастии, пока мы далеко от поджигающего нас. А если до того сблизились, что будем касаться этого палящего жара, то огонь похотения внедрится в нас и, таким образом, последует то, что и нога будет обожжена, и пазуха повреждена. Чтобы вдали берегли мы себя от подобного зла, Господь в Евангелии собственным словом Своим, как бы некий корень страсти отсекает пожелание, возбуждаемое зрением, научая, что принявший в себя страсть взором дает путь болезни, потому что лукавые страсти, подобно заразе, как скоро однажды овладеют существенным в человеке, прекращаются только смертью.
Но думаю, что тем, которые целую жизнь Моисееву предложили читателям в образец добродетели, нет нужды удлинять слово. Кто напрягает силы свои к жизни высокой, тому и сказанное послужит нескудным напутствием к истинному любомудрию, а кто изнемог для подвигов добродетели, для того, если написать и во много крат больше сказанного, не будет пользы от этого труда, разве только будет предано забвению то, в чем слово наше, по определению, высказанному в предисловии, стоит твердо, а именно: совершенная жизнь такова, что никакое описание совершенства не останавливает дальнейшего преспеяния в ней, но непрестанное возрастание в усовершении жизни для души есть путь к совершенству.
Приведя слово к концу Моисеевой жизни, хорошо будет сказать, что это данное нам правило совершенства несомненно. Ибо кто в течение всей жизни достигает большей и большей высоты столь многими восхождениями, тот не сомневался стать еще выше себя самого, так что жизнь его, подобно орлу, во всем, думаю, усматривается надоблачной, возвышенной, парящей в эфире мысленного восхождения. Родился он, когда египтянами родиться еврею вменялось в проступок. Мучитель по закону наказывал родившегося. Но Моисей не подчиняется губительному закону, спасенный сперва родителями, а потом и самими постановившими закон, и, кому по закону надлежало стараться о его смерти, те приложили все попечение не только о жизни его, но и о жизни славной, обучая юношу всякой премудрости. После этого ставит он себя выше человеческой почести, преименитее царского сана, признав более могущественным и царственным вместо звания царского оруженосца и вместо царских украшений иметь право стать на страже добродетели и величаться ее великолепием. Потом спасает соплеменника, низлагает же ударом египтянина, под которыми в нашем последовательном обозрении разумеем мы друга и врага души. После этого преподавателем высоких уроков делает безмолвие и просвещает ум светом, воссиявшим из купины. И тогда прилагает старание и соплеменников сделать участниками в дарованных ему свыше благах. При этом представил сугубое доказательство силы, карательное в разнообразных, одна за другой последовавших казнях врагам и благодетельное — соплеменникам. Пешим переводит через море многочисленный народ, не отряд кораблей приготовив для себя, но в израильтянах для плавания оснастив веру. Сухим делает для евреев дно, а для египтян море — морем. Воспел и победную песнь и путеводим был столпом, озаряем небесным огнем, устраивал свою трапезу из снеди, подаваемой свыше, утолял жажду из камня, воздевал руки на погибель амаликитян; и к горе приступает, услышав звук трубы, входит и во мрак; приблизился к Божию естеству, пребывал в горней скинии, придал благолепие священству, устроил скинию, исправил жизнь законами, напоследок, по сказанному, преуспел в войнах. При конце своих преспеяний при помощи священства наказал непотребство, ибо это дал разуметь гнев Финееса, обнаруженный им против страсти.
В заключение всего этого восходит на гору упокоения, не сходит на дольнюю землю, к которой по обетованию обращал взоры стоявший долу народ, не вкушает более земной пищи помышлявший о снеди, дождимой свыше, но, пребывая вверху на самой вершине горы, как сведущий какой ваятель преобразив себя в полное изваяние жизни, в заключение произведения с тщательностью прилагает не конец, но венец делу всему. Ибо что говорит о нем история? Скончася Моисей, раб Господень, словом Господним, и не уведа никтоже погребения его; и не отемнесте очи его, и не истлело лице его (Втор. 34:5–7).
А из этого научаемся, что за столь многие преспеяния удостаивается тогда этого высокого имени — чтобы называться рабом Божиим, что значит то же, как и сказать: он стал совершеннее всякого. Ибо никто не сможет служить Богу, разве только тот, кто всех совершеннейшим соделался в мире. У Моисея и конец добродетельной жизни совершился словом Господним. История называет его кончиной, кончиной живой, за которой не следует погребение, не насыпают могильного холма, не оказывается потемнения в очах и нетления в лице. Итак, чему же научаемся сказанным? Один конец иметь в виду в продолжение жизни — чтобы за соделанное нами в жизни быть названным рабом Божиим. Ибо когда преодолеешь всех врагов: египтянина, амаликитянина, идумея, мадианитянина, — перейдешь через воду, озаришься облаком, усладишься древом, испиешь от камня и вкусишь пищи свыше, чистотой и невинностью проложишь путь к восхождению на гору и, быв там, посвящен будешь в Божественное таинство при звуке труб, в неудобозримом мраке приблизишься верой к Богу, там обученный таинствам скинии и изучивший сан священства, когда соделаешься каменосечцем сердца своего, чтобы на скрижалях его Богом могли быть начертаны словеса Божии, когда уничтожишь золотой кумир, т. е. изгладишь из жизни похоть любостяжания, когда настолько возвысишься, что сделаешься непреоборимым для Валаамова волхвования (а слыша о волхвовании, разумей многоразличную прелесть этой жизни, от которой люди, как бы напоенные из какой–то киркенной чаши, вышедши из собственного своего естества, превращаются в вид бессловесных), — когда совершится все это и прорастет в тебе жезл священства, не всасывая в себя для прорастания никакой земной влаги, но сам в себе заключая силу плодоношения, а именно принесение в плод ореха, у которого первое, что в нем представляется, горько и твердо, но содержащее в этом сладко и годно в пищу, когда все восстающее против твоего достоинства приведешь в уничтожение, как Дафана, поглощенного землей, или истребишь огнем, как Корея, тогда приблизишься к концу; концом же называю то, ради чего все делается. Как, например, конец земледелия — вкушение плодов, конец постройки дома — обитание в доме, конец торговли — богатство, конец трудов подвижнических — венец, так и конец высокого жития — называться рабом Божиим, под чем разумеется также и то, чтобы не иметь над собой могильной насыпи, т. е. сделать жизнь не влекущей за собой дурных последствий.
Но Писание показывает другой признак этого рабства — непотемнение очей и неистление лица. Ибо оку, которое всегда во свете, как стемнеть от тьмы, которой оно чуждается? И кто во всю жизнь преуспевал в нетлении, тот, конечно, не приемлет в себя никакого тления. Ибо кто действительно создан по образу Божию и не изменил в себе ни одной Божественной черты, тот носит в себе эти признаки и подобием во всем соответствует Первообразу нетлением, неизменяемостью и отсутствием всякой примеси порока украшая свою душу.
Вот тебе, человек Божий Кесарий, предлагается краткое наше слово о совершенстве жизни добродетельной, изобразившее жизнь великого Моисея как некий в лицах первообраз красоты, с которого и мы, каждый порознь, подражанием этим упражнениям можем изображать в себе очертание показанной нам красоты. Что Моисей преуспел в возможном совершенстве, в этом найдется ли для нас какой свидетель, достовернейший Божия слова, которое говорит ему: Вем тя паче всех (Исх. 33:12)? И то, что Самим Богом наименован он другом Божиим, и что, желая лучше погибнуть со всеми, если Бог и им по благоволению не окажет помилования за все, в чем согрешили, остановил гнев на израильтян, потому что Бог изменил определение Свое, чтобы не огорчить друга, и это, и все этому подобное служит ясным свидетельством и доказательством того, что жизнь Моисея достигла самого крайнего предела совершенства.
Итак, поскольку вопрос у нас был о том, что такое совершенство в добродетельном житии, а, по сказанному, совершенство это найдено, то остается тебе, доблестный, иметь перед очами этот образец и, что усмотрено при высшем взгляде на сказанное исторически, применив к собственной жизни, стараться о том, чтобы познанным быть от Бога и сделаться другом Божиим. Ибо вот в подлинном смысле совершенство: не раболепно, не по страху наказания удаляться от порочной жизни и не по надежде наград делать добро с какими–нибудь условиями и договорами, торгуя добродетельной жизнью, но теряя из вида все, даже что по обетованиям соблюдается надежде, одно только почитать для себя страшным — лишиться Божией дружбы, и одно только признавать драгоценным и вожделенным — сделаться Божиим другом, что, по моему рассуждению, и есть совершенство жизни. Но что может быть найдено тобою твоим умом, превознесенным к более великолепному и Божественному, ибо знаю наверняка, что найдешь многие вещи, то, без сомнения, будет общей пользой для всех о Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава во веки, аминь.
О блаженствах
Слово 1
Узрев же народы, взыде на гору: и седшу Ему, приступише к Нему ученицы Его. И отверз уста Своя, учаше их, глаголя: блажени нищии духом: яко тех есть царствие небесное
(Мф. 5:1–3)
Кто в числе собравшихся таков, чтобы ему и быть учеником Слова, и вместе с Ним с земли — от понятий пустых и низких, взойти на духовную гору возвышенного созерцания, — на эту гору, которая избегла всякой тени высящихся холмов злобы, и освещаемая отовсюду лучом истинного света, в чистой ясности истины, с вершины своей дает видеть все, что для заключенных в междугорьи невидимо? А что открывается взору с высоты сей, какие это виды, и как многочисленны, описывает Сам Бог Слово, ублажая восшедших с Ним на гору, как бы перстом каким указуя здесь Царствие Небесное, а таи наследие горней земли; потом помилование, правду, утешение, приобретаемое родство с Богом всяческих, и плод гонений, именно тот, чтобы стать сообитателем Божиим, и все иное, что кроме сего, по перстоуказанию Слова свыше с горы, можно видеть в уповании простирающему взоры с этой высокой стражбы.
Итак, поелику Господь восходит на гору, послушаем, что взывает Исаия: «приидите, и взыдем на гору Господню» (Ис. 2:3.); и если немощны мы от греха, то, как научает пророчество, укрепим «руце ослабленные, и колена расслабленные» (Ис. 35:3.). Ибо если будем на вершине, то найдем Исцеляющего «всяк недуг и всяку язю» (Матф. 4:23.), и «недуги наша» Восприемлющего, «и болезни» Носящего (Матф. 4:17.). Посему поспешим и мы к восхождению, чтобы, с Исаиею став на вершине надежды, и нам с высоты увидеть оные блага, которые указует Слово последовавшим на сию возвышенность. Но и нам да отверзет уста Бог Слово, и нас да научить тому, слышание чего есть блаженство. Началом же нашего обозрения да будет начало сказанного в учении.
«Блажени», сказано, «нищии духом: яко тех есть царствие небесное». Если какой златолюбец найдет надпись, показывающую, что хранится тут сокровище, но место, заключающее в себе это сокровище, желающим приобрести его представляет много пота и труда; то ужели не найдет в себе сил к трудам, вознерадит о выгоде, и не принять на себя никакого тщательного усилия признает приятнейшим богатства? Нет, это невозможно; напротив того пригласит он на это всех друзей и отовсюду собрав себе, какую только можно, в деле помощь, при множестве рук, сокрытое богатство сделает своею собственностью Вот, братия, то сокровище, которое показывает нам Писание; сокрыто ж богатство сие по неясности для нас. Посему и мы, любители беспримесного золота, воспользуемся множеством содействующих в молитвах, чтобы и нам сделать явным для себя богатство, и всем разделить сокровище поровну, и каждому приобрести его в целости. Ибо таков раздел добродетели, что и всем состязующимся о ней уделяется, и каждому принадлежит, вся, не убавляясь у участвующих в разделе. При разделе земного богатства захвативший себе больше получающих по равной доле делает несправедливость; потому что увеличивший свою часть непременно умаляет долю соучастника. Но богатство духовное уподобляется солнцу; ибо уделяется всем смотрящим на него, и для каждого остается целым. Итак, поелику каждый наделяется равною выгодой от труда; то в искомом нами да будет всеми оказано содействие молитвенное.
Прежде всего, полагаю, должно составить понятие о самом блаженстве, что оно такое. Блаженство, по моему рассуждению, есть объем всего, что представляется как благо, в котором нет недостатка ни в чем согласном с добрым пожеланием. Но понятие о блаженстве соделается для нас более известным из сличения с противоположными Признак блаженства — непрестанная и тени не имеющая радость, происходящая от добродетели. А противоположно блаженству состояние бедственное. Посему бедствие есть томление в горьких и невольных страданиях. Расположение же находящихся в том или другом из сих состояний делится по противоположности. Ублажаемому возможно веселиться и радоваться на предлагаемое ему в наслаждение; а бедствующему — печалиться и огорчаться тем, что у него есть. Посему поистине всеблаженно само Божество: потому что, чем ни представим Его себе, блаженством будет чистая оная жизнь, неизреченное и непостижимое благо, невыразимая лепота, неточная благодать, премудрость и сила, истинный свет, источник всякой благости, превышающая все власть; единое достолюбезное, всегда неизменное, непрестанное радование; вечное веселие, о котором, если кто скажет всё, что может, не скажет по достоинству еще ничего. Ибо разумение не постигает Сущего, и если успеем представить о Нем что в уме более возвышенное, то представленное невыразимо никаким словом. Поелику же Создавший человека «по образу Божию сотвори его» (Быт. 1:27.); то на втором месте блаженным будет именуемое так по причастию истинного блаженства. Как относительно к телесному благообразию первообразная красота в живом и действительно существующем лице; а второе по ней место занимает показываемая в подобии на картине, так и человеческое естество, будучи образом превысшего блаженства, и само отличается доброю лепотою, когда показывает на себе самом изображение блаженных черт. Но поелику греховная скверна обезобразила красоту образа; то пришел Омывающий нас собственною Своею водою, и живою, и текущею «в животе вечный» (Иоан. 4:14.), чтобы, когда отложим греховную гнусность, опять обновился в нас блаженный образ. И как в живописном искусстве иной сведущий скажет неопытным, что прекрасно лице сложенное из таких то телесных частей, у которого такие–то волосы и округлость глаз, и очертание бровей, и положение щек, и по одиночке все, чем восполняется благообразие; так и нашу Живописующий душу по подобию единого Блаженного, все по порядку, служащее к блаженству, изображает словом, и во–первых говорит: «блажени нищии духом: яко тех есть царствие небесное».
Но что будет пользы от сей великодаровитости, если не ясен для нас смысл, заключающийся в слове? Ибо и во врачебном искусстве многие дорогие и с трудом добываемые врачевства остаются неупотребительными и бесполезными для больных, пока не услышим от искусства, к чему годно каждое из них. Итак что значит обнищать духом, чем приобретается право стать обладателем небесного царствия? Из Писания дознали мы два рода богатства: одно вожделенное, и другое осужденное. Вожделевается богатство добродетелей, охуждается же вещественное и земное, потому что первое делается достоянием души, а последнее может только послужить к обольщению чувствилищ; посему Господь запрещает собирать его, как готовимое на снедение червям и на козни подкапывающим стены (Матф. 6,9.), повелевает же прилагать старание о богатстве сокровищ возвышенных, к которому не прикасается сила тления. Сказав же о черве и татьбе. Господь указал на опустошителя сокровищ душевных. Посему, если нищета противополагается богатству, то, конечно, по соответствию должно признать, что нищета бывает двоякая: одна отвергаемая, а другая ублажаемая. Посему, кто обнищал целомудрием, или дорогим достоянием — справедливости), или мудростью или благоразумием, или оказывается и нищим, и нестяжателем, и убогим по другой какой многостоющей драгоценности; тот бедствует от нищеты, и жалок по нестяжательности того, что для человека дорого. Но кто добровольно обнищал от всего, представляемого порочным, и не отлагает в свои тайники ни одной диавольской драгоценности, но горит духом, и чрез это собирает себе в сокровище нищету худых дел, тот, по указанию Слова, — в ублажаемой нищете, плодом которой небесное царствие.
Но возвратимся опять к деланию сокровища, и не перестанем рудокопным словом раскрывать сокровенное. Господь говорит: «блажени нищии духом». Говорено было некоторым образом и прежде, и теперь опять будет сказано, что конец добродетельной жизни и есть уподобление Божеству. Но Бесстрастное и Чистое совершенно неподражаемо для людей; потому что совершенно невозможно, чтобы жизнь страстная уподобилась естеству, не допускающему в себе страстей. Посему, если блажен един Бог, как именует Его Апостол (1 Тим. 6:15.), а для людей общение в блаженстве возможно чрез уподобление Богу; подражание же это крайне трудно: то следует, что и блаженство человеческой жизни недоступно. Но и в Божестве есть нечто такое, что, как возможное, предлагается желающим для подражания. Что же это именно? Как мне кажется, —нищета духа; ею Писание именует добровольное смиренномудрие. В пример же оной Апостол показывает нищету Божию, говоря: Он»нас ради обнища богат сый»,да мы «нищетою Его» обогатимся (2 Кор. 8,9.). Итак, поелику все прочее, что усматривается относящимся к Божественному естеству, превышает меру естества человеческого, а смирение есть нечто нам сродное и совозросшее с нами, которые по земле ходим, из земли имеем состав, и в землю возвращаемся; то и ты, уподобившись Богу в том, что для тебя естественно и возможно, сам облачаешься в блаженный сей образ. И никто да не почитает нетрудным и удобно приобретаемым преуспеяние в смиренномудрии. Напротив того, такое дело труднее всякого, какого бы то ни было добродетельного предначинания. Почему же? Потому что когда человек, приняв в себя добрые семена, уснул, врагом жизни нашей укоренено в нас главное из противоположного сеяния — плевелы гордости. Ибо, чем сам он свергнул себя на землю, тем же самым и бедный человеческий род вовлек с собою в общее падение; и для естества нашего нет другого такого же зла, как этот недуг, производимый гордостью. Посему, поелику страсть превозношения прирождена почти всякому, кто принадлежит к человеческому роду, то Господь с сего поэтому и начинает ублажения, как бы первородное какое зло, исторгая из нашего навыка гордость тем, что советует уподобляться добровольно Обнищавшему, Который истинно блажен, чтобы мы, в чем можем, сколько есть в нас сил, уподобившись Ему добровольною нищетою, привлекли себе и общение в блаженстве. «Сие бо», сказано, «да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, Иже во образе Божии сый не восхищением непщева быти равен Богу, но Себе истощил зрак раба приим» (Фил. 2:5—7.). Какое большее обнищание — Богу быть в образе раба? Какое большее смирение — Царю существ придти в общение с нашим нищим естеством? Царь царствующих, Господь господствующих волею облекается в рабский образ; Судия вселенной делается данником владычествующих, Господь твари превитает в вертепе; Всеобъемлющий не находит места в гостинице, но повергается в яслях бессловесных животных; Чистый и Всецелый приемлет на Себя скверну естества человеческого, понесши на Себе и всю нищету нашу, доходит даже до испытания смерти. Видите ли меру вольной нищеты? Жизнь вкушает смерть; Судия ведется на судилище; Господь жизни всего сущего подвергается приговору судии; Царь всей премирной силы не отклоняет от Себя рук исполнителей казни. В этом образце, говорит Апостол, да будет видима тобою мера и смиреннномудрия.
Но хорошо, может быть, как мне кажется, внимательно рассмотреть неразумие таковой страсти кичения, чтобы, когда с великою охотою, и с удобством преуспеем в смиренномудрии, и приобретение блаженства соделалось для нас благоуспешным. Ибо как сведущие врачи, истребив сперва болезнетворную причину, удобнее преодолевают и недуг; так и мы, кичащихся суетностью смирив рассудком, удобоприступным для себя соделаем путь смиренномудрия. Чем же кто лучше докажет суету кичливости? Чем иначе, как рассуждением, что такое естество? Ибо нет основания впасть тому в такую страсть, кто смотрит на себя, а не на окружающее его. Итак что же такое человек? Угодно ли, скажу, что в Писании выражено более почтительно и уважительно? Но Украситель наш, к величию уготовляющий благородство человеческое, от брения ведет родословие естества; и твое благородство, твоя знатность, горделивец, оттуда же ведут род и в родстве с плинфою. Если же желательно тебе. чтобы сказано было непосредственно и близко касающееся рождения; то иди прочь, не говори об этом, не скомли,»да не открыеши», как говорит закон, «срамоты отца твоего и матере твоея» (Лев. 18:7.); не оглашай пред всеми словом того, что достойно забвения и глубокого молчания. И не краснеешь после этого ты, земной истукан, который вскоре будешь прахом, как пузырь, остаешься не надолго надутым, пребываешь полон гордости, ширишься в своей кичливости, и надмеваешь мысль суетным мудрованием? Не смотришь на оба предела человеческой жизни, как она начинается, и чем оканчивается? Но надмеваешься юностью, имеешь в виду цветущий возраст, восхищаешься красотою, тем, что руки у тебя исполнены сил для движения, ноги легки и скачут, кудри развеваются по ветру, щеку окаймляет нежный пушок, одежда на тебе яркого пурпурного цвета, разноцветные шелковые ткани, испещренные изображениями сражений, звериных охот, или каких событий; или, может быть, прилежно смотришь на черную блестящую обувь, любуешься тщательно выстроченными чертами швов? На все это обращаешь взор, а не смотришь на себя самого? Покажу тебе, как в зеркале, кто и каков ты. Не видел ли ты тайн естества нашего на кладбище? Не видал ли кучи костей, лежащих одна на другой? обнаженных от плотей черепов представляющих страшный, отвратительный вид впалыми глазами? Не видел ли оскаливших зубы ртов и прочих членов, как ни есть раскиданных? Если ты видел их, то в них видел себя самого. Где признаки теперешнего твоего цвета? Где доброзрачность ланит? Где свежесть губ? Где величественная красота очей, сверкающая из под покрова бровей? Где прямой нос посреди красоты ланит? Где на выю свисшие волосы? Где около висков вьющиеся кудри? Где, как лук, стрелами мечущие руки? Где, как кони, скачущие ноги? Где багряница, виссон, епанча, пояс, обувь, конь, скорость его бега, ржание, — все, от чего ныне увеличивается твоя кичливость? Скажи, где в оставшемся здесь то, чем ныне превозносишься, о чем высоко думаешь? Какой сон столько не состоятелен? Какие грезы подобны этому? Какая тень столько слаба и не осязаема, как это сновидение юности, вместе и являющееся и мгновенно пролетающее? Так спросим тех, которые по несовершенству возраста безумствуют в молодости. Что же скажет иной о возмужавших уже, у которых, хотя возраст и совершенный, но нрав непостоянен и болезнь гордости возрастает? Имя такому недугу — надменность нрава; а предлогом к гордости всего чаще служит начальство, и с ним соединенное властительство; потому что, или имея его, страждут сим, или к нему готовятся, или нередко, власть уже прекратилась, но рассказы о ней снова пробуждают болезнь. И где найдешь такое слово, чтобы проникло в их слух, загражденный для гласа проповедников? Кто убедит таких людей, что ничем не разнятся они от показывающих себя на зрелище. Ибо у них надеты: личина и какая–то искусно выработанная и позлащенная багряница, и торжественно восседают они на колеснице, но вместе с тем от таких украшений не входить в них никакая болезнь гордости; но как думали они о себе до выхода на зрелище, такое же расположение сохраняют в душе и во время представления, и после того не скорбят сошедши с колесницы и сняв с себя наряд. Но величающиеся на позорище жизни своею начальническою властью не рассуждают о том, что было не задолго, и что будет вскоре после сего. Как расширяются надуваемые пузыри, так и они пыщутся при громком воззвании глашатая, надевают на себя какую либо чужую личину, естественное положение лица переменяя в угрюмое и страшное; и голос примышляется ими более суровый, к ужасу слушающих делающийся похожим на зверский. Не остаются уже они в пределах положенных человеку, но претворяют себя в обладающих Божиим могуществом и Божиею властью. Ибо уверены о себе, будто бы они господа жизни и смерти; потому что из судимых ими об одном дают спасающий его приговор, а другого осуждают на смерть, и не обращают внимания на то, Кто подлинно Господин человеческой жизни, определяющий и начало и конец бытию; хотя к сокращению их тщеславия достаточно того одного, что многих из начальствующих во время отправления ими своего начальствования видели похищенными с начальнических седалищ и отнесенными в могилы, где голос глашатая заменил плачь. Посему, как господином чужой жизни быть тому для кого и своя — чужая? Но и он, если соделается нищ духом, взирая на Обнищавшего ради нас добровольно, и имея пред очами равночестие нашего естества, однородного с ним не поругает никаким плачевным зрелищем мечтательно выказываемого начальствования; то поистине будет блажен, на временное смиренномудрее обменив Небесное Царство. Не отринь, брат, и другого урока нищеты, как служащего к приобретению небесного богатства. Господь говорит: «продаждь все имение твое, и даждь нищим: и гряди в след Мене: и имети имаши сокровище на небеси» (Матф. 19:21.). Но такая нищета кажется мне недалекою от нищеты ублажаемой. Се мы, оставив, что имели, «в след Тебе идохом», говорит Владыке ученик, «что убо будет нам» (Матф. 19:27). И какой на сие ответ? «Блажени нищии духом: яко тех есть царствие небесное». Хочешь ли уразуметь, кто обнищавший духом? Тот обнищал духом, кто душевное богатство выменял на телесное изобилие, кто земное богатство отряс с себя, как некую тяжесть, чтобы, став выспренним и воздухоносным, взойти горе, вместе с Богом, как говорит Апостол, воспарив «на облаке» (1 Солун. 4:17.). Золото есть тяжелое некое достояние, тяжело и всякое вещество вожделеваемое, как богатство; но легкая некая и горе несущаяся вещь — добродетель. А тяжесть и легкость между собою противоположны. Посему невозможно кому–либо стать легким, пригвоздив себя к тяжести вещества.
Потому, если надлежит взойти нам в горнее, то обнищаем влекущим долу, чтобы стать в горнем. Какой же к тому способ? Указует его псалмопение: «расточи, даде убогим: правда его пребывает во век века» (Псал. 111:9.). Кто вступил в общение с нищим, тот поставил себя в единую часть с Обнищавшим ради нас. Господь обнищал, чтобы и ты не убоялся нищеты. Но Обнищавшей ради нас царствует над всею тварью. Поэтому, если и ты обнищаешь с Обнищавшим, то будешь и царствовать вместе с Царствующим. Ибо «блажени нищии духом: яко тех есть царствие небесное», которого и мы да сподобимся о Христе Иисусе Господе нашем! Ему слава и держава во веки веков!
Слово 2
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»
(Матф. 5:5)
Восходящие вверх по какой–нибудь лествице, когда станут на первую ступень, с нее поднимаются на лежащую выше, и вторая опять ведет восходящего на третью, а эта на следующую, и сия следующая на ту, которая за ней; а таким образом восходящий с ступени, на которой стоит, подымается всегда на высшую, и достигает самой вершины своего восхождения. Что же имея в виду, с сего начинаю я речь? Мне кажется, что на подобие ступеней расположен ряд блаженств, удобным делающий в слове восхождение от одного блаженства к другому. Ибо того, кто восшел разумением до первого блаженства, по какой–то необходимой последовательности мыслей, приемлет следующее за ним; хотя слово, по видимому, с первого взгляда и представляет нечто странное.
Слушатель скажет, может быть, если следовать расположению ступеней, то невозможно после царствия небесного получить наследие земли. Напротив того если слово должно было следовать естеству вещей, то последовательнее было бы прежде неба упомянуть о земле, так как с нее будет и наше восхождение на небо. Но если окрылимся несколько словом, и станем на самом хребте небесного свода; то найдем там небесную землю, уготованную в наследие жившим добродетельно; так что не окажется погрешности в порядке последования блаженств, по которому в Божиих обетованиях предложены нам, сперва небо, и потом земля. Ибо видимое небо, что касается до телесного чувства, во всем само с собою сродно; и хотя представляется, по местному расстоянию, высоким; однако же оно ниже духовной сущности, до которой не может восходить помысел, не миновав прежде умом того, до чего касается чувство. Если же землею именуется высший жребий, то ни мало не дивись сему: потому что к низости нашего слуха снисходит Слово, и снисшедшее к нам потому, что мы не способны были до Него возвыситься. Посему знакомыми нам речениями и словами передает Оно Божественные тайны, употребляя такие слова, которые обычай удерживает в человеческой жизни. Ибо и в предыдущем обетовании неизреченное оное на небесах блаженство наименовало царством, ужели указывая сим именем на что либо подобное тому, что бывает в дольнем царстве, например, какие либо венцы, сияющие блеском камней, цветные багряницы, чем–то усладительным блещущие для жадных очей, преддверия и завесы, возвышенные седалища, ряды чинно предстоящих копьеносцев, и все иное, что выставляют на вид на таковом позорище жизни старающиеся такими вещами еще выше поднять величие власти? Но поелику именование царства, относительно к сей жизни есть нечто великое и почти выше всего вожделенного для людей; то Слово поэтому сие именование употребило для означения высших благо; так что, если бы у людей было нечто другое высшее царства, то, конечно, и Слово именованием того окрылило бы душу слушателя к вожделению неизреченного блаженства. Ибо открыть людям оные блага, которые выше и чувства и ведения человеческого, и невозможно было под собственными их именами. Сказано: «око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша» (1 Кор. 2:9.). Но чтобы уповаемое блаженство не совершенно осталось далеким от нашего гадания, сколько вмещаем по низости нашего естества, столько и слышим неизъяснимого.
Посему подобоименность земли да не увлекает твоего разумения после небес на дольную опять землю; но если ты от первых блаженств возвысился умом, и восшел к небесному упованию; то простри любоведение твое до той земли, которая — не общее всех наследие, а только за кротость жизни признанных достойными оного обетования. Ее то, мне кажется, и великий Давид, о котором божественным Писанием засвидетельствовано, что был кроток и незлобив паче всех в его время живших в мире, руководимый духом проразумел, и обладал уже по вере уповаемым, сказав: «верую видети благая на земли живых» (Псал. 26:13.). Ибо не полагаю, что Пророк этою землею живых нарек землю, возращающую все смертное и в себя опять разрешающую всякое от нее порождение. Напротив того знал он землю живых, на которую не вступала смерть, по которой не протоптан путь грешников, которая не принимала на себя следа порока, которой не рассекал плугом лукавства сеятель плевел, которая не произращает волчцев и терний, на которой вода упокоения, и место злачное, и на четыре тока разделяемый источник, и виноград возделываемый Богом всяческих, и все иное, что слышим загадочно высказанным в богодухновенном учении. Если же подлинно разумеется нами эта высокая земля, превыше небес представляемая, на которой населен «град Царя великаго» (Псал. 4:7–3.), «о нем же преславная глаголашася», как говорит Пророк (Псал. 86:3.), то несправедливо будет находить странным порядок последовательности блаженств. А иначе не вероятно было бы, как думаю, чтобы сия земля благословения предоставлялась упованию тех, которые, как говорит Апостол, будут восхищены на облаках по воздуху в сретение Господу, и тако всегда с Господом будут. Ибо какая еще потребность в дольней земле тем, у кого в уповании жизнь превыспренняя? «Мы же восхищены будем на облацех ев сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем» (1 Сол. 4:17.).
Но посмотрим, в награду за какую добродетель предназначается наследие оной земли. Сказано: «блажени кротцыи: яко тии наследят землю». Что такое кротость? И за что Слово ублажает кротость? По моему мнению, не должно равно почитать добродетелью всего того, что делается с кротостью, особенно если словом сим обозначаются только тихость и медленность. В скороходах тихий не лучше поспешного; и в рукопашном бою не тот, кто с трудом движется, восхищает венец у противника; и если течем «к почести вышнего звания» (Фил. 3;14.), то Павел советует усилить скорость, говоря: «тако тецыте, да постигнете» (1 Кор. 9:24.), потому что и сам, с усиленным всегда движением, стремился вперед, предавая забвению заднее; и поворотлив был в рукопашном бою. Ибо высматривал готовность противника к нападению, надежною ступал ногою, вооруженными имел руки, не во что либо пустое и несостоятельное повергал из рук оружие, но касался им самых существенных частей противоборника, нанося удары самому телу. Угодно ли тебе знать Павлово искусство в бою? Посмотри на раны борющегося с ним; посмотри на подбитые глаза у противника; посмотри на следы язв у побежденного. Без сомнения же не неизвестен тебе противник, борющийся с ним при помощи плоти, которому подбивает он глаза, раздирая ногтями воздержания, которого члены умерщвляет голодом, жаждою, холодом, на которого налагает язвы Господни, которого побеждает, оставляя позади себя в бегу, чтобы не помрачить своих взоров, если сопротивник побежит впереди. Так, если скор и быстродвижен в подвигах Павел; то и Давид, нападая на врагов, расширяет «стопы» (Псал. 17:37, 38), и Жених в Песни по удободвижимости уподобляется серне, «скача на горы, и прескача на холми» (Песн. песн. 2:8.). Можно указать и много подобных примеров, из которых оказывается, что скорость в движении предпочтительнее тихости. Так почему же здесь Слово в виде преспеяния ублажает кротость? Ибо сказано: «блажени кротцыи: яко тии наследят землю», без сомнения, оную землю, плодоносную прекрасными порождениями, украшенную древом жизни, орошаемую источниками духовных дарований, на которой произрастает «истинная» виноградная «Лоза, делателем» которой, как слышим «Отец» Господа (Иоан. 15:1.)?
Но Слово, кажется, любомудрствует нечто подобное следующему: много удобств пороку, естество весьма стремительно к худшему; как и тяжелые тела, хотя совершенно недвижимы вверх, но, если толкнут их по покатости с какой–нибудь высокой вершины, с такою стремительностью несутся вниз, увеличивая стремление собственною тяжестью, что скорость превосходит меру. Итак, поелику быстрота в стремлении к пороку вредна; то, без сомнения, достойно будет ублажения представляемое по противоположности. А это есть тихость — навык быть медлительным и неподвижным в таковых порывах естества. Ибо как огонь, имея свойство двигаться всегда вверх, неподвижен по направленно противоположному; так и добродетель, будучи быстродвижною к горнему и высшему, и никогда не оставляя своей скорости, не дозволенным для себя находить противоположное стремление. А посему, так как в естестве нашем избыточествует поспешность к худому; то прекрасно ублажается тихость в делах худых. Ибо не деятельность в этом служит свидетельством движения к горнему.
Но лучше будет учение сие объяснить самыми примерами, заимствованными из жизни. Движение всякого произволения двояко, по причине свободы устремляясь к тому, что кажется лучшим, здесь к целомудрию, а там к непотребству. Но что сказано о частном виде добродетели и порока, то разумей и о целом. Ибо нрав человеческий непременно делится по противоположным направлениям; раздражительность противополагается мягкости нрава, кичливость — скромности, ненависть — благожеланию, неприязненность — любвеобилию и мирному расположению. Итак, поелику жизнь человеческая вещественна, а страсти из за веществ, всякая же страсть имеет быстрый и неудержимый порыв к исполнению желания (потому что вещество тяжело и стремится вниз); то Господь, не тех посему ублажает, которые живут вне действия на них страстей (в жизни вещественно невозможно всецело преуспеть в житии невещественном и бесстрастном); но возможным пределом добродетели в жизни человеческой называет кротость, и говорит, что быть кротким достаточно для блаженства. Ибо естеству человеческому не узаконяет совершенного бесстрастия; правдивому Законоположнику и не свойственно повелевать то, чего не приемлет естество. Такое повеление уподоблялось бы распоряжению того, кто живущих в воде переселил бы на житие в воздух, или, наоборот, все, что живет в воздухе, — в воду. Напротив того закону надлежит быть примененным к свойственной каждому и естественной силе. Поэтому блаженство сие повелевает умеренность и кротость, а не совершенное бесстрастие; потому что последнее вне естества, а в первом преуспевает добродетель. Посему, если бы блаженство предполагало неподвижность к пожеланию, то бесполезно было бы, и ни к чему не служило в жизни сие благословение. Ибо кто, сопряженный с плотью и кровью, достиг бы такового? Теперь же сказано, что осуждается не тот, кто по какому либо случаю вожделел, но тот, кто по предусмотрению привлек к себе страсть. Что происходит иногда подобное стремление, до этого и против воли доводит часто соединенная с естеством нашим немощь; но не увлекаться, на подобие потока, стремительностью страстей, а мужественно противостать такому расположению и страсть отразить рассудком — это есть дело добродетельное.
Посему блаженны не предающиеся вдруг страстным движениям души, но сдерживаемые разумом, — те, у кого помысел, подобно какой–то узде, останавливает порывы, не дозволяет душе вдаваться в бесчиние. Лучше же сказать, подобное сему, а именно, что достойна ублажения кротость, можно всякому видеть в страсти раздражения. Ибо как скоро слово, или дело какое, или предположение какой либо неприятности, возбудит такую болезнь, кровь в сердце закипает, и душа готова подвигнуться к мщению; и как по баснословию иные снадобья изменяют наше естество в образ бессловесных, животных, так и тогда человек от раздражения делается внезапно вепрем, или псом, или барсом, или другим каким подобным зверем; у него налившиеся кровью глаза, ставшие дыбом и ощетинившиеся волосы, голос суровый, речь колкая, язык оцепеневший от страсти, и неспособный служить внутренним порывам, губы не движущиеся, не выговаривающие слов, не удерживающие во рту пораждаемой страстью влаги, но безобразно вместе с звуком выплевывающие эту пену, а таковы и руки, таковы и ноги, таково все строение тела, каждый член соответствует страсти. Посему, если таков раздраженный; а имеющий в виду блаженство при помощи рассудка укрощает болезнь, и выражает сие и спокойным взглядом, и тихим голосом, подобно какому–то врачу, который своим искусством врачует беснующихся до безобразия; то не скажешь ли и сам, сравнив одного с другим, что жалок и мерзок этот зверь; но достоин ублажения кроткий, кого и злоба ближнего не заставила утратить свое благообразие?
И что Слово имеет в виду сию наипаче страсть, явствует из того, что после смиренномудрия узаконяет нам кротость; потому что естественно держаться одному другим, и состоянию смиренномудрия быть как бы матерью какою кроткого навыка. Ибо если уничтожить в нраве кичливость, то не будет времени породиться страсти раздражения; потому что причиною такового недуга в раздраженных бывают обида и бесчестие. Бесчестие же не касается того, кто обучил себя смиренномудрию. Если у кого помысел чист от человеческого обольщения, и видит он ничтожество естества, какое и ему дано в удел, также какое начало его состава, и к какому концу стремится краткость и скоротечность здешней жизни, видит сопряженную с плотью нечистоту, и бедность естества, которое само по себе недостаточно было бы к поддержанию собственного своего состава, если бы недостатков его не восполняло обилие бессловесных, а сверх сего видит скорби, печали, бедствия и многообразные виды болезней, которым подлежит человеческая жизнь, и от которых никто не изъять и не свободен по естеству: то тщательно всматривающемуся в это чистым оком души не легко будет вознегодовать на недостатки воздаваемых ему почестей. Напротив того обманом почтет почесть за что либо оказываемую ему ближним потому что в естестве нашем ничего такого нет, что может стоять в ряду вещей досточестных, кроме одной только души, которой честь составляется не чем либо взыскуемым в этом мире. Ибо тщеславиться богатством, или величаться родом, или мечтать о славе или мысленно присвоять себе верх над ближним, чем и ограничиваются человеческие почести, все это служит душе в посрамление и укоризну, так что человек рассудительный не согласится чем либо подобным сему осквернить чистоту души. Вести же себя так — не иное что значит, как глубоко укорениться в смиренномудрии, по преуспеянии в котором, раздражение даже не будет иметь и входа в душу. А когда нет раздражения, преспевает «тихое и безмолвное житие» (1 Тим. 2:2.); оное же не иное что есть, как кротость, которой конец блаженство и наследие небесной земли о Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава и держава во веки! Аминь.
Слово 3
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Матф. 5:4.)
Не взошли мы еще на вершину горы, но в мысленном пока подгории; хотя и миновали уже два некие холма, блаженствами возведенные в блаженную нищету и высшую нищеты кротость, откуда слово ведет нас к большим еще возвышениям, и показывает между блаженствами третью по порядку возвышенность, на которую, без сомнения, надлежит поспешить, как говорит Апостол, леность «всяку отложше, и удобь обстоятельный грех» (Евр. 12:1.); чтобы легкими и проворными став на вершине, приблизиться душою к чистейшему свету истины. Посему, что значит сказанное: «блажени плачущии: яко тии утешатся»?
Посмеется, конечно, у кого в виду этот мир, и, издеваясь над словом сим, скажет так: если ублажаются по жизни истощаемые всяким бедствием; то следует, конечно, что бедствуют те, у кого жизнь беспечальна и благоденственна. И таким образом увеличит еще смех, перечисляя роды бедствий, выставляя на вид худые последствия вдовства, горькое состояние сиротства, убытки, кораблекрушения, взятие в плен на войне, несправедливые решения в судах, изгнания из отечества, описания имуществ, бесчестия, бедствия от болезней, как то: увечья, отъятие членов, и всякого рода телесные повреждения, и если еще какое страдание, касающееся или тела, или души, приключается людям в сей жизни, все опишет в слове, и тем, по его мнению докажет, будто бы достойно осмеяния слово, ублажающее плачущих. Но мы, не обращая много внимания на тех, которые имеют тесный и низкий взгляд на мысли Божественные, постараемся, сколько возможно, рассмотреть заключающееся в глубине сказанного богатство; чтобы и чрез это сделалось явным, сколько разности в разумении плотском и перстном с разумением возвышенным, небесным.
С первого взгляда блаженным можно признать плач о проступках и о грехах, по учению о печали Павла, который сказал, что не один вид печали, но есть печаль мирская, и есть печаль «по Бозе содеваемая», и дело печали мирской — смерть, а вторая печаль покаянием «соделовает» печалющимся спасение (2 Кор. 7:10.). Ибо подлинно не недостойно ублажения такое состояние души, когда, пришедши в чувство худости, оплакивает она порочную жизнь. Как в телесных недугах, в которых одна из частей тела от какого либо повреждения делается недействующею, знаком омертвения недействующей части служит ее бесчувственность; если же каким врачебным искусством телу снова возвращено будет жизненное чувство, то радуются уже болям члена, и сам страждущий, и прислуживающий больному, признаком переворота болезни на здравие принимая то, что член стал уже чувствовать причиняемую ему боль: так, когда иные, как говорит Апостол, «в нечаяние вложшеся» предадут «себе» (Еф. 4,19.) жизни греховной, став подлинно какими–то мертвыми и недействующими для жизни добродетельной, ни мало не чувствуют они того, что делают. Если же коснется их какое либо врачующее слово, как бы горячими какими и опаляющими составами, — разумею строгие угрозы будущим судом, — и страхом ожидаемого до глубины проникнет сердце, и в нем, оцепеневшем от страсти сластолюбия, как бы растирая и согревая, подобно какому–то горячительному и острому врачевству, — страх геенны, огнь неугасимый, червя не умирающего, скрежет зубов, не престающий плачь, тьму кромешную и все сему подобное, заставит почувствовать ту жизнь, какую проводить; то соделает его достойным ублажения, произведя в душе болезненное чувство. Как и Павел восшедшего неистово на отцово ложе до тех пор бичует словом, пока остается он бесчувственным к своему греху; а когда врачевство укоризн коснулось этого человека, как соделавшегося уже блаженным за свой плачь, начинает утешать, да не многою как говорить, «скорбию пожерт будет токовый» (2 Кор. 2:7.).
Положим, что и эта мысль в предлагаемом взгляде на учение о блаженстве небесполезна будет для жизни добродетельной, потому что грех в естестве человеческом как–то умножается, а покаянный плачь оказывается врачевством от него; но мне кажется, что слово усильнейшим действием плача означает нечто имеющее более глубокий смысл, нежели сказанное, заставляя разуметь кроме сего нечто иное. Ибо если бы слово указывало на одно покаяние по прегрешении, то последовательнее было бы ублажать плакавших, а не всегда плачущих. Так если для сравнения взять болезненное состояние; то ублажаем излечившихся, а не тех, которые всегда лечатся, потому что продолжение лечения показывает вместе и неукрощаемость недуга. Но и по другой причине, кажется мне, не хорошо ограничиться такою одною мыслию, будто бы словом сим уделяется блаженство одним плачущим о грехах. Ибо найдем многих, проведших жизнь безукоризненно, и, по свидетельству самого Божия Слова, отличившихся всяким Добрым делом. Какая любостяжательность у Иоанна? Какое идолослужение у Илии? Какое малое или большое прегрешение в их жизни известно истории? Что же? Неужели слово сие предположит, что вне блаженства и они, и первоначально не болевшие, и недошедшие до потребности в сем врачевстве, разумею покаянный плачь? Не будет ли нелепо признать таковых лишенными божественного ублажения за то, что не грешили, и не врачевали греха плачем? Или в таком случае грешить не будет ли предпочтительнее того, чтобы жить безгрешно, если одним кающимся дана в удел Утешителева благодать? Ибо сказано: «блажени плачущии: яко тии утешатся». Посему, сколько можно, последовав, как говорит Аввакум, «на высокая» Восходящему (Авв. 3:19.), еще поищем заключающегося в сказанном смысла, чтобы дознать, какому плачу уготовано утешение Святаго Духа.
Посему посмотрим сперва, что такое в человеческой жизни самый плачь, и отчего иногда бывает он? Всякому явно, что плачь есть унылое расположение души, появляющееся при лишении чего либо любимого; каковое состояние в живущих благополучно не имеет места. Например: человек благоуспешен в жизни, все дела идут, как по течению реки, в приятность ему, веселит его супруга, радуют дети, подкрепляют своим содействием братья, в народном собрании он пользуется почетом, а у начальства добрым о себе мнением, страшен противникам, уважается подчиненными, обходителен с друзьями, изобилует богатством, живет в свое удовольствие, приятен, беспечален, крепок телом, имеет все, что почитается в этом мире дорогим: такой человек, конечно, живет в веселье, наслаждаясь каждою вещью, какая есть у него. Но если благоденствия сего коснется какая либо превратность, и, по дурному какому–то стечению обстоятельств, произведет или разрыв с наиболее любимыми, или утрату в имуществе, или какие либо телесные повреждения; тогда лишением увеселяющего производится противоположное расположение, которое называем плачем. Посему истинно данное о нем понятие, что плачь есть скорбное некое ощущение утраты того, что увеселяет. Если же понять нами плачь человеческий, то пусть очевидное послужит некоторым путеуказанием к незнаемому, и сделается явным, что такое плачь ублажаемый, за которым следует утешение.
Ибо, если здесь плачь производится лишением благ, какие у кого есть, и никто не станет оплакивать того, что желает утратить; то надлежит прежде узнать самое благо, что оно такое в действительности, а потом составить понятие о человеческом естестве; ибо сим достигнется и то, чтобы преуспеть в ублажаемом плаче. Например из живущих во тьме, когда один родился в темноте, а другой привык наслаждаться внешним светом, но насильно стал заключенным, настоящее бедствие не одинаково действует на обоих. Ибо один, зная, чего лишился, тяжелым для себя почтет утрату света; а другой, совсем не знавший такой благодати, проживет беспечально, как выросший во мраке, и рассуждая, что не лишен ни одного из благ. А посему пожелание насладиться светом одного поведет ко всякому усилию и примышлению снова увидеть то, чего лишен насильно; а другой состарится, живя в темноте, потому что не знал лучшего, признавая для себя благом настоящее. Так и в рассуждении того, о чем у нас речь, кто возмог усмотреть истинное благо, и потом уразумел нищету человеческого естества, тот, конечно, почтет душу бедствующею, оплакивая то, что настоящая жизнь не пользуется оным благом. Посему, кажется мне, слово ублажает не печаль, но познание блага, по причине которого человек страждет печалью о том, что нет в жизни сего искомого.
Посему порядок требует исследовать, действительное ли нечто есть оный свет, которым темный этот вертеп естества человеческого не озаряется в настоящей жизни? Или, может быть, пожелание стремится к тому, чего нет, и что непостижимо? Ибо таков ли наш рассудок, чтобы следить ему за естеством искомого? Таково ли значение имен и речений, чтобы передать нам ими достойное понятие о высшем свете? Как наименую незримое? Как представлю невещественное? Как покажу не имеющее вида? Как постигну то, что не имеет ни величины, ни количества, ни качества, ни очертания, не находится ни в месте, ни во времени, вне всякого ограничения и определенного представления? Чье дело — жизнь и самостоятельность всего представляемого благом? К чему прилагается мыслию всякое высокое понятие и именование: Божество, царство, сила, присносущие, нетление, радость, радование, и все высоко мыслимое и сказуемое? Посему, как и при каких помыслах возможно, чтобы таковое благо стало доступным взору, — было и созерцаемым и не видимым? Всем существам сообщило бытие, а само было присносущим, и не имело нужды приведения в бытие?
Но чтобы не утруждал себя напрасно разум, простираясь до пределов беспредельного, прекратим пытливое исследование об естестве превысших благ, так как все подобное сему не может и быть постигнуто; извлечем же ту одну пользу из своих изысканий, что, по самой невозможности увидеть искомое, отпечатлеется в нас некое понятие о величии искомого. Но в какой мере, по нашему верованию, благо по естеству своему выше нашего ведения, в такой паче и паче усиливаем в себе плачь о благе, с которым мы разлучены, и которое так высоко и велико, что даже ведение о нем не может быть вместимо. И сего–то блага, превышающего всякую силу постижения, мы люди были некогда причастниками; и в естестве нашем оное превысшее всякого понятия благо было в такой мере, что обладаемое человеком, по самому точному сходству с первообразом, казалось новым благом, принявшим на себя образ первого. Ибо что теперь гадательно представляем об оном благе, все то было у человека: нетление и блаженство, самообладание и неподвластность, беспечальная и не озабоченная жизнь, занятие божественным, — тем, чтобы взирать на благо и чистым и обнаженным от всякого покрывала разумением. Ибо все сие дает нам в немногих речениях гадательно уразуметь слово о миробытии, говоря, что человек создан по образу Божию, жил в раю, и наслаждался насажденным там; а плод оных растений — жизнь, ведение и подобное сему. Если же это было у нас; то как не востенать о бедствии, сравнительно с тогдашним блаженством сличающему настоящую ныне бедность? Высокое унижено; созданное по образу небесного оземленилось; поставленное царствовать поработилось; сотворенное для бессмертия растлено смертью; пребывающее в райском наслаждении преселено в эту болезненную и много трудную страну; воспитанное в бесстрастии обменяло сие на жизнь страстную и кратковременную; неподвластное и свободное ныне под господством столь великих и многих зол, что невозможно исчислить наших мучителей. Ибо каждая в нас страсть, когда возобладает, делается властелином порабощенного, и подобно какому–то преобладателю, заняв твердыню души, чрез самих подчинившихся ей мучить подвластного, наши же помыслы в угодность себе употребляя на свою прислугу. Так раздражительность, гнев, страх, боязнь, дерзость, состояние печали и удовольствия, ненависть, ссора, бесчеловечие, жестокость, зависть, ласкательство, памятозлобие, нечувствительность, и все страсти, представляющиеся против нас действующими, составляюсь список каких–то мучителей и властелинов, как пленника какого, власти своей порабощающих душу. А если кто исчислит и беды постигающие тело, тесносоединенные и неразлучные с естеством нашим — разумею различные и разнообразные роды болезней, которых в начале вообще не испытывало человечество; — то гораздо обильнейшие прольет слезы, взирая вместо благ сравнительно с ними на скорби и благоденствию противоположные бедствия.
Посему Ублажающий плачь, кажется, втайне учит душу обращать взор к истинному благу, и не погружаться в настоящую прелесть сей жизни. Ибо невозможно, как вникающему тщательно в дела прожить без слез, так глубоко погрязшему в житейских удовольствиях думать, что он печален. Подобное сему можно видеть на бессловесных. Хотя жалости достойно устройство их естества (ибо что жалостнее сего — быть лишенным разума?); однако же нет у них никакого чувства о своем несчастии; напротив того и ими проводится жизнь с некоторым удовольствием: конь поднимает вверх голову, вол взрывает пыль, свинья щетинит волосы, молодые псы играют, тельцы прыгают, и всякое животное, как можно видеть, какими–нибудь знаками показывает свое удовольствие. А если было бы у них какое либо понятие о даре разума; то не проводили бы они в удовольствии своей глупой и бедственной жизни. Так и людьми, у которых нет никакого ведения о благах, каких лишилось естество наше, настоящая жизнь препроводится в удовольствии. А кто услаждается настоящим, тому следует не искать лучшего. И кто не ищет, тот и не найдет приобретаемого одними ищущими.
Итак поэтому Слово ублажает плачь, признавая его блаженным не потому, что таков он сам по себе, но потому, что от него происходите. Да и связь речи показывает, что для плачущих блаженно плакать, так как сие самое приводит к утешению. Ибо Господь сказал: «блажени плачущи», и не остановил на сем речи, но присовокупил: «яко тии утешатся». Сие–то, кажется мне, проразумев великий Моисей (лучше же сказать, Слово чрез него учреждающее это), в таинственных обрядах пасхи узаконил иудеям в дни сего праздника есть неквасный хлеб, а приправою к снеди соделал «горькое зелье» (Исх. 12:8.), таковыми гаданиями давая нам возможность дознать, что не иначе можем стать причастниками таинственного оного празднества, как к неизнеженной и безквасной жизни добровольно примешав горькое зелье века сего. Посему и великий Давид, даже видя у себя высочайшую меру человеческого благополучия, разумею царство, — обильно наделяет жизнь свою горьким зельем, жалобно стеня и оплакивая продолжение пришельствия своего во плоти, и лишаясь сил от пожелания чего–то большего, говорит: «увы мне, яко пришелствие мое продолжися» (Псал. 119:5.); а в другом месте, неослабно взирая на красоту «селений» Божиих, говорит, что «скончавается» от сильного желания, признавая для себя достопочтеннейшим причитаться там к последним, нежели первенствовать в обладании настоящим (Псал. 83:2, 3, 11.).
Но если кому угодно точнее уразуметь силу ублажаемого оного плача; то пусть разберет сам с собою повествование о Лазаре и богатом, в котором с большею открытностию уясняется нам таковое учение. Ибо Авраам говорит богатому: «помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем, и Лазарь такожде злая: посему он утешается, ты же страждеши» (Лук. 16:25.). Сему и быть надлежало после того, как чуждыми благого Божия о человеке смотрения соделало нас неразумие, лучше же сказать, злоумие. Поелику Бог узаконил нам наслаждаться благом, к которому не примешано зло, и воспретил к хорошему примешивать испытание худого; то, когда мы по жадности своевольно пресытились противным, то есть вкусили преслушания Божия слова; — конечно естеству человеческому надлежит по этому изведать То и другое, иметь часть в печальном и веселящем. И как два века, также и жизнь, в сообразность с каждым собственно веком, представляется двоякою. Подобно сему и веселье двояко: одно — в настоящем веке, а другое — в предстоящем нам по упованию; то достоблаженно, долю увеселения истинными благами предоставить вечной жизни, а служение печали исполнить в этой краткой и временной жизни, почитая для себя утратою не то, если лишимся чего либо приятного в сей жизни, но то, если за наслаждение сею приятностью не получим лучшего. Посему, если блаженно в бесконечные веки иметь нескончаемое и всегда продолжающееся веселье, а естеству человеческому непременно должно вкусить и противоположного: то не трудно уже понять, что имеет в виду слово. Почему «блажени плачущии» ныне? Потому что «тии утешатся» в бесконечные веки. Утешением же служит причастие Утешителя; ибо собственное действие Духа есть дар утешения, которого да сподобимся и мы, по благодати Господа нашего Иисуса Христа! Ему слава во веки веков! Аминь.
Слово 4
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»
(Матф. 5:6.)
Сведущие во врачебном искусстве говорят, что страждущие желудком и худым позывом на пищу, от скопления в верхней части желудка дурных каких либо соков и излишеств, всегда представляют желудок свой полным и сытым, и потому имеют отвращение от пищи полезной, по причине ослабления естественного позыва во время этой мнимой сытости. Но если приложено будет о них какое либо попечение врачебного искусства; то, по очищении каким либо разводящим врачебным питием скопившегося в желудочных полостях, произойдет, что ничто чуждое уже не будет беспокоить естества, возвратится же им позыв на пищу полезную и питательную. И признаком здоровья служит, что пища принимается уже не принужденно, но с пожеланием и увлечением. Что же значит у меня это вступление? Поелику слово, руководящее нас на высшие ступени лествицы блаженств, и, по выражению Пророка, полагающее «добрые восхождения на сердце» нашем (Пс. 83:6.), поступая последовательно, после совершенных уже нами прежде восходов указует подобное еще новое четвертое восхождение, говоря: «блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся»: то хорошо, думаю, избавив душу от утраты позыва на пищу и от пресыщения, сколько возможно, возбудить в себе самих этот блаженный позыв на пищу и питие. Ибо не возможно человеку, ни быть сильным без достаточной пищи, подкрепляющей его силы, ни насытиться пищею, не вкушая ее, ни питаться ею без позыва на пищу. Итак, поелику сила есть некое жизненное благо; и она соблюдается достаточною сытостью; а сытость бывает от пищи, вкушаемым же при позыве на пищу: то позыв сей в живых есть нечто достойное ублажения, служащее в нас началом и причиною силы. Но в рассуждении чувственной этой пищи бывает с нами, что не все желаем тех же снедей, и пожелание вкушающих делится не редко по родам яств, одному приятно сладкое, а другой чувствует побуждение к острому и горячительному; иному же нравится солоноватое, и иному — кислое; случается же часто, что не у всякого бывает побуждение к снеди полезной; ибо иной, по какой–то особенности сложения имея склонность к какой либо страсти, питает болезнь соответственными ей по качеству яствами. А если будет иметь он побуждение к яствам полезным, то, без сомнения, проживет наслаждаясь здоровьем; потому что пища соблюдет телесное его благосостояние. Так и в душевной пище не у всех пожелания склонны к одному и тому же. Одни желают себе славы, или богатства, или какой либо мирской знаменитости; у других не усыпная забота о хорошем столе; иные с жадностью поглощают зависть, как ядовитую какую пищу; а есть и такие, у которых пожелание возбуждается естественно прекрасным. Естественно же прекрасно всегда и для всех то, что не ради чего другого избирается, но само по себе вожделенно, всегда одинаково, и никогда не теряет привлекательности по насыщении оным. Посему–то Слово ублажает не просто алчущих, но тех, у кого пожелание имеет склонность к истинной правде.
Посему что же такое правда? Ибо сие, думаю должно прежде раскрыть в слове, чтобы, когда обнаружится ее красота, тогда уже возбудилось в нас влечение к красоте видимого. Ибо не возможно возыметь пожелание чего либо не виданного; напротив того естество наше в рассуждении незнакомого нам как–то недейственно и неподвижно, если посредством слуха или зрения не приобретет какого либо понятия о вожделеваемом. Потому некоторые исследователи подобного сему говорят, что правда есть соблюдете правила, воздавать каждому равно и по достоинству. Например, если кто сделается полным господином при раздаче денег; то имеющий в виду равенство и подаяние соразмеряющий с потребностью получающих называется правдивым. И если кто, получив власть судить, произносит приговор, не по милости какой и вражде, но следуя свойству дел, и наказывает достойных того, и оправдывает своим приговором неподлежащих ответственности, и о прочих спорных делах творит суд по истине; то и он называется правдивым. И назначающий подати с подначальных, когда налагает подать соразмерную с силами, и владыка дома, и начальник города, и царь народов, —если каждый из них правит подвластными, не властью неразумных побуждений движимый, но по правоте судя ему покорных, и в решении дела сообразуясь с поведением подначальных; то определяющие правду соблюдением сказанного правила все сему подобное означают именем правды. Но, взирая на высоту божественного законоположения, полагаю, что здесь под правдою разумеется нечто большее сказанного. Ибо если спасительное слово изрекается вообще для всего человеческого рода, не всякому же человеку можно быть в числе поименованных (ибо царствовать, начальствовать, творить суд, иметь во власти раздачу денег, или другое какое смотрение, — удел не многих; великое же множество состоит под начальством и смотрением других); то как согласиться кому либо, что истинна та правда, которая не всему роду предлагается в равной степени? Ибо если, по словам внешних мудрецов, цель правды — управление; а где преимущество, там нет равенства: то данного о правде понятия не возможно признать истинным; потому что оно немедленно обличается неравенством в жизни. Посему какая же правда, простирающаяся на всех, вожделение которой, как общее, предлежит всякому, имеющему в виду евангельскую трапезу, богат ли он, или беден, рабствует, или господствует, знатного ли рода, или купленный раб, так что никакое внешнее обстоятельство не увеличивает, и не умаляет, понятия правды? Ибо если может она находиться только в том, кто выше прочих властью какою и преимуществом; то почему праведен поверженный у ворот богатого Лазарь, не имеющий у себя ни какого средства для оказания таковой правды: ни начальства, ни власти, ни дома, ни трапезы, ни другого какого житейского запаса, чем можно на деле совершить оную правду? Ибо если правда возможна тому, кто начальствует, оделяет, или вообще имеет что либо под смотрением; тот, кто не заведывает этим, без сомнения, вне возможности творить правду. Почему же сподобляется успокоения не имевший у себя того, чем, по словам многих, отличается правда? Посему надобно нам искать той правды, вожделевший которой по обетованию насладится ею. Ибо сказано: «блажени алчущии правды: яко тии насытятся».
Поелику много всякого рода таких веществ, ко вкушению которых естество человеческое стремится с вожделением; то потребно нам много сведения, чтобы различать в таких снедях питательное и ядовитое, и чтобы то, что, по мнению души, приемлется в пищу, вместо жизни не причинило нам смерти и разрушения. Но, может быть, небезвременно будет понятие о сем уяснить чем либо другим разрешаемым в евангелии. Вступивший в общение с нами «по всяческим, разве греха» (Евр. 4:15.), и приобщившийся тех же с нами немощей, не признал алкания грехом, и не отказался собственным Своим опытом изведать сию немощь, но допустил до Себя это естественное побуждение к пожеланию пищи. Ибо, сорок дней пребыв без пищи, «последи взалка» (Матф. 4:2.). Так, когда хотел, давал естеству время делать свое. Но изобретатель искушений, как скоро узнал, что и в Нем произошла эта немощь алкания, советовал удовлетворить желанию камнями, то есть, пожелание естественной пищи обратить к неестественному; ибо говорит: «рцы, да камение сие хлебы будут» (Матф. 4:3). В какой неправде виновно стало земледелие? За что было до того воз гнушаться семенами, чтобы обесчестить и пищу из них? За что осуждается Создателева премудрость, будто бы, питая человечество семенами, питает не надлежащим образом? Ибо если теперь камень оказывается более пригодным для пищи; то значит, что Божия премудрость погрешила в должном промышлении о человеческой жизни. «Рцы, да камение сие хлебы будут», — сие и до ныне говорит он тем, которые искушаются собственным своим пожеланием, и говоря так, всего чаще взирающих на него убеждает уготовлять себе пищу из камней. Ибо когда пожелание выходить из необходимых пределов потребности, что это иное, как не совет диавола, запрещающей тогда пищу из семен, и вызывающий пожелание неестественного? Из камней едят хлебы предлагающие их от любостяжательности, приготовляющие себе дорогие и пышные трапезы из неправд. У них и приготовление вечери — какое–то торжество, ухищренно устроенное на изумление всем, выходящее за пределы необходимого для жизни. Ибо что общего с естественною потребности имеет не употребляемое в пищу вещество серебра, выставляемое в тяжеловесных и с трудом переносимых приборах? Что такое ощущение голода? Не желание ли восполнить недостаток в необходимом? Поелику сила утратилась, недостающее снова восполняется приличным прибавлением. Хлеба, или иного чего годного в снедь, желает естество. А кто вместо хлеба подносит ко рту золото, тот удовлетворяет ли нужде? Посему, когда вместо годного в снедь ищет кто вещества, неупотребляемого в пищу; тогда он прямо заботится о камнях, потому что иного требует естество, а иным занят он. Естество ощущением голода, как бы внятным голосом, едва не говорит, что теперь потребна снедь, потому что должно возвратить снова телу утраченную силу. А ты не слушаешь естества; даешь ему не то, чего просит. Напротив того заботишься, чтобы на столе у тебя было большее бремя серебра, приискиваешь ковачей этого вещества, любопытствуешь узнать историю чеканимых на веществах изображений, чтобы они в точности передали искусством стрясти и нравы, и тебе можно было узнать раздражение воина, когда заносит меч на заклание, и страдание раненого, когда, пораженный смертельно, показывает вид готового заплакать, и рьяность зверолова, и свирепость зверя. и все иное, что с такою изысканностью эти суетные люди искусно изображают на настольных приборах. Естество требует пития; а ты приготовляешь дорогие треножники, лохани, чаши, большие сосуды, и тысячи других приборов, не имеющих ничего общего с требуемою нуждою. Ужели в том, что делаешь, не слышишь явно советующего тебе обратить взор на камень? А что, если кто опишет тебе, чем сопровождается эта каменистая пища, эти гнусные зрелища, страстные услаждения слуха, которыми пролагают в себя путь ряду зол приправляющие пищу тем, что разжигает к распутству? Вот совет сопротивника о пище! Это именно, обращая твой взор к камням, предлагает он тебе вместо законного употребления хлеба!
Но Преодолевающий искушение, не алкание как причину зол, изгоняет из естества, а удалив только излишнюю заботливость, присоединяющуюся к потребности по совету сопротивника, предоставляет естеству иметь о себе смотрение, не выходя из естественных своих пределов. Как очищающие вино не унижают его, и не называют не годным к употребление по причине образовавшейся на нем пенки, но, отделив излишнее в горле сосуда, не оставляют без употребления вина, сделавшегося чистым: так Слово, обозревая и разбирая, что естеству чуждо, при тонкости точного обзора, не отметает алкания, как служащего к соблюдение жизни нашей, но очищает от изысканных прибавлений к потребному, и отвергает их, сказав, что знает питательный хлеб, который усвоен естеству Божиим глаголом. Посему, если «взалка» Иисус, то достойно ублажения алкание, когда и в нас совершается в подражание Ему. А поэтому, если узнали мы, чего взалка Господь, то, конечно, узнаем силу блаженства, о котором теперь речь. Какая эта снедь, пожелания которой Иисус не стыдится? После беседы с самарянкою говорит Он ученикам: «Мое брашно есть, да сотворю волю Отца Моего» (Иоан. 4:34.). Очевидна же воля Отца, «Иже всем человеком хощет спастися и в разуме истины приити» (1 Тим. 2:4.). Итак если желает Он, чтобы мы спаслись, и Его пищею делается наша жизнь; то из сего дознаем, на что должно употребить такое расположение души. На что же именно? Будем алкать своего спасения, жаждать Божией воли, которая желает нашего спасения.
А как можно нам преуспеть в таковой алчбе, дознали это мы теперь из сего ублажения. Ибо кто возжелал Божией правды, тот нашел подлинно достожелаемое, и вожделению сего удовлетворил не одним из тех способов, какими исполняется желание. Ибо не только, как снеди, возжелал причащения правды; потому что желание, остановившееся на этом одном расположении, было бы в половину совершенным; теперь же благо сие соделал и питием, чтобы горячность и пламенность пожелания доказать и самым ощущением жажды. Ибо, во время жажды, делаясь некоторым образом сухим и пламенеющим, с удовольствием употребляем питие, как нечто врачующее в таком положении. Поелику же, хотя побуждение к принятию пищи и пития по роду одно, однако же расположение к тому и другому различно: то Слово предписало нам, что всего выше в пожелании блага, ублажает тех, которые терпят то и другое, и алкание и жажду правды; так как вожделеваемого достаточно для того, чтобы применительно содействовать тому и другому желанию, стать и твердою пищею для алчущего, и питием для привлекшего с жаждою благодать. «Блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся».
Ужели же вожделевать правды достоблаженно; а если кто будет иметь подобное расположение к целомудрию, или мудрости или благоразумию, или к другому какому, ежели есть виду добродетели, то Слово не ублажает его? Но, может быть, сказанное имеет какой либо подобный следующему смысл: правда есть одно из разумеемого под именем добродетели; а божественное Писание по обычаю своему в упоминании о части нередко объемлет целое, например, когда естество Божие объясняет какими либо именами. Ибо пророчество как бы от лица Божия говорит: «Аз Господь» (Иса. 42:8.): «сие Мне имя вечное, и память родов родом» (Исх. 3:15.); и еще в другом месте говорит: «Аз есмь сый» (Исх. 3:14), и у другого Пророка: «яко милостив есмь» (Иер. 3. 12.). И тысячами других имен, означающих высоту и боголепие, святое Писание умело наименовать Бога; почему в точности дознаем из сего, что, когда скажет одно которое либо имя, этим одним безмолвно произносится весь список имен. Ибо если именуется Господом, не предполагается этим, что не принадлежат Ему другие имена; напротив того в одном имени именуется всеми именами. А из сего дознаем, что богодухновенное слово под какою либо частью умеет обнимать многое. Посему и здесь, сказав, что блаженно алчущим предлагается правда, именем ее слово означает всякий вид добродетели; так что равно достоин ублажения алчущий и благоразумия, и мужества, и целомудрия, или чего либо другого, что только заключается в том же понятии добродетели. Ибо невозможно одному какому либо виду добродетели, в отдельности от прочих, самому по себе быть совершенною добродетелью. В чем не усматривается чего либо умопредставляемого, как доброе, в том, по всей необходимости, имеет место противоположное ему; а целомудрию противоположно распутство, благоразумию — безумие, да и всему, что берется в лучшую сторону, без сомнения, есть нечто разумеемое противно. Посему, если в правде не усматривается вместе и все, то невозможно остальному быть добром. Никто не скажет, что правда неразумна, или дерзка, или распутна, или имеет что либо иное, усматриваемое в пороке. Если же понятие правды не соединимо со всем худым; то, конечно, сообъемлет в себе всякое добро; добро же все представляемое, как добродетель. Поэтому именем правды, алчущих и жаждущих которой ублажает Слово, обещая им исполнение вожделеваемого, означается здесь всякая добродетель.
Ибо сказано: «блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся». Сказуемое же, кажется мне, имеет такой некий смысл: чего домогаются в жизни для удовольствия, то служит к насыщению домогающихся; напротив того заботливость об удовольствиях, как где–то загадочно говорит Премудрость, — «сосуд сокрушен» (Притч. 23:27.), который непрестанно со тщанием наполняя, домогающиеся сего показывают какой–то неисполнимый и ни к чему не служащий труд, всегда вливая что–то в бездну пожелания и прибавляя к удовольствию, но не доводя пожелания до сытости. Познал ли кто предел сребролюбию, приобретая то, чего домогаются сребролюбцы? Успокоился ли кто до неистовства славолюбивый, получив, чего искал? А кто насытил сластолюбие слышанным, или виденным, или беснованием и неистовством чрева и того, что за сим; тот нашел ли какой прибыток в себе от сего наслаждения? Всякого рода удовольствие, ощущаемое телом, не таково ли, что вместе, и приближается, и улетает, и на самое краткое время не оставаясь у коснувшихся его? Посему–то дознаем от Господа сие высокое учение, что одно только утвердившееся в нас рачение о добродетели есть нечто твердое и состоятельное. Ибо кто преуспел в чем либо высоком, например: в целомудрии, или в скромности, или в благочестии пред Богом, или в другом каком из возвышенных и евангельских учений, тот при каждом преспеянии имеет не мимолетное и неустойчивое, но непоколебимое, во все продолжение жизни пребывающее и продолжающееся веселье. По чему же? По тому что все это всегда можно приводить в действие, и во все продолжение жизни нет времени, приводящего в пресыщение и добрую деятельность. И целомудрие, и чистота, и непреткновенность во всяком добре, и необщительность с злом всегда приводятся в действие, пока имеет кто в виду добродетель, и деятельность сопровождается весельем. А у предавшихся бессмысленным похотям, хотя душа всегда имеет в виду непотребство, однако же не всегда бывает наслаждение. Ибо жадность к еде останавливаем сытость, удовольствие пьющего угасает вместе с жаждою, и все другое таким же образом имеет нужду в некотором времени и промежутке, чтобы снова возбудить желание услаждающего, ослабленное удовольствием и насыщением. Но приобретение добродетели, в ком однажды твердо она укоренилась, ни временем не меряется, ни сытостью не ограничивается, но живущим добродетельно всегда доставляет чистое, живое, сильное ощущение собственных своих благ. Почему алчущим сего Бог Слово обещает удовлетворение алчбы, такое удовлетворение, которое сытостью воспаляет, а не угашает, желание.
Итак, вот чему учит Беседующий с высокой горы мыслей, — не занимать нам пожелания ничем таким, домогающимся чего нет впереди и конца, и рачение о чем суетно и неразумно, как у старающихся ступить на вершину своей тени, у которых бег простирается в бесконечность, так как туда от настигающего со скоростью уходит всегда им преследуемое; но обращать желание к тому, о чем рачение делается приобретением домогающегося. Ибо кто возжелал добродетели, тот добро делает своим приобретением, в себе видя то, чего возжелал. Посему блажен взалкавший целомудрия; ибо исполнится чистоты. А насыщение ею производить, как сказано, не отвращение, но усиление желания; и насыщение и желание взаимно возрастают в равной одно с другим степени. Ибо за вожделением добродетели следует приобретение вожделеваемого; и приобретенное благо привносить в душу непрекращающееся веселье. Таково свойство сего блага, что, не в настоящем только услаждает пользующегося им, но на все части времени доставляет действительное веселье, потому что преуспевшего увеселяют, и воспоминание о жизни проведенной правильно, и самая жизнь в настоящем, когда проводится она добродетельно, и ожидание воздаяния, которое не в ином чем полагаю, как в той же опять добродетели, так как она есть дело преуспевающих, и делается наградою преспеяний.
Если же нужно коснуться и смелого некоего слова; то, кажется мне, под именем добродетели и правды, желанию слушающих Себя Самого, может быть, предлагает Господь, «Иже бысть нам премудрость от Бога, правда оке и освящение и избавление» (1 Кор. 1:30.), а также и «хлеб сходяй с небесе» (Иоан. 6: 50:51.), и «вода живая» (Иоан. 4:10.), жажду которой исповедует Давид в некоем псалмопении, открывая Богу сие достоблаженное страдание души, когда говорит: «возжада душа моя к Богу крепкому живому: когда прииду и явлюся лицу Божию» (Псал. 41:3.)? И силою Духа, кажется мне, предобученный сим величественным наставлениям Господа, приписал он себе и исполнение такового желания; ибо говорит: «аз правдою явлюся лицу Твоему: насыщуся, внегда явитимися славе Твоей» (Псал. 16:15.) Итак, вот, по моему рассуждению, истинная добродетель, добро без примеси худого, добро, при котором постигается всякое понятие, составляемое мыслию о наилучшем, — Сам Бог Слово, — «сия покрывшая небеса добродетель», как выражается Аввакум (Авв. 3:3.). И весьма справедливо ублажены алчущие сей Божией правды; ибо подлинно «вкусивший» Господа, как говорит псалмопение (Псал. 33:9.), то есть, приявший в себя Бога, делается исполненным того, чего жаждал и алкал, по обетованию Рекшаго: «Аз и Отец приидем, и обитель у него сотворим» (Иоан. 14:21, 23.), очевидно, по вселении уже Святого Духа. Так, кажется мне, и великий Павел, вкусивший неизреченных оных плодов из рая, и исполнен был того, чего вкусил, и всегда алкал: ибо исповедует, что исполнен был желаемого, говоря: «но живет во мне Христос» (Гал. 2:20.), и как алчущий, всегда в «предняя простирается» (Филип. 3:13.), говоря: «не зане уже достигох или уже совершихся: но спешу, да постигну» (Филип. 3:12). Ибо, да позволено нам будет сказать нечто такое что останется только в предположении, и чего нет в природе. Как если бы из чувственной снеди, принимаемой в пищу, ничто не извергалось по излишеству, но всецело принималось в прибавление телесного роста; то тела достигали бы великого роста, потому что величину их приращала бы собою ежедневная пища: так и оная правда, а с нею и всякая добродетель, поелику, будучи вкушаема, как духовная снедь, не извергается, то причащающихся делает всегда более и более от нее рослыми, непрестанно возращая их величину своим прибавлением.
Итак, если уразумели мы блаженную эту алчбу; то, изблевав все обилие порока, взалчем правды Божией, чтобы придти в исполнение ею, о Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава во веки веков и аминь.
Слово 5
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»
(Матф. 5:7)
Иаков в некоем видении узрев лествицу, простирающуюся от земли до небесной высоты, и утверждающегося на ней Бога, загадочно научен был, может быть, чему–то такому, что теперь с нами делает учение посредством блаженств, восходящих к оному непрестанно возводя к возвышеннейшим мыслям. Ибо и там, патриарху в виде лествицы, как думаю, изображена добродетельная жизнь, чтобы и сам он дознал и тем, кто будет по нем, передал, что не иначе можно возвыситься до Бога, как только всегда взирая в горнее и имея непрекращающееся вожделение высшего, а потому не любил останавливаться на том, в чем уже преуспел, но почитал для себя ущербом, если не касается того, что еще выше. Так и здесь высота блаженств одного пред другим приуготовляет к тому, чтобы приблизиться к самому Богу, истинно блаженному и «утверждающемуся» во всяком блаженстве. Без сомнения же, как к премудрому приближаемся мудростью, и к чистому чистотою, так и блаженному усвояемся путем блаженств; потому что блаженство есть то, что в подлинном смысле свойственно Богу; почему и поведал Иаков, что Бог утверждашеся на таковой лествице (Быт. 22:13.). Посему участие в блаженствах не иное что есть, как общение с Божеством, к которому Господь возводит нас сказанным теперь.
Посему, кажется мне, что в предлагаемой беседе о блаженстве тем, что по порядку в ней следует, некоторым образом делает Он Богом того, кто слушает и разумеет слово сие. Ибо говорит: «блажени милостивии, яко тии помилованы будут». Известно из многих мест божественного Писания, что милостивым святые мужи называют Божие могущество. Так Давид в песнопениях, так Иона в своем пророчестве, так великий Моисей во многих местах своего законоположения именуют Божество. Посему, если Богу приличествует название милостивым, то не Богом ли соделаться призывает Слово и тебя, как украшенного свойством Божества? Ибо если в богодухновенном Писании Бог именуется милостивым, а истинно–блаженно Божество; то явствует по порядку вытекающая из сего мысль, что, если кто, будучи человеком, делается милостивым, то он сподобляется Божия блаженства, достигнув того, чем именуется Божество. «Милостив Господь и праведен, и Бог наш милует» (Пс. 114:4.). И не блаженно ли паче человеку называться и стать тем, чем за дела Свои именуется Бог? «Ревновать» же о дарованиях высших советует собственными своими словами и божественный Апостол (1 Кор. 12:31.).
Но у нас не та цель, чтобы убедить нам себя, желать хорошего; потому что само собою лежит это в естестве человеческом, — иметь стремление к хорошему, но чтобы не ошибаться нам в суждении о хорошем. Ибо жизнь наша по большей части погрешает в том, что не можем в точности познать, что хорошо по естеству, и что обманчиво таковым представляется. А если бы порок в жизни представлялся нам, во всей наготе, не–прикрашенным каким либо призраком хорошего, то не предавалось бы ему человечество. Посему потребно нам уменье, чтобы понять предлагаемое изречение, и изучив истинную лепоту заключающейся в нем мысли, образовать по оной себя. И мысль о Боге естественно вложена во всех людей; но по незнанию истинно сущего Бога бывает погрешность в предмете чествования; ибо одними чествуется истинное Божество, умопредставляемое в Отце, Сыне и Святом Духе; а другие заблудились в нелепых предположениях, примыслив досточтимое нечто в тварях; и вследствие этого уклонение от истины в малом открыло вход нечестию. Так в рассуждении предлежащей нам мысли, если не поймем истинного смысла, не малый будет ущерб для нас, погрешивших в истине.
Посему, что такое милость, и в чем ее деятельность? Почему блажен обратно приемлющий, что дает? Ибо сказано: «блажени милостивы: яко тии помилованы будут». Ближайший смысл сего изречения призывает человека к взаимной любви и сострадательности; потому что по неравенству и несходству житейских дел не все живут в одинаковых обстоятельствах, относительно к достоинству и устройству тела, и достатку во всем прочем. Жизнь по большей части делится на противоположности, различаясь рабством и господством, богатством и бедностью, славою и бесславием, дряхлостью тела и добрым здоровьем, и всем тому подобным. Посему, чтобы недостаточное пришло в равенство изобилующим, и скудное восполнилось избыточествующим, Господь узаконяет людям быть милостивыми к низшим; ибо невозможно иначе побудить к уврачеванию беды ближнего, как только если милость смягчит душу к принятию такого побуждения; так как милость познается из противоположного жестокости. Как жестокий и свирепый недоступен приближающимся, так сострадательный и милостивый приходить как бы в одно расположение с нуждающимся, для опечаленного делаясь тем, чего требует скорбный его ум; и милость, как протолкует иной, дав понятию сему определение, есть произвольная печаль, производимая чужими бедствиями. Если же не точно выразили мы значение сего слова; то, может быть, яснее истолкуется другим понятием: милость есть исполненное любви расположение к претерпевающим со скорбью что либо для них обременительное. Ибо, как жестокость и зверство имеют началом ненависть, так и милость некоторым образом происходить от любви, и ее только имеет своим началом. И если кто в точности исследует отличительное свойство милости, то найдет, что это усиление исполненного любви расположения, соединенное с ощущением печали. Иметь общение в хорошем заботятся все одинаково, и враги, и друзья; но желать участвовать в прискорбном свойственно только обладаемым любовью. А из всех привязанностей в этой жизни могущественнейшею признается любовь, и милость есть усиление любви. Конечно, в собственном смысле достоблажен, у кого душа в таком расположении, как у достигшего самого верха добродетели.
И никто да не представляет себе добродетель сию состоящею в одном вещественном; ибо в таком случае преспеяние в подобном, без сомнения, будет достоянием того только, кто имеет некоторую возможность к благотворительности. Но, мне кажется, справедливее в таком деле смотреть на производств.
Кто пожелал только доброго, но встретил препятствие к тому, чтобы сделать хорошее, потому что не имел возможности, тот по расположению души ничем не меньше доказавшего изволение свое делами.
А сколько пользы для жизни, если кто принимает в этом смысле значение сего блаженства, — излишнее дело о том и рассуждать; потому что и самым детям явны преспеяния, совершаемый в жизни по этому совету. Если, предположим так, во всех произойдет такое соотношение души с униженным, то не останется уже ни высшего, ни низшего, и жизнь не будет делиться по противоположности имен; не отяготит человека бедность, не унизить рабство, не опечалить бесчестие, потому что все у всех будет общее; и равенство прав, и свобода говорить водворятся в жизни человеческой, когда изобилующие добровольно сравняется с недостаточным. Если же будет сие, то не останется никакого предлога к вражде; бездейственна тогда зависть; мертва ненависть, чужеземцами соделаются тогда злопамятство, ложь, обман, война — все эти порождения похоти — иметь у себя больше. По истреблении же оного не сострадательного расположения, конечно, подобно какому–то худому корню, исторгнуты будут и отпрыски порока, а по искоренении дел лукавых, на место их выступить целый список всего доброго: мир, правда и весь ряд представляемого наилучшим. Посему что блаженнее этого, так вести жизнь, не запорам и засовам вверяя безопасность своей жизни, но безопасность сию находя друг в друге? Как жестокий и зверонравный неприязненными себе делает испытавших его свирепость; так напротив все делаются благорасположенными к милостивому, потому что милость в получивших ее естественно рождает любовь.
Посему милость, как показало слово, есть матерь благорасположения, залог любви, союз всякого дружественного расположения: и при сей надежной опоре можно ли примыслить что либо более твердое для этой жизни? Потому слово справедливо ублажает милостивого, когда столько благ оказывается в его имени. Но хотя всякому не безызвестно, что совет сей полезен для жизни; однако же, мне кажется, смысл оного нечто большее понимаемого с первого взгляда таинственно дает видеть указанием на будущее; ибо сказано: «блажени милостивии: яко тии помиловани будут», как будто воздаяние милостивым за милость отложено на последок.
Посему оставив этот удобопонятный, и многими с первого взгляда находимый, смысл, попытаемся, сколько будет сил, по возможности проникнуть умом за внутреннейшую завесу. «Блажени милостивии: яко тии помилованы будут». В этом уже слове можно дознать некое возвышенное учение, а именно, что Сотворивший человека по образу Своему в естество твари вложил начатки всех благ, так что не от вне входит в нас; хорошее, но в нашей воле, какое нам угодно, как бы из сокровищницы какой, брать благо из естества. Ибо от части научаемся судить о целом, что не возможно кому либо получить желаемое иначе, как если сам себе дарует это благо. Посему Господь говорит негде слушателям: «царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 17:21.); и: «всяк просяй приемлет, и ищай обретаете, и толкущему отверзется» (Матф. 7:8.); так что получить желаемое, и обрести искомое, и стать среди вожделенных нам благ — в нашей воле, как скоро захотим сего, и от нашего зависит это произвола. А в следствие сего приводимся и к противоположной мысли, а именно, что наклонность к худому происходит не от вне, по какой либо понуждающей необходимости; но вместе с соизволением на зло, составляется самое зло, тогда приходя в бытие, когда избираем его; само же по себе, в собственной своей самостоятельности, вне произвола, зло нигде не находится состоящим. Из сего ясно открывается самоправная и свободная сила, какую Господь естества устроил в естестве человеческом для того, чтобы от нашего произволения зависело все, и доброе, и худое. А Божественный суд, следуя неподкупному и правдивому приговору, сообразно с нашим произволением уделяет каждому, что человек приобрел сам себе. «Овым убо», как говорит Апостол, «по терпению дела благаго, славы и чести ищущим, живот вечный»; а противящимся истине, повинующимся же неправде: гнев, скорбь, и все, что именуется строгим воздаянием (Рим. 2:7:8.). Ибо как точные зеркала показывают изображения лиц такими, каковы лица в действительности, у веселых веселыми, а у угрюмых посупленными; и никто не обвинит свойства зеркала, если угрюмым окажется изображение лица поникшего от унылости; так и правдивый Божий суд уподобляется нашим расположениям; и каково то, что в нашей воле, таковым же соделает и свое воздаяние. «Приидите», скажет, «благословеннии» (Матф. 25:31.); «идите проклятии» (Матф. 25:41). Неужели внешняя какая необходимость определяет в удел стоящим одесную оный сладостный, а стоящим ошуюю — строгий глас? Не за то ли, что делали, первые получили милость? А другие не тем ли, что жестоко обходились с соплеменными, жестоким для себя соделали Божество? Не миловал бедствующего у ворот нищего утопавший в роскоши богач. Этим и себя лишил милости, и имея нужду в помиловании, не услышан; не потому что одна капля нанесла бы ущерб великому источнику, но потому что с жестокостью несоединима и капля милосердия. «Ибо кое общение свету ко тьме» (2 Кор. 6:14.)? «Человек, сказано, еже аще сеет, тожде и пожнет: яко сеяй в плоть, от плоти пожнет истление а сеяй в дух, от духа пожнет живот вечный» (Гал.6:7. 8.). Человеческое произволение, как думаю, есть сеяние, а воздаяние за произволение — жатва. Обилен благами класс у избравших такое сеяние; многотрудно собирание терний у посевающих в жизни тернистые семена; потому что человеку непременно надлежит пожать то, что посеял; иначе и быть не может.
«Блажени милостивии: яко тии помиловани будут». Какое человеческое слово изобразит глубину мыслей, заключающихся в сем слове? Положительность и неопределенность изречения дают повод доискиваться чего–то большего против сказанного, потому что не прибавлено: кто те, на кого надлежит милости простирать свое действие, но сказано просто, что «блажени милостивии». Ибо, может быть, слово сие дает нам разуметь нечто подобное тому, что значение милости состоит в связи с блаженным плачем. Там был достоин ублажения, кто проводить жизнь в плаче. И здесь, кажется мне, Слово разумеет тоже учение. В каком бываем расположении от чужих бедствий, когда некоторые из близких нам встречают какие либо тяжкие скорби, или лишившись отеческого дома, или нагими спасшись от кораблекрушения, или доставшись в руки разбойникам на суше или море, или из свободных сделавшись рабами, из живших счастливо — пленниками, или понесши другое какое подобное зло, между тем как дотоле испытывали жизнь в каком–то благополучии, — посему какое при этом болезненное расположение бывает в душах наших; тем паче гораздо благовременнее, может быть, в нас самих возбудиться подобной мысли об унизительном в жизни перевороте. Ибо, когда рассудим, как светла та наша обитель, из которой мы изгнаны, как подпали мы власти разбойников, как обнажились, погрязши в глубине этой жизни, каких и скольких владык навлекли на себя вместо свободного и самозаконного жития, как блаженство жизни пресекли смертью и тлением; тогда, если займемся сими мыслями, возможно ли, чтобы милость обращена была на чужие бедствия, и душа не ощутила жалости к себе самой, рассуждая, что она имела, и чего лишилась? Ибо что бедственнее этого плена? Вместо наслаждения в раю наследовали мы в жизни болезненную и многотрудную область; вместо оного бесстрастия приняли на себя тысячи бедствий от страстей; вместо высокого оного жития и сопребывания с Ангелами осуждены жить с зверями земными, и жизнь ангельскую бесстрастную обменили на скотскую. Кто без труда исчислит жестоких мучителей жизни нашей, этих неистовых и свирепых властелинов? Жестокий властитель —раздражение, другие подобные — зависть, ненависть, страсть гордыни; какой–то бешеный и свирепый мучитель, презирающий нас, как невольников, — это невоздержный помысел, порабощающий себе для страстных и нечистых услуг. А мучительство любостяжательности не превосходить ли меру всякой жестокости? Поработив бедную душу, всегда принуждает исполнять ненасытимые свои пожелания, непрестанно принимая в себя и никогда не наполняясь, подобно какому–то многоглавому зверю, тысячами челюстей передающему пищу в ненаполнимое чрево, у которого приобретение никогда не служит хотя малым насыщением, но всегда получаемое делается пищею и поджегою к пожеланию большего. Посему кто же, поняв бедственную эту жизнь, останется безжалостно и немилосердно расположенным к таким бедствиям? Но причина и того, что не милуем себя самих, заключается в не ощущении зол; например, чем страждут неистовствующие от сумасшествия, для которых преизбыток зла состоит в том, что отъемлется чувство того, что терпят? Посему, если кто узнает себя, каков он был прежде, и каков в настоящее время (говорит же где–то и Соломон: «себе познающии премудри» (Притч. 13:10.)), то никогда таковой не перестанет быть милостивым, а за таковым расположением души естественно последует и Божия милость. Почему сказано: «блажени милостивии: яко тии помилованы будут».
Помилованы они, а не другие. Сим Господь уясняет мысль, как бы сказал кто: блаженное дело иметь попечение о телесном здоровье. Кто имеет сие попечение, тот проживет здоровым. Так и милостивый весьма блажен; потому что плод милости делается собственным достоянием милующего, как на основании нами найденного теперь, так и в следствие исследованного прежде, разумею об оказывающем сострадательность души к чужим бедствиям. Ибо одинаково доброе дело есть то и другое, и себя самого миловать по сказанному, и сострадать о злосчастии ближнего: потому что произволение человека относительно к низшим при превосходстве власти показывает правдивость суда Божия, почему человек некоторым образом сам себе судия, и в суде над подчиненными себе самому произносит приговор. Итак поелику веруем, и действительно веруем, что весь род человеческий предстанет «пред судищем Христовым, да приимет кийждо, яже с телом содела, или блага, или зла» (2 Кор. 5:10.); поелику (дерзновенно может быть и говорить о сем, однако ж скажем, если только возможно постигнуть рассудком и уразуметь неизреченное и незримое блаженство в воздаянии милостивым) происшедшему в душах благорасположению к оказывающим милость и после настоящей жизни в получивших милость естественно остаться навсегда в жизни будущей: то поэтому не вероятно ли, что благодетель, если и во время суда будет узнан облагодетельствованными, расположит к себе душу восхвалять его благодарственными гласами пред Богом всякой твари? Да и в каком другом блаженстве будет иметь нужду на таком зрелище провозглашаемый за дела доблестные? Ибо евангельское слово научает, что и облагодетельствованные будут при суде Царя над праведными и грешными. К тем и другим обращается Он с указанием, как бы перстом давая знать о том, что перед ними: понеже сотвористе единому сих братий Моих меньших (Матф. 25:40.). Ибо словом: сих показывается присутствие облагодетельствованных.
Скажи теперь мне ты, неодушевленное вещество имуществ предпочитающий будущему блаженству: что за блеск такой у золота? Что за сияние такое у дорогих камней? Что за убранство такое от одежд в сравнении с оным благом, предлагаемым упованию? Когда Царствующий над тварью открыто явит Себя человеческому роду, велелепно восседая на превознесенном престоле, когда окрест Его видимы будут бесчисленные тьмы Ангелов, и когда очам всех откроется неизреченное царство небесное; а также в противоположность сему показаны будут страшные мучения; и среди сего весь человеческий род от первой твари до всей полноты приведенных в бытие, в страхе и надежде будущего, предстанет с недоумением, многократно приводимый в содрогание исполнением ожидаемого для тех и других; потому что и жившие с доброю совестью не уверены в будущем, видя, что другие лукавою совестью, как бы каким исполнителем казни, влекутся в ужасную оную тьму: а между тем и этот, при хвалебных и благодарственных гласах облагодетельствованных, исполненный дерзновения, приведен будет делами к Судие; тогда ужели по вещественному богатству станет вычислять он свою благую часть? Ужели согласится, чтобы, вместо сих благ, все горы, и равнины, и долины, и моря, преобратившись, сделались золотом?
А кто богатство свое тщательно скрывал под печатями, запорами, за железными дверями, в безопасных тайных местах, и стекающееся у него вещество прятать и хранить у себя предпочитал всякой заповеди; того, если стремглав повлечется в темный огонь, все, в этой жизни испытавшие его жестокость и немилосердие, станут укорять, и скажут ему: «помяни, яко восприял еси благая твоя на животе твоем» (Лук. 16:25.); в твердынях с богатством своим заключил ты милость, и на земле оставил милосердие; не принес в эту жизнь человеколюбия, и не имеешь, чего не имел; не находишь, чего не полагал; не собираешь, чего не расточал; не пожинаешь, чего не сеял; жатва твоя достойна сеяния; сеял ты горечь, собирай ее рукояти; уважал ты жестокость, имей при себе, что любил; ни на кого не смотрел сострадательно, и на тебя никто не посмотрит с сожалением: презирал ты скорбящего, презрят и тебя гибнущего; бегал ты случаев оказать милость, и от тебя побежит милость; гнушался ты нищего, возгнушается и тобою, кто от тебя быль в нищете. Если сказано будет это и подобное этому, то где окажется золото? где блестящие сосуды? где печатями приданная сокровищам безопасность? где для ночной стражи приставленные псы и запас оружий на злоумышленников? Где записанный в книгах приметы? Что они значат против плача и скрежета зубов? Кто озарит тьму? Кто угасить пламень? Кто отвратить неумирающего червя?
Уразумеем поэтому, братия, Господне слово, в немногом научающее нас так многому о будущем, и соделаемся милостивыми, чтобы стать чрез это блаженными о Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Слово 6
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
(Матф. 5:8)
Что естественно чувствовать смотрящим с возвышенной какой вершины на какое либо обширное море; тоже самое потерпело мое разумение, как бы с вершины какой горы, от сего высокого изречения Господня простирая взор в неизъяснимую глубину мысли. Во многих приморских местах можно видеть полуусеченную гору с прибрежной стороны, от вершины до подошвы обрезанную по прямой черте, между тем как верхний ее край, склонившись с высоты, навис над бездной. Что естественно бывает с тем, кто, став на подобную стражбу, с большой высоты смотрит на море в глубине; так и у меня кружится теперь душа, приводимая в недоумение великим этим изречением Господа.
«Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят». Бог предлагается зрению очистивших сердце. Но, как говорит великий Иоанн, «Бога никто же виде нигде же» (Иоан. 1:18.). Подтверждаете же это и высокий разумением Павел, сказав: «Его же никто же видел есть от человек ниже видите место» (1 Тим. 6:16.). Это гладкий и несекомый камень, не показывающий на себе никакого следа восхождения мыслей; о Нем и Моисей также утвердил, что намеревающемуся преподать учение о Боге Он недоступен; потому что разумение наше никак не может приблизиться к Нему, по причине решительного отрицания всякой возможности постигнуть Его. Ибо Моисей говорит: невозможно, чтобы узрел кто лице Господа, и жив был (Исх. 33:20.). Но видеть Бога есть вечная жизнь, а сии столпы веры: Иоанн, Павел и Моисей признают сие невозможным!. Видишь ли кружение, которым увлекается душа в глубину усматриваемого в слове? Если Бог — жизнь; кто не видит Его, тот не зрит и жизни. А что невозможно видеть Бога, свидетельствуют богоносные Пророки и Апостолы. На чем опереться человеческой надежде? Но Господь подкрепляет падающую надежду как поступил Он с Петром, подвергавшимся опасности утонуть, снова поставив его на твердую и не уступающую давлению ноги воду. Посему, если и к нам прострется рука Слова, и не твердо стоящих в глубине умозрений поставит на твердой мысли; то будем вне страха, крепко держась руководствующего нас Слова. Ибо сказано: «блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят».
Посему обетование сие таково, что превосходить всякий предел блаженства. Ибо после такого блага пожелает ли кто чего другого, в том, что узрел, имея все? Потому что видеть, по обычному в Писании словоупотреблению, значит тоже, что иметь: например, словами: «узриши благая Иерусалима» (Пса. 127:6.), Писание означает: найдешь. И в сказанном: «да возмется нечестивый, да не видите славы Божией» (Пса. 26:10.), словом: «не видит», Пророк выражает, что не причастится оной. Посему, кто зрит Бога, тот в сем зрении имеет уже все, что состоит в списке благ, некончаемую жизнь, вечное нетление, бессмертное блаженство, некончаемое царство, непрекращающееся веселье, истинный свет, духовную и сладостную пищу, неприступную славу, непрестанное радование и всякое благо. Посему так важно и обильно то, что обетованием сего блаженства предлагается упованию.
Но поелику, чтобы узреть Господа, наперед показан способ, именно же иметь для этого сердечную чистоту; то при сем снова изнемогает мое разумение; и эта сердечная чистота не есть ли для нас нечто невозможное, и не превышает ли нашего естества? Ибо если сим способом зрим бывает Бог, а Моисей и Павел не видели Бога, и утверждают, что и сами они, и другой кто, видеть не могут; то предлагаемое теперь словом о блаженстве, по–видимому, есть нечто невозможное. Посему, что нам пользы от познания, как узреть Бога, если при разумении нет вместе возможности? Сие подобно тому, как если бы кто назвал блаженным быть на небе; потому что там человек увидит не усматриваемое в этой жизни. Если бы указано было наперед в слове какое либо орудие для восхождения на небо; то полезно было бы слушателям дознать и то, что блаженно быть на небе. А как восхождение невозможно, какую пользу принесет знание о небесном блаженстве, огорчающее только дознавших, чего лишаемся, по невозможности восхождения?
Посему, ужели Господь повелевает то, что вне нашей природы, и превышает меру человеческих сил величием заповеди? Нет. Ибо не повелевает стать птицами тем, кого не оперил, и жить под водою тем, кому дал жизнь на суше. Посему если для всех иных закон сообразен с силами приемлющих и ничто не приневоливается к сверхъестественному; то, конечно, в следствие сего и это поймем так, что не безнадежно предуказуемое в блаженстве. Да и Иоанн, и Павел, и Моисей, и кто иной, если подобен им, не лишены сего высокого блаженства, — состоящего в зрении Бога, не лишены и тот, кто изрек: «соблюдается мне венец правды, его же воздаст ми праведный Судия» (2 Тим. 4:8.), и тот, кто припадал к персям Иисусовым, и тот, кто слышал Божественный глас: «вем тя, паче всех» (Исх. 33:17.). Посему, если о тех, которыми провозвещено, что постижение Бога выше сил, нет сомнения, что они блаженны, а блаженство состоять в том, чтобы зреть Бога, зрение же дается чистому сердцем; то значить, что не невозможна и чистота сердца, при которой можно соделаться блаженным.
Посему, как же можно сказать, что говорят истину согласно с Павлом утверждающие, будто бы постижение Бога выше наших сил, и им не противоречит Господне слово, обещающее, что при чистоте сердца зрим будет Бог? Мне кажется, чтобы обозрение предложенного происходило у нас в порядке, хорошо будет сначала предложить о сем краткое рассуждение. Естество Божие, само в себе, по своей сущности, выше всякого постигающего мышления, как недоступное примышлениям гадательным и не сближаемое с ними; и в людях не открыто еще никакой силы к постижению непостижимого, и не придумано никакого средства уразуметь неизъяснимое. Посему великий Апостол пути Божии именует неисследованными (Римл. 11:33.), означая сим словом, что на оный путь, который ведет к познанию Божией сущности, не могут и восходить человеческие помыслы, так что на нем почти никем из прешедших жизнь сию прежде нас не оставлено никакого следа постигающим примышлением, который бы означался ведением того, что выше ведения. Но таковым будучи по естеству Тот, Кто выше всякого естества, Сей невидимый и неописуемый, в другом отношении бывает видим и постигается. Способов же такого уразумения много. Ибо, и по видимой во вселенной премудрости можно гадательно видеть Сотворшего все в премудрости. Как и в человеческих произведениях некоторым образом усматривается разумением творец выставляемого творения в дело свое вложивший искусство, усматривается же не естество художника, а только художническое знание, какое художник вложил в произведете; так и мы, взирая на красоту в творении, напечатлеваем в себе понятие не сущности, но премудрости премудро все Сотворившего. Если рассуждаем о причине нашей жизни, именно же, что не по необходимости, но по благому произволению, приступил Бог к сотворению человека, опять говорим, что и сим способом, узрели мы Бога, постигнув благость, а не сущность. Так и все прочее, что приводит нас к понятию лучшего и более возвышенного, подобно сему называем уразумением Бога, потому что каждая возвышенная мысль зрению нашему представляет Бога. Ибо и могущество, и чистота, и неизменяемость, и несоединяемость с противоположным!», и все сему подобное напечатлевает в душах представление некоего божественного и возвышенного понятия. Итак из сказанного открывается, что Господь истинен в Своем обетовании, говоря, что имеющие чистое сердце узрят Бога; и не лжет Павел, собственными своими словами утверждая, что никто не видел, и не может видеть Бога; ибо Невидимый по естеству делается видимым в действиях, усматриваемый в чем либо из того, что окрест Его.
Но смысл сказанного о блаженстве не ограничивается только тем, что по какому либо действию можно делать подобные заключения о действующем. Ибо и мудрым века сего доступно, может быть по устройству мира, постижение превысшей премудрости и силы. Но величие блаженства, кажется мне, иное преподает в совет способному сие принять, чтобы увидеть желаемое. Представившаяся же мне мысль объяснится примерами. В человеческой телесной жизни здоровье есть некое благо, но блаженно не то, чтобы знать только, что такое здоровье, но чтобы жить в здравии. Ибо если кто, слагая похвалу здоровью, приметь в себя доставляющую худые соки и вредную для здоровья пищу, то, угнетаемый недугами, какую пользу получит он от похвал здоровью? Посему так будем разуметь и предложенное слово, а именно, что Господь, не знать что либо о Боге, но иметь в себе Бога, называет блаженством, ибо «блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят». Но не как зрелище какое, кажется мне. пред лице очистившему душевное око, предлагается Бог; напротив того высота сего изречения, может быть, представляет нам тоже, что открытее изложило Слово, другим сказав: «царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 17:12.), чтобы научились мы из сего, что очистивший сердце свое от всякой твари и от страстного расположения, в собственной своей лепоте усматриваете» образ Божия естества. И мне кажется, что в немногом, что изрекло, такой совет заключает Слово: все вы, о человеки, в ком только есть какое либо вожделение воззреть на истинно благое, когда слышите, что Божие велелепие превыше небес и слава Божия неизъяснима, и лепота неизглаголанна, и естество невместимо, не впадайте в безнадежность, будто бы невозможно увидеть желаемое. Ибо в тебе вместимая для тебя мера постижения Бога, Который так тебя создал, немедленно осуществив в естестве таковое благо; потому что в составе твоем отпечатлел подобия благ собственного Своего естества, как будто на каком воску напечатлел резные изображения. Но порок, смыв боговидные черты, бесполезным соделал благо, закрытое гнусными покровами. Посему, если рачительною жизнью опять смоешь нечистоту, налегшую на твоем сердце, то воссияет в тебе боговидная лепота. Как это бывает с железом, когда точильным камнем сведена с него ржавчина; недавно быв черным, при солнце мещет оно от себя какие–то лучи, и издает блеск: так и внутренний человек, которого Господь именует сердцем, когда очищена будет ржавчина нечистоты, появившаяся на его образе от дурной любви, снова восприимет на себя подобие первообраза, и будет добрым; потому что подобное добру, без сомнения, добро. Посему, кто видит себя, тот в себе видит и вожделеваемое; и таким образом чистый сердцем делается блажен, потому что, смотря на собственную чистоту, в этом образе усматривает первообраз. Ибо как те, которые видят солнце в зеркале, хотя не устремляют взора на самое небо, однако же усматривают солнцев сиянии зеркала не меньше тех, которые смотрят и на самый круг солнца; так и вы, говорит Господь, хотя не имеете сил усмотреть света, но, если возвратитесь к той благодати образа, какая сообщена была вам в начале, то в себе имеете искомое. Ибо чистота, бесстрастие, отчуждение от всякого зла есть Божество. Посему, ежели есть в тебе это, то, без сомнения, в тебе Бог, когда помысел твой чист от всякого порока, свободен от страстей и далек от всякого осквернения, ты блажен по своей острозрительности; потому что, очистившись, усмотрел незримое для не очистившихся, и отъяв вещественную мглу от душевных очей, в чистом небе сердца ясно видишь блаженное зрелище. Что же именно? Чистоту, святость, простоту и все подобные светоносные отблески Божия естества, в которых видим Бог.
А что сие действительно так, в том не сомневаемся на основании сказанного. Но чем слово наше затруднялось еще в начале, то остается при том же неудобстве. Если и все согласны, что тот, кто на небе, причастен небесных чудес, то, поелику и способ восхождения туда невозможен, согласие в этом никакой не приносит нам пользы: так несомненно и то, что, по очищении сердца, человек делается блаженным; но как ему очистить оное от оскверняющего, это почти совершенно равно восхождению на небо. Посему найдется ли какая либо Иаковлева лествица, какая либо огненная колесница, подобная вознесшей Пророка Илию на небо. на которой бы сердце наше, возвысившись до горних чудес, сложило с себя это земное бремя? Если кто представить в уме необходимые душевные страдания; то трудным и невозможным признает удаление от сопряженных с ним зол. Самое рождение наше начинается тотчас страданием, с страданием происходить возрастание, оканчивается жизнь страданием, и зло некоторым образом срастворяется с естеством чрез тех, которые первоначально допустили в себя страдание, преслушанием вселили в себя болезнь. Но как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть тоже с родившим: так и от человека рождается человек, от страстного страстный, от грешника грешник. Посему в рождающихся некоторым образом составляется грех, вместе и рождаемый, и возрастающий, и оканчивающейся пределом жизни Напротив того, что добродетель для нас неудобоприобретаема, что при тьмочисленных потах и трудах со тщанием и изнурением едва преуспеваем в ней, сему научаемся из многих мест божественного Писания, слыша, что путь, идущий в царствие, тесен и узок; а вводящий порочною жизнью в пагубу широк, покат и утоптан. Однако же, что не вовсе невозможна и возвышенная жизнь, Писание подтвердило сие, в священных книгах представив нам чудесные деяния стольких мужей. Но поелику в обетовании видеть Бога заключается двоякий смысл, один познать естество всё превышающее, и другой — посредством чистоты сердца войти с Ним в единение: то первый род разумения, по слову святых, признается невозможным, другой же естеству человеческому в настоящем учении обещает Господь, сказав: «блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят».
А как сделаться чистым, способы к этому можно тебе дознать из всякого почти евангельского учения. Ибо, переходя к последующим заповедям, найдешь ясное учение об очищении сердца. Господь, разделив порок на два вида, на видимый в делах и на составляющейся в мыслях, первый вид, то есть неправду, обнаруживаемую в делах, наказывал по ветхому закону, ныне же обратил внимание закона на другой вид греха, не дело худое наказывая, но промышляя, чтобы не полагалось ему и начала. Ибо изъять порок из самого произвола гораздо важнее, нежели сделать жизнь чуждою лукавых дел. Поелику порок многочастен и многообразен; то Господь в заповедях Своих каждому из запрещенных дел противопоставил особое врачевство. И как недуг гнева в продолжение всей жизни всего чаще и явнее постигает человека; то и начинает врачеванием преобладающего, узаконяя прежде всего негневливость. Научен ты, говорит, ветхим законом: «не убий»; а теперь научись удалять от души и гнев на соплеменника (Матф. 5:21, 22.); ибо Господь не запретил вовсе гнева, потому что иногда такое стремление души можно употреблять и на добро, но гневным когда либо быть на брата без всякой доброй цели — такое воспламенение угасил заповедью, сказав: «всяк гневайся на брата своего всуе» (Матф. 5:22). Ибо присовокупление слова: всуе показывает, что и обнаружение раздражения часто бывает благовременно, когда страсть сия воскипает при наказании греха. Такого рода гнев был в Финеесе, как засвидетельствовало слово Писания, когда поражением беззаконнующих умилостивил негодование Бога, подвигнутое на весь народ. Потом Господь переходит к врачеванию грехов сластолюбия, и Своею заповедью исторгает из сердца неуместную похоть прелюбодейства. Так найдешь, что в последующем Господь исправляет все по порядку, постановляя законы против каждого вида пороков. Неправедным рукам запрещает распоряжаться самим, не дозволяя им мстить. Изгоняет страсть любостяжания, приказывая лишаемому одежды к тому, что отнимают, присовокупить и остальное. Врачует боязнь, повелев пренебрегать и смертью. И вообще найдешь, что в каждой заповеди, на подобие плуга режущее, слово из глубины сердца вырывает дурные корни, и тем очищает от произращения терний. Итак тем и другим оказывается благодеяние естеству, и тем, что заповедуется доброе, и тем, что предлагается нам учение о настоящем предмете. Если же, по твоему мнению, рачение о добром трудно, то сравни с противоположною жизнью; и найдешь, сколько труднее порок, если примешь во внимание не настоящее, но что будет после. Ибо кто услышал о геенне, тот уже не с трудом каким и усилием будет удаляться от греховных удовольствий; а напротив того и одного страха, овладевшего помыслами, достаточно ему, чтобы изгнать из себя страсти. Лучше же сказать, постигшим и то, что подразумевается в умолчанном, в пользу служит и то, что получают от сего сильнейшее пожелание. Ибо если блаженны чистые сердцем, то конечно жалки оскверненные умом, потому что видит лице сопротивника. И если в жизни добродетельной напечатлеваются черты самого Божества, то явно, что жизнь порочная делается образом и лицом противника. Но если Бог, по различным примышлениям, именуется всем, что представляем себе добром, светом, жизнью, нетлением, и что только есть подобного сему рода; то конечно, и на оборот всем этому противоположным именоваться будет изобретатель порока, и тьмою, и смертью, и тлением, и всем, что с сим однородно и сродственно.
Итак, дознав, из чего образуются в нас и порок и жизнь добродетельная, поелику, по свободе произволения. Дана нам власть на то и другое из этого, избежим диавольского образа, отринем это дурное олицетворение, восприимем же на себя образ Божий, соделаемся чистыми сердцем, чтобы стать блаженными, как скоро чистою жизнью вообразится в нас Божий образ, о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Слово 7
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»
(Матф.5:9)
В священной скинии свидения, которую Законодатель устроил Израильтянам по образу, показанному Богом на горе, святы и священны были, как все содержавшееся внутри ограды, так и всякая отдельно взятая часть. Самая же внутренняя часть была не прикосновенна и недоступна, и называлась святое святых. А сие усиленно выраженное наименование показывает, думаю, что часть сия имела святость не в равной мере с другими частями, но, сколько освященное и святое отличалось от общеупотребительного и нечистого, столько же и сия неприступная часть была священнее и чище окружающих ее святынь. Посему полагаю, что и все прежде указанные нам на горе сей блаженства, сколько их предварительно уготовало Божие слово, таковы, что каждое священно и свято, но теперь предлагаемое воззрению в подлинном смысле есть святилище и святое святых. Ибо, если нет в благах выше сего — видеть Бога; то соделаться сыном Божиим, без сомнения, выше всякого благополучия. Какое примышление речений, какое знаменование имен вполне обымет собою дар такого обетования? Что ни представить кто в уме, представляемое, без сомнения, выше представления. Если предлагаемое в обетовании сего блаженства назовем благом, или драгоценным, или возвышенным; то означаемое больше того, что выражается сими именованиями. Успех выше желания, дар выше упования, благодать выше естества.
Что такое человек в сравнении с естеством Божиим? у кого из святых позаимствую слово, чтобы выразить уничижение человека? По слову Авраамову, он «земля и пепел» (Быт. 18:27.); по слову Исаии, — «сено» (Иса. 40:6.); по слову Давида, — даже не сено, но подобие сена: ибо Исаия сказует: «всяка плоть сено»; а Давид говорит: «человек яко трава» (Псал. 36:2). По слову Екклесиаста, он — «суета»; а по слову Павлову, — «окаянство» (1 Коринф. 15:10.); ибо в речениях, какими Апостол именовал себя, оплакивается все человечество. Вот что человек; а что же такое Бог? Как скажу что либо о том, чего невозможно ни видеть, ни в слух вместить, ни сердцем объять? Какими словами изображу естество? Какое подобие блага сего найду в известных нам благах? Какие речения изобрету к означению неизреченного и неизглаголанного? Слышу, что священное Писание повествует великое о превысшем Естестве; но что сие значить в сравнении с самим Естеством? Столько изрекло слово, сколько способен я принять, а не сколько вмещает в себе означаемое. Как вдыхающие в себя воздух приемлют его, каждый по своей вместимости, один больше, другой меньше, но и тот, кто содержит в себе много, не всю стихию вмещает внутри себя, а напротив того и он, сколько мог, столько и принял в себя из целого, и это в нем целое: так и богословские понятия святого Писания, у богоносных мужей изложенные нам Святым Духом, для нашей меры разумения высоки, велики, и превосходят всякую величину, но не достигают до величины истинной. Сказано: «кто измери горстию воду», и «небо пядию», и «всю землю горстию» (Псал. 4012.)? Видишь ли, какая высокая мысль у описывающего несказанное могущество? Но что сие значить в сравнении с действительно Сущим? Пророческое слово в таких высоких выражениях показало только часть Божественной деятельности. О самой же силе, от которой деятельность, не говорю уже об естестве, от которого сила, не сказало, и не имело в виду говорить, а напротив того касается словом, по некоторым догадкам, изображающего только собою Божество, как бы от лица Божия произнося такие слова: «кому Мя уподобисте» (Иса. 46:5.)? говорит Господь. Такой же совет предлагает и Екклесиаст собственными своими словами: «нескор буди износить слово пред лицем Божиим, яко Бог на небеси горе, ты оке на земли долу» (Еккл. 5:1.), взаимным расстоянием сих стихий, как думаю, показывая, в какой мере естество Божие превышает земные помыслы.
Сим–то Существом, столько могущественным и великим, что невозможно ни видеть Его, ни слышать ни мыслию постигнуть, присвояется в ничто между существами вменяемый человек, — этот пепел, это сено, эта суета; он–то восприемлется в сына Богом всяческих. Что можно найти достойного к благодарению за сию милость? Где такое слово, такая мысль, такое движение мысли, чтобы ими воспрославить сей преизбыток милости? Человек выходит из пределов своего естества, делается из смертного бессмертным, из скоро–гибнущего неизменно — пребывающим, из однодневного вечным, одним словом из человека Богом; потому что сподобившийся стать сыном Божиим, без сомнения, будет иметь в себе достоинство Отца, соделавшись наследником всех отеческих благ. Какая великодаровитость богатого Владыки! Какая широкая длань! Какая великая рука! Сколько дарований неизреченных сокровищ! Обесчещенное грехом естество приводить почти в равночестие с самим Собою! Ибо если свойство того, что Сам Он есть по естеству, дарует людям, что иное возвещается этим сродством, как не равночестие некое?
Такова награда, какой же это подвиг? Сказано: если будешь миротворцем, то увенчает тебя благодать всыновления. Мне кажется, что и дело, за которое обещана такая награда, есть новый дар. Ибо в наслаждении вожделенным для нас в этом мире, что сладостнее для людей мирной жизни? О какой ни заговоришь приятности в жизни, чтобы ей быть приятною, нужен мир; ибо, если будет всё, что ценится в этом мире, богатство, здоровье, жена, дети, дом, род, прислуга, друзья, земля, море, и та и другое обогащающие своими дарами, сады, звериные ловли, купальни, места для борьбы и телесных упражнений, для прохлад и забав, все, какие есть, изобретения сластолюбия; приложи к этому увеселительные зрелища, музыку, и ежели есть что иное, чем услаждается жизнь роскошных; если будет всё это, но не будет при этом блага — мира, какая польза от всех благ, наслаждение которыми пресечет война? Поэтому мир, и сам приятен для наслаждающихся им, и услаждает все ценимое в этом мире. Если и во время мира терпим по человечеству какое либо бедствие, то зло, срастворенное благом, делается легким для страждущих. Правда, что, когда и войною стеснена жизнь, нечувствительны также бываем к подобным скорбным случаям; потому что общее бедствие горестями своими превышает бедствия частные. И как, говорят врачи телесных страданий, если в одном теле в одно и тоже время сойдутся две болезни, то ощутительною делается сильнейшая, а болезненное ощущение меньшего зла утаивается как–то, похищаемое приращением превозмогающей боли: так бедствия войны, по превосходству горестные, доводят до того, что каждый частный человек делается нечувствительным к собственным своим несчастиям. Но если и для ощущения собственных своих зол цепенеет как–то душа, пораженная общими бедствиями войны; то как ей иметь ощущение приятного? Где оружия, копья, изощренное железо, звучащие трубы, гремящие кимвалы дружины, сомкнувшиеся щиты, страшно помавающие перьями шлемы, столкновения, столпления, схватки, сражения, побоища, бегства, преследования, стоны, радостные клики, земля увлаженная кровьми, попираемые мертвецы, без помощи оставляемые раненые, и всё, что на войне, можно видеть и слышать о горестных военных событиях, — ужели и там найдет кто время преклонить иногда помысел к воспоминанию об увеселяющем? Если и придет как в душу припоминание о чем либо весьма приятном; то не послужит ли к увеличению бедствия это, во время опасностей входящее в помысел припоминание о предмете самом любимом? Посему Награждающий тебя, если предотвратил ты бедствие войны, два дарует тебе вместо дара; одним даром служит награда, а другим даром самый подвиг; потому что, если бы за таковое дело и ничего не предстояло в уповании, то мир сам по себе для имеющих ум дороже всякого о нем рачения. Поэтому преизбыток Божия человеколюбия можно познавать в этом, что благими воздаяниями награждает не за труды и поты, но за удовольствия, можно сказать, и радости; так как из всего, что веселит, главное есть мир, который каждому желательно иметь в такой мере, чтобы не только самому пользоваться, но, по великому обилию оного, уделять и не имеющим. Ибо сказано: «блажени миротворцы», а миротворец тот, кто дает мир другим.
Но никто не сообщит другому того, чего не имеет сам. Посему желательно, чтобы прежде сам ты исполнился благами мира, а потом уже снабдил таковым достоянием имеющих в нем нужду. И слову моему нет нужды крайне пытливой обзор простирать до глубины; потому что для приобретения блага достаточно нам понятия, представляющегося с первого взгляда.
«Блажени миротворцы». Писание в кратком выражении предлагает в дар врачевание от многих недугов, в этом многообъемлющем и общем речении заключив подробности. Сперва выразумеем, что такое мир? Не иное что, как исполненное любви расположение к соплеменнику. Посему что же разумеется под противоположным любви? ненависть, гнев, раздражение, зависть, злопамятство, лицемерие, бедствие войны. Видишь ли, от скольких и от каких недугов предохранительным врачевством служит одно речение? Ибо мир равно противится всему исчисленному, и присутствием своим приводить зло в уничтожение. Как по возвращении здравия уничтожается болезнь, и по появлении света не остается тьмы, так с появлением мира исчезают все страсти, возбужденные сопротивным. А какое это благо, не почитаю нужным описывать того словом. Рассуди сам с собою, какова жизнь взаимно друг друга подозревающих и ненавидящих? Встречи их неприятны, все одному в другом отвратительно; уста безмолвны, взоры обращены в разные стороны; слух загражден для слов у ненавидящего и у ненавидимого; одному из них приязненно все, что неприязненно другому; и на оборот враждебно и неприязненно все любезное неприязненному. Посему, как благоухание аромат благовонием своим наполняет окружающий воздух: так Господу угодно в обилии приумножить для тебя благодать мира, чтобы жизнь твоя была врачевством чужой болезни.
А сколь велико такое благо, точнее узнаешь, исчислив бедствия от каждой страсти, порождаемой в душе неприязненным произволением. Кто опишет, как должно, страстные движения гнева? Какое слово изобразить неприличие такой болезни? Смотри, как в одержимых раздражением появляются те же припадки, что и в бесноватых. Сравни между собою страдания и от беса и от раздражения, и рассуди, какая между ними разность. Налитые кровью и извращенные глаза бесноватых, язык выговаривающий неясно, произношение грубое, голос пронзительный и прерывистый, вот общие действия и раздражения и беса; потрясение головы, исступленные движения рук, содрогание всего тела, нестоящая на месте ноги, — в подобных сим чертах одно описание двух болезней. В том только разнится одна от другой, что одно зло произвольно, а другое, с кем оно бывает, поражает его невольно. Но по собственному своему стремлению подвергнуться бедствию, а не против воли страдать, — сколь большего достойно сие сожаления? Кто видит болезнь от беса, тот конечно сжалится; а бесчинные поступки от раздражения вместе и видит, и подражает им, признавая для себя утратою не препобедить своею страстью заболевшего прежде него. И бес, мучащий тело страждущего, на том останавливает зло, что беснующийся напрасно ударяет руками по воздуху; а демон раздражительности не напрасными делает телесные движения. Ибо, когда этот одержит верх, кровь в предсердечии вскипает, как говорят, горькою желчью от раздражительного расположения, распространившегося повсюду в теле; тогда от стеснения внутренних паров утесняются все главные чувствилища. Глаза выходят из очертания ресниц, и что–то кровавое и змеиное устремляют на оскорбительное для них. И внутренности бывают подавлены дыханием, жилы на шее выставляются наружу, язык дебелеет, голос от сжатия бьющейся жилы невольно делается звонким, губы от вошедшей в них холодной желчи отвердевают, чернеют и делаются неудободвижимыми для естественного разжатия и сжатия, так что не в состоянии удерживать слюну, наполняющую уста, но извергают ее вместе с словами, и от принужденного произношения выплевывают в виде пены. Тогда–то можно увидеть, что и руки, а также и ноги, приводятся в движение, и члены сии уже движутся не напрасно, как бывает с беснующимися, но на зло сцепившимся между собою по причине этой болезни. Ибо стремления наносящих удары друг другу направлены бывают на главные чувствилища. А если в этой схватке уста приблизятся где к телу; то и зубы не остаются без дела, но, подобно зубам звериным, впиваются в то, что к ним близко. И кто расскажет по порядку все множество зол, происходящих от раздражения? Посему, кто не допускает до такого безобразия, того за сие весьма великое благодеяние справедливо будет наименовать достоблаженным и досточестным. Если избавившей человека от телесной какой–нибудь неприятности за такое благотворение достоин чести, то не тем ли паче освободивший душу от этой болезни имеющим ум признан будет благодетелем жизни? Ибо сколько душа лучше тела, столько же уврачевавший душу предпочтительнее врачующих тело.
И никто да не подумает, будто, по моему мнению, неприятность, причиняемая по раздражению, хуже злых дел, совершаемых по ненависти. Страсти: зависть и лицемерие, кажется мне, гораздо хуже упомянутой теперь, и именно в той же мере, в какой скрытное страшнее явного. И тех псов больше боимся, которые не извещают прежде о своем раздражении, ни лаем, ни нападением спереди, но в кротком и тихом виде подстерегают нас неожиданно, когда не предусматриваем того. Таковы же страсти зависть и лицемерие в людях, у которых внутри во глубине сердца ненависть, как огонь, возгорается скрытно; а наружность прикрывается личиною дружбы, подобно огню закрытому соломой, от которого, пока сожигает лежащее внутри, не бывает видно пламени, а только выходить едкий дым, сильно внутри сгущаемый; но стоит кому либо подуть, и разливается тогда ясный и светлый пламень. Так и зависть изъедает внутри сердце, на подобие огня, как бы заваленного какою грудою соломы. И хотя скрывает от стыда болезнь, однако же не может она быть совершенно скрытою; но как будто какой–то едкий дым в наружных припадках выказывается горечь зависти. Но если того, кому завидуют, коснется какая беда, то завистник обнаруживает тогда эту болезнь, печаль бедствующего обращая для себя в веселье и удовольствие. Впрочем, тайны этой страсти, когда думают и скрывать ее, выказываются явными признаками на лице. Что в отчаянно больных служить знаком близкой смерти, то не–редко увидишь на снедаемом завистью: сухие глаза, впадшие между расширившимися веками, нависшие брови, на место плеча выставившиеся кости. Что же причиною болезни? То, что брат, или сродник, или сосед живут весело. Какая необычайная несправедливость! Ставить в вину, что не бедствует тот, о чьем благополучии он печалится, признавая для себя обидою не то, что сам потерпел какое либо зло от другого, но то, что этот другой, не делая никакой обиды, живет, как ему желательно. Что с тобою, бедный? сказал бы я ему. Для чего сохнешь, горьким оком взирая на благополучие соседа? В чем можешь винить его? В том ли, что благолепен телом? Или что украшен даром слова? Или что берет преимущество родом? или что, вступив в должность начальника, в этом чине оказывается достойным уважения? Или что много стало у него денег? Или что уважают его за благоразумие в речах? Или что многим известен он добрыми делами? Или что радуется на детей? Или что увеселяется супругой? Или что пышно живет доходами своего дома? Почему, как острие стрел, падает это тебе на сердце? Складываешь ты руки, жмешь пальцы между пальцами, тревожишься помыслами, глубоко и болезненно как–то вздыхаешь; неприятно тебе пользоваться тем, что имеешь у себя; трапеза горька, дом сумрачен. Слушать клевету на живущего благополучно ухо готово; а если сказано о нем что либо доброе, заграждается для сего слух. И при таком душевном расположении, для чего прикрываешь болезнь лицемерием? Для чего из притворного расположения составляешь себе личину дружбы? Для чего приветствуешь почтительными именованиями, прося быть веселым и здоровым, а в тайне душою изрекая противные тому желания? Таков был Каин, раздраженный благоволением Божиим к Авелю. Зависть внутри внушает ему убийство, а лицемерие делается исполнителем злодеяния. Приняв на себя какой–то дружеский и приветливый вид, ведет он Авеля на поле вдаль от родительской защиты, и там обнаруживает зависть убийством. Посему, кто такую болезнь искореняет из человеческой жизни, благорасположением и миром связует единоплеменных, в дружеское согласие приводит людей, тот не божеского ли, подлинно, могущества совершает дело, в роде человеческом истребляя худое, и на место сего вводя общение благ? Посему–то Господь именует миротворца сыном Божиим; ибо, даруя это человеческой жизни, делается подражателем истинного Бога.
Итак «блажени миротворцы: яко тии сынове Божии нарекутся». Кто же именно? Подражатели Божию человеколюбию, что свойственно Божией деятельности, то самое показывающие в жизни своей. Благодеющий Податель благ и Господь совершенно истребляет и в ничто обращает все, что не сродно с добром и чуждо ему, и тебе узаконяет сей образ действования, изгонять ненависть, прекращать войну, уничтожать зависть, не допускать до битв, истреблять лицемерие, угашать в сердце пожигающее внутренность злопамятство, вводить же на место сего, что восстановляется истреблением противоположного. Как с удалением тьмы наступает свет: так вместо исчисленного выше появляются плоды духа: «любы, радость, миря, благость, долготерпение», и все собранное Апостолом число благ (Гал. 5:22.). Посему как же не блажен раздаятель божественных даров, Богу уподобляющийся дарованиями, благотворения свои уподобляющий Божией великодаровитости? Но, может быть, ублажение имеет в виду не только благо, доставляемое другим, но, как думаю, в собственном смысле миротворцем называется, кто мятеж плоти и духа и междуусобную брань естества в себе самом приводит в мирное согласие, когда в бездействие уже приходить закон телесный, «противовоюющ закону ума» (Римл. 7:23.), и, подчинившись лучшему царству, делается служителем божественных заповедей. Лучше же сказать, будем держаться той мысли, что слово Божие советует не это, то есть не в двойственности представляет себе жизнь преуспевших, но в том, чтобы, когда разорено в нас «средостение ограды» (Ефес. 2:14.) порока, с растворением с лучшим «обоя» соделались совокупившимися во едино. Итак, поелику веруем, что Божество просто, несложно и неописуемо, то, когда и человеческое естество за таковое умиротворение делается чуждым сложения из двойственного, в точности возвращается во благо, становясь простым, неописуемым, и как бы в подлинном смысле единым, так что в нем одно и тоже есть и видимое с тайным и сокровенное с видимым; тогда действительно подтверждается ублажение, и таковые в подлинном смысле называются сынами Божиими, соделавшись блаженными по обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
Слово 8
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»
(Мф. 5:10)
Порядок высокого преподавания уроков возводит настоящее обозрение изречения сего на восьмую ступень. Но лучшим признаю объяснить сперва в слове, что значат у Пророка, в надписании двух псалмопений тайна восьмого, а также очищение и закон об обрезании; так как то и другое по закону совершалось в восьмой день, и, может быть, число сие имеет некое сродство с восьмым блаженством. Как некая вершина всех блаженств, оно составляет самый верх доброго восхождения. Ибо и там Пророк восьмым загадочно означает день воскресения; и очищение указует возвращение оскверненного человека к естественной чистоте, а обрезание; как толкуется, есть сложение с себя мертвых кож, в какие облечены мы; по преслушании обнажившись от жизни. И здесь восьмое блаженство заключаешь в себе восстановление на небеса тех, которые впали в рабство, и из рабства призваны опять в царство.
Ибо Господь говорит: «блажени изгнани» Мене ради: «яко тех есть царствие небесное». Вот конец подвигов по Богу, награда трудов, воздаяние за пролитый пот — сподобиться царствия на небесах! Надежда благого жребия не кружится уже около непостоянного и изменяемого; потому что превратному и изменяемому место на земле. О том же, что видимо и движется на небе, не знаем ничего такого, что не было бы всегда тем же и таковым же; напротив того там все в порядке и последовательности совершает свое течение. Посему видишь ли преизбыток дара? Величие достоинства даруется не в превратном, так что добрые надежды мог бы омрачить страх какого либо переворота: но, наименовав небесное царство, Господь показует непревратность и всегдашнюю одинаковость предложенного нам в уповании дара.
В сказанном же встречается для меня затруднительным следующее: почему Господь во первых о обнищавших духом и о гонимых Его ради говорит, что тем и другим награда равная; тогда как, если кому награда равная, то у них очевидно и подвиги равны? А потом, когда, десных отделив от шуих, призывает к небесному царствию, тогда представляет другие причины таковой чести. Ибо там, сказав о сострадательности, об общительности, о взаимной любви, вовсе не упоминает о духовной нищете и о гонении Его ради. И это, кажется по смыслу, представляющемуся с первого взгляда, одно с другим весьма несходно. Ибо что общего в этом: обнищать и быть гонимым? Или еще, что согласного между этим и делами сострадательной любви? Напитал ли кто нуждающегося, или одел нагого, или принял под кров путника, или оказал возможную услугу недужному и заключенному, в отношении к самому исполнению, что общего в этом и в том, чтоб быть нищим и гонимым? Первый врачует бедствия других, а из последних каждый, и нищий и гонимый, сами имеют нужду во врачующих. Но конец для всех одинаков; потому что Господь равно возводить на небо и обнищавшего духом, и гонимого Его ради, и оказавших сострадание к соплеменнику. Посему, что скажем на это? То, что во взаимной между собою связи состоит все, клонящееся и содействующее к одной цели. Ибо нищета не далека от изгнания, и нищелюбие не чуждается нищеты. Но мне кажется, хорошо будет сперва исследовать настоящее слово, а потом уже в исследованном отыскивать согласие и смысл.
«Блажени изгнани правды ради». Откуда и кем «изгнани»? Ближайшее понятие слова указывает на поприще мучеников, дает подразумевать течение веры. Ибо гонение означает усиленное в текущем тщание о скорости, лучше же сказать, дает подразумевать и победу в течении. Ибо текущему не иначе можно победить; как позади себя оставив того, кто течет вместе с ним. И так, поелику текущий «к почести вышнего звания» (Филип. 3:14.), и гонимый врагом ради сея почести, равно имеют за хребтом своим, один состязующегося, другой гонителя (а это совершающее течение мученичества, в подвигах благочестия гонимые и не настигаемые); то в предлагаемом упованию блаженстве сказанным в окончательных словах Господь присовокупляет, кажется, главное, как бы некий венец. Ибо действительно блаженно быть гонимым ради Господа. Почему? потому что изгнание худым делается причиною пребывания в добре. Отчуждение от лукавого служить поводом к освоению с добром. А доброе, и что выше всякого добра, есть сам Господь; к Которому поспешает гонимый. Посему истинно блажен, кто на добро себе пользуется содействием врага. Поелику жизнь человеческая заключается в междугории доброго и худого; то, как препнувшийся в своей благой и высокой надежде впадает в пропасть, так разлучившийся с грехом, и избавившийся от растления приближается к правде и нетлению. И гонение, воздвигаемое мучителями на мучеников, как представляется оно с первого взгляда, болезненно для чувства, но цель претерпеваемого мучениками превышает всякое блаженство. Впрочем смысл сего слова лучше можем усмотреть из примеров. Кому не известно, сколько; по общему признанию. хуже терпеть злоумышления, нежели быть любимым? И это, по видимому, тягостное многократно бывает причиною благополучия в сей жизни, как Писание показывает на Иосифе, которому злоумышляли братья, и который, будучи удален от сопребывания с ними продажею, соделался царем злоумысливших, но, может быть, не достиг бы такого высокого сана, если бы зависть оным злоумышлением не проложила ему пути к царству. Если бы кто, имея ведение о будущем; стал предрекать Иосифу: подвергшись злоумышлению будешь ты блажен; то с первого взгляда не показался бы он достоверным Иосифу, который, слыша сие и прежде всего имея в виду печальное, почел бы невозможным чтобы конец злого произволения оказался добром. Так и здесь гонение, воздвигаемое мучителями на верных, имея в себе много болезненного для чувства, для оплотяневших неудобоприемлемою делает предлагаемую им надежду на получение царства посредством страданий. Но Господь, видя бренность естества, более других немощным наперед возглашает, какой конец подвига, чтобы надеждою на царство без труда преобороли они временное ощущение болезненного. Посему–то великий Стефан, побиваемый отовсюду бросаемыми камнями, радуется, как бы некую приятную росу, с готовностью принимает на тело летящие одна за другою тучи камней, и благословениями вознаграждает убийц, молясь, да не поставлен им будет грех сей. Ибо и обетование он слышал, и видел, что уповаемое согласно с явленным. Слышав, что гонимые Господа ради будут во царствии небесном, увидел ожидаемое, когда гоним был сам. Когда поспешает он совершить исповедание, указуется ему уповаемое, отверзается небо, из премирного жребия приникает на подвиг текущего и Божия слава, и Тот Сам, о Ком подвижник свидетельствует своими подвигами. Ибо «стояние» Подвигоположника дает гадательно (Деян. 7:55.) разуметь помощь, какая подается подвизающимся; из чего дознаем, что Один и Тот же, и распоряжается подвигами, и с Своими подвижниками противостоит сопротивным. Посему, кто блаженнее гонимого ради Господа, когда ему предоставлено иметь сподвижником самого Подвигоположника?
Не легкое, а может быть, даже и невозможное дело — видимым в этой жизни приятностям предпочесть невидимое благо; и человеку без труда решиться на то, чтобы ему быть изгнанным из своего дома, или разлученным с супругою и детьми, с братьями и родителями, с сверстниками, и со всем приятным в жизни, если сам Господь не содействует ко благу соделавшегося по предуведению званным. Ибо кого «предуведает», как говорит Апостол, того «предуставляет», и призывает, и оправдывает, и прославляет (Рим. 8:28—31.). Поелику душа посредством телесных чувств делается как–то привязанною к житейским приятностям, и посредством глаз услаждается благоцветностью вещества, посредством слуха получает наклонность к тому, что приятно действует на слух, а посредством обоняния, вкуса и осязания приобретается расположение к тому, что обыкновенно имеет приятность для каждого из сих чувств; то как бы гвоздем и каким, чувственною силою к житейским сладостям пригвожденная душа делается неразрывно привязанною к тому, к чему прилепилась, и влача на себе все бремя жизни, подобно черепахам и улиткам, как бы связанная каким–то раковистым покровом, бывает неповоротлива для таковых движений. Посему в таком состоянии удобно уловляется гонителями, при угрозе описанием имения, или при утрате чего либо иного, вожделенного в этой жизни, без сопротивления отдаваясь во власть, и делаясь подручною преследующему. Но когда «живо слово», как говорит Апостол, и «действенно, и острейше паче всякого меча обоюду остра» (Евр. 4:12.), проникает в истинно приявшего веру, и рассекает сросшееся ко вреду вместе, и расторгает связи привычки: тогда верующий, как бы бремя какое, привязанное к душе, свергнув с рамен мирские удовольствия, подобно какому–то скороходу, легко и проворно проходит поприще подвигов, пользуясь в течении своем руководительством Подвигоположника. Ибо взирает не на то, что оставил, но на то, к чему стремится; не на сладости, которые позади, обращает око, но вожделевает предлежащего ему блага; не скорбит от утрате земного, но восхищается приобретением небесного; а посему с готовностью приемлет всякий вид мучения, как повод и содействие к предлежащей радости; с готовностью приемлет огонь, как очищение от вещества, меч, как расторжение связей ума с вещественным и плотским, примышление всяких трудов и болезней, как противоядие от зловредной отравы удовольствиями. Как избыточествующие худыми соками и желчные с охотою пьют горькое врачевство, чтобы очистить им себя от болезнетворной причины: так гонимый врагом и прибегающий к Богу приемлет приражение скорбей, как нечто служащее к угашению действенности сластолюбия; потому что невозможно чувствовать услаждения тому, кто в скорби. Поелику чрез удовольствие вошел грех, то противоположными» будет, без сомнения, изгнан. Посему те, которые гонят за исповедание Господа, и вымышляют нестерпимые мучения, трудностью оных доставляют душам некоторое исцеление, приражениями скорбей врачуя от болезни сластолюбия. Так приемлют Павел — крест, Иаков — меч, Стефан — камни, блаженный Петр — прободение копьем во главу; все бывшие после подвижники веры — разнообразные виды мучений, зверей, пропасти, костры, оцепенения от хлада, обнажение ребер от плоти; пробитие главы гвоздями, избодение очей; отсечение перстов, вырывание с обеих сторон тела по частям, томление голодом — все это и подобное сему, как очищение от греха, с весельем терпели святые, чтобы и следа, произведенного сластолюбием, не оставалось в сердце после того, как это болезненное и мучительное ощущение сгладит в душе все отпечатки сластолюбия.
Посему «блажени изгнани» Меня ради. А это (можно придумать и другое основание) имеет такое же значение, как если бы кто дозволил вести речь здравию, и оно сказало: блаженны удаленные от болезни ради меня; потому что отчуждение от печалей приуготовляет болезновавших некогда ими к тому, чтобы приобресть меня. Так будем внимать словам сим, как бы сама жизнь провозглашала нам подобное блаженство: блаженны гонимые смертью ради меня; или как бы свет сказал: блаженны изгнанные из тьмы ради меня. Подобно, представь себе что и Господь, Который есть правда, и святость, и нетление, и благость, и все, о чем имеешь понятие, как о представляемом и именуемом наилучшим, скажет тебе, что блажен всякий удаляемый от всего противоположного тому, что о Нем разумеется, от тления, от тьмы, от греха, от неправды, от любостяжания, и от чего бы то ни было, и на деле, и по понятию несогласного с правилами добродетели. Ибо стать вне худого значит быть поставленным в добром. «Творяй грех», говорит Господь, «раб есть греха» (Иоан. 8:34.). Посему отступивший от того, кому был рабом, свободен по достоинству. А высочайший вид свободы — стать самовластным; царское же достоинство не имеет над собою никакой высшей управы. Поэтому, если чуждый греха самовластен, царскому же сану свойственно самодержавие и неподвластность; то справедливо ублажается изгоняемый злом, так как изгнание от зла доставляет ему царское достоинство.
И так не скорбите, братия, изгоняемые от земного. Преселяемый отсюда водворяется в царских на небе чертогах. Две сии стихии в творении существ уделены для пребывания разумного естества, — земля и небо; земля — местопребывание приявших жизнь при посредстве плоти, а небо — местопребывание бесплотных. Посему жизни нашей, конечно, необходимо быть где–нибудь. Если не изгнаны мы с земли, то, без сомнения, на земле пребываем. А если удалимся отсюда, то преселимся на небо. Видишь ли, куда возводит тебя ублажение за то, что по–видимому прискорбно, но служит для тебя причиною так великого блага? Сие разумев, Апостол говорит: «всякое наказание в настоящее время немнится радость быти но печаль; последи же плод мирен наученым тем воздаешь правды» (Евр. 12:2). Поэтому скорбь есть цвет ожидаемых плодов. Ради плодов пожнем и цвет. Пусть будем изгнаны, чтобы вступить в течение, и вступив в течение, потечем не всуе; а напротив того течение наше да будет «к почести вышнего звания» (Фил. 3:14). Так потечем, да постигнем. Что же постигаемое? Какая почесть? Какой венец? — Что ни представишь себе из уповаемого тобою, все это, кажется мне, не иное что есть, как Сам Господь. Ибо сам Он и подвигоположник подвизающихся, и венец побеждающих. Он разделяет жребий; Он же и жребий благий. Он — благая часть; Он же и дарует благую часть. Он обогащает; Он же и богатство. Он указует тебе сокровище; Он же и делается для тебя сокровищем. Он вводит тебя в вожделение прекрасного бисера; Он же и предлагается тебе, совершающему добрую куплю. Посему, чтобы возобладать этим, откажемся от того, чем обладаем, как на торжище, на то, что имеем, выменяв то, чего не имели. Если мы гонимы, не будем печалиться; лучше же сказать, возрадуемся, что изгнанием от того, что дорого на земле, делаемся гонимыми к небесному благу, по обетованию Господа, что «блажени изгнани» Его ради: «яко тех есть царствие небесное», по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
К Авлалию о том, что не «три Бога»
Хотя от вас, во всей силе цветущих по внутреннему человеку, справедливость требует, бороться с противниками истины и не ослабевать в трудах, чтобы нам отцам можно было порадоваться на доблестно проливаемый пот чад; так как сего требует закон природы; однакоже, поелику, извратив порядок, к нам отсылаешь приражения стрел, какими противники мещут в истину, и приказываешь нам старикам щитом веры угашать угли пустынные (Псал. 119:4) и изощренныя лжеименным ведением стрелы; то принимаем приказание, делаясь для тебя образцем благопокорности, чтобы и ты сам, в случае подобных приказаний, воздал нам тем же, как скоро и тебя, мужественный Христов воин Авлавий, возставим на подобные подвиги. Вопрос же этот, который предложил ты нам, немаловажен и не таков, чтобы мог принести малый только вред, если останется без надлежащаго изследования. Ибо, по требованию главнаго положения, непременно необходимо, в ближайшем к разумению смысле, согласиться на одну из противоположностей, или утверждать, что Богов три (чтó непозволительно), или Сыну и Святому Духу не приписывать Божества (чтó нечестиво и нелепо). Утверждаемое же тобою таково: Петр, Иаков, Иоанн, как человечество их одно, называются тремя человеками, и нет ничего нелепаго соединенных по естеству, если их много, по именованию естества называть во множественном числе. Посему, если там допускает это обычай, и никто не запрещает двоих называть двоими, а если больше двоих, то и троими; почему в таинственных догматах, исповедуя три ипостаси, и не примечая в них никакой разности по естеству, некоторым образом противоречим исповеданию, утверждая, что Божество Отца и Сына и Святаго Духа одно, запрещая же называть их тремя Богами? Посему, как сказал я прежде, вопрос весьма затруднителен. И для нас всего лучше будет найдти чтó либо такое, на чтó могла бы опереться колеблющаяся наша мысль, не приводимая уже более в сомнение и недоумение обоюдною нелепостию. Но если ответ наш окажется слабейшим предложенной задачи, то предание, которое прияли от отцев, навсегда сохраним твердым и неподвижным, защитительнаго же слова вере поищем у Господа, и если найдем у кого либо из имеющих благодать, то возблагодарим Подателя благодати. А если не найдем, тем неменее веру в признаваемое нами будем иметь непреложною.
Итак почему у нас в обычае оказывающихся принадлежащими к одному и тому же естеству, перечисляя по одиночке, называть во множественном числе: столько–то человек, а не говорить, что все они — один человек; догматическое же учение о Божием естестве отвергает множество Богов, перечисляя ипостаси, но не принимая множественнаго значения? Людям простым может показаться сказавшим на сие нечто дельное, кто даст в ответ, чтó прежде всего придет ему на мысль, а именно: христианское учение, избегая сходства с эллинским многобожием, остереглось считать Богов во множестве, чтобы не признано было как либо и общности в догматах, если и у нас Божество числино будет не единично, но множественно, подобно принятому в обычай у эллинов. И это, будучи сказано людям нехитростным, покажется, может быть, имеющим некоторое значение; для других же, которые в следствие вопроса стараются утвердиться в ином: или неисповедывать Божественности в трех лицах, или имеющих общение в той же Божественности непременно именовать тремя, — данный ответ еще не таков, чтобы служить решением вопроса.
Посему необходимо отвечать обстоятельнее, как прилично отыскивающим следы истины; потому что речь идет не о маловажном. Посему утверждаем вопервых, что есть некое неправильное словоупотребление в этом обычае, неразделяемых по естеству называть в множественном числе одним и тем же именем естества и говорить: многие человеки, чему подобно будет, если сказать: многия естества человеческия; а что сие действительно так, явно для нас будет из следующаго. Когда кличем кого, именуем его не по естеству, чтобы общность имени не произвела какой ошибки, если каждый слышащий подумает, что кличут его, потому что зов делается не собственным названием, но общим именем естества; напротив того, произнося собственное имя, принадлежащее вызываемому, разумею то слово, которым означается этот именно человек, таким образом отличаем его от многих, так что, хотя много имеющих это естество, положу например учеников, апостолов, мучеников, но этот человек из всех один; потому что, как сказано, человек есть название не в отдельности каждаго, но общаго естества; ибо и Лука и Стефан — человек, но если кто человек, то он не есть уже непременно и Лука и Стефан. Напротив того понятие ипостасей, по усматриваемым в каждой особенностям, допускает разделение, и по сложении представляется числом; но естество одно, сама с собою соединенная и в точности неделимая единица, неувеличиваемая приложением, неумалямая отъятием; но, как есть одна, так, хотя и во множестве является, сущая нераздельною, нераздробляемою, всецелою, неуделяемою причастникам ея по особой части каждому. И как словами: народ, толпа, войско, собрание, все называется в единственном числе, хотя в каждом из именований подразумевается множество; так и человеком в точнейшем понятии может быть назван собственно один, хотя оказывающихся принадлежащими к тому же естеству много, так что гораздо лучше будет исправить этот погрешительный у нас обычай, и имя естества не распростирать на множество, или же, поработившись оному, происходящей оттого погрешности не переносить и на Божественный догмат. Но поелику исправление обычая неудобоисполнимо (ибо как убедится кто оказывающихся принадлежащими к тому же естеству не называть многими человеками? потому что обычай во всем с трудом изменяем); то в разсуждении естества дольняго нестолько погрешим, не противясь господствующему обычаю, так как здесь никакого нет вреда от погрешительнаго употребления имен. Но не так безопасно различное употребление имен в Божественном догмате, потому что здесь и маловажное уже не маловажно.
Итак единаго Бога исповедывать нам должно, по свидетельству Писания: слыши Исраилю, Господь Бог твой, Господь един есть (Втор. 6:4), хотя именование Божества простирается на Святую Троицу. Говорю же это на основании преданнаго нам о человеческом естестве; из чего дознали мы, что название естества не должно расширять отличительным свойством множественности. Но точнее изследовать нам должно самое имя Божества, чтобы заключающимся в слове значением оказано было некоторое содействие к уяснению предложеннаго вопроса. Многим кажется, что слово: Божество употребляется собственно об естестве, и как или небо, или солнце, или какая либо другая из стихий мира обозначается особенными именами, отличающими именуемое; так, говорят, и в разсуждении высочайшаго и божественнаго естества; слово: Божество, как некое в собственном смысле прилагаемое имя, естественно приличествует означаемому. Но мы, следуя внушениям Писания, дознали, что естество Божие неименуемо и неизреченно, и утверждаем, что всякое имя, познано ли оно по человеческой сущности, или предано писанием, есть истолкование чего либо разумеваемаго о Божием естестве, но не заключает в себе значения самаго естества. И для доказательства, что это действительно так, нет кому либо нужды в большом труде. Ибо все прочия имена, придаваемыя твари, и без какого либо словопроизводства может иный найдти случайно приспособленными к предметам; потому что любим, как ни есть, обозначать вещи их именем, чтобы знание означаемаго соделалось у нас неслитным. Все же имена, которыя служат руководством к постижению Божества, таковы, что каждое имеет собственный определенно заключающийся в нем смысл, и между боголепнейшими именами не найдешь ни одного слова без какого либо понятия. Почему и доказывается сим, что каким бы то ни было именем, не означается самое Божественное естество, а напротив того сим сказуемым показывается нечто из относящагося к естеству. Ибо говорим, если так случится, что Божество нетленно, или могущественно, или чтó иное, как обычно нам говорят, но каждому имени приискиваем особое значение, какое прилично представить в уме и высказать о Божием естестве, и которым не то означается, чтó есть в сущности естество. Ибо не тленно то, чтó имеет бытие; а понятие нетления то, что существующее не подвергается тлению. Посему, называя нетленным, утверждаем, что естество не терпит тления; чтó же такое непретерпевающее тления, сего мы не представляем.
Так, если назовем Божество животворящим, то, означив сим названием, чтó творит, словом сим не доставляем познания о самом Творящем. И по тому же закону из заключающагося в боголепных именах значения находим и все прочее, что или возбраняет познавать о божественном естестве то, чего не должно, или научает тому, чтó должно знать, но не заключает в себе истолкования самаго естества. Итак, поелику, примечая разнообразныя деятельности превысшей Силы, от каждой из известных нам деятельностей применяем Ей приличныя названия; то одну и именно ту деятельность, которая есть назирающая и наблюдающая, и, как скажет иный, зрительная (θεατικη), и которою Бог над всем наблюдает и имеет надзор, усматривая помышления и проникая созерцательною силою даже в невидимое, положили мы от зрения (εκ της θέας) наименовать Божеством (την Θεότητα), и Зрителя нашего, и по обычаю и поучению Писаний, называть Богом. Если же кто соглашается, что одно и тоже значит быть зрителем и видеть, и назирающему над всем Богу быть и именоваться надзирателем вселенной; то пусть разсудит о сей деятельности, одному ли из Лиц исповедуемых во Святой Троице принадлежит, или на все три Лица простирается эта сила. Ибо если истинно сие истолкование слова: Божество, и видимое зримо и зрящее называется Богом, — то нет уже основания, которое либо из Лиц Троицы лишать такаго наименования, по значению заключающемуся в слове. Ибо Писание свидетельствует, что видеть равно принадлежит и Отцу и Сыну и Святому Духу. Защитниче наш виждь Боже (Псал. 83:10), говорит Давид; а из сего дознаем, что понятие о Боге, поелику умопредставляется Он нами, заимствовано от особенной зрительной деятельности, по сказанному: виждь Боже. Да и Иисус видит помышления осуждающих, и потому самовластно прощает грехи людям: ибо сказано: видев Иисус помышления их (Матф. 9:4). И о Духе говорит Петр Анании: почто исполни сатана сердце твое солгати Духу Святому (Деян. 5:3), показывая, что нелживым свидетелем и наблюдателем того, на что в тайне отважился Анания, был Дух Святый, от Котораго и Петру было откровение утаеннаго; ибо Анания соделался татем самого себя, утаеваясь, как думал, от всех и сокрывая грех; Дух же Святый вместе был и в Петре, и прозревал в мысль Анании, влекущую его к корысти, и от Себя дает Петру силу видеть сокрытое; а сего, очевидно, не соделал бы, если бы не был зрителем тайнаго. Но скажет кто нибудь, что приводимое в слове доказательство нейдет к вопросу. Ибо если допустить, что название: Божество есть общее естеству, то сим еще недоказано, что не должно говорить: Боги, а напротив того сие–то скорее и понуждает говорить: Боги; ибо находим, что, по людскому обычаю, упоминаются, не в единственном числе, многими, не только имеющие одно и тоже общее естество, но и принадлежащие к одному и тому же сословию по занятиям; почему говорим о многих риторах, геометрах, земледельцах, сапожниках, также и о занимающихся всем иным. И если бы слово: Божество было именованием естества, то больше было бы уместным, на указанном выше основании три ипостаси включить в единое и называть единым Богом, по несекомости и неразделимости естества. Поелику же сказанным доказывалось, что имя: Божество означает не естество, а деятельность; то смысл речи обращается как то в противное доказываемому, а именно, что тем паче должно называть трех Богов, умопредставляемых в одной и той же деятельности; как говорится: три философа, или ритора, или, ежели есть другое какое имя, взятое от занятия, и многие участвуют в одном и том же. Все это обработал я с большею тщательностию, раскрывая возражения противников, чтобы большую твердость приобрел у нас догмат, одержав верх над труднейшими противоположениями. Поэтому должно начать нам речь снова. Так как у нас по самому ходу речи достаточно доказано, что слово: Божество есть именование не естества, а деятельности; то может быть, на то, что у людей состоящие между собою в общении по одним и тем же занятиям числятся и именуются множественно, а божественное, как единый Бог и единое Божество, именуется единично, хотя три ипостаси не различаются по значению, оказывающемуся в слове: Божество, иный основательно представит следующую причину: люди, хотя и многие имеют один род деятельности, но каждый, сам по себе оставленный действовать, приводит в действие предлежащее ему без всякаго общения в своей деятельности с занимающимися чем либо подобным. Ибо если риторов и много, то, хотя занятие, как единое, одно и тоже имеет имя во многих, однако же посвятившие себя этому занятию действуют каждый сам по себе, особо риторствует один, и особо другой.
Итак, поелику у людей при одних и тех же занятиях деятельность каждаго отдельна; то они в собственном смысле называются многими, так как каждый из них по своеобразности действования отделяется от других в особый округ. Но о Божеском естестве дознали мы не то, именно же, не то, что Отец Сам по Себе творит чтó либо, к чему не прикасается Сын, или Сын опять производит чтó либо особо без Духа; но что всякое действование, от Божества простирающееся на тварь и именуемое по многоразличным о Нем понятиям, от Отца исходит, чрез Сына простирается и совершается Духом Святым. Посему имя действования не делится на множество действующих, так как нет усвоеннаго каждому и особеннаго попечения о чем либо. Но чтó ни происходит, касающееся или промышления о нас, или домостроительства и состава вселенной — все производится Тремя, впрочем произведений не три. Уразумеем же сказанное по одному какому либо предмету. Начинаю речь с самаго главнаго из дарований; жизнь улучило все, чтó стало причастным сей милости. Итак доведываясь, откуда произошло у нас таковое благо, находим, по руководству Писания, что от Отца и Сына и Духа Святаго. Но на том основании, что полагаем три Лица и Имени, не заключаем, что особо каждым из Них дарованы нам три жизни; напротив того одна и таже жизнь приводится в действие Отцем, уготовляется Сыном, зависит от соизволения Духа. Итак, подобно сказанному, всякую деятельность Святая Троица не приводит в действие раздельно по числу Ипостасей; напротив того происходит одно какое либо движение и распоряжение доброй воли, переходящее от Отца чрез Сына к Духу. Посему, как производящих одну и туже жизнь не называем тремя животворящими, ни созерцаемых в одной и той же благости тремя благими, ни о всем другом не выражаемся множественно: так не можем именовать тремя Богами совокупно и нераздельно друг чрез друга приводящих в действие на нас и на всяких тварях оную Божескую (θεικην), то есть надзирающую, силу и деятельность. Ибо дознав из Писания, что Бог всяческих судит всей земли (Быт. 1 8:25), утверждаем, что Он судия вселенной чрез Сына. И слыша опять, что Отец не судит никому же (Иоан. 5:22), не думаем, что Писание противоречит само себе; ибо Судяй всей земли творит сие чрез Сына, Которому дал весь суд. И все, совершаемое Единородным, относится к Отцу, так что Он есть Судия вселенной, и никого не судит; потому что весь суд, как сказано, отдал Сыну, и всякий суд Сына не чужд Отеческой воле; посему никто не имеет основательной причины, или наименовать двоих судей, или одного в отношении к суду признать чуждым той власти и силы. Так и относительно понятия о Божестве, Христос Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1:24). И надзирающую и зрительную силу, которую называем Божеством, Отец приводит в действие чрез Единороднаго, потому что Сын всякую силу совершает Святым Духом, и судит, как говорит Исаия, духом суда и духом зноя (Ис. 4:4), действует же по евангельскому слову, изреченному иудеям; ибо говорит: аще же Аз о Дусе Божии изгоню бесы (Матф. 12:28), под частным благодеянием заключая все виды благодеяний, по причине единства относительно к действованию; а кем друг через друга в действие приводится одно, у тех имя действования не может быть разделяемо на многих. Ибо, как прежде сего сказано, один закон надзирающей и зрительной силы у Отца и Сына и Святаго Духа, от Отца, как из некоего источника исходящий, Сыном приводимый в действие и силою Духа совершающий благодать; а посему ни одно действование не различается по ипостасям, как бы каждою особо и отдельно, без обнаружения в действии и прочих, совершаемое; напротив того вся промыслительность, попечительность и бдительность над вселенной, относительно к чувственной твари и к естеству премирному и охраняющая существа, и исправляющая погрешительное, и научающая исправности, единственна, а не трояка, хотя Святою Троицею совершается, однакоже не разсекается тречастно по числу созерцаемых верою Лиць, так чтобы каждое из действий, само по себе разсматриваемое, было или одного Отца, или особо Единороднаго, или отдельно Святаго Духа. Но разделяет каждому особыя блага, как говорит Апостол, един и тойжде Дух (1 Кор. 12:11). Не безначально же движение блага от Духа; напротив того находим, что все творит предусматриваемая мысленно в сем движении сила, и это есть единородный Бог, без Котораго ни одно существо не приходит в бытие, да и сей опять Источник благ исходит из Отчей воли.
Если же всякое благое дело и имя не во времени, без перерывов, зависимо от безначальной силы и воли, приводится в совершение в силе Духа Единородным Богом, и не бывает, или не представляется мыслию никакого протяжения времени в движении Божественной воли от Отца чрез Сына к к Духу; единым же из добрых имен и понятий есть Божество; то несправедливо было бы имени сему разсеваться на множество, так как единство в действовании возбраняет множественное исчисление. И как у Апостола именуется един Спаситель всем человеком, паче же верным (1 Тим. 4:10), и на основании сих слов никто не скажет, что или не Сын спасает верующих, или спасение улучающих оное бывает без Духа; напротив того спасителем всех бывает Бог всяческих, между тем как совершает спасение Сын благодатию Духа; и тем паче в Писании именуются не три Спасителя, если и исповедуется, что спасение от Святыя Троицы; так не три Бога, по данному значению слова: Божество, хотя таковое название и приличествует Святой Троице. Входить же в состязание с возражающими, что под словом: Божество недолжно разуметь деятельности, кажется мне чем–то не очень необходимым для настоящаго в слове сем доказательства; ибо веруя, что естество Божие неопределимо и непостижимо, не примышляем никакого обемлющаго оное понятия, но постановляем правилом представлять себе естество сие во всех отношениях безпредельным; а всецело безпредельное не таково, чтобы иным определялось, иным же нет; напротив того безпредельность во всяком смысле избегает предела. Посему, чтó вне предела, то, конечно, не определяется и именем; почему, чтобы при естестве Божием осталось понятие неопределимости, говорим, что Божество выше всякаго имени, Божество же есть и одно из имен. Следовательно невозможно, чтобы одно и тоже, и именем было, и признавалось выше всякаго имени.
Впрочем, если угодно сие противникам, чтобы слово: Божество имело значение не деятельности, а естества; то возвратимся к сказанному в начале, что имя естества по обычаю погрешительно употребляется при означении множества, потому что ни умаления, ни приращения в истинном смысле не происходит в естестве, когда оно усматривается во многих или в немногих. Ибо то одно счисляется, как слагаемое, чтó представляется в особом очертании; под очертанием же разумеется поверхность тела, его величина, место, различие по виду и цвету. А чтó усматривается кроме сего, то избегает очертания таковыми признаками; и чтó не имеет очертания, то не исчисляется, неисчисляемое же не может быть умопредставляемо во множестве; потому что и о золоте, хотя оно раздроблено на многия разнаго вида части, говорим, что оно есть одно, и называется одним; монеты и статиры [5] именуем многими, во множестве статиров не находя никакого приумножения в естестве золота: почему и говорится о золоте, что его много, когда разсматривается в большом обеме, или в сосудах, или в монетах, но по множеству в них вещества не говорится, что много золотых веществ, разве кто скажет так, разумея дарики [6] или статиры, в которых значение множества придано не веществу, а частям вещества; ибо в собственном смысле должно говорить, что это не золотыя вещества, но золотыя вещи. Посему, как золотых статиров много, а золото одно; так в естестве человеческом по одиночке взятых людей оказывается много, например Петр, Иаков, Иоанн, но человек в них один. Если же Писание имя: человек расширяет и на множественное значение, говоря: человецы большим клянутся (Евр. 6:16), и: сынове человечестии (Псал. 35:8), и тому подобное; то должно знать, что Писание, водясь обычаем господствующаго наречия, не узаконяет, что так, или как иначе, должно употреблять речения, и выражается так, не какое либо искусственное предлагая учение о речениях, но пользуется словом согласно с господствующим обычаем, имея в виду то одно, чгобы слово соделалось полезным для приемлющих, но не входя в тонкия изследования выражений, где не происходит никакого вреда от смысла речений.
Долго было бы в доказательство сказаннаго собирать все неправильности словосочинения в Писании: но в разсуждении чего есть опасность потерпеть сколько нибудь вреда истине, в том в речениях Писания не оказывается неразборчивости и безразличия. Посему и допускает употребление слова: человек во множественном числе, потому что от такого образа речи никто не впадет в предположение множества человечеств, и не подумает, будто означаются многия человеческия естества, поточу что имя естества выражено множественно. Но слово: Бог с осторожностию возвещает Писание в единственном видоизменении слова, заботясь о том, чтобы множественным значением: Боги в Божественную сущность не ввести различных естеств. Почему говорит: Господь Бог, Господь един есть (Втор. 6:4). Но и Единороднаго Бога проповедует в слове: Божество, не разлагает единаго на двойственное значение, чтобы Отца и Сына наименовать двумя Богами, хотя тот и другой проповедуется у святых Богом. Но как Отец Бог, так и Сын Бог; един же Бог в одной и той же проповеди, потому что не умопредставляется в Божестве никакого различия ни по естеству, ни по деятельности. Ибо если бы, по предположению обольщенных, естество Святой Троицы было разнообразно; то в следствие сего число распространялось бы до множества богов, разделяясь вместе с инаковостию сущности в Лицах. Но поелику божественное, простое, неизменяемое естество отвергает от себя всякую инаковость по сущности; то, поелику оно едино, не допускает до себя значения множества. Но как естество называется единым, так в единственном числе именуется и все иное: Бог, благий, святый, спаситель, праведный, судия, и если еще разуметь другое какое из боголепных имен, о котором пусть скажет иный, что относится оно или к естеству, или к деятельности, спорить об этом не будем.
Если же кто станет клеветать на наше слово, что, не принимая различия по естеству, приводит к какому–то смешению и круговращению ипостасей, то в защиту от таковой укоризны скажем следующее: исповедуя безразличие естества не отрицаем разности быть причиною и происходить от причины, понимаем, что этим только и различается одно от другаго, именно тем, что, как веруем, одно Лице есть причина; а другое от причины. И в том, чтó от причины, опять представляем себе другую разность; ибо одно прямо от перваго, другое от перваго же при посредстве того, что от Него прямо, почему и единородность несомненно остается при Сыне, и Духу несомненно также принадлежит бытие от Отца, потому что посредничество Сына и Ему сохраняет единородность, и Духа не удаляет от естественнаго сближения со Отцем. Говоря же: причина и сущее от причины, не естество означаем этими именами (ибо никто не усвоит одного и того же понятия словам: причина и естество), но показываем разность в способе бытия. Ибо говоря, что один по причине, а другий без причины, не естество разделяем понятием о причине, но показываем только, что бытие имеют, и Сын не нерожденно, и Отец не через рождение. Прежде необходимо нам увериться в бытии чего либо, и тогда уже доведываться как существует то, в бытие чего верим; ибо иное понятие о том, что существует нечто, и иное о том, как оно существует. Посему оказать: существует сие нерожденно, значит решить: как оно существует: но этим словом не показывается вместе, что именно существует. И если спросишь земледельца о каком нибудь дереве: посажено оно, или само собою выросло, а он ответит, что или дерева не сажали, или от насаждения оно выросло, то сим ответом покажет ли он естество дерева? Нет. Напротив того сказав, как оно существует, понятие об естестве оставил неизвестным и неуясненным. Так и здесь, услышав слово: нерожденный, научены мы, как Он существует, и как нам надлежит разуметь Его; но чтó такое Он есть, не сказано нам этим словом. Итак, говоря о таковой разности в Святой Троице, а именно, что, по нашему верованию, одно Лице есть причина, а другое от причины, не можем уже быть обвиняемы в том, будто бы по общности естества смешиваем понятие об Ипостасях. Посему, поелику понятие причины различает Ипостаси святыя Троицы, утверждая бытие без причины, и бытие от причины: естество же Божие во всяком представлении разумеется непременным и нераздельным: то посему, в собственном смысле, одно Божество, один Бог, и все другия боголепныя имена выражаются в числе единственном.
К Симпликию о вере
Чрез пророка повелевает Бог, ни одного новаго Бога не признавать Богом, и не покланяться Богу чуждему (Псал. 80:10). Новым же, как явно, называется то, что не от вечности, и наоборот, опять вечным называется, чтó не ново. Посему, кто не верует, что единородный Бог от вечности имеет бытие от Отца, тот не отрицает, что Он нов; потому что невечное, без сомнения, ново, а все новое не есть Бог, как изрекло Писание: да не будет тебе Бог нов. Посему, кто говорит, что некогда Его не было, тот отрицает Его Божество. Опять возбраняет поклоняться Богу чуждему, кто говорит: ниже поклонишися Богу чуждему; чуждый же представляется в противоположность собственному нашему Богу; итак, кто же собственный наш Бог? Явно, что Бог истинный. Кто же чуждый? Конечно тот, который чужд естеству истиннаго Бога. Итак, если истинный Бог есть наш собственный, то единородный Бог, ежели Он, как говорят еретики, не имеет естества истиннаго Бога, будет Бог чуждый, а не наш; Евангелие же говорит, что овцы не послушаются чуждаго (Иоан. 10:5). А кто говорит, что Он сотворен, тот доказывает, что Он чужд естеству истиннаго Бога. Посему чтó же делают утверждающие, что Единородный сотворен? Покланяются ли Ему, как сотворенному, или нет? Если не покланяются, то иудействуют, отказывая в поклонении Христу. Если же покланяются, то идолопоклонствуют; потому что покланяются тому, кто чужд истинному Богу. Но равно нечестиво, и не покланяться Сыну, и покланяться Богу чуждему. Посему Сына истиннаго Отца надлежит называть истинным, чтобы покланяться Ему, и не быть осужденными за то, что покланяемся Богу чуждему. А тем, которые повторяют слова книги Притчей: Господь созда Мя (Прит. 8:12), и признают в этом твердое некое доказательство того, что Творец и Создатель вселенной сотворен, надлежит сказать, что ради нас многим соделался единородный Бог; будучи Словом, стал Он плотию, будучи Богом, стал человеком, будучи безплотным, стал телом, и еще кроме сего соделался грехом, и клятвою, и камнем, и секирою, и хлебом, и овцею, и путем, и дверию, и камнем, и многим тому подобным, не будучи ничем этим по естеству, но ради нас соделавшись по домостроительству.
Посему, как ради нас, будучи Словом, соделался плотию, и будучи Богом, соделался человеком, так, и будучи Творцем, ради нас стал тварию; потому что плоть сотворена. Посему и сказал, как чрез пророка: тако глаголет Господь, создавый Мя от чрева раба Себе (Ис. 49:5), так и чрез Соломона: Господь созда Мя в начало путей Своих в дела Своя. Итак и в сказанном у Пророка, созданный во чреве девы есть раб, а не Господь, то есть по плоти человек, в котором явился Бог; и здесь созданный в начало путей Божиих есть не Бог, а человек, в котором явился нам Бог, чтобы опять обновить растленный путь человеческаго спасения. Посему так как о Христе знаем то и другое, — и Божеское и человеческое, в естестве Божеское, а в домостроительстве то, чтó по человеку, то в следствие сего Божеству присвояем вечность, а человеческому естеству приписываем тварность. Ибо, как, по слову пророка, во чреве создан рабом, так, по слову Соломона, рабственною сею тварию явился во плоти. Когда же скажут: если был, то не рожден; и если рожден, то не был; — тогда пусть научатся, что особенностей плотскаго рождения не надлежит прилагать к естеству Божию; потому что тела, несуществовав прежде, раждаются; Бог же несуществующее творит существующим, а Сам не происходит из не–сущаго. Посему и Павел именует Его сиянием славы (Евр. 1:3), в научение наше, что, как свет от светильника и от светящагося естества, даже вместе с ними (ибо как скоро появляется светильник, возсиявает вместе и свет от него): так Апостол повелевает разуметь и здесь, что и Сын от Отца, и Отец никогда не был без Сына. Ибо невозможно славе быть не блистательною, как невозможно светильнику быть без сияния. Явно же, что как быть сиянием — служит свидетельством бытия по славе, потому что, если нет славы, то не будет и сияющаго от нея: так утверждать, что нет сияния — служит доказательством, что не было и славы, когда не было сияния; потому что невозможно славе быть без сияния. Посему, как невозможно сказать о сиянии, что, если оно было, то непроизошло; и если произошло, то его не было; так напрасно утверждать это о Сыне, потому что Сын есть сияние.
Прилагающие же понятия меньшаго и большаго к Сыну и Отцу да научатся у Павла неизмерять неизмеримаго; ибо Апостоль называет Сына образом Отчей ипостаси (Евр. 1:3). Из сего явствует, что какова упостась Отчая, таков и образ ипостаси. Ибо невозможно образу быть меньше созерцаемой в нем ипостаси. Но и великий Иоанн учит сему, говоря: в начале бе Слово, и Слово бе к Богу. Тем, что сказал: в начале бе, а не после начала, показал, что начало никогда не было без Слова: а тем, что указал: Слово бе к Богу, означил, что Сын в сравнении с Отцем не имеет ни в чем недостатка: потому что вместе со всецелым Богом всецело созерцается и Слово. Если бы Слово имело недостаток в Своей великости, так что не могло бы Оно быть к всецелому Богу; то, по всей необходимости, следовало бы признать, что в Боге преизбыток пред Словом неимеет уже Слова. Напротив того, во всем величии Бога созерцается вместе и величие Слова. Итак для Божественных догматов не имеет места выражение: это больше, а это меньше. Утверждающие же, что рожденное по естеству не подобно нерожденному, да научатся примером Авеля и Адама не разсуждать нелепо. Ибо и Адам по естественному человеческому рождению не был рожден, Авель же родился от Адама, а неродившийся называется нерожденным, — но Адаму нимало не воспрепятствовало быть человеком то, что он не родился, и Авеля рождение не сделало чем нибудь иным в естестве человеческом; напротив того и тот и другой человек, хотя один был рожден, а другой не имел рождения. Посему и по божественным догматам сие — быть нерожденным и рожденным — не производит разности в естестве; но как в Адаме и Авеле человечество одно; так в Отце и в Сыне Божество одно.
И о Духе Святом хулители говорят тоже, что и о Господе, то есть, что Он — тварь: Церковь же равно, как о Сыне, так и о Святом Духе, верует, что Он не создан, и что всякая тварь чрез причастие превысшаго блага делается благою (Дух же Святый не имеет нужды в подаваемой благости, потому что благ по естеству, как свидетельствует Писание); и тварь путеводится Духом, Дух же дарует путеводство; тварь управляется, а Дух управляет: тварь требует утешений, а Дух утешает; тварь пребывает в рабстве, а Дух освобождает; тварь умудряется, а Дух дает благодать премудрости; тварь приемлет дарования, а Дух раздает со властию. Ибо вся сия действует един и тойжде Дух, разделяя властию, коемуждо якоже хощет (1 Кор. 12:11). И в Писании можно найдти тысячи других доказательств, что все высокия и боголепныя именования, какия Писанием придаются Отцу и Сыну, читаются и о Святом Духе, как то: нетление, блаженство, благость, премудрость, могущество, правда, святость: всякое досточтимое имя также употребляется о Святом Духе, как употребляется оно и об Отце и о Сыне, кроме тех имен, которыми ясно и неслитно отличаются одна от другой ипостаси, разумею же, что Дух Святый не называется ни Отцем, ни Сыном; все же другия имена, какими именуются Отец и Сын, усвояются Писанием и Святому Духу.
В следствие сего понимаем, что Дух Святый выше твари; а поэтому, где разумеется Отец, и где разумеется Сын, там разумеется и Дух Святый; ибо Отец и Сын выше твари, это же последовательность слова свидетельствует и о Духе Святом. Посему, кто Духа Святаго превозносит выше твари, тот, значит, приемлет правое и здравое учение; ибо исповедует одно несозданное естество, созерцаемое в Отце и Сыне и Святом Духе. Если же в доказательство того, как думают, что Дух Святый сотворен, представляют нам пророческое слово, в котором сказано: утверждаяй гром и создавый дух [7] и возвещаяй в человецех христа Своего (Ам. 4:13); то надлежит разуметь, что пророк говорит о создании инаго духа в утверждение грома, а не Духа Святаго, ибо громом таинственное учение именует Евангелие. Посему те, в ком вера в Евангелие делается твердою и непреложною, быв прежде плотию, посредством веры переходят в другое состояние, делаются духом, как говорит Господь, что рожденное от плоти, плоть есть; и рожденное от Духа, дух есть (Иоан. 3:6). Итак утверждением в верующих евангельскаго слова Бог творит верующаго духом; а кто рожден от Духа, и кого таковый гром соделывает духом, тот возвещает Христа, потому что, как говорит Апостол, никтоже может рещи Господа Иисуса Христа, точию Духом Святым (1 Кор. 12:3).
Против учения о судьбе
Помнишь, без сомнения, что произошло со мною, когда недавно у вас весьма великая гора неверия, говоря евангельски, подвиглась в веру (Мф. 17:20), потому что премудрый Евсевий в старости придумал достойное своих седин, если только надобно иным держаться той мысли, будто бы это есть примышление человеческое, а не Божественное некое содействие Того, Кто направляет человечество во благое. Тогда подлинно изумлялся я необычайности чуда, как бывший прежде в таком неверии величием веры в много крат превзошел меру неверия. И как в продолжение нашей беседы зашла как–то речь, касающаяся вопросов о судьбе, получил я приказание твое, о честная для меня и священная глава, письменно в Послании пересказать тебе разговор, бывший об этом предмете в великом Константиновом граде с одним из философов. Итак, улучив ненадолго досуг, в немногих словах, сколько можно сокращая речь, изложу тебе в простом и необработанном рассказе, всего более остерегаясь того, чтобы речь, простертая до обширности рассуждения, не переступила далеко меру Послания.
Предложил я несколько слов о нашем благочестии одному мужу, обученному внешней мудрости, как можно было догадываться из того, что он говорил, и намеревался его убедить, чтобы от эллинства перешел в согласие с нашим учением. Но приводил он много доказательств, что избрание чего–либо по своей воле не во власти желающих — напротив того, связывал человеческую жизнь какой–то необходимостью, без которой не может ничего сделаться из бывшего с нами, и отражал мое учение следующими словами: если определено ему сделаться христианином, то сделается непременно, хотя бы и мы того не хотели; если же возбранено это будет необходимостью судьбы, то не сделается возможным изобрести какой–либо способ, чтобы им преодолеть судьбу. Поскольку говорил он это, думал я, как и естественно было, что он избегает случая узнать что–либо о вере, будучи глубоко погружен в эллинство, и этим способом желая отразить продолжение нашего слова. Но не переставал он держаться того же, утверждая, то все подчинено необходимости судьбы, что она во главе сущего, ее вращению покорствуют все существа, и долгота жизни, и разность в нравах, и избрание рода жизни, и устроение тела, и неравенства достоинств, так что необходимо начальствует, кто по судьбе достигает начальства, по той же причине иной пребывает в рабстве, а также богатеет и беднеет. И опять здоровое и немощное сложение тела, короткая жизнь и долговечность ту же имеют причину. Ибо кто и малое число дней наслаждается жизнью и кто проводит ее долгое время не по собственному усилию, но по оной необходимости, тот и другой получают то и другое. Не иначе как судьбою дается в удел и произвольная, и непроизвольная смерть и разнообразные виды смерти насильственной, причиняемой в несчастных случаях, или удавлением, или судебным приговором, или по злоумышлению. И этих еще более общие и многообъемлющие страдания: землетрясения, кораблекрушения, наводнения, бедствия от огня и все подобные виды зол, представлял он зависящими от этой причины.
Присовокуплял, что и в житейских занятиях нимало не властен рассудок избирающего. Но все, утверждал он, служат владычеству судьбы, когда кто философствует, или ораторствует, или возделывает землю, или мореходствует, избирает жизнь супружескую или безбрачную. А также утверждал он необходимость добродетели и порока, так что по неминуемому жребию один привязался к жизни более возвышенной, проводимой в нестяжательности и свободе, другой же раскапывает гробы, или на море разбойничает, или непотребствует, или изнеживает себя распутной жизнью. Перечисляя все сему подобное, думал он, что представил сильную причину не принимать нашего учения, показав, что не от нас зависит власть избирать, чего пожелаем, но должны ожидать этого от необходимости, которая, если положит начало такому стремлению, делом необходимости будет и нехотя последовать учению. Без этой же необходимости невозможно сделаться этому и при сильном желании.
Когда проговорил он это и подобное тому, я спросил его: не Богом ли каким почитает он имеющего державу над всем и величаемого именем судьбы, и чьей волей, по верованию его, устраиваются дела каждого? Он же, осудив меня за великое малоумие, выказанное в этом вопросе, сказал: «Не разумеешь ты, кажется мне, ничего небесного. Иначе знал бы ты силу судьбы и как эта сила неминуемо объята цепью событий». Когда же на эту речь выразил я удивление и пожелал узнать нечто более ясное, именно, представляет ли он судьбу какой–либо силой свободной, самоправной, не раболепной, оказывающей в себе превысшую некую власть, или под именем судьбы понимает нечто иное? Опять возвращаясь к прежнему слову говорит он: «Кто наблюдал движение небесных тел, зодиакальный круг, двенадцать на нем отделов, равно отстоящих друг от друга по очертаниям видимых созвездий, постиг силу каждой из звезд, т. е. какую силу имеет каждая сама по себе от природы, и что производит собрание звезд при известном взаимном их соединении, когда свойство каждой из них по возможности смешано приближением к другой и отделено удалением от другой; что опять производит прохождение внизу нижней звезды и что — затмение во время перехода и опять восстановление верхней, разнообразное расположение сходящихся и расходящихся звезд, описываемое треугольными или косвенными очертаниями или составляющее какое–либо иное из известных в геометрии очертаний, — кто уразумел это и подобное этому, тот узнает означаемое словом «судьба»". Потому что именем судьбы объясняется необходимо совершаемое при известном сочетании звезд в какой–то неминуемой цепи. Поскольку же мне и это опять казалось странным, потому что не понимал я ничего им утверждаемого как не обучавшийся этой науке, то просил я объяснить мне сказанное тем, из чего мог бы я познать смысл слова «судьба». Ибо что звездные круги один в другом заключаются и движением, противоположным прямому обращению, вращаются внутри, все же они описывают круг зодиака — это, сказал я, слышал я и от других, вследствие чего не сомневаюсь, что лучи светил по особому каждого полюса круговращению сближаются и расходятся, низшее проходит внизу, верхнее скрывается от наших взоров, если бывает позади проходящего внизу. И что вследствие этого естественно заключать, если из звезд составляется какое–либо очертание, когда круг собственным движением вращает находящуюся на нем звезду так, что она во время перехода бывает или на одной прямой черте с верхней над ней звездой, или на стороне ее, если в малое и если в большее продолжение времени совершается полный оборот каждой из звезд, так как они по величине отношения к каждому из кругов необходимо или скорее, или медленнее движутся при обратном вращении. О всем этом и о подобном этому просил я умолчать, ясно же раскрыть мне только могущество судьбы — Бог ли какой разумеется под именем судьбы, от Которого зависит держава Вселенной и Который всем управляет полновластно по преизбытку силы, как угодно Ему, или предполагается, что сила судьбы служебна другой некоей высшей действительности, так что и она сама некоторым образом состоит под властью другой судьбы, сопоставленной с высочайшей причиной всего? Ибо если поверим, что судьба имеет державу над всем, то последовательность речи приведет к той мысли, что ей ничто не служит началом. Если же утверждаем, что судьба, последуя движению звезд, над всем господствует с насильственной некоей необходимостью, то безопаснее было бы скорее предшествующему, нежели последующему, присвоить эту всемощную власть и звезды назвать причиной этого — именно же или прямое их круговращение, или внутри круговращения этого усматриваемые круги, или круг, описываемый на оси косвенно. Ибо если кто предположительно согласится, что звезды не движутся и вечным круговращением не производится между ними взаимного передвижения одной от другой, но всегда состоят они в одном и том же расположении, то не состоится судьба. Итак, если движение звезд порождает судьбу, то напрасно признается она господствующей над всем другим, так как она сама в рабстве у высшей причины и не существует, когда нет движения.
Но этот философ говорит: «Не это и не так полагает наше учение. По нему судьба не сама по себе представляется, как некая личность. Напротив того, поскольку в существах есть одно некое сочувствие и все само в себе связно и отдельные части, рассматриваемые в целом, как бы в одном теле, объемлются единым согласием, потому что все части одна с другой тесно соединены, постольку (так как верхний удел гораздо главнее) все земное применяется к тому, что идет впереди, и согласуется с этим, потому что сообразно с движением того, что вверху, необходимо движется все здешнее — по преимуществу же, как сказано, силою каждой усматриваемой звезды. Как во врачебном составе качества веществ, по какому–либо закону искусственно смешанные, в общем растворении производят нечто иное, а не то, чем было каждое вещество до взаимного их смешения, так (поскольку и звездные силы оказываются с различными свойствами) то разнообразное, происходящее от сближения и расстояния звезд, сочетание различных свойств производит многообразные различия совершающегося в жизни, как бы неким потоком непрерывно оттоле льющимся на нас. Поэтому–то предсказания будущего, делаемые любомудрствующими о сем тщательнее, бывают непогрешительны. Ибо, как сведущий во врачебном искусстве, если горячительное или производящее онемение лекарство смешано с соленым или вяжущим, предсказывает свойство, составляющееся от смещения разнообразных веществ, а также и что оно производит, и долго ли будет иметь силу, и кому бывает губительно, кому же спасительно, — так, кто со тщанием внимает горнему, постиг природу каждого существа, тот познает силу сочетания их качеств, что она производит. Самый же поток этот и на малое время не бывает сам себе подобен. Напротив того, поскольку движение входящих во взаимное сочетание звезд никогда не останавливается, то и он необходимо изменяется, непрерывно переиначиваясь согласно с движением, всегда состоя в связи с разнообразием движения и по движению звезд изменяя свои действия. И каждый из вступающих в жизнь, привлекши себе из этого потока ту долю, какая достается ему, сообразно этому мгновению времени делается тем, что предуказало и произвело свойство этой части. Ибо по всей необходимости, как оттиском печати, сделанным на воске, отпечатлевается вид изображения, так и человеческая жизнь какой долей силы, истекающей из движений звезд, бывает увлечена, но свойству той части и должна отпечатлеваться и делаться тем, что имела в себе доля истечения, которую мгновенно привлек начинающий жизнь и которой однажды будучи запечатлен сообразно примечаемой там силе, необходимо сообразуется в свойстве образа жизни, делая или претерпевая то, чему начало и причины положила для него первая встреча с звездным этим потоком».
Когда сказал он это, заметил я ему: «Ужели не перестанешь распространяться предо мною в пустословии и бреднях, доказывая, что та неделимая доля мгновенного приобщения притекает к нам свыше, по словами твоим, служа причиной всего, что в нас; но не скажешь, одушевлено ли это и имеет ли свободное произволение и как господствует над одушевленными неодушевленное, не имееющее самостоятельности, неспособное показать, что есть в ней какое–либо собственное, природное стремление? Напротив того, над всякой волей, над предусмотрительностью рассудка, над ученостью, тщательностью и добродетельными предначинаниями в слове своем поставил ты как бы каким самоуправным властелином и владыкой что–то неодушевленное, несвободное в произволении, непостоянное, преходящее, неделимое, несостоятельное и в зависимости от силы этого поставляешь состав и управление существ и не видишь, в какие нелепости вдается учение твое?» Ибо если доля оного потока имеет такую силу, что по ней совершается то, что пришло в бытие при первом ее происхождении, то это, конечно, потому, что непоследовательно, но предварительно направляется ею состояние существ. Поэтому доля сия по мере собственной силы своей поведет рождаемого и не будет услуживать рожденному при встретившихся ему обстоятельствах. Ибо не видно здесь, что чего первоначальиее, потому что то и другое во мгновение равно одно с другим сходится. И человек прежде исшествия из ложесн находится в каком–то движении, движимый умалением и возрастанием в естестве, потому что и это составляет род движения; и звезда, прежде нежели человек привлечет в себя воздух, уже в движении и не стоит. И встреча равно встречающихся между собою вследствие движения затруднительным делает для судии решить, что чему предшествует, ибо и звезды движутся, круговращаясь, и рождаемое совершает естественный свой путь. Если же то и другое взаимно сходятся в одну часть времени, то какая у них между собой разница, чтобы одно признать причиной другого? Ибо если человек по причине звезд, то природе надлежало бы непрестанно истекать рождением, ни на мгновение не показывая никакого перерыва в появлении на свете человеческого рода. Если же много бывает промежутков между появлением рождающихся, то ясно показывается, что не движению звезд последует рождение человеческое. Ибо звезды всегда движутся, а люди не всегда рождаются — напротив того, и звезды идут собственным своим порядком, и у людей опять сам по себе особый порядок, и что далеко между собою по природе, того никакая необходимость не связывает друг с другом. Если же учение ваше утверждает это, а именно что в этой доле времени заключается причина всего, что бывает в жизни, то смотри, сколькие тьмы владык и самоуправных властелинов производят всякий день, а равно и всякая ночь в эти краткие и мгновенные отделы времени, потому что ночь и день, как говорите, делятся на двадцать четыре часа, а каждый час подразделяется на шестьдесят минут, и опять каждая из этих минут еще делится на такое же число секунд; а как говорят у вас прибегающие в слове к утонченнейшему наблюдению подобных вещей, и каждая опять из этих поименованных частиц подвергается новому равночисленному разделу. Итак, составляемое из них множество мгновенных оных богов, или владык, или самоуправных властелинов, или не знаю, как и назвать их надлежит, превышает собою двадцать одну тьму [8].
Если же один час производит нам столько тысяч частиц, то двадцать четыре часа в отношении к одному, многократно взятые, конечно, породят неисчетные тысячи частиц. А ваше учение утверждает, что каждая из этих частиц имеет неизбежную силу. Из этого следует, что ни одна из них не бездейственна, потому что бездействия не назовешь отличительным свойством силы, без сомнения же, сила усматривается в деятельности. Посему равны силе и ее произведения, так что, сколько в каждом часу частиц, столько по необходимости составляется в этот час и человеческих рождений. И если каждой частице надлежит приписать одинаковое могущество, то равнозначительность силы равно сделает всех царями, долговечными, сильными, благополучными, счастливыми, имеющими все, что почитается самым дорогим жребием. Ибо недостаток в чем–либо из этого делается обвинением несовершенства в силе. И никто не припишет равной силы производящему и великое и малое. Например, один пережил за сто лет в цветущей здравием и благополучной старости, окруженный детьми, сопровождаемый внуками и радуемый целым от них родом, не знающий болезней и страданий, почтенный, беспечальный, в изобилии наделенный богатством и всем, если что иное почитается дорогим в этой жизни, наконец, всеми ублажаемый. Другой в то же время, как произошел на свет, задушен: многие из рождаемых, будучи плодом блуда или прелюбодеяния, гибнут от матерей, которые, родив их беззаконно и своими руками предавая смерти, скрывают тем свою улику. Где же видно на них могущество рока? Почему для той же меры жизни сила судьбы оказалась недостаточною? Если ваше учение почитает для себя должным приписывать ей могущество, то сила ее окажется равной для всех существ, а не будет на одно достаточной, на другое же недостаточной, если действительно признается силой, потому что сила познается по произведениям. Поэтому никакой неправильности не будет иметь жизнь, когда все равно показывают в себе высочайшую меру благополучия, потому что все, по учению вашему, подлежат судьбе, а судьба все и всегда может, говорите вы.
Итак, если все и всегда может эта судьба, то возможет она все и над всеми. Но многочисленны и многообразны разности жизни у людей, по их достоинствам и имуществам, по продолжительности времени, по сложению тела и по всему, от чего человек именуется или блаженным или злосчастным. А что не все может этот созидаемый вашим словом рок, или судьба, это ясно показывает неравенство произведений. Ибо если долговечность почитаем делом силы, то кратковременность жизни, конечно, есть дело немощи. Поэтому надлежит признать за несомненное, что иная судьба немощна — а другая могущественна, потому что кратковременность противоположна долговременности, а потому–то каждая из них производится, конечно, противоположностями. Ибо никто не поставит в зависимость от одной и той же причины и блаженство, и злосчастие; но если в одном преуспеваем вследствие того, что есть сила, то другое, конечно, не произойдет без недостатка в силах. Ибо не в ином чем заключается злосчастие, как в неимении сил сделаться блаженным. Но большая часть людей злосчастны в продолжение жизни — следовательно, бессилие судьбы оказывается в большей мере, нежели ее сила. Поэтому где же эта непреоборимая, всемощная, неминуемая необходимость, у которой бы во власти состояло управление всем житейским, когда по связи речи обличалась она бессильной в большей части случаев?
Но скажешь, что, как одному хочет она этого, так другому равно не хочет, но для обоих имеет силу сделать что ей угодно. Посему, конечно, представишь и причину разности этих произволений. И тот и другой человек — не видишь в обоих никакого различия по естеству, ни у того, ни у другого нет хорошего или дурного в произволении, но один, предварив какой–либо малостью во времени, вышел из матерней утробы, потому что так случайно извергло его естество, а другой или непосредственно, или вскоре последовал за ним. И после этого не одна и та же жизнь дается в удел обоим, но один счастливец или, если случится так, царь с первого дня рождения обложен золотом и багряницей, а другой, сын какого–нибудь бедняка или раба, не завернут даже в рубище родившими его. Поэтому чем же не прав, малостью времени предваривши или опоздавши не по собственному намерению, но по движению естества, чтобы за это получить ему в удел бесчестную жизнь? Какое оправдание в этом найдете этой вашей владычице? Где правда, где благочестие? Где святость? Или скажешь, что ни о чем этом не заботится судьба, не обращает внимания на добродетель, не имеет попечения ни о каком добре? Поэтому если не это у нее на попечении, то, конечно, озаботится она противоположным, потому что отчуждение от добра ясно показываете освоением с злом.
Но скажешь, может быть, что нет у нее заботы ни о том, ни о другом? Поэтому утверждаешь, что она есть что–то неодушевленное, несвободное, не чувствительное ни к доброму, ни к худому. А если судьба не имеет ни души, ни произволения и не усматривается в ней собственной самостоятельности, то почему свидетельствуете, будто бы имеет такую силу, что управляет свободными живыми существами и владеет состоятельными несостоятельное, причастными жизни — непричастное ей, одушевленными — неодушевленное, живущими свободно — не имеющее свободы, упражняющимися в добродетели — неспособное к добродетели, одним словом, существующими — несуществующее? Посему в чем же заключается существенность этого пресловутого имени? Это не животное, не усматривается в очертании, не почитается Богом, ибо как быть Богом необращающему внимания на добродетель и справедливость? А ежели не есть что–либо из исчисленного, то что же это такое? Но, вероятно, судьбой называется у вас всегда настоящее во времени, потому что время сопротяженно всякому движению — рек ли, или звезд, или людей. Никакой нет разности, если, сидя при воде, неделимые по причине вечно настоящего времени частицы означат движением потока, или корабля, носимого ветром, или людей, совершающих путь или подвижных звезд, потому что для всего переходно движущегося один закон движения — переход с места, которое оно занимает, на место, на котором его нет. Если же ни течение потоков, ни движение кораблей, ни шествие людей, означая продолжение времени, не делаются судьбою, то почему вымышляете, что временные знаки движения звезд производят из себя судьбу, и утверждаете, будто бы такой–то час или самомалейшая частица часа, которая означена таким–то знаком звездного движения, делается судьбой? Почему не со всяким непременно знаком совпадают рождения людей? Ибо повторю опять то же слово. В чем причина, по которой человек, хорошо или худо, в том же самом, конечно, причина и того, что он существует. Поэтому если от звезд — то, что бывает по рождении, то от них же, конечно, и рождение. Если же не от них рождение, то не от них же и то, что по рождении. А что причина рождения не в звездах, видно это из следующего, а именно из того, что небезостановочно, подобно реке с непрерывно движущимся течением преходящего времени, текут вместе и человеческие рождения происходящих на свет — напротив того, рождения с промежутками, а в происхождении тех доль, которые текущее время производит приснодвижностью звездного стремления, никакого промежутка невозможно уловить ни чувством, ни мыслью. Поэтому что же такое эта судьба? Одна ли она родовая, или их много и они раздроблены по частицам времени, — этого в какой бы то ни было связи не в силах постигнуть разум.
Скажете ли, что движутся звезды? И мы указываем на движение рек. Но те движутся всегда, и реки также непрестанно. Но звезды — во времени, и реки не вне времени. Но для звезд невозможно отыскать временного начала движению; какое же начало во времени придумаешь и для рек? Но звезды движутся всегда по одним и тем же путям и одинаково, и рекам никто не припишет противоположного движения, потому что вода всегда естественно течет с высшего места по скату вниз. Поэтому, или уступите нам, что и движение рек порождает какие–либо судьбы, или мы не уступим этой силы движению звезд. Но такую–то силу, говорят, имеют овен или телец, и такую–то — каждая из планет. Поэтому, когда человек родится под влиянием чего–либо из поименованного и какой–нибудь планеты, которая или одна, или с другими круговращается периодически, тогда это соединение силы родившемуся в тот час делает жизнь соответствующей рождению. Какое пустословие! Тельца по какой–то случайности называете рабственным, потому что это животное укрощается ярмом; и овна — благодетельным, потому что приносит волну; о рождающемся же под влиянием которого–либо из них утверждаете, что такое–то созвездие, вращающееся противоположно, по силе, естественно в нем пребывающей, вследствие смешения особых свойств уготовляет такую–то долю рождающихся. Итак что же? Скажи мне, добровольно ли телец стал подъяремным? Ужели будешь утверждать, что овну желательно, чтобы его стригли? Вредоносная и приводящая в оцепенение сила у звезды, описывающей вершину неба, или горячительная у звезды огневидной или у другой какой из видимых звезд, какая бы то ни была сила, по доброй ли воле или против воли звезды в ней находится? Если добровольно пребывают они во зле и по произволению делаются вредоносными, то утверждающий это прямо провозглашает их несчастье, потому что, когда во власти их была лучшая участь, они находят для себя удовольствие в бесчестном. Если же не по своему произволению, но по какой–нибудь необходимости каждая звезда сделалась тем, за что вы ее почитаете, то значит, что и над ними еще какая–нибудь высшая другая судьба спряла качества их естеств и сил, так что нужно искать иных звезд, более могущественных, нежели первые и особого в самом себе движения, известное сочетание которых по какой–то необходимости судьбы сделало, что или телец рабствен, или овен вредоносен, или рак безголов, или, если что иное о каждой из звезд разглашают эти любители пустословия — мудрецы. И если эти явления у нас таковы по необходимости какой–либо судьбы, то, конечно, разум и для той высшей необходимости придумает другую причину, делающую необходимым такое состояние, и для сей другой — иную, и для иной — опять еще иную; и, таким образом, наш разум, простираясь в бесконечность, нигде не остановится, примышляя для судьбы судьбу, для доли долю, для необходимости необходимость.
Когда высказал я это и такими рассуждениями показал в учении нелепости, беседующий со мною философ, прервав быстрое течение речи, говорит: «Для чего с таким усилием споришь? Почему не следуешь тем, которые по вычислениям доискались истины во всем и, если точно взят ими час рождения происшедшего на свет, предсказывают всю по порядку жизнь родившегося: время, род жизни, свойства нравов, опасные случаи, супружество, чадородие, удачу в получении чинов или, наоборот, бездетность, болезни, незанятость, краткость жизни и бедствия бедности? Посему, так как все это в точности предназначено и истина засвидетельствована исполнением, какое еще у тебя основание не верить в необходимость судьбы?» Но я, сказав, что причины таких предсказаний исследую несколько после, спросил: полагают ли, что неразумна и случайна причина, по которой сбываются подобные вещи, или находят и некое основание в этом наблюдении, так что происходящее совершается естественно? — И очень, — отвечал он, — всему, что бывает, есть своя причина. Ибо когда от известного совпадения звездных качеств в рождаемом образуется такое–то сложение тела, тогда в точности постигший учение о небесных светилах предузнает, что такое–то сложение образуется у родившегося и жизнь может простираться до такой–то меры, и именно, большей при здоровом и опять меньшей при болезненном сложении тела. — А я, рассмеявшись на эти слова, сказал ему: утаил ты от нас, что по твоему мнению, судьбы ведут свой род от Галена, Гиппократа и подобных им, потому что и они, отложив в сторону движение звезд, по верному взгляду на подлежащее предсказывают будущее. Когда глаза впалы, виски ввалились, на лбу кожа отвердела, предрекают смерть. А у многих, говорил я, когда в самом болезненном состоянии были тела и почти уже ожидали они себе смерти, врачебным искусством вновь спрядены нити таковой судьбы. Так например, и об учителе Продике передало нам Платоново слово, что, хотя не мог он телесными упражнениями привести тело в совершенное здравие, потому что болезнь была смертельная, однако же, всегда искусно отдаляя близкую смерть, уготовлял себе если не безопасность жизни, то соблюдение от смерти, почему и дожил до старости, ухитрившись по медлительности смерти не умирать. Итак, и по этому рассказу судьба не принимается у вас как нечто непоколебимое, как скоро отыскивается какое–либо искусство устранить необходимость. Но такое рассуждение, говорит философ, нимало не опровергает доказательства, заимствуемого в пользу судьбы из предсказаний, ибо возможно и это предсказать тому, кто в точности наблюдал движение небесных светил, так что одному наверняка, а другому под сомнением предречена будет смерть. — Но я заметил: не таким образом подтверждается закон необходимости, ибо иной закон случайного, когда возможно произойти тому или другому, иной закон — непреложного, которого не должно прилагать к случайному и которое непременно или то, или другое; а колебаться надеждами о том или другом исходе дела — далеко от законов необходимости.
Сверх этого, говорю я философу, на каком основании думаете, что предсказание будущих событий имеет достоверность? — Многократно, говорит он, слышал ты мое об этом слово и еще теперь спрашиваешь о том же? Именно же сказано, что у звезд есть некоторые особые у каждой силы; а приснодвижность в течении известным их соединением производит тьмочисленпые разности в силах. Поэтому, кто вступил в жизнь рождением, тот, отпечатлев себе выпадающую ему долю времени, от влияния звезд получившую известный образ, что окажется заключающей в себе сила того часа, то же по необходимости будет иметь и в отношении к жизни; иначе же не бывает. — Поэтому что же такое, сказал я, бедствия на войне, землетрясения, падения городов, крушения кораблей, нагруженных десятками тысяч людей, наводнения, пожары, разверзшиеся пропасти и подобного рода стихийные бедствия? Как спасется при этом учение о предсказаниях? Сколько страданий представила жизнь и в прежние, и в наши времена? Таковы, например, потоп при Ное и сожжение Содома, или египетское войско, погрязшее в Чермном море, или потом поражения иноплеменников, эти тьмочисленные избиения людей, или ненасильственная смерть народа израильского, в краткое время погибшего во многих тысячах, или сто восемьдесят пять тысяч ассирийцев, умерщвленных в одно мгновение времени, сказания о последовавших бедах, о несчастьях, постигших мидян и эллинов, о великих битвах на море и на суше и все этому подобное, о чем памятование делается поучительными для последующих родов. Хотя бы и молчанием обошли мы все это, в засвидетельствование утверждаемого достаточно было бы и того, что повествует наша жизнь. Кто не знал этого великого главного города в Вифинии, принадлежащего к числу господствующих? Кому неизвестна широкая и пространная Фракия? Кому неизвестно и то, как в краткое продолжение времени один до основания сокрушен войною, а другая разорена землетрясением и огнем? Сколько там было детей, сколько младенцев, средневозрастных, престарелых, свободных и рабов, властвующих и подвластных, богатых, бедных, здоровых, больных — и все погибли в одно мгновение времени! Всех равно употребил себе в пищу огонь, для всех дома их стали гробами. Где же соединение этих звезд, определяющие людям разности в жизни? Или для всех этих людей одно стечение звезд решило муки рождения, и всем в час рождения выбросил их долю рок? Тьмочисленные разности возрастов и чинов свидетельствуют, что не все они вместе друг с другом рождены на свет. Если же у каждого время рождения различно, а тождество бедствий не допустило никакой перемены, несмотря на причину, заключающуюся в рождении, то не обличается ли этим нетвердость и несостоятельность предсказания?
Напротив того, говорит философ, и у корабля, и у города, и у всякого народа есть судьба, но первому положению звезд прядущая последующую долю, и содержимое по необходимости согласуется с содержащим. Поэтому кто же эта Илифия [9] при кораблестроении? Какое рождение у города? С какого начала усматриваем рождение народа? Дровосек рубит дуб, торгующий лесом пускает его в продажу, кораблестроитель покупает дерево за деньги, делит на части производство работ; один пилой распиливает дерева в доски, другой строит подводную часть корабля; иной прилагает старание о приготовлении поперечных связей; кто занят отделкой корабельного носа, а кто — кормы, у кого забота о мачте, а у кого — о райне; одни льют канаты из льна, кормчему заботой служит правило у руля; иные обделывают палубу и готовят ветрила; другие наводят украшение живописи; иные же смолой обвязывают связи и строят в середине трюм. Конечно, не все вместе делают свое дело, но один — ныне, другие — несколько после; один работу свою привел уже к концу, а другого видишь еще за делом. Поэтому когда же мудрецы приставят к кораблю судьбу? Тогда ли, как покупается дерево, или когда его рубят, или когда употребляют в работу, или когда действуют на. него железными орудиями, или когда сколачивают гвоздями? При таком множестве различных работ, которые нужны для кораблестроения и не в одно и тоже время одна с другой производятся, какое назначить время судьбе, чтобы корабль, дошедши до необходимости потонуть, погубил вместе с собой и плывущих на нем? Что же скажешь о городах? Когда, по их мнению, судьба овладевает городом? Тогда ли, когда у заботящихся о городе бывает какое–либо совещание о его основании? Когда рассуждают об удобстве места? Или когда чертят план? Или когда употребляют в дело железные орудия? Или складывают камни? Или сносят, что нужно для постройки? Что из этого служит началом города? Что также скажешь о народе, который сокрушен бедствиями войны? Какая, по их учению, доля, и откуда взяв начало, одних предала смерти, других поработила в плену? Почему Аннибал, или Кесарь, или Александр Македонский, на кого ни ополчались, всем приготовили одинаковую судьбу, настолько превышая силами ту необходимость, что все подверглось той же мере бед? А сколь неосновательна причина думать, что судьбы городов во время падения от землетрясений производятся расположением звезд, может иной увидеть из следующего. Кто не знает, что земля терпит таковые бедствия в местах не только населенных, но и необитаемых? Кто по собственному опыту или по слышанному рассказу имеет сведения о горе Сангагской, лежащей на пределах Вифинских, тот найдет справедливость этих слов, что около самых возвышений дороги вся вершина горы обвалилась и путешествующим представляет страшное зрелище. Подобное этому случилось и в областях Пафлагонских. А в иных местах и селения человеческие поглощены были такими разверзшимися пропастями, но нередко страна, не имеющая обитателей, оказывается потерпевшей такое же бедствие. И что в особенности сказать надобно о кипрянах, писидийцах, ахейцах, у которых много признаков сказанного? Но ради этого и упомянули мы, что все этому подобное терпит земля. Поэтому если случится, что на том месте находится поселение людей, то по всей необходимости и они испытывают бедствие, какому подверглось место. Если же свободно оно от жителей, то местное бедствие не причинит никакого вреда людям. Поэтому какая необходимость судьбы, когда и населенные, и ненаселенные места равно терпят подобное бедствие? Если бы можно было доказать, что земля создана по частям, а не вся вдруг, то имело бы, может быть, значение их пустословие, что с такой–то частью созидаемой земли сообразно с таким–то соединением звезд по необходимости совершается или то, или другое. Но поскольку, по слову Моисееву, все: небо, земля, море — одно с другим берется вместе и земля в создании и движении предшествует звездам, то почему причину частных событий с землей будут полагать в движении звезд? Поэтому если земля со звездами одновременна и из них не выводится никакой причины к разрушению или продолжению ее бытия, в некоторых же частных очертаниях мест происходят такие события, то уже не необходимости судьбы, а какая–нибудь другая особенность бывает причиной в таковых случаях. Поэтому, когда земля терпит что–либо такое и совершаются какие–либо подобные бедствия, так что и жители увлечены бывают в развалины, тогда что скажут поклонники судьбы, полагающие, что движение звезд господствует над существами? Почему гибнет тут дитя, грудной младенец, отрок, муж, отец, старец, благородный вельможа, наемник, узник? Ни время рождения, ни какое–либо различие в достоинстве не препятствуют потерпеть им одинаковое бедствие. Еще сверх этого кто не знает, что крайнее из всех преступлений есть кровосмешение с дочерью, брак с сестрой и беззаконная связь с матерью? Поэтому если это делалось по какой–то необходимости судьбы, то, конечно, и в наших местах нашлись бы отваживающиеся на это. Поскольку же на такое гнусное дело отваживаются только у одного персидского народа и у перенявших их законы, то вследствие этого всем явно, что роком и судьбой делается произволение каждого, самовольно избирающее, что ему угодно.
Еще сверх этого, чтобы не могли сказать подобного следующему: в известных местностях примечаются некие особые движения звезд, и потому одни женятся на матерях, другие убивают пришлых и едят людей, так как особое расположение звезд оказывает на них такое именно влияние, хотя подобное рассуждение свойственно невеждам, вовсе не обращающим внимательного взгляда на существующее, думающим, что по известным очертаниям земли отмечается и свыше назначенный им жребий (а в таком случае земное оказалось бы более властным, нежели небесное, если только признано, что и небесное таково по земному), — однако же и это присовокупим в обличение ложного их предложения. Народ иудейский разделен по всем почти частям земли: восточным, южным, средиземным, западным, северным, — почти все народы имеют у себя поселения иудеев. Итак, почему же никакая звездная необходимость не возымела силы ни в одном из них кому–либо из народа даровать безбедную жизнь — напротив того, в тьмочисленно разнообразных соединениях звезд, как бы ни произошло на свет рождаемое, находится непременно в одинаковом состоянии, целый род терпит вред в продолжение всего определенного оборота времени? Но философ сказал: это не исследовано еще нами, по какой причине у многих народов постановленное законами избегает необходимости, налагаемой звездами. А предсказание будущего да будет признано немалым доказательством того, что определенное каждому судьбою неминуемо. Ибо почему такой–то, предузнав, что проживет такое–то число лет и встретится в жизни с известными обстоятельствами, не обманулся бы в этом, если бы не какая–либо необходимость непреложно определила этому с человеком непременно совершиться и предсказавшему сделала это явным посредством определенного наблюдения численных означений? — На это сказал я: хотя лучше о таковых вещах показаться незнающим, нежели подать повод к смеху малосведущим в наших догматах; впрочем, мало заботясь о тех, которые наши верования подвергают осмеянию, кратко, как только могу, изложу всю этому причину. Есть некая, по природе враждебная человеческому роду сила, познаваемая по противоположности благому естеству. На это можно представить тысячи доказательств в делах очевидных. Но в настоящее время не считаю необходимым излагать по порядку все удостоверяющее, что это действительно так. Поэтому так как от естества Божия неотделимо всякое доброе понятие и именование, от Него — жизнь, свет, истина, правда, премудрость, нетление и все, что по понятию можно принять за благое, потому что естество Божие Само благо и дарует его, — то сила, познаваемая по противоположностям, берется в противоположность каждому из всех умопредставляемых благ, так что ею в самих людях производятся вместо жизни смерть, вместо истины обман и вместо каждого из совершенств противоположный порок. Ибо для нее любезно то, что людям по самой природе может послужить в пагубу. Но, как причиняющие вред отравами нередко и медом подслащают вредоносный состав, не о том прилагая старание, чтобы вредное сделать приятным для вкуса, но о том, чтобы заглушить ощущение вредоносного, так и тлетворное это естество, имеющее целью удалить человека от благого Естества, облекается в образы чего–то доброго, какими–либо предсказаниями и врачеваниями прикрывая скрытое слово обмана, чтобы, внимая этому и почитая это благом, жалкий человеческий род не имел никакого вожделения приобрести то, что действительно по естеству благо. Поэтому–то, как случалось иному для какого–либо обмана присваивать себе род предвидения, так, подобно этому, и готовая на обман сила демонов подмечала в печени жертв, в полете птиц, в гаданиях, в вызывании мертвых и в вычислении времени рождения, будто бы все это не одинаковым только образом, а различно предуказует последующее. Поэтому, как означающей будущее печенью, по какому–либо гаданию заключающий о том, что последует, или обращающей внимание на полет хищной птицы не дает обещания, что по необходимости судьбы будет предсказывать подобные вещи, так, подобно этому, поскольку одна есть причина, по сказанному производящая предсказания такого рода, разумею деятельность готовой на обманы демонской силы, даже тем, что иногда нечто из сказанного случайно исполнялось (если только исполнялось вполне), не доказывается сила судьбы. Ибо иначе справедливо бы доказывалось, что всякого рода предсказание имеет силу от судьбы, а потому, как сновидение есть одна у нас судьба, так наблюдение сердцебиений — другая, иная же — составившаяся из полета птиц, или гадания, или каких–либо символов. Но если ничто не препятствует всему этому быть прорицанием и не быть судьбой, то, если какое предсказание по вычислению времени рождения исполнилось, не послужит и это достаточным удостоверением, будто бы нелегко было исполниться чем–либо такому. Притом же предвещания у хвалящихся чему–либо подобным не бывают точны и несомненны — напротив того, заготовляют они себе много отступлений в исполнении, если слово уличено будет в противоречии, а у кого об этом забота, изобретают для себя некоторые тонкости, почему неудача в предсказании вменяется погрешительности не в знании, но в означении часа; и предсказания их бывают вовсе не прямы, колеблются между двояким способом исполнения, и можно подумать, будто бы то самое и предсказано было, что сбылось. Ибо наблюдавший час рождения предрекал нередко знаменитость и превосходство над другими; потом, поскольку тот, к кому относилось предсказание, впадал в какие–либо необычайные бедствия, предрекший утверждал, что нимало не погрешил, потому что более иных преизбыточествовал этот человек в претерпении зол. И свидетель этому — наша история. Ибо, когда царь Валент был властителем римлян, тогда подобное некое обольщение подвигло к мятежу против власти. И хотя мятежник восстал, напутствием к дерзости имея предсказание вычислявших время его рождения, однако же конец этого предприятия вышел таков, что этот человек, известный по весьма высоким начальственным должностям, сделался более замечательным по величию бедствий; и многими приписано это содействию гороскопа, а именно что этому мужу величие бедствия досталось в удел вместо величия благ. Но того, что предсказания об этом бывают ошибочны, не считаю еще великим доказательством несостоятельности учения о судьбе. А готовая на обманы сила демонов и на многие другие примышления ухитряется в предсказаниях. Какая–то провещательная вода производит во вкусивших неумеренные движения и восторги; в женских утробах, если бывает из какого–то отверстия веющий снизу дух, раздувает чрево, ум приводит в исступление и заставляет выводить из надлежащего состояния. Все это обольщенным казалось божественным и провещательным, и никто из предугадывающих будущее по печении и каким–либо огненным знакам или по полету птиц не приписывал судьбе предвещательной силы — напротив того — подобное этому вменяется какому–то демонскому обаянию.
Таким образом, утверждаю, что или нет вовсе предсказания, потому что эти прорицания изобличаются многими противоречиями событий, или, если и укажет кто на предсказание, как бы предрекающее нечто будущее, то же самое, что разумеем о каждом из других событий, исполняющихся по предвещанию, надлежит, думаем, полагать и о предсказаниях такого рода. Ибо в рассуждении всего этого равно как погрешать во многом, так в ином и предвещать, по–видимому, и то недалекое от истины событий; у готового же на обманы естества демонов как этим, так и всяким примышлением одинаково успешно достигается цель. Ибо демоны стараются более всего отвратить человека от того, чтобы обратил он взоры к Богу, и отсюда уготовлял себе долю благ. Поэтому убедить удобообольщаемых, что касающееся житейских дел не в Божией состоит воле, но зависит от такого–то соединения звезд и от истекающей отсюда силы, наиболее всего относится к цели вредоносного демонского естества. Итак, если приятно демонам отвращать человека от Бога — заблуждение же в этом действительно отвращает, — то ясно оказывается заключающееся в этом демонское некое усилие, обманом обольщающее тех, которые думают, будто бы вся сила в звездах, а не взирают на всемогущее Божие владычество.
К эллинам. На основании общих понятий
Если бы именование: Бог служило к означению Лиц, то именуя три Лица, по необходимости именовали бы мы трех Богов. Если же имя: Бог означает сущность, то, исповедуя единую сущность святой Троицы, не без основания славим единого Бога, потому что слово: Бог есть единое имя единой сущности. Почему, сообразно и с сущностью и с именем, един есть Бог, а не три Бога. Ибо не называем: Бог, и Бог, и Бог, как именуем: Отец и Сын и Святой Дух, к именам означающим лица, приставляя союз и; потому что лица не одно и то же, паче же они разны, различаются одно от другого значением имен. К имени же: Бог, как означающему сущность по некоторому принадлежащему ей свойству, не приставляем союза и, так чтобы можно было нам сказать: Бога и Бога и Бога, тогда как одна и та же есть сущность, которая в Лицах, и которую означает имя: Бог, почему один и тот же есть Бог. А один и тот же и объяснение одного и того же никогда не связуются союзом и. Но если именуем Отца Бога, и Сына Бога, и Духа Святого Бога, или Бога Отца и Бога Сына и Бога Духа Святого; то, согласно с понятием, приставляем союз и к именам Лиц, то есть, к Отцу, Сыну и Духу Святому, чтобы был Отец, Сын и Дух Святой, то есть, Лице, и Лице и Лице; почему и три Лица. Имя же Бог отрешенно и одинаково произносится о каждом Лице без союза и, так что не можем сказать: Бог и Бог и Бог, но разумеем имя, хотя трекратно произносимое голосом, по причине подлежащих лиц, но прилагаемое во второй и третий раз без союза и, потому что нет иного и иного Бога. Ибо Отец не потому есть Бог, что сохраняет инаковость с Сыном; в таком случае не был бы Богом Сын. А если, потому что Отец есть Отец, Он есть и Бог; то, поелику Сын не Отец, Сын уже не Бог. Если же Сын есть Бог не потому, что Он — Сын, а подобно сему и Отец есть Бог не потому, что Он — Отец, но потому что Он такая–то сущность; то Один есть Отец, и Сын есть Бог, и по сей причине Отец Бог, и Сын Бог, и Дух Святой Бог. Так как сущность не делится в каждом Лице, чтобы, подобно Лицам, были и три сущности; то явно, что не будут делиться ни имя, которое означает сущность, ни Бог, чтобы Ему быть тремя Богами. Но как сущность — Отец, сущность — Сын, сущность — Дух Святой, но не три сущности; так и Бог — Отец, Бог — Сын, Бог — Дух Святой, а не три Бога. Ибо один Бог и Он один и тот же, так как и сущность одна, и она одна и та же; хотя каждое Лице называется и существенным и Богом. Иначе, поелику каждое Лице есть сущность, необходимо и сущности Отца, Сына и Духа Святого назвать тремя, что противно разуму. Ибо Петра, Павла и Варнаву не называем тремя сущностями; напротив того, единою и единственною сущностью именуя ту, которая во Отце, и Сыне и Святом Духе, вследствие сего называем единого Бога, хотя и веруем, что и каждое Лице существенно и есть Бог. Ибо, как по разности Отца, Сына и Святого Духа говорим, что три Лица; так, поелику не разнятся по сущности, но в отношении к оной есть тождество в Лицах; то без сомнения, будет сие тождество и в отношении к имени Бог; потому что означает оно сущность, не то представляя, что она такое (сие непостижимо), но указывая на нее, как заимствованное от некоего свойства, принадлежащего сущности. Отличительное свойство вечной сущности, общее Отцу, Сыну и Святому Духу, — над всем назирать, все видеть и знать, даже самое сокровенное. Отсюда заимствованное имя: Бог, употребляемое в собственном смысле, означает оную сущность. Посему, так как одна таковая сущность и означающее ее имя также одно, именно имя: Бог; то, сообразно с понятием сущности, в собственном смысле один будет и Бог; потому что имя: Бог означает не лице, а сущность. А если бы имя: Бог указывало на Лице, то одно и единственное Лице, которое бы означалось таким–то именем, называлось бы Богом, как и Отцем называется один Отец; потому что именем сим означается Лице.
А если кто скажет, что Петра, Павла, Варнаву называем тремя сущностями, очевидно частными, то есть особыми (ибо, выражаясь в собственном смысле, когда говорим о сущности частной, то есть, особой, не другое что хотим означить, как неделимое, что и есть лице; имя же Бог, как доказано, не имеет сходства с именами лиц): что должно отвечать на это? То, что Петра, Павла, Варнаву называем тремя человеками, не как три лица; лица не означаются именем, показывающим общую сущность, да и самая, так называемая, частная, или особая, сущность — не одно и то же с лицом. Посему–то называем тремя человеками имеющих одну сущность, означаемую именем: человек. Если же не потому, что это лица, и не потому, что означается частная, или особая, сущность, произносим сие; то утверждаем, что выражаемся так, по неточному словоупотреблению, а не в собственном смысле, по какой–то привычке, от необходимых причин возымевшей силу в том, что не относится ко святой Троице. Причины же сии суть следующие: понимаемое под словом: человек не всегда усматривается в одних и тех же неделимых, или лицах; потому что, когда прежние лица умирают, на место их являются другие; и не редко опять еще те же остаются, и вновь рождаются некие иные, так что усматривается сие иногда в тех, иногда в других, иногда в большем, иногда в меньшем числе. И в случае убавления, и смерти, и рождения неделимых, в которых усматривается то, что понимаем под словом: человек, бываем вынуждены говорить: людей много и людей мало; причем переменою и инаковостию лиц нарушается общий обычай; и говорится сие вопреки самому понятию сущности, так что к лицам сопричисляются некоторым образом и сущности. Но в рассуждении святой Троицы не бывает никогда ничего подобного, потому что именуются одни и те же, а не иные и иные, лица, то же и одинаково содержащие; и не допускает Она ни какого–либо приращения до четверицы, ни умаления до двоицы; потому что не рождается, или не исходит, от Отца, или же от одного из Лиц, еще новое Лице, так чтобы Троица когда–либо стала четверицею, не прекращает со временем бытия своего одно из сих трех Лиц, чтобы Троица соделалась двоицею. Поелику же в трех Лицах не бывает никогда никакого приращения и умаления, превращения и изменения; то ни с чем не сообразно при трех Лицах именовать и трех Богов. Опять все человеческие лица имеют бытие не от одного и того же лица непосредственно, но одни от того, а другие от другого, даже многие и разные, произошедши от причины, сами бывают причиною. Но не то во святой Троице. Ибо одно и то же есть Лице Отца, от Которого рождается Сын и исходит Святой Дух. Посему Того, Кто в собственном смысле есть единый виновник Происшедших от Него, называем единым Богом, потому что и соприсущ Он с Ними. Ибо Лица Божества нераздельны между Собою ни по времени, ни по месту, ни в воле, ни в начинаниях, ни в деятельности, ни в том, чтобы претерпевать что–либо подобное усматриваемому в человеке, кроме одного только, что Отец есть Отец, а не Сын, Сын — не Отец; а подобно сему и Дух Святой — не Отец и не Сын. Почему никакая необходимость не заставляет нас называть Три Лица тремя Богами, как многие у нас лица называем многими человеками, по сказанным причинам, а не по необходимому закону, по которому один и тот же в отношении к одному и тому же не может быть одним и многими. А Петр, Павел, Варнава по имени: человек суть один человек, и по этому же самому, по имени: человек не могут быть многими, называются же многими людьми, по неточному словоупотреблению, и не в собственном смысле. Но что говорится в смысле неточном, то у людей здравомыслящих не предпочитается сказанному в смысле собственном. Почему не должно говорить, что в трех лицах Божеской сущности суть три Бога, по самому имени Бог; но Бог один и один по тождеству сущности, к означению которой, как сказано нами, служит имя: Бог.
А если кто скажет: как же Писание ясно счисляет трех мужей (Быт. 18:2); то пусть видит, что Писание, указуя нам Сына и Духа Святого, преподает, что Бог Слово, Бог не Слово (то есть Бог Отец) и Бог Дух Святой есть Бог, совершенно же воспрещает нарицать трех Богов, нечестием признавая многобожие и везде проповедуя единого Бога, ни лиц не смешивая, ни Божества не разделяя, паче же сохраняя тождество Божества в отличительных свойствах ипостасей, или трех Лиц. Если же кто, говоря подобное сему, хочет дознать истину; то пусть знает, что Писание говорит: трие, хотя одного человека признает во всех, по сказанному: человек яко трава дние его (Пс. 102:15). Как добрая кормилица, Писание признает людей собственными своими чадами, лепечет иногда с ними, и подобно им употребляет некоторые именования, хотя не погрешает в ведении совершенного. Ибо говоря, что Бог имеет уши, глаза и прочие члены тела, не преподает такого учения в виде определения, что Божество сложно, но излагает догматы сказанным способом, от переносного значения того, что у нас, к разумению бесплотного возводя людей, которые не могут приступить к сему непосредственно. Оно говорит, что Бог есть Дух и присущ везде, куда бы кто ни пошел, научает нас Его простоте и неописуемости. Так, следуя обыкновению, называет и тремя мужами, чтобы не отступить от общего, от того, что в употреблении у многих; и с точностью именует единым, чтобы не преступить предела, когда дело касается до естества вещей. И одно почитаем снисхождением, оказанным к пользе и выгоде младенчествующих, а другое называем догматом, изложенным к утверждению и сообщению совершенства.
Но еще скажут иные: Говорим: ипостась, как ипостась, ни мало не разнится от ипостаси, но из сего не следует, что все ипостаси — одна ипостась; и сущность ничем не разнится от сущности, но из сего не следует, что все сущности — одна сущность: так можем сказать: Бог не разнится от Бога, но из сего не следует, что три ипостаси, в которых открывается Бог, суть один Бог. И опять, говоря: человек не разнится от человека, не отвергаем, что Петр, Павел и Варнава три человека; потому что сущность от сущности разнится, не как вообще сущность, но как такая–то именно сущность, и ипостась от ипостаси, как такая–то именно ипостась; и человек от человека, как такой–то именно человек, и также Бог от Бога, как такой–то Бог. А такой–то или такой–то говорится обыкновенно о двоих и о многих. Но это говорят возражающие: а мы докажем, что все сие есть лжеумствование, воспользовавшись тем, что сказано ими самими, и доказав, что должно говорить не такой–то и такой–то Бог, или такой–то и такой–то человек, но такая–то ипостась Божия, и такая–то ипостась человеческая. Ибо справедливо утверждаем, что у одного человека ипостасей много, и у единого Бога три ипостаси. Посему называемое таким–то требует, чтобы нечто было различаемо от чего–либо, имеющего общение с сим нечто, по именованию, к которому прилагается слово: такое–то. Например, о человеке говорим: такое–то живое существо, намереваясь отличить его, положим так, от коня, потому что имя: живое существо у них общее, разнятся же они даром слова и бессловесием. Различается же нечто от чего–либо, или как сущность, или как ипостась, или по сущности, или по ипостаси. Различаются, как сущности, человек от коня, а по ипостаси, Павел от Петра, по сущности же и по ипостаси, например ипостась человека от ипостаси коня. Но с раскрытием понятия о том, что разнится просто по сущности, и что по ипостаси, а не по сущности, явно будет понятие и о различаемом по сущности. Ибо что вещи, разнящиеся по сущности, называются двумя или тремя сущностями, и разнящиеся по ипостаси также именуются двумя и тремя ипостасями, сие признается и ими и нами. Различаемся же тем, что, как они утверждают, о Петре и Павле должно говорить: два человека, а мы принимаем сие не в собственном смысле и не в научном понятии. Ибо теперь нет и слова об общем и неточном словоупотреблении; потому что оное не имеет силы ни к отменению, ни к установлению чего–либо. Поэтому пусть сперва будет у нас объяснено, почему говорим, что человек и конь, или конь и пес, разнятся, как такая–то сущность, или сделается явным, что говорим сие, так как разнятся они между собою тем, что обыкновенно разделяет сущности, например, даром слова, бессловесием, ржанием, лаянием и подобным тому. Ибо называя сущность такою–то, не иное что означаем, как существование, причастное жизни, в отличие от другого ему неподобного, или существование, не лишенное дара слова, в отличение от разнящегося бессловесием, или существование, имеющее отличительною чертою ржание и тому подобное, так как вместо сих разностей и особенностей, к сущности, или ко всякому роду, в отличие от состоящих под ним видов придается слово: такая–то сущность, или такое–то животное, то есть словесное или бессловесное. И говорим еще: Петр разнится от Павла, поколику такая–то ипостась в каждом из них, потому что разнятся между собою чем–либо, обыкновенно составляющим ипостась, а не сущность, каковы например: неимение волос, рост, отечество, сыновство и тому подобное. Ибо явно, что не одно и то же — вид и неделимое, не то же — сущность и ипостась. Слово: ипостась прямо ведет мысль слушателя к тому, чтобы искать чела покрытого рубцами, синего, отца, сына и подобного тому. Называю же вид, то есть, сущность, чтобы познать именно живое существо словесное, смертное, обладающее умом и сведением, и живое существо бессловесное, смертное, ржущее, и тому подобное. Если же не одно и то же сущность и неделимое, то есть ипостась, то не одни и те же черты, отличающие ту и другую. А если одно и то же отличается не одним и тем же, то невозможно придавать сему те же именования, но иное должно именовать сказуемым по сущности, или принадлежащим сущности, а иное сказуемым о неделимом.
Посему три именования, о которых вопрос: сущность, неделимое, человек. С наименованием сущность сопрягаем и сочетаем слово такая–то к отличению, как сказал я, подходящих под оную видов, разнствующих между собою по сущности. С именованием ипостась, подобным образом, сопрягаем опять слово такая–то к разделению лиц, связанных между собою сим общим именованием, то есть именованием ипостась, разнствующих одно от другого в чертах, не сущности отличающих, но называемых случайными. Посему, каким образом хотят с именем человек сочетать слово такой–то? Ибо сомнительное находить себе решение в том, что признано всеми. Чтобы в сущности состоящее под нею различалось существенною между собою разностью, — сие невозможно; потому что не по сущности разнятся Павел с Петром, которым придается имя человек; различаются же они ипостасью лица. И что имя человек не означает сущности, сие нелепо было бы сказать, потому что имя человек означает общее в сущности, а не особое лицо, положим например Павла, или Варнавы. Посему имя человек, по правилам науки, ни каким образом не сопровождается словом такой–то. Но если общее употребление имеет в этом нужду, и именования сущности неправильно употребляет в означение лиц: то сие делается не по точному правилу логического ведения. Но к чему нападаю на обычное словоупотребление, имеющее такие недостатки, скрывая от себя то, что нередко, по неимению подлинно означающих вещь именований, и сами пользуемся другими именованиями, не точно выражающими сказуемое? По крайней мере, пусть будет ясным для нас, что, если бы сказали мы: в Петре и Павле — человек от человека разнится, не как вообще человек, но как такой–то человек; то могли бы сказать о них и сие: сущность от сущности разнится, не как сущность, но как такая–то сущность. А если сказать сие невозможно, так как одна и та же сущность в Петре и Павле, то невозможно как последнее, так и первое; потому что имя человек указует на сущность. Если же слова такой–то и такой–то не следует сопрягать с именем человек; то значит, что не собственно выражаемся, говоря: два или три человека, и если сие доказано о человеке, то не гораздо ли паче и прямее приличествует сие вечной и Божеской сущности — не говорить о каждой ипостаси: это такой–то и такой–то Бог, Отца, Сына и Святого Духа не провозглашать только Богом, Богом и Богом, не утверждать даже и мысленно, что Богов три? Итак справедливым, последовательным, согласным с наукою словом подтверждено наше учение, чтобы Бога, Творца всяческих, называть единым, хотя умосозерцается Он в трех Лицах, или ипостасях, Отца, Сына и Святого Духа.
О чревовещательнице. Письмо к епископу Феодосию
Изрекший ученикам Своим: Ищите и обрящете (Мф. 7:7), без сомнения, даст и силу обрести тем, которые, но Господней заповеди, любознательно доискиваются и доведываются сокровенных тайн. Ибо не лжив Обещавший, по великодаровитости сверх прошения ущедряет дарования. Итак, внемли чтению, чадо Тимофее (1 Тим. 4:13), ибо приличное, думаю, к твоей доброте обратится с этим словом великого, и да даст тебе Господь разумение во всем, чтобы обогатиться тебе всяким словом и всякими ведением! Теперь же о чем ты приказывал, сколько поможет Господь, заблагорассудил я удовлетворить немногим твоему желанию, чтобы узнал ты из этого, это надлежит нам служить друг другу любовью, взаимным исполнением воли другого. Поэтому, прежде всего, так как в числе прочих приказаний главный вопрос касался мнения о Самуиле, при помощи Божией, сколько можно, изложу об этом кратко. Некоторым из живших прежде нас угодно было признавать истинным вызов Самуиловой души волшебницей, и в оправдание этого предложения своего представляют такое некое доказательство: Самуил печалился об отвержении Саула и всегда представлял Господу, что, поскольку угодно Ему было это, Саул очистил народ от волшебства, к обольщению людей совершаемого чревовещателями, и потому Пророк огорчился тем, что неугодно было Господу примириться с отверженным. Поэтому–то, говорят, Бог и попустил, чтобы душа Пророка была вызвана таковым чародейством, и Самуил увидел, что несправедливо ходатайствовал о Сауле перед Богом, называя врагом чревовещательниц того самого, который просил о возвращении волшебством их Самуиловой души. А я, взирая на евангельскую пропасть, которая между злыми и добрыми утвердися (Лк. 16:26), говорит патриарх, лучше же сказать, Господь патриарха, почему невозможно и осужденными войти в покой праведных и святым вступить в сонм лукавых, — не соглашаюсь, что так предположения истинны, будучи научен веровать, что истинно одно только Евангелие. Итак, поскольку Самуил велик во святых, а волшебство — достояние лукавое, то не верю, чтобы Самуил, став на такую высоту собственного упокоения, волей или неволей перешел эту неудобопроходимую к нечестивым пропасть. Не потерпел бы он этого неволей, потому что невозможно было бы демону перейти пропасть и подвигнуть святого, пребывающего в лике праведников, но не сделал бы этого и волей, потому что не захотел бы, да и не мог бы, войти в общение со злыми, ибо обилующему благами не желателен из того состояния, в котором он, переход в противоположное. Даже если бы кто и допустил желание, свойство пропасти не даст прохода.
Итак что же, как рассуждаем об этом? Враг человеческого естества есть общий всех противник, у него все помышление и старание — о том, чтобы причинить человеку смертоносный вред. Какой же другой удар смертоноснее для людей этого вреда — быть отверженными животворящим Богом и добровольно отдаться на смертную пагубу? Итак, поскольку у плотолюбцев в настоящей жизни есть некая рачительность о том, чтобы иметь сколько–нибудь ведение о будущем, при котором надеются или избежать бед, или же достигнуть желаемого, то поэтому, чтобы люди обращали взор не Богу, исполненное обмана демонское естество изобрело многие способы узнавать будущее, как–то: птицегадание, толкование знамений прорицания, наблюдение внутренностей у животных, вызывание мертвых, исступления, наития божеств, вдохновения и многое другое тому подобное. И как скоро какой–либо род предведения вследствие какого–либо обмана признан истинным, обольститель демон представляет его обольщенному в оправдание лживого предположения. Так устраивает демон, что полет орла служит к возбуждению надежды в наблюдателе; на трепетание печени, на колебание происходящее во вздувшихся мозговых оболочках, на вращение глаз и на всякую ложную примету, подобную означенной, ухищрение демонское указывает обольщаемым, чтобы люди, отступив от Бога, обратились к служению демонам в уверенности, что они совершают подобные вещи. Поэтому одним из видов обмана был и обман чревовещателей, которым верили, что их чародейство может души умерших снова привлекать в здешнюю жизнь. Поэтому, когда Саул дошел до отчаяния в спасении, потому что все филистимляне подвиглись на него со всем воинством, и вошла ему в голову та мысль что Самуил укажет ему какой–нибудь способ к спасению, тогда демон, пребывающий в чревовещательнице, которым она обыкновенно была обольщаема, в глазах этой женщины преобразился в разные примрачные виды, между тем как Саулу не являлось ничего видимого женщиной. Как скоро приступила она к волхвованию и перед очами женщины начали уже появляться призраки, демон, дабы удостоверить в том, что явления истинны, ухитрился следующим образом: сперва сделал известным самого Саула, скрывавшегося в притворно принятом на себя виде, чем наиболее и поражен был Саул, заключив, что женщина ни в чем уже не обманется, когда волшебна»! сила не узнала его в одежде честного человека. Посему, так как сказала она: Боги и человека стара видех восходящая в долгом одеянии (1 Цар. 28:13—14), то чем рабы буквы утвердят историческую верность? Ибо если видимый волшебницей действительно есть Самуил, то следует, что и другие, видимые ею, в действительности боги; богами же Писание называет демонов: Вси бози язык бесове (Пс. 95:5). Итак, ужели с демонами и душа Самуилова? Да не будет этого! Напротив того, демон, всегда послушный волшебнице, и других духов взял с собою для обольщения самой женщины и обольщаемого через нее Саула и сделал, что бесы чревовещательницей признаны за богов, а сам он преобразился в вид вызываемого, притворно говорил его голосом, и о чем естественно было заключать из видимого, как бы в вид пророчества, изрек и ожидаемый приговор, чему следовало исполниться. Но демон и нехотя обличил себя, сказав истину: Заутра ты и Ионафан со мною (1 Цар. 28:19). Ибо если бы говоривший действительно был Самуил, то как согласился бы, чтобы с ним вместе был виновный во всяком пороке? Напротив того, явно, что вместо Самуила видим был лукавый демон, и он не солгал, сказав, что с ним будет Саул. Если же Писание говорит: И рече Самуил (15), то подобное выражение да не смущает сведущего, но да подразумевает он присовокупленное: Мнимый Самуил. Ибо во многих местах Писания находим обычай вместо действительного описывать кажущееся, как в истории Валаама. Сначала говорит он: Послушаю, что возглаголет во мне Бог (Чис. 22:19)? А после сего Валаам, узнав, что Богу угодно не проклинать израильтян, не иде по обычаю в сретение волхвованием (Чис. 24:1). Неосмотрительный подумает, что и там с Валаамом беседовал истинный Бог, хотя пояснение показывает, что Писание так наименовало не истинного Бога, но кого Валаам почитал Богом. Поэтому и здесь представлявшийся Самуилом притворно повел речь как бы от лица Самуилова, и демон, искусно заключая по вероятностям, подражал пророчеству.
А что касается Илии, то требует большего исследования, нежели какое требовалось в предложенном вопросе. Ибо пророку, получившему повеление пити от потока воду (3 Цар. 17:4), втайне внушаемо было Богом, чтобы он же сам и отменил произнесенный им на израильтян приговор о бездождии. Ему дозволялось пить из одного только потока, по всей вероятности иссыхавшего от зноя; и как другого способа к утолению жажды у пророка не находилось, потому что запрещалось ему пить в другом месте, то необходимо было просить дождя, чтобы не оскудела вода в потоке. Служение же необходимым для жизни совершается пророку воронами, чем Бог давал пророку вид, что много еще осталось служащих истинному Богу, от которых вороны приносили пищу пророку, потому что доставлялись ему неоскверненные хлебы и неидоложертвенное мясо, почему и этим побуждаем был Илия умерить несколько свое раздражение на нечествовавших, узнав из совершающегося, что много обращающих взоры свои к Богу и несправедливо наказывать их с виновными. Приносится же ему утром хлеб, а вечером мясо, что, может быть, загадочно научает попечению о добродетельной жизни, а именно что начинающим необходима пища более совершенных, по слову Павла, который говорит: Совершенных же есть твердая пища, имущих чувствия обучена долгим учением (Евр. 5:14).
А что означается покрывалом Моисеевым, не останешься несведущим этого, если побеседуешь с Посланием Павла к Коринфянам. И касательно вопросов, какие предложил ты о жертвах, хорошо узнаешь, если с большим трудолюбием исследуешь всю книгу Левит и с вящим прилежанием обозришь вообще касающиеся их законы, ибо в таком случае вместе с целым уразумеешь и часть; одно же это само по себе прежде обозрения целого не могло бы и решено быть. Сомнению же о сопротивной силе решение очевидно, а именно: соделавшийся отступником был не простой ангел, но поставленный в чину Архангелов. Посему явно, что вместе с началом указуется и подчиненный ему чин, а потому решается вопрос: почему был он один, а теперь при нем множество? Поскольку с ним отступило и подчиненное ему воинство, то тем объясняется искомое. На последний же, главный в числе предложенных тобою вопросов (я имею в виду вопрос о том, почему Дух сходит прежде крещения (Деян. 10:44), как требующий более широкого рассмотрения и исследования, написав, если даст Бог, ответ в особом слове, мы пришлем его твоей чести.
О душе и воскресении. Диалог с сестрой Макриной
Когда великий во святых Василий из жизни человеческой переселился к Богу и сделался для церквей общим поводом к плачу, оставалась же еще в жизни сестра и наставница, с поспешностью пошел я разделить с нею горе о брате. Болела у меня душа, сильно скорбя о таковой утрате, и сообщником в слезах искал я человека, который бы нес равное со мною бремя печали. Но, как скоро мы увидали друг друга, явившаяся перед глазами моими наставница сильнее возбудила мое страдание, потому что и сама она была больна едва не при смерти; она же, подобно сведущим в искусстве править конями, дав мне ненадолго увлечься порывом страсти, начинает потом сдерживать словом, словно некоей уздой, рассуждением своим успокаивая возмущенную душу, и произнесено было ею это апостольское изречение: не должно скорбеть о почивших (1 Сол. 4:13), потому что скорбь эта свойственна только не имеющим упования. И поскольку сердце мое кипело еще от печали, я сказал:
Григорий. Возможно ли людям это исполнить, когда в каждом есть какое–то естественное отвращение от смерти? Кто видит умирающих, те с трудом сносят это зрелище, а к кому приближается смерть, те, сколько можно, от нее бегут. Да и господствующие законы признают ее крайним из преступлений и крайним из наказаний, поэтому какая же возможность почитать ни за что исшествие из жизни даже кого–либо из чужих, не только из близких, когда они оканчивают жизнь? К тому еще видим, продолжал я, что и все человеческое старание имеет в виду то, чтобы продлить вам время жизни, поэтому у вас и дома придуманы для жительства, чтобы тела в окружающем их воздухе не страдали от холода или жара. И земледелие что иное, как не заготовление потребного для жизни? Забота же о жизни, конечно, происходит от страха смертного. Что такое врачебное искусство? Отчего оно почтенно у людей? Не от того ли, что средствами своими, по–видимому, борется несколько со смертью? И брони, и щиты, и воинская обувь, и шлемы, и оборонительные оружия, и ограды стен и железные кованые ворота, и доставляющие безопасность рвы, и подобное тому, по чему иному делается все это, как не по страху смерти? Поскольку же естественным образом так страшна смерть, то легко ли послушаться того, кто велит остающемуся в живых не предаваться скорби об умершем?
Макрина. Что же, спрашивает наставница, что же тебе особенно само по себе кажется прискорбным в смерти? Ибо обычая неразумных недостаточно к плохому о ней мнению.
Григорий. Что же? Неужели не стоит того, чтобы и скорбеть, отвечал я ей, когда видим, что человек, дотоле живой и разговаривающий, вдруг делается бездыханным, безмолвным, неподвижным; все естественные чувства в нем потухают, не действуют ни зрение, ни слух, ни все прочее способствующее ощущению? Поднесешь ли к нему огонь или железо, станешь ли тело рассекать мечом, отдашь ли плотоядным зверям, зароешь ли в землю — при всем этом лежит он одинаково. Поэтому, когда усматривается в этом перемена, а та жизненная причина, которая находилась некогда в теле, вдруг делается невидимой и неприметной, подобно тому как в погашенном светильнике горевшее дотоле пламя и на светильне не остается, и не переходит куда–либо в другое место, но совершенно исчезает, — как тогда сделается возможным без печали перенести такую перемену тому, кто не имеет никакой явной опоры? Ибо, услышав об исходе души, хотя видим оставленное, однако же не знаем об удалявшемся, что такое было оно прежде по природе своей и во что перешло, так как ни земля, пи воздух, ни вода, ни другая какая стихия не показывают в себе этой силы, переселившейся из тела, по исшествии которой оставленное ею мертво и готово уже к тлению.
Макрина. Как скоро заговорил я так, наставница, помахав рукою, начинает речь: не такой ли страх смущает тебя и объем лет твою мысль, будто бы душа не вечно пребывает, но с разрушением тела и сама прекращает бытие?
Григорий. А как я по причине страдания не собрался еще с рассудком, то отвечал несколько смело, не разбирая строго того, что произношу. Ибо сказал: Божественные эти изречения подобны приказам, по которым вынуждены мы убедиться, что душа должна пребывать вечно, хотя не доказательством каким приводимся к таковому учению, а, напротив того, внутри нас ум, по–видимому, рабски по страху принимает повелеваемое, а не по произвольному какому–либо влечению соглашается со сказанным. Отчего и скорби наши об умерших делаются более тяжкими, потому что не знаем точно, существует ли еще сама по себе животворная эта причина, и где, и как существует, или нигде более ее нет. Ибо неизвестность действительно существующего равными делает предположения о том и другом; и, как многим кажется справедливым одно, так многим — противное тому, и иные у эллинов, приобретшие немалую славу по философии, держались этого мнения и подтверждали его.
Макрина. Оставь всяческие бредни, говорит она, в них приобретатель лжи к ущербу истины в виде вероятностей слагает предположения. А ты обрати внимание на то, что думать так о душе не что иное значит, как стать чуждым для добродетели и иметь в виду только настоящую приятность, а на жизнь умопредставляемую в вечности, по которой одна добродетель имеет преимущество, отложить и надежду.
Григорий. Но как, спросил я, твердым и непреложным сделается для нас мнение о вечном пребывании души? Ибо и сам чувствую, что жизнь человеческая лишится прекраснейшего своего достояния, разумею — добродетели, если не превозможет в нас несомненная вера в это. Ибо может ли иметь место добродетель в тех, которыми настоящая жизнь признается пределом бытия и которым после нее не на что больше надеяться?
Макрина. Поэтому надлежит разыскать, говорит наставница, что речь наша об этом может принять для себя за должное начало, и, если угодно, пусть за тобою останется защита противоположных учений, ибо вижу, что и твоя мысль готова к таковому состязанию. Пусть же таким образом — через противоположение — отыскано будет основание истины.
Григорий. После этого приказа, попросив ее не подумать, будто бы на самом деле спорим против истины, ибо напротив того стараемся придать твердость учению о душе по разрешении с этой целью сделанных возражений, сказал я: защитники противного мнения скажут, может быть, что тело, будучи сложным, конечно, разлагается на то, из чего составлено. По расторжении же сродства стихий в теле в каждой из них происходит, вероятно, стремление к состоящему с ней в свойстве, так как само естество стихий по какому–то необходимому влечению возвращает однородному свойственное ему. Ибо с теплым опять соединится что есть теплого в нас, и с твердым — что в нас землянистого, и с каждым из прочих качеств произойдет переход к сродному. Поэтому где же после этого будет душа? Ибо если кто скажет, что она в стихиях, то по необходимости согласится, что она тождественна с ними, потому что не могло бы произойти какое–либо смешение инородного с чуждым. И если это будет, то душа, конечно, окажется какой–то разнообразной, как входящая в смешение с противоположными качествами. А разнообразное не просто, но непременно умопредставляется в сложении, все же сложное по необходимости и разлагаемое, а разложение есть распадение состава, но распадающееся не бессмертно. В противном случае бессмертной можно было бы назвать и плоть, разлагаемую па то, из чего составлена. Если же душа есть нечто иное со стихиями, то где бытие ее предположит разум, когда в стихиях но разнородности она не народится, в мире же не существует ничего иного, в чем могла бы обитать душа сообразно со своей природой? А чего нигде нет, то, конечно, и не существует.
Макрина. И наставница, слегка вздохнув при этих словах, говорит: это и подобное этому, может быть, предлагали некогда апостолу в Афинах собравшиеся стоики и эпикурейцы. Ибо к тому, как слышу, всего более в своих предположениях склоняется Эпикур, чтобы придумано было какое–то случайное и самодвижное естество существ, между тем как никакой промысел не входит в дела, почему в следствие этого и жизнь человеческую представлял себе в подобии лопающегося пузыря, когда тело паше наполнено каким–то духом, и этот дух содержится в объемлющем его, по опадении надутости угасает и заключенное внутри. Ибо для Эпикура пределом естества существ было видимое, и мерой постижения Вселенной полагал он ощущение, совсем смежив чувствилища души и не имея возможности обратить взор на что–либо умственное и бесплотное, как заключенный в какой–либо хижине остается невидящим небесных чудес, потому что стены и потолок препятствуют ему видеть, что вне хижины. Ибо все чувственное, что только усматривается во Вселенной, подлинно есть какая–то земляная стена, которая людям несильного ума преграждает собою путь к воззрению на умственное. Таковой видит только землю, воду, воздух и огонь, а откуда каждая из этих стихий, или в чем она состоит, или чем содержится в своем месте, не может этого усмотреть по низости ума. И хотя иной, увидев одежду, заключает о ткаче, по кораблю уразумевает кораблестроителя и вместе со взглядом на здание в мысли зрителей представляется рука создателя, однако же они, взирая на мир, остаются слепыми для усмотрения Указуемого им. Поэтому–то учащими о несуществовании души и произносятся эти хитрые и остроумные положения: тело из стихий, стихия из тела, и душа не может быть сама по себе, если не будет чем–либо из них или в них. Ибо, если противники думают, что душа, поскольку она не однородна со стихиями, вовсе не существует, пусть сначала признают они за истину, что жизнь во плоти бездушна, ибо тело не иное что есть, как стечение стихий. Поэтому пусть не утверждают и того, что в стихиях — душа, оживотворяющая собою телесный состав, если только, по их мнению, невозможно после этого при существовании стихий быть и душе, так что у них жизнь наша оказывается не иначе как мертвой. Если же не сомневаются, что теперь есть душа в теле, то почему учат уничтожению ее по разложении тела на стихии? Но после этого отважатся они то же сказать и о самом Божественном естестве. Ибо на каком основании скажут, что разумное, невещественное и не имеющее вида естество, проникая то влажное, мягкое, теплое и твердое, содержит в бытии существа, не имея сродства к тому, чем оно бывает, и будучи не в состоянии быть в этом по разнородности? Итак, из учения их да будет вовсе исключено и само Божество, Которым существа содержатся в бытии.
Григорий. Но как, спросил я, сделается несомненным для возражающих и это само, что все от Бога и что Им содержатся существа или и вообще, что есть нечто Божественное, превысшее естества существ?
Макрина. Она же говорит: о подобному этому приличнее было бы молчать и не удостаивать ответа глупые и нечестивые предложения. Как и некое Божественное слово повелевает не отвечать безумному по безумию его (Притч. 26:4), безумен же, конечно, по слову Пророка, кто говорит: Несть Бог (Пс. 13:1). Но, поскольку надобно сказать и это, изреку тебе, продолжает наставница, слово, впрочем не мое и не другого какого человека (потому что мал всякий, каков бы он ни был), но то самое, которое о существах высказывает тварь чудесами, совершаемыми в ней, и слушателем которого делается око, когда посредством видимого оглашается в сердце премудрое и художническое слово. Ибо тварь ясно возглашает о Творце, потому что сами небеса, как говорит Пророк, неизглаголанными вещаниями поведают славу Божию (Пс. 18:1). Ибо кто, видя стройность Вселенной небесных и земных чудес, как стихии, по природе одна другой противоположные, по некоему неизреченному общению все соединяются к достижению одной и той же цели, и каждая привносит от себя силу к пребыванию целого, несоединимое и несообщимое между собою по особенности качества не разлучается одно с другим, и не истребляется одно другим, взаимно сорастворенное противоположными качествами — напротив того, стихии, естество которых стремится вверх, опускаются долу, солнечная теплота изливается в лучах, а тела тяжелые делаются легкими, будучи истончеваемы испарениями, так что вода, вопреки своей природе, делается стремящейся вверх, когда при ветрах носится по воздуху, и эфирный огонь сближается с землей, так что и глубина получает свою долю теплоты, а изливающаяся в дождях на землю влага, будучи одна по природе, порождает тысячи разностей в растениях, сообразуясь со всяким свойством того, во что входит, также, видя самое быстрое вращение неба и обратное движение внутренних кругов, сближения, соединения и стройные разъединения звезд, видя это разумным оком души, не явно научается из видимого, что художественная и премудрая Божия сила, открывающаяся в существах и все проникающая, и части приводит в стройность с целым, а целое восполняет в частях, и что Вселенная единой некоей силой содержится, сама в себе пребывая и около себя самой вращаясь, и движения никогда не прекращая, и из того места, в котором она, не переходя в какое–либо другое?
Григорий. И как же, сказал я, вера, что есть Бог, доказывает вместе, что есть и душа человеческая? Ибо душа не одно и то же с Богом, чтобы, если признано бытие одного, несомненно было признаваемо и другое?
Макрина. Она же говорит: мудрецы утверждают, что человек есть некий малый мир, содержащей в себе те же стихии, которыми наполнена Вселенная. Если положение это верно (что и вероятно), то не будем, может быть, иметь нужды в другом пособии к подтверждению признанного нами о душе. Признавали же мы, что существует душа сама но себе, особым естеством, отличным от телесной дебелости. Ибо, как целый мир познавая при помощи чувств, той же самой деятельностью нашего чувства путеводимся к уразумению того, что на деле и по понятию выше чувства, и глаз делается для нас истолкователем всемогущей премудрости и созерцаемой во Вселенной, и указующей собою Того, Кто премудро в руке Своей содержит Вселенную так, смотря на мир, который в нас, немало имеем поводов от видимого гадать и о сокровенном. Сокровенно же то, что, само в себе будучи мысленным и не имеющим вида, избегает чувственного понимания.
Григорий. И я сказал: но о премудрости превысшей мира можно умозаключать но усматриваемым в природе существ мудрым и художественным законам этого стройного мироправления: какое же познание о душе может быть из указуемого в теле для тех, которые и видимом следят за сокровенным?
Макрина. А для тех, говорит дева, которые по мудрому этому уроку желают познать себя, всего более достаточной учительницей в том, что думают о душе, служит сама душа, и именно, что она невещественна и бесплотна, действует и движется сообразно со своей природой и свойственные ей движения обнаруживает телесными органами, потому что органическое устройство тела в полной мере то же и в умерших, но остается неподвижным и недеятельным по отсутствию в нем душевной силы. Тогда же движется оно, когда в органах есть чувствительность и в ней действует умственная сила, которая собственными своими стремлениями, как угодно ей, движет и чувственные органы.
Григорий. Поэтому, сказал я, что же такое душа, если только естество и может быть описано каким–либо словом, так чтобы но этому описанию составилось в нас какое–либо понятие о предмете?
Макрина. И наставница говорит: разные разно излагали учение о душе, и каждый делал определение, какое ему было угодно, а наше мнение о ней таково: душа есть сотворенная сущность, сущность живая, разумная, органическому и чувственному телу сообщающая собою жизненную и восприемлющую чувственную силу до тех пор, пока способное к восприятию этого естество оказывается состоятельным. И, говоря это, указывает она рукой на врача, сидевшего при ней для уврачевания тела, и говорит: вот недалеко от нас и свидетельство сказанного. Ибо почему этот врач, приложив персты к вене и прощупывая пульс, чувством осязания слышит некоторым образом, что говорит ему естество, и как пересказывает свои страдания, а именно что телесный недуг приходит в силу и болезнь ведет начало от таких–то частей во внутренности и на столько–то прострется недуг воспаления? А иному, подобному этому, учит его и глаз, когда смотрит, как я лежу, как измождено тело и какое внутреннее расположение означают бледноватый и желчный цвет наружности и взгляд очей, сам собой расположенный к выражению печали и скорби. Но так же и слух делается учителем в подобном этому, по учащенному дыханию и стону, издаваемому при дыхании, познавая страдание. Иной же скажет, что и обоняние сведущего не остается не замечающим страдания — напротив того, по известному особенному качеству дыхания познает сокрытый во внутренностях недуг. Поэтому что же, если бы в каждом из чувствилищ не была присущей некая разумная сила? Чему научила бы нас сама ее рука, если бы не мысль путеводила осязание к ведению предмета? Чем содействовали бы к познанию искомого и слух, не сопряженный с разумением, или глаз, или нос, или другой какой чувственный орган, если бы каждый из них был в действии сам по себе один? Но всего справедливее прекрасно сказанное, как упоминается об этом одним из ученых язычников, что и видит ум, и слышит ум. Ибо если кто не согласится, что это справедливо, то скажи, почему, смотря на солнце, как научен ты смотреть наставником, говоришь, что по величине окружности оно не таково, каким кажется многим, но мерой много крат превосходит всю землю? Не потому ли, что по известному движению, по временными и местным расстояниям и по причинами затмений, из видимого сделав заключение разумом, осмеливаешься утверждать, что это действительно. И видя ущерб и возрастание луны, научаешься иному этим видимым очертанием ее состава, а именно что луна по собственной своей природе не светла, что она описывает ближайший к земле круг, светит же солнечными лучами, как это обыкновенно бывает с зеркалами, которые, принимая в себя солнце, издают сияние не собственное свое, по солнечного света, отражаемого телом гладким и блестящим. И это–то, если смотреть без исследования, кажется светом самой луны. А что в действительности это не так, доказывается тем, что, когда она прямо противоположна солнцу, освещается целый обращенный к нам круг луны; но в меньшем отделенном ей пространстве скорее обходя тот описываемый ею круг, прежде нежели солнце однажды совершит свое течение, она более двенадцати раз протекает свой путь. От этого бывает, что состав ее не всегда полон света, потому что при учащении обращений луна, в меньшее время протекающая много раз путь свой, не остается постоянно противоположной совершающему свой оборот долгое время; но, как прямо противоположное солнцу, положение луны делает, что вся часть, обращенная к нам, освещается солнечными лучами. Так, когда приходит в косвенное положение относительно к солнцу, поскольку полушарие луны, обращенное к солнцу, всегда объято потоком лучей, по необходимости потемняется сторона, обращенная к нам, так как светлость переходит со стороны, которая не может смотреть к солнцу, на сторону, которая всегда обращена к нему и ею продолжается до тех пор, пока, подошедши прямо под солнечный круг, не начнет принимать луч сзади, и таким образом, по причине освещения верхнего полушария, обращенную к нам сторону делает невидимой, потому что луна по собственной своей природе вовсе не издает лучей и несветла; и это называется совершенным ущербом стихии. Если же луна, продолжая движение своим путем, опять минует солнце и придет в косвенное положение к лучу, то незадолго до этого бывшая неосвещенной часть начинает светлеть, потому что путь с освещенного места переходит на не издававшее до сих пор света. Видишь, чему учит тебя зрение, которое само по себе не доставило бы тебе такого взгляда, если бы не было чего–то видящего посредством зрения, что, как некими путеводителями, пользуясь познаниями, приобретенными чувством посредством видимого проникает в невидимое? Должно ли присовокуплять к этому геометрические способы, посредством чувственных начертаний руководящие нас к сверхчувственному, и сверх того тысячи иных Доказательств, что через совершающееся в нас телесно постигается сокрытая в природе нашей разумная сущность?
Григорий. Что же? — сказал я. Если, как в чувственной природе стихий для всех общее есть то, что они вещественны, но великая разность в каждом виде вещества, взятом особо, потому что и движение у них противоположно, иное несется вверх, иное тяготеет вниз, и вид не один и тот же, и качество разное; если кто скажет, что со стихиями по одному и тому же закону тесно соединена сила, производящая эти умственные представления и движения но естественному свойству и но естественной способности, как много этому подобного, видим, производится строителями машин, у которых в искусственно расположенном веществе происходит подражание природе, не во внешности одной показывающее сходство, а, напротив того, и в движении состоит оно, и подделывается под иное слово, между тем как машина издает звуки в голосистой части своей, но в том, что делается, не видим мы какой либо умственной силы, производящей каждое из этих явлений, очертание, вид, звук, движение. Если скажем, что то же происходит и в этом механическом органе нашей природы без всякой примеси особой таинственной сущности, но вследствие вложенных в природу тех стихий, которые в нас, некоей движущей силы, и таковая деятельность есть ее произведение, и не иное что, как некое стремительное движение, направленное к знанию того, что занимает нас; в таком случае, что больше будет доказано этим — то ли что сама по себе существует эта умственная и бесплотная сущность души или что вовсе ее нет?
Макрина. На это отвечает она: слову нашему поможет и пример, да и все построение представленного нам возражения немало будет содействовать к подтверждению того, что думаем.
Григорий. Что хочешь этим сказать?
Макрина. То, говорит она, что умеет взять в руки и расположить неодушевленное вещество так, чтобы веществу едва не заменило душу искусство, вложенное в машины, которыми подражательно производятся движение, звук, очертания и тому подобное, — это самое может служить доказательством, что есть в человеке нечто такое, что умопредставительной и изобретательной силой уразумевает в себе это и приготовляет мыслью машины, а потом искусством приводит в действие и веществом выражает мысль. Ибо сперва человек приметил, что для произведения голоса потребно дуновение, потом, чтобы примыслить дуновение для машины, рассмотрел природу стихий, исследовав рассудком, что в существах нет ничего пустого, но пустым в сравнении с тяжелым почитается легкое, потому что и воздух сам по себе, по своему существенному составу густ и полон; и сосуд по неправильному словоупотреблению называется опустевшим, когда нет в нем жидкости, человек же ученый тем не менее и о нем скажет, что он полон воздуха. А признаком того, что кувшин, опущенный в водоем, не сразу наполняется водой, но сперва плавает, потому что заключенный во внутренности его воздух поднимает его вверх, пока кувшин рукою черпающего не будет вдавлен в глубину и тогда примет воду в горло, тем самым доказывается, что и прежде воды не был он пуст, потому что в горле кувшина усматривается некая борьба двух стихий: вода из глубины втесняется и втекает во внутренность, а воздух, заключенный во внутренности, через то же горло сгнетается водой и течет в противную сторону, так что вода и задерживается этим и клокочет, сдавливаемая силой духа. Поэтому человек уразумел это и придумал, как сообразно с естеством стихий вложить дух в машину. Из непроницаемого вещества изготовив некую полость и отовсюду неисходно заключив в ней воздух, горлом вводит в полость воду, количество воды соразмерив с потребностью; потом дает воздуху ход в противоположную сторону до приделанной трубки, и воздух, сильно теснимый водою, делается дуновением, которое, входя в строение трубки, производит звук. Не явно ли доказывается видимым, что в человеке есть какой–то ум — иное нечто с видимым, и он тем, что в собственной его природе невидимо и духовно, предуготовляет в себе это промышлениями и потом составившуюся таким образом внутри мысль при помощи вещества приводит в видимость? Ибо, если бы по сделанному нам выше возражению такие чудесные действия можно было приписать природе стихий, то, конечно, сами собой составлялись бы у нас машины, медь не ждала бы искусства, чтобы стать подобием человеческим, но прямо была бы такой по самой природе, ни воздух для произведения звука не имел бы нужды в трубке, но звучал бы всегда сам собой, без всякой причины совершая течение, и движение и стремление воды вверх в трубке не было бы вынужденным, когда искусство давления приводит ее в противоестественное движение, а, напротив того, вода, конечно, сама собой шла бы в машине, по собственной своей природе стремясь вверх. Если же все это производится не само по себе природой стихий, но искусством от каждого вещества приобретается, что угодно, а искусство есть твердая некая мысль, для какой–либо цели приводимая в исполнение с помощью вещества; мысль же есть некое собственное движение и действие ума, то представленным нам возражением вследствие сказанного доказывается, что ум есть нечто иное с видимым.
Григорий. На это отвечаю, что и сам держусь той же мысли, а именно что невидимое не одно и то же с видимым, но в слове этом повяжу искомое. Ибо для меня еще не явно, чем надлежит наконец признать это невидимое — напротив того, твоим ответом научен я, что оно не есть что–либо вещественное, не узнав еще, что прилично сказать об этом. А всего более нужно мне было бы узнать не то, чем оно не является, но что такое оно есть.
Макрина. Она же говорит на это: многое и о многом узнаем таким образом; сказав: это не есть то–то, объясняем тем само бытие искомого, что оно такое. Ибо сказав: не худ, показываем, что добр, наименовав не мужественным даем знать, что робок, и многое можно выражать подобным этому образом, причем или через отрицание дурного получаем лучшее мнение, или, наоборот, предполагаем в мыслях худшее, отрицанием хороших качеств показав дурное. Поэтому, кто так уразумел и настоящий предмет, тот не погрешит в надлежащем понятии искомого. Спрашивается же, чем надлежит считать ум в самой его сущности. Поэтому, кто не сомневается в бытии того, о чем у нас речь, так как доказывает это нам действие этого, хочет же знать, что это такое, тот достаточным для себя найдет узнать, что это не что–либо постигаемое чувством, не цвет, не очертание, не упорство, не тяжесть, не количество, не протяжение по трем измерениям, не местное положение и вообще не что–либо из усматриваемого в веществе, если в нем и есть нечто иное, кроме исчисленного.
Григорий. Пока еще перечисляла она это, сказал я: не знаю, возможно ли, чтобы с отрицанием всего этого не изгладилось вместе с тем искомое, ибо, чтобы без этого осталось у кого пытливое изведывание, по моему предположению, этого не видно. При исследовании существ, везде испытующим умом касаясь искомого, как некие слепцы, по стенам дощупываясь до двери, непременно добираемся до чего–нибудь одного из сказанного, находя или цвет, или очертание, или количество, или другое что–либо из исчисленного теперь тобою; когда же скажут, что нет ничего этого, тогда по малоумию приводимся к такой мысли, что и вовсе ничего нет.
Макрина. Она же, изъявив негодование в продолжение этой речи, говорит: какая нелепость! Вот к какому концу обращает это низкое от земли не поднимающееся суждение о существах! Ибо если из существующего изымается все, что не познается чувством, то утверждающий это, конечно, не признает и той самой силы, которая правит Вселенной и в руке своей объемлет существа, но наученный о Божием естестве, что оно бесплотно и не имеет вида, вследствие такого образа мыслей заключит, без сомнения, что вовсе нет и Его. Если же там небытие этого не делается исключением бытия, то почему вытесняется из существующего человеческий ум, утрачиваемый вместе с отъятием телесных свойств?
Григорий. Поэтому, сказал я, при этом исследовании мыслей одну нелепость обмениваем на другую, потому что речь наша идет к тому, чтобы ум наш признать одним и тем же с естеством Божиим, если то и другое уразумевается через отвлечение находимого чувством.
Макрина. Не говори: призвать одним и тем же, замечает наставница; потому что речь эта нечестива, но, как научен Божественным словом, скажи: признать одно подобным другому. Ибо сотворенное по образу, конечно, во всем имеет уподобление Первообразу, умственное — умственному, и бесплотное — бесплотному, свободно от всякого бремени, как и Первообраз, подобно ему избегает всякого пространственного измерения, но по свойству природы есть нечто иное с ним, потому что не было бы образом, если бы во всем было одно и то же с Первообразом — напротив того, какими чертами в несозданном естестве отличается Первообраз, с теми же самыми созданная природа показывает нам образ, и, как часто в малом осколке стекла, когда случится лежать ему под лучом, бывает видим целый круг солнца, показываясь в нем не в собственной своей величине, но в каком объеме круг его вмещает в себе малость осколка, так и в малости нашей природы сияют образы невыразимых этих свойств Божества, так что руководимый ими разум не уклоняется от представления ума в его сущности при исследовании предмета, очищенного от телесного свойства, и опять не приводит в равенство с невидимым и пречистым естеством естества малого и временного, но, хотя признает сущность умной, потому что она образ умной сущности, однако же образа не называет тождественным с Первообразом. Поэтому, как по причине неизреченной Божией мудрости, открывающейся во Вселенной, не сомневаясь, что Божие естество и Божия сила — во всех существах, чтобы все они пребывали в бытии, и хотя (если это потребует слова о естестве) сущность Божия весьма далека от того, что открывается и умопредставляется отдельно в тварь, однако же и далекое по естеству признается сущим в тварях, так, нет ничего невероятного в том, что и сущность души, будучи сама в себе чем–то иным, а не тем, чему иногда уподобляем ее, не встречает препятствия к бытию, если представляемое в мире основным по естеству несходно с ней. Ибо, как уже сказано было прежде, и в живых телах, существенный состав которых из растворения стихий, относительно к сущности нет никакого общения между простотой и невидимостью души и между телесной дебелостью, однако же нет сомнения, что в них есть жизненная деятельность души, сорастворенная с ними но какому–то закону, превышающему человеческое разумение. Поэтому и по разложении стихий в теле на самих себя связывающее их жизненной деятельностью не гибнет, но, как при сохраняющейся еще связи стихий каждая из них одушевляется, потому что душа равно и подобно проникает все части, составляющие тело, и никто не скажет, что она, как сорастворенная с земным, тверда и упорна, что она есть влажное или холодное, или противоположное холодному качество, существующее во всех стихиях и каждой сообщающее жизненную деятельность; так, когда состав разлагается и возвращается опять в то, что было ему свойственно, нет ни малой невероятности в той мысли, что простое и несложное это естество остается в каждой из частей и по разложении, а, напротив того, однажды по необъяснимому какому–то закону сопряженное с составом стихий завсегда пребывает в том, с чем сорастворено, никаким способом не расторгаемое с тем, с чем однажды приведено в сопряжение. Потому–то, когда разлагается сложное, не подвергается опасности разложиться вместе со сложным в несложное.
Григорий. На это сказал я: но никто не станет противоречить тому, что стихии сходятся между собой и одна от другой отделяются, и это есть составление и разложение тела. Но тогда, как умопредставляется великое расстояние каждой из них и по местному положению, и по разности и свойству качеств одна с другой разнородных стихий, сошедшихся между собой в подлежащем, духовному этому и непротяженному естеству, которое называем душой, следует быть сопряженным, с чем оно соединено. А если отделятся одно от другого и каждое будет там, куда приведет естество, что постигнет душу, когда ее колесница распадется на много частей? Как пловец какой, когда в крушении разбит корабль, не имея возможности в одно и то же время плыть на всех частях корабля, и там и здесь разбросанных по морю, конечно, ухватясь за что случилось, прочее предоставляет носить волнам; таким же образом и душа, не имея свойства с разделением стихий делиться на части, если нераздельна с телом, то, конечно, сопрягшись с одной какой–либо стихией, отделится от прочих, и последовательность слова приведет к той мысли, что она не больше бессмертна, потому что живет в одной стихии, чем смертна, потому что нет ее во многих.
Макрина. Но мысленное и непротяженное, говорит она, и не сжимается и не расширяется (потому что сжатие и расширение свойственно только телам), но по собственному своему естеству, не имеющему вида и бесплотному, равно присутствует и при соединении стихий в тело, и при их разделении, не стесняясь, когда стихии сжимаются в один состав, и не оставаясь в бездействии, когда они расходятся в сродное и сходное с ними но естеству, хотя великим кажется расстояние, усматриваемое в инаковости стихий. Ибо велика разность между идущим вверх и легким, а также тяжелым и землянистым, между теплым и холодным, между влажным и также противоположным этому. Однако же естеству духовному нет никакого труда быть при каждой из стихий, с которыми однажды вступило оно в сопряжение при сорастворении, не делясь на части противоположностью стихий. Ибо, когда по местному расстоянию и известному свойству стихии они почитаются далекими одна от другой, не страдает от этого непротяженное естество, приходя в соприкосновение с имеющими местное расстояние, потому что и теперь можно в одно и тоже время и обозревать мыслью небо, и простираться любознательностью до пределов мира, и умозрительная сила души нашей, простираясь па такие широты, не расторгается. Поэтому нет никакого препятствия душе равно быть в стихиях тела и в сорастворяемых взаимным стечением разлагаемых сорастворением. Ибо как в сплавленных золоте и серебре усматривается некая искусственная сила, слившая эти вещества, и, если чрез новое плавление вещества отделяются одно от другого, тем не менее закон искусства остается в силе при том и другом, и, хотя вещество разделилось, однако же искусство не распалось с веществом на части (ибо как разделиться неделимому?) и в стечении стихий усматривается, и по разложении их не отделяется, но в них пребывает, и разлучением их расширяемое не рассекается и не дробится по числу стихий на части и куски, потому что это свойственно естеству телесному и протяженному; естество же духовное и непротяженное не терпит последствий расстояния. Поэтому душа пребывает в тех самых стихиях, в которых начала быть однажды, так как никакая необходимость не отторгает ее от сопряжения с ними. Поэтому что прискорбного в этом, если видимое обменивается на невидимое, и за что у тебя мысль в таком раздоре со смертью?
Григорий. А я, повторив мысленно определение, какое в предыдущих словах было сделано душе, сказал, что усматриваемые в душе силы недостаточно показаны мне в том слове, по которому она есть духовная сущность и органическому телу сообщает жизненную силу для деятельности чувств, потому что душа наша деятельна, не только познавательным и созерцательным умом совершая такие действия духовной стороной сущности, и не одна чувствилища направляет к естественной деятельности — напротив того, в естестве усматривается великое движение вожделевательной и великое движение раздражительной, и другая действует в нас в родовом своем виде, усматриваем, что движение это в деятельности обеих сил переходит во многие и многообразные виды. Ибо можно видеть, что во многом управляет вожделение и опять многому причиной служит раздражительность, и все это не есть тело; а бесплотное, без сомнения, духовно; духовным же чем–то наименовало душу определение, так что по самой связи речи возникает одна из двух несообразностей: или признать, что раздражение и вожделение суть новые в нас души, и вместо одной усматривается множество душ, или и разумную в пас силу не признавать душой, потому что слово «духовный», как равно удобоприложимое ко всему, или покажет, что все эти силы суть души, или каждую из них равно лишить отличительного свойства души.
Макрина. Она же говорит: по следам уже многих других, разыскивающих об этом предмете, и сам ты доискивался, чем наконец надлежит признать эти силы, вожделевательную и раздражительную, существенно ли принадлежащими душе и появившимися в ней вначале тотчас по ее сотворении или чем–то иным, вне души существующим и приданным душе нашей впоследствии. Ибо что усматриваются они в душе, это равно признается всеми, но что надлежит о них думать, этого в точности не обрел разум, чтобы о силах этих иметь твердое понятие, — напротив того, многие колеблются еще среди разных и погрешительных об этом мнений. Нам же, если бы для доказательства истины достаточно было внешнего любомудрия, искусно об этом рассуждавшего, излишним, может быть, сделалось бы предлагать на рассмотрение слово о душе. Но поскольку у внешних по кажущейся последовательности возымел силу свой взгляд на душу, а нам не дано этой власти, разумею власти утверждать что угодно, мы, как правилом и законом во всяком догмате, пользуемся Святым Писанием, — то необходимо, взирая па это, принимать одно то, что может быть согласным с целью написанного. Итак, оставив Платонову колесницу и впряженную в нее пару молодых коней, неодинаково друг с другом порывающихся, и правящего ими возницу (подобно этому, во всем этом Платон иносказательно любомудрствует о душе), — оставив и все то, что другой по Платоне философ, искусно заключая из видимого и со тщанием исследуя подлежащее теперь нашему рассмотрению, на основании этого утверждал, что душа смертна, — оставив и всех прежде и после любомудрствовавших в речи плавной или изложенной с каким–либо складом и размером, стражем слова сделаем Богодухновенное Писание, которое вменяет в закон не признавать доблестным в душе ничего несвойственного естеству Божественному. Ибо сказавший, что душа есть подобие Божие, этим утвердил, что все чуждое Богу не входит в определение души, потому что в вещах различных не может сохраняться подобное. Итак, поскольку ничего такого не усматривается в естестве Божественном, то никто и по разуму не предположит, чтобы могло это осуществиться в душе. Поэтому откажемся и наши догматы по правилам диалектического искусства подтверждать на умозаключениях и разложении понятий построенным знанием, так как подобный род в изложении неблагонадежен и подозрителен при доказательстве истины. Ибо всякому явно, что диалектическая утонченность имеет равную силу для того и другого: и для ниспровержения истины, и для осуждения лжи. Отчего и саму истину, когда предлагается с каким–либо подобным этому искусством, часто оставляем в подозрении, будто бы тонкость в том вводит ум наш в обман и отвращает его от истины. Но если кто примет безыскусное и обнаженное от всякого прикровения слово, то скажем ему свое мнение, сколько будет возможно, представляя взгляд на это вследствие указаний Писания. Поэтому что же такое говорим мы? Что человек — это словесное живое существо — обладает умом и сведениями, как засвидетельствовано даже не приемлющими нашего учения. Не изображало бы так нашего естества это определение, если бы видело, что раздражительность, похотливость и все этому подобное составляют сущность естества, ибо и в чем–либо другом никто не станет определять подлежащего, высказывая общее вместо особенного. Итак, поскольку вожделевательное и раздражительное равно усматриваются в естестве бессловесном и словесном, то никто не имеет основания особенное изображать в чертах общих. А что в изображении естества излишне и не идет к нему, то, как часть естества, может ли иметь силу при опровержении определения? Ибо всякое определение сущности имеет в виду особенность подлежащего. А что не принадлежит к особенности, то, как чуждое, в определении оставляется без внимания. Но сила раздражительная и вожделевательная признается общей для всякого словесного и бессловесного естества. Все же общее не одно и тоже с составляющим особенность. На основании этого необходимо заключить, что нет тождественных черт в числе тех, которыми по преимуществу отличается естество человеческое. Но, как, видя в нас силу чувствительную, питательную и растительную, никто по причине оных не станет опровергать данное выше определение души (из того, что одно есть в душе, не следует, что нет другого), так и приметивший раздражительное и вожделевательное движения естества нашего не имеет основания оспаривать определение, будто бы оно недостаточно показывает естество.
Григорий. Поэтому, что надлежит знать об этом, спросил я наставницу? Ибо еще не в состоянии я усмотреть, как можно от того, что в нас, отказаться как от чуждого нашему естеству.
Макрина. Видишь, говорит, что у рассудка есть некая борьба с этим, и старание, сколько можно, освободит от этого душу. Некоторые и преуспели в этом старании, как слышим о Моисее, что был он выше раздражения и похотения, потому что и то и другое свидетельствует о нем история, а именно что был он кроток паче всех человек (Числ. 12:3); кротостью же показываются пегневливость и отчуждение от раздражительности, и также, что не имел похотения ни к чему такому, на что, как видим, во многих обращена вожделевательная сила и чего не было бы с ним, если бы раздражение и похотение принадлежали естеству и входили в основание сущности, ибо ставшему вне естества невозможно оставаться и в бытии. Напротив того, если Моисей и бытие сохранял, и этого в себе не имел, то значит, что это есть нечто иное с естеством, а не естество: ибо естество в действительности есть то, в чем заключается бытие сущности. Отчуждение же от этого — в нашей воле, так что уничтожение этих качеств не только не вредно, но даже полезно естеству. Поэтому явно, что принадлежат они к числу усматриваемого вне, как немощи, а не сущность естества. Ибо сущность вещи есть то самое, что составляет вещь, а раздражение, по мнению многих, есть воскипение крови около сердца; другие же называют желанием воздать оскорблением начавшему оскорблять, а как думали бы мы, раздражение есть стремление сделать зло огорчившему. Ничто из всего этого не идет к определению души. И если похотение станем определять, что оно само в себе, то назовем желанием недостающего у нас, или при–растанием к наслаждению удовольствиями, или печалью о том, что не в нашей власти желаемое, или какой–либо привязанностью к приятному, когда наслаждение этим невозможно, ибо все это и подобное этому указывает на похотение, но не касается определения души. Но что иное усматривается в душе, представляясь одно другому противоположным, например боязнь и смелость, печаль и удовольствие, страх и презрение и всякое подобное движение, из которых каждое, по–видимому, имеет сродство с вожделевательным и раздражительным свойством души, в особенном определении изображает особенное свое естество. Ибо смелость и презрение дают разуметь некое обнаружение раздражительного стремления; умаление же и ослабление некое того же самого показывают происходящее в душе от боязни и страха. Печаль остается тем и другим, ибо бессилие раздражительости, по невозможности отомстить опечалившим, делается печалью, и отчаяние в получении желаемого и лишение вожделенного производят в уме угрюмое это расположение. И представляющееся противоположным печали, разумею исполненную удовольствия мысль, подобным образом делится между раздражением и похотением, потому что тем и другим равно правит удовольствие. Все это близко к душе, но не душа, а как бы возбуждающие зуд наросты, зарождающиеся в мыслительной части души, и они, как приросшие к душе, считаются частями ее, однако же не то, что душа в сущности.
Григорий. И точно видим, говорю деве, что и они немалым пособием служат к усовершению доблестным, ибо Даниилу в похвалу обратилось желание (Дан. 9:23; 10:11–19) и Финеес раздражительностью умилостивил Бога (Чис. 25:11); познали мы также, что начало премудрости — страх (Притч. 9:10), и от Павла слышали, что печали, яже по Бозе, конец есть спасение (1 Кор. 7:10), и не смущаться грозными событиями предписывает нам Евангелие (Лк. 21:9), и не бояться страшного не иное что есть, как знак смелости, которую мудрость причисляет к добрым качествам. А подобными этим местами Писание показывает, что такие движения не должно считать страстными, потому что страстные движения не были бы употреблены к преспеянию в добродетели.
Макрина. И наставница говорит на это: видно сама я служу причиной такого смешения понятий, не разделив слова об этом на части, чтобы к обозрению приложен был некий последовательный порядок. Поэтому теперь в рассуждении нашем да будет но возможности придуман какой–либо порядок, чтобы, когда обозрение будет происходить последовательно, подобные возражения не имели уже места. Ибо говорим, что душе по самому естеству свойственна сила созерцательная, обозревающая и обслуживающая существа, и через это сохраняет она в себе образ богоподобной благодати, потому что и Божественному, сколько гадает разум о его естестве, свойственно все обозревать и хорошее отличать от худого. А что в душе сопредельно тому и другому из противоположного, к тому и другому склоняется по собственной природе, и от чего при известном употреблении исход дела ведет к добру или к противоположному, каковы раздражение, или страх, или какое–либо из подобных движений в душе, без которых невозможно и представить естества человеческого, — все это, как рассуждаем, привзошло в душу извне, потому что в первообразной красоте не усматривается ни одной такой черты. Слово же об этом пусть будет у нас излагаемо пока, как в училище, чтобы через это избежать ему нападений от слушающих с намерением оклеветать. Писание повествует, что Божество неким путем и последовательным порядком приступило к сотворению человека. Ибо, когда пришла в бытие Вселенная, человек, как говорит история, не вдруг является на земле, но ему предшествовало естество бессловесных, а прежде их появились растения. Но этим, думаю, Писание показывает, что жизненная сила в некоем последовании присоединяется к телесному естеству, сперва проникая в бесчувственные твари, после этого поступая в чувствующее, а потом уже восходя до разумного и словесного. Поэтому одно из существ, конечно, есть телесное, а другое — разумное; из телесных одно одушевленное, другое неодушевленное, одушевленным же называю причастное жизни. А из живых существ одни одарены чувством, другие же лишены чувства. Опять из одаренных чувством одни словесны, другие бессловесны. Итак, поскольку не могла бы и чувственная жизнь состояться без вещества, и разумное иначе находиться в теле, как в соединении с чувственным, то поэтому в повествовании заключительным представлено сотворение человека, как объявшего собою всякий вид жизни, усматриваемый и в растениях, и в бессловесных. Ибо то, что питается и растет, имеет он из жизни растительной, потому что подобное этому можно видеть и в растениях: они привлекают себе пищу корнями, извергают же ее из себя в плодах и листьях, а то, что водится чувством, имеет от бессловесных. Дар же разумения и слова, рассматриваемый сам в себе, не разделяется с другими существами и составляет особенность естества человеческого. Но, как естество имеет в себе влечение к необходимому для вещественной жизни, и это влечение, когда бывает в нас, называется пожеланием, это же называется растительным видом жизни, потому что и в растениях можно видеть как бы некоторые естественно происходящие стремления наполниться свойственным и откинуть отростки, — так и принадлежащее собственно бессловесному естеству примешано к разумной части души. Так, бессловесным принадлежит раздражение, им свойствен страх, им и все иное, что совершается в нас в противоположность этому, кроме словесной и разумной) силы, которая одна служит преимуществом нашей жизни, имеющим в себе, как сказано, подобие Божественного образа. Но поскольку на основании изложенного уже выше разумная сила не иначе может иметь место в телесной жизни, как под условием силы чувственной, и чувство предваряет в естестве бессловесных, то через посредство одного необходимо происходит общение души нашей и с тем, что соединено с этим одним. И это суть движения, которые, происходя в нас, называются страстями и которые вовсе не на зло какое–либо даны в удел человеческой жизни (ибо виновным во зле был бы Создатель, если бы Им в естество вложены были необходимые побуждения к погрешностям). Напротив того, по известному произволению, орудиями или добродетели, или порока делаются подобные душевные движения, как железо, выковываемое по воле художника, какой вид желает сообщить ему мысль ковача, в тот и преобразуется, делаясь или мечом, или каким–либо земледельческим орудием. Итак, если разум — это преимущество нашего естества — возымеет господство над тем, что привзошло в нас извне, как слово Писания дало это разуметь, выразив загадочно, когда повелело начальствовать над всеми бессловесными, то ни одно из подобных движений не будет нам содействовать в услужении пороку, потому что страх производит в нас послушание, раздражение — мужество, боязнь — приведение себя в безопасность, да и стремление вожделения доставит нам божественное и чистое удовольствие. Если же разум кинет бразды и, подобно какому–то возничему, привязанному к колеснице, будет влачиться сзади ее, увлекаемый туда, куда понесет неразумное движение впряженных коней, тогда стремления обращаются в страсть, как это можно видеть и в бессловесных. Поскольку движением, естественно в них возбужденным, не управляет рассудок, то животные раздражительные, управляемые раздражительностью, губят друг друга; и рослые и сильные не пользуются силой к собственному благу, по неразумию делаясь достоянием существа разумного; похотливая и сластолюбивая деятельность не занимается ничем возвышенным, и ничто иное из усматриваемого в них не проводится каким–либо расчетом к полезному. Так и в нас, если страсти не будут направлены рассудком, к чему должно, но возьмут верх над владычеством ума, то человек, стремлением таковым страстных движений претворенный в скота, из разумного и богоподобного состояния переходит в неразумное и бессловесное.
Григорий. На меня сильно подействовало сказанное, и я отвечал: всякому, кто имеет ум, достаточно так просто и безыскусственно в порядке изложенного слова, чтобы признать его основательным и нигде не погрешающим против истины. Но как старающимся об искусственных способах доказательств достаточным для удостоверения кажется силлогизм, а у нас из всех искусственных выводов признается достовернейшим подтверждаемое священными учениями Писания, то думаю, что должно доискаться о сказанном: согласно ли с этим Богодухновенное учение?
Макрина. Наставница говорит на это: кто же будет спорить, что истина заключатся в том одном, на чем лежит печать свидетельства Писания? Поэтому если в защиту этого учения надлежит заимствовать что–либо и из учения евангельского, то не неблаговременным будет для нас взгляд на притчу о плевелах (Мф. 13:24). Там доброе семя сеет Домовладыка (дом же, без сомнения, мы), а враг, подстерегши, что люди спят, к годному в пищу подсевает негодное, в средину самой пшеницы вмешав плевелы. И семена произрастают вместе одни с другими, потому что семени, вмешанному в саму пшеницу, невозможно было не вырасти вместе с нею. Поскольку противоположные семена срослись в корне, то смотритель работ запрещает служителям выдергивать негодное, чтобы с чуждым не выдернуть и годное в пищу. Ибо думаем, что добрыми семенами слово называет подобные стремления души, из которых каждое, если бы только возделываемо было на что–либо доброе, непременно возрастило бы нам плод добродетели. Но поскольку привсеяно к этому негрешительное суждение о хорошем и что действительно и единственно по собственной своей природе хорошо, то затенено выросшим вместе былием обмана (ибо вожделение не того, что по естеству хорошо, почему и посеяно в нас, и дало отпрыск, и возросло, но скотского и бессловесного претворило произрастание, потому что неумение отличить хорошее к этому обратило стремления вожделения, а также и семя раздражительности не в мужестве утвердило, но вооружило к борьбе с единоплеменными, сила же любви оставила умственное с безмерною роскошью предавшись наслаждению чувственным, а таким образом и прочие семена вместо хороших отростков пустили дурные), — то поэтому премудрый Делатель попускает выросшему от семени прозябению оставаться при нем, промышляя о том, чтобы не лишить нас лучшего, вместе с негодным отростком вовсе искоренив вожделение. Ибо если бы это потерпело естество человеческое, что восторгало бы нас к единению с небесным? По отнятию любви каким бы способом привязать нас к Божественному? По угасании раздражения какое оружие имели бы мы против борющегося с нами? Поэтому Делатель оставляет в нас подложные семена не для того, чтобы навсегда превозмогали над достойнейшим посевом, но чтобы сама нива (так иносказательно называет сердце) вложенной в нее естественной силой (а это есть рассудок) иные отростки иссушила, а другие соделала плодоносными и всегда цветущими. Если же этого не будет, то суд над возделанной нивой совершит огонь. Поэтому если кто воспользуется этими стремлениями по надлежащему, приемля в себя их, но не увлекаясь ими сам, то, как некий царь, пользующийся содействием множества рук своих подданных, удобно преуспеет по желанию в добродетели. Если же увлечется ими, как бы при восстании на владетеля каких–то рабов, будет ими порабощен, неблагородно поддавшись рабской наглости, и сделается достоянием подчиненных по естеству, то по необходимости обратится и то, во что принудит превозмогающая сила властвующих. Если же таким образом происходит это, не будем утверждать, что стремления эти сами по себе суть или добродетель, или порок; так как это движения души, то во власти пользующихся состоит, чтобы они были или хороши, или нет. Но, когда бывает в них движение к лучшему, делаются предметом похвал, как у Даниила желание (Дан. 10:11), у Финееса гнев (Чис. 25:11) и у хорошо плачущего печаль (Ин. 10:20), если же произойдет наклонность к худшему, то они делаются и называются страстями.
Григорий. А я, поскольку изложив это, прекратила она речь и дала ненадолго умолкнуть слову, собрал в мысли сказанное и возвратился опять к прежней связи разговора, когда было доказываемо, что душе разложившегося тела невозможно быть в стихиях, и следующее сказал наставнице, где это часто повторяемое имя ада весьма обычное в жизни, весьма употребительное в писаниях языческих и наших, куда, но мнению всех, как в хранилище какое, переселяются отсюда души, ибо стихии не назовешь адом?
Макрина. И наставница говорит на это: видно, не слишком внимательным был ты к слову, ибо, говоря о переселении души из видимого в невидимое, как думалось мне, не миновала я вопроса об аде. И кажется мне, что именем ада, в котором, как говорят, находятся души, и у язычников, и в Божественном Писании не иное что означается, как переселение в темное и невидимое.
Григорий. И почему же, спросил я, иные думают, что адом называется подземная область и что она, как в гостинице, содержит в себе души, словно некое вместилище, способное принимать в себя подобное естество и привлекающее души, восхищенные уже из человеческой жизни.
Макрина. Но от этого мнения, говорит наставница, нисколько не потерпит вреда догмат. Ибо если справедливо твое слово и небесный свод есть нечто сплошное и непрерывное, все объемлющее своей окружностью, а в середине повешена земля и окружающее ее, движение же всех кругообращающихся тел совершается около неподвижного и твердого, — то по всей необходимости, продолжает она, что происходит с каждой стихией в той ее части, которая над землей, тоже должно быть и в противоположной части, так как одна и та же сущность обходит кругом целого земного состава. И как при появлении солнца над землей тень ее обращается в противоположную сторону, потому что шарообразная поверхность не может в одно и то же время быть кругом объята лучом, но по всей необходимости, на какую часть земли отбросит солнце лучи, без сомнения, делаясь неким сосредоточением шара, на другом конце прямого поперечника будет тьма, и таким образом на прямо противоположном конце по прямой черте идущего луча непрестанно сопутствует солнечному течению тьма, так что надземное и подземное место по очереди в равной мере бывают во свете и во тьме; так и о всем ином, что усматривается в виде стихий на нашем земном полушарии, естественно не сомневаться, что то же самое бывает с этим и на другом полушарии. Поскольку на всякой части земли один и тот же стихийный покров, то не должно, думаю, пи оспаривать, ни поддерживать возражающих, будто бы надобно полагать, что или эта верхняя, или подземная сторона определена душам, отрешившимся от тел. Ибо, пока возражение не будет колебать главного догмата о бытии душ после жизни во плоти, слово наше не будет спорить о месте, признавая, что местное положение свойственно одним телам, а что душа, как бесплотная по естеству, не имеет никакой нужды содержаться в каких–либо местах.
Григорий. Поэтому что же? — спросил я. Если возражающий сошлется на апостола, который говорит, что при всеобщем восстановлении к Владычествующему над Вселенной обратит взор всякая разумная тварь, и в числе тварей в Послании к Филиппийцам упоминает о каких–то преисподних, сказав: Ему поклонится всяко колено небесных и земных и преисподних (Флп. 2:10)?
Макрина. Хотя и слышим говорящих это, говорит наставница, но останемся при догмате касательно бытия души, имея согласным с нами и возражающего, а относительно места, как сказано выше, не входя в спор.
Григорий. Поэтому, говорил я, доискивающимся в этом изречении апостольской мысли, что может кто–либо сказать, если от выражения этого устранить значение места?
Макрина. Она же говорит: мне кажется, что божественный апостол, не местом различая духовную сущность, именует нечто одно небесным, другое земным, а иное преисподним. Но поскольку три состояния разумного естества: одно — вначале получавшее в удел бесплотную жизнь, которое именуем ангельским, другое — сопряженное с плотью, которое называем человеческим, и еще другое — отрешенное от тел посредством смерти, как усматривается это в душах, — то думаю, что божественный апостол, в глубине мудрости взирая на это, означает то согласие в добре всего разумного естества, какое произойдет некогда, и небесным называет ангельское и бесплотное, земным — сопряженное с телом, а преисподним — отделенное уже от тела, или если в числе разумных естеств усматривается и какое–либо иное кроме поименованных, которое угодно кому будет наименовать демонами, или духами, или иным чем подобным, не будем этому противоречить. Ибо на основании общего мнения и Предания Писание принимается верой, что вне подобных тел есть некое естество, враждебно расположенное к добру и вредоносное для человеческой жизни, добровольно отложившееся от лучшего жребия и отступничеством от доброго осуществившее в себе разумеемое противоположно, и его–то, говорят, апостол причисляет к преисподним, этим словом означая то, что наконец после длинных вековых периодов порок исчезнет и ничего не останется вне добра — напротив того, и преисподними единогласно исповедано будет господство Христово. Поэтому если это действительно так, то никто не принудит нас под именем преисподних разуметь подземную область, потому что земля отовсюду равно окружена воздухом и ни одна ее часть не остается обнаженной от воздушного покрова.
Григорий. Когда наставница проговорила это, помолчав недолго, говорю ей: не удовлетворяюсь найденным о предмете исследования — напротив того, мысль моя сомневается еще несколько в сказанном, и имею нужду возвратиться к прежней связи речи, оставив только то, с чем уже согласились мы между собой. Ибо не слишком упорные достаточно, думаю, убеждены сказанным не обращать душу по разложении тел в небытие и уничтожение и не утверждать, что она никак не может принадлежать к числу существ, потому что имеет разнородную со стихиями сущность. Если и не сходно с ними естество духовное и невещественное, то не имеет препятствия быть в них, потому что мнение это подтверждается у нас с двух сторон и тем, что теперь, в этой жизни, душа пребывает в телах, будучи по сущности нечто иное с телом, и тем, что естество Божественное, как доказано в слове, будучи нечто совершенно иное с сущностью чувственной и вещественной, проницает, однако же, Собою каждое из существ и растворением силы Своей во Вселенной содержит существа в бытии. Почему вследствие этого не должно думать и о душе, будто, переселившись из жизни видимой в невидимую, состоит она вне существ. Но как, продолжал я? Когда при единении стихии от взаимного между собой смешения примут иной некий вид, отличный от того, с каким освоилась душа (потому что по разложении стихий, вероятно, и этот вид исчезнет), тогда какому знаку будет следовать душа, если не останется того, что было ей знакомо?
Макрина. Она же, помедлив недолго, говорит: да будет мне позволено свободно сложить некое слово в виде примера к уяснению нашего предмета, хотя сказанное мною покажется и невозможным. Пусть согласятся, что живописное искусство имеет возможность смешивать не только противные краски, как в обычае у живописцев делать это, чтобы изобразить подобие списываемого, но и разлагать смешанное, и каждой краске возвращать опять природный ее цвет. Поэтому для подобия изображаемого предмета смешаны вместе краска белая и черная, или красная и златовидная, или другая какая; если каждая опять будет отделена от смешения с другой и возьмется сама по себе, то утверждаем, что тем не менее художник знает тот же род краски и не произойдет в нем никакого забвения ни о красном, ни о черном, если от взаимного смешения принявшее на себя иной цвет опять возвратится в свою природную краску. Помня же способ, как цвета посредством растворения делаются из одних другими, знает он, какая краска и с какой произвела известный цвет и как по отмытии другой опять придет в свой собственный; и, если опять нужно будет смешением произвести то же, легче для него будет работа, которой уже обучился в предшествовавшем производстве. Если в представленном примере речь наша, продолжает она, имеет какую–либо последовательность, то остается исследовать сам предмет: вместо живописного искусства пусть представлена будет в слове душа, вместо искусственных красок пусть разумеется естество стихий, а разноцветная смесь из красок неодинакового цвета и уступленное нам предположительно возвращение красок в свойственные им опять цвета пусть изображают соединение и разъединение стихий. Поэтому, как в примере, утверждаем, что художник не знает той краски известного цвета, которая после смешения опять возвращается в свойственный ей цвет, но узнает красный, и черный, и всякий другой цвет, если какой известным общением с инородным произвел изображение, и именно узнает, каким он был в смеси, каков теперь, пришедши в природный свой вид, и каким будет опять, если подобным прежнему образом краски опять будут смешаны между собою — так душа естественное свойство стихий, стекающихся в состав того тела, с которым она была соединена, знает и по разложении их. И хотя бы естество стихии по причине вложенных в них противоположных качеств далеко отвлекло одну от другой, удерживая каждую из них от смешения с противоположной, тем не менее душа будет при каждой стихии, познавательной силой касаясь и держась свойственного ей, пока не произойдет опять стечения разъединенных стихий в одну совокупность для восстановления разложившегося, что в собственном смысле есть воскресение и им именуется.
Григорий. И я сказал: прекрасно, кажется мне, мимоходом защищено тобой учение о воскресении. Ибо этим противоборствующих вере можно постепенно привести к той мысли, что нет невозможности опять сойтись между собой стихиям и составить того же человека.
Макрина. Да, отвечает наставница, справедливо говоришь это. Ибо можно слышать, что восстающие против этого учения говорят: по совершившемся по сродству разложении стихий во Вселенной какая возможность, чтобы теплота, заключавшаяся в одном чем–либо, по соединении с теплотой во Вселенной, став беспримесной, опять отделилась от сродного для составления воссозидаемого человека? Ибо если возвратится не в точности собственное, но вместо собственно принадлежавшего заимствовано будет нечто однородное, то одно заменится другим, и такое действие будет уже не воскресение, но создание нового человека. Если же надобно, чтобы тот же самый снова в себя возвратился, то надлежит ему быть совершенно тем же с самим собой, во всех частях стихий восприняв первоначальное естество.
Григорий. Поэтому, как сказал я, чтобы отвечать и на это возражение, достаточно для нас такого мнения о душе: с какими стихиями она соединена первоначально, в тех пребывает и по разрушении, как бы поставленная стражем своей собственности, и по тонкости в удободвижности духовной силы не оставляет собственно ей принадлежащего при растворении этого с однородным, не подвергается никакой ошибке при раздроблении на мелкие части стихий, но проницает собственные свои, смешанные с однородным, а не ослабевает в силах, проходя с ними, когда разливаются во Вселенной, навсегда остается в них, где бы и как бы ни устроила их природа. Если же распоряжающаяся Вселенной сила даст знак разложенным стихиям снова соединяться, то, как к одному началу прикрепленные разные верви все вместе и в одно время следуют за влекомым, так по причине влечения единой силой души различных стихий при внезапном стечении собственно принадлежащего сплетется тогда душой цепь нашего тела, причем каждая часть будет вновь сплетена, согласно с первоначальным и обычным ей состоянием, и облечена в знакомый ей вид.
Макрина. Но вот и еще пример, говорит наставница, который справедливо может быть присовокуплен к рассмотренным в доказательство того, что душе невелика трудность отличить в стихиях собственное свое от чужого. Предположим, что перед горшечником наложена глина, и ее большое количество: часть уже употреблявшаяся на делание сосудов, а часть приготовленная на это. Сосуды же пусть будут сделаны не все одного между собою вида, но один будет бочонком, другой — ведром, третий — блюдом, или чашей, или другим чем годным к употреблению. И пусть всем этим владеет не один, но предположим в слове, что у каждого сосуда свой владелец. Итак, пока сосуды целы, известны они владельцам, да если и разбиты, то у владеющих и тогда тем не менее будет опять признак в черепках, что этот черепок от бочонка, а такой–то от чашки. Если же смешают с не бывшей в деле глиной, то распознание от нее бывшего уже в деле тем более сделается безошибочным. Так каждый отдельно взятый человек есть как бы некий сосуд, при стечении стихий выделанный из общего вещества и при–особенной своей наружности непременно имеющий большую разность с однородным; тем не менее по разрушении сосуда обладавшая им душа и по остаткам узнает свою собственность и не оставляет этой собственности, будет ли она в куче черепков или смешается с не бывшим в деле веществом стихий, но всегда знает свое, каким оно было, когда сохраняло наружный свой вид, и но разрушении но сохранившимся в остатках признакам не ошибается в своем.
Григорий. Одобрив сказанное, как придуманное кстати и прилично предположенной нами цели, спросил я: прекрасно так об этом и говорить и веровать, но если кто сличит со сказанным повествуемое в Господнем Евангелии о пребывающих во аде и найдет, что оно не согласно с исследованным, то как надлежит приготовиться к ответу?
Макрина. Она же говорит: слово Божие излагает повествуемое несколько чувственно, но всевает много поводов, которыми слушающий с разбором вызывается к более утонченному взгляду. Ибо, кто великой бездной отделил злое от доброго, представив страждущего в муках нуждающимся в какой–либо капле, подаваемой с перста, и патриархово лоно предоставив в успокоение тому, кто страдал всю жизнь, а прежде этого рассказав, что они умерли и преданы погребению, тот не без разумения следящего за сказанным не отводит далеко от смысла, какой представляется с первого взгляда. Ибо какие очи возводит богатый во аде, оставив плотские во гробе? Как бесплотное чувствует пламя? Какой язык желает остудить каплей, когда нет у пего языка плотского? Что за перст, подающий ему каплю? Что такое само лоно упокоения? Ибо, когда тела во гробах, а душа и не в теле, и не из частей состоит, трудно будет склад повествования, понимаемый в буквальном смысле, согласить с истиной, если не примет кто всех частностей в духовном смысле так, что и бездну, препятствующую общению несоединимого, не почтет земным расстоянием. Ибо бесплотному и духовному какой труд перелететь бездну, даже и самую широкую, потому что духовное по естеству, где бы ни пожелало быть оно, является там, не тратя на это времени.
Григорий. Итак, что же, спрашиваю, этот огонь, или эта бездна, или прочее в сказанном, если оно не то, чем называется?
Макрина. Кажется мне, говорит она, что подробностями это повествование Евангелия обозначает некие догматы, касающиеся вопросов о душе. Патриарх, сказав сперва богатому «В плотской жизни ты получил часть благих», сказал подобное о бедном, и он исполнил служение тем, что причастился зол в жизни: потом, продолжая о бездне, которой отделяются они друг от друга, через это, по видимому, великий некий догмат открывает в слове. Догмат же этот, по моему мнению, таков: вначале жизнь человеческая была однородна. Однородной же называю ту, которая представляется в одном добре и к которой неприкосновенно зло. О таком понятии свидетельствует первый Божий закон, дозволяющий человеку полное причастие всякого из благ в раю, воспрещающий же то одно, что по естеству было смешано из противоположностей от растворения в нем зла с добром, и в наказание преступнику положивший смерть. Но человек, добровольно, свободным движением оставив недоступную худшему долю, восхитил жизнь, растворенную из противоположностей. Впрочем, Промысл Божий неразумия нашего не оставил неисправимым. Но поскольку с преступившим закон необходимо последовала присужденная законом смерть, то, разделив человеческую жизнь на две части — на жизнь настоящую во плоти и па жизнь после нее вне тела— не в равной мере продолжив их, но одну ограничив весьма кратким неким пределом времени, а другую продолжив в вечность — по человеколюбию дал власть кому что угодно избирать из этого то и другое, разумею доброе и злое, или в этой краткой и скоропреходящей жизни, или в тех нескончаемых веках, пределом которых является беспредельность. Поскольку же подобоименно называется и доброе и злое и делится каждое из них по двоякому понятию, разумею относительно к уму и чувству, и одни причисляют к доброй доле то, что приятным кажется чувству, а другие уверены, что постигаемое только мыслью и является и именуется добром, то, у кого рассудок не обучен и не способен видеть лучшее, те в плотской жизни с жадностью иждивают следующую естеству долю добра, ничего не сберегая для жизни последующей, а распоряжающиеся своею жизнью с разборчивым и целомудренным рассудком, в краткой этой жизни истомленные оскорбляющим чувство, сберегают доброе веку будущей жизни, чтобы лучший жребий простирался для них на вечную жизнь. Итак, вот что, по моему понятию, значит бездна, которая не разверзшейся землей образуется, но которую производит суждение, разделявшееся в жизни на противоположные произволения. Ибо, однажды избравший приятное в настоящей жизни и не уврачевавший неразумия покаянием, недоступной для себя после этого делает область блага, неминуемую эту необходимость выкопав перед собой, как некую зияющую и непроходимую бездну. Потому–то кажется мне, и благое состояние души, в каком слово Божие упокоевает подвижника терпения, названо лоном Авраамовым. Ибо этот первый из бывших когда–либо Патриарх, как повествуется, на надежду будущих благ обменял наслаждение настоящими: совлекшись всего, что было у него первоначально в жизни, имел он пребывание у чужих, настоящим злостраданием искупая чаемое блаженство. Поэтому, как известное очертание моря по какому–то неправильному словоупотреблению называем пазухой, так, кажется мне, слово Божие указание на безмерные те блага обозначает именем лона, где все добродетельно переплывающие настоящую жизнь, когда отходят отсюда, упокоевают души как бы в неволненной пристани и на добром лоне. Для прочих же лишение видимых ими благ делается пламенем, палящим душу, которая в утешение себе имеет нужду в какой–либо капле из моря благ, окру жающих праведников, и не получает ее. Видя же в беседе совлекшихся тела именование языка, ока, перста и прочих телесных членов, если внимательно вникнешь в смысл речений, то признаешь их согласными с понятием, какое уже нами гадателыю составлено о душе. Ибо, как стечение стихий составляет сущность целого тела, так, вероятно, по той же причине восполняется и естество частей в теле. Итак, если душа присутствует в стихиях, составлявших тело и перемешавшихся во Вселенной, то не только будет она знать совокупность стихий, какие соединены были в целом теле, и пребудет в них, но не останется в неведении и об особенном составе каждой части, именно же из каких стихийных частиц состояли наши члены. Поэтому никакой нет невероятности — той, которая присутствует во всей полноте стихий, быть и в стихиях, взятых отдельно; а в таком случае, кто, имея в виду те стихии, в которых в возможности своей заключаются отдельно взятые члены тела, подразумевает в словах Писания такой смысл, что у души и по разложении телесного состава есть перст, и око, и язык, и все прочее, тот не погрешит против вероятности. А если в этом повествовании все взятое по частностям отводит ум от разумения чувственного, то и об упомянутом теперь аде надлежит думать, что не какое–либо место так наименовано, а некое невидимое и бесплотное состояние жизни, в котором, как учит нас Писание, пребывает душа. Но из повествования о богатом и бедном познаем и другой догмат, который будет состоять в великой близости с исследованным. Этого преданного страстям и плотолюбивого богача, когда увидел неизбежность своего бедствия, повествование представило заботящимся о близких ему по роду на земле; и, поскольку Авраам сказал, что жизнь во плоти живущих не оставлена без промышления, но свободе их предоставлено руководство закона и пророков, богач продолжает еще упрашивать, чтобы убедительной сделалась для них проповедь по своей необычайности, будучи возвещена кем–нибудь ожившим из мертвых.
Григорий. Какой же догмат заключается в этом? — спросил я.
Макрина. Когда душа озарена, говорит она, занята настоящим и не обращается ни к чему оставленному, богатый и по смерти как бы составом каким приварен к плотской жизни, которой и по кончине не совлекся совершенно — напротив того, предметом заботы — его еще плоть и кровь, ибо из того, что за находящихся с ним в родственном союзе просит об избавлении их от зол, явно, что не освободился еще от плотского пристрастия. А поэтому полагаем, продолжает она, что Господь повествованиями этими учит следующему: живущие во плоти всего более должны добродетельной жизнью отдаляться и отрешаться от привязанности к плотскому, чтобы по смерти снова не было нам нужды в другой смерти, очищающей от остатков плотского припая, но чтобы течение души ко благу, как бы по расторжении на ней уз, соделалось легким и свободным, когда никакая телесная скорбь не будет отвлекать ее к себе. Если кто весь и всецело оплотянел умом, всякое движение и действие души занимая исполнением желаний плоти, тот, став и вне плоти, не расстается такой с плотскими страстями, но, подобно проживавшим долго в зловонных местах, которые, когда перейдут туда, где воздух свеж, не очищаются от неприятного запаха, каким запаслись в долговременное пребывание в нем, — так плотолюбцам по совершившемся переходе в жизнь невидимую и тончайшую невозможно, конечно, не привлечь с собой сколько–нибудь плотского зловония, от которого еще более тяжелым делается для них мучение, потому что душа от этого обстоятельства грубее овеществляется. С таким мнением, кажется мне, несколько согласно и рассказываемое иными, будто бы около мест, где кладут тела, нередко видны туманные некие призраки умерших. Ибо, если это действительно так бывает, то обличается этим сделавшееся ныне чрезмерным пристрастие души к плотской жизни, так что и исторгнутая из плоти не желает совершенно отлететь от нее, не соглашается, чтобы совершилось полное претворение оболочки в невидимое, но и по разложении видимого остается еще при видимом, даже став уже вне его, с любовью блуждает по местам полным вещества и вращается около нас.
Григорий. А я, немного помедлив и возвратясь к мысли, заключавшейся в сказанном, заметил: в словах этих, кажется мне, возникает некоторое противоречие найденному прежде о страстях. Ибо, если признано, что по сродству с бессловесными совершаются в нас все такие душевные движения, которые исчислило предшествующее слово, как–то раздражительность, страх, пожелание, удовольствие и подобные тому, — сказано же, что доброе употребление таких движений есть добродетель, а от употребления погрешительного происходит порок, притом присовокуплено было в слове, что именно привносится к добродетельной жизни каждым из других движений, о вожделении же сказано, что им приводимся к Богу, как бы цепью какой влекомые к Нему с земли. А эта речь, кажется, сказал я, противоречит как–то цели.
Макрина. Почему говоришь это?
Григорий. Потому, отвечал я, что, когда по очищении прекратится в нас всякое неразумное движение, тогда не будет, без сомнения, и вожделевательного; а когда его нет, не может быть и пожелания чего–либо лучшего, так как не осталось в душе ни одного такого движения, возбуждающего ощущение потребности благ.
Макрина. Но на это, отвечает она, скажем, что богоподобию души свойственны силы созерцательные и рассудительные, потому что ими постигаем и Божество. Поэтому если вследствие или теперешней попечительности, или очищения после этой жизни душа соделается у нас свободной от связи с неразумной стороной страстей, то ничто не воспрепятствует созерцанию прекрасного. А прекрасное по природе своей привлекательно как–то для всякого, кто видит его. Поэтому если душа очистится от всякого порока, то, без сомнения, будет в прекрасном. Прекрасно же по естеству своему Божество, с которым по чистоте душа вступает в общение, соединяемое со свойственным ей. Поэтому если произойдет это, не будет уже потребности в вожделевательном движении, которое бы возвело нас к прекрасному. Ибо пребывающий во тьме вожделевает света, но если будет он во свете, то место вожделения заступит наслаждение. Полное же право наслаждения бездейственным и неуместным делает вожделение. Поэтому не будет от этого никакой утраты в приобщении блага, если душа сделается свободной от таких движений, войдет снова сама в себя и в точности увидит себя, какая она по естеству, и в собственной красоте, словно в зеркале или в изображении, усмотрит Первообраз. Ибо справедливо можно сказать, что в этом и состоит точное Божие подобие, чтобы душа наша уподоблялась сколько–нибудь превысшему Естеству, потому что естество, которое превыше всякого понятия, стоит вдали от усматриваемого в нас, иным каким–то способом проводит собственную свою жизнь, а не как живем теперь мы. Мы люди, потому что естество наше всегда непременно в движении, несемся, куда ни произойдет стремление произвола, так как душа, может иной сказать, неодинаково расположена к тому, что позади ее. Движением вперед управляет надежда, но место движения, идущего к надежде, заступает память. Если надежда поведет душу к прекрасному по естеству, то движение произвола обозначается в памяти светлым следом, если же обманется в понятии о наилучшем по тому, что наделала, обольстит душу каким–то ложным изобретением красоты, то следующее за происшедшим воспоминание обращается в стыд. И в таком случае восстает в душе эта междоусобная брань, память вступает в борьбу с надеждой, худо управлявшей произволом. Подобную некую мысль ясно выражает чувство стыда, когда душа угрызается последствием дела, как бы неким бичом мучимая раскаянием за неразумное стремление и в пособие против причиняющего ей скорбь ополчаясь забвением. Но у нас, по скудости в прекрасном, природа всегда жаждет того, в чем имеет нужду, и это желание недостающего есть само вожделевательное расположение нашего естества или по неразборчивости ошибающееся в действительно прекрасном, или и достигающее того, чего достигнуть для нас благо. А естество, превысшее всякого понятия о благе и превосходящее всякую силу, как неимеющее никакого недостатка в том, что представляем себе благом, по само составляющее полноту благ и не по причастию чего–либо прекрасного делающееся прекрасным, по сущее самым естеством прекрасного, чем только по предположению ума может когда быть что–либо прекрасное, как не допускает в себе движения надежды (ибо надежда возбуждается только в рассуждении того, чего нет: Еже бо имеет кто, что и уповает (Рим. 8:24), говорит апостол), так не нуждается в деятельности памяти к познанию сущего (ибо видимое не имеет нужды в памятовании о нем). А поэтому как естество Божие выше всего доброго, доброе же непременно дружественно с добрым, то, взирая на Себя, и желает того, что имеет, и имеет то, что желает, не приемля в себя ничего извне. Вне же Его нет ничего, кроме одного порока, который, хотя это и странно, в небытии имеет свое бытие, потому что происхождение порока есть не иное что, как лишение существующего; в собственном же смысле существующее есть естество добра. Поэтому, чего нет в существующем, то, конечно, в небытии. Поэтому душа, когда, прекратив все разнообразные движения естества, делается богоподобной, тогда, став выше пожелания, достигнет того, к чему дотоле восторгаема была пожеланием, и не даст уже в себе никакого занятия ни надежде, ни памяти. Ибо имеет то, чего надеялась, а, предавшись наслаждению благами, удаляет из мысли память и таким образом подражает превысшей жизни, изобразив в себе отличительные черты Божия естества, так что не остается в ней ничего иного, кроме расположения любви, естественно привязанного к добру, ибо это и есть любовь — внутренняя привязанность к вожделенному. Потому когда душа, став простой, единообразной, а в точности богоподобной, обретет то истинно простое и невещественное благо, которое одно в действительности вожделенно и достойно любви, тогда привязуется к нему и вступает с ним в единение исполненными любви расположением и деятельностью, сообразуя сама себя с тем, что всегда ею обретается и приемлется, и через уподобление благу делаясь подобной естеству того, чего приобщается. Но как в этом нет пожелания, потому что нет в нем недостатка в каком–либо из благ, то будет следовать, что и душа, дошедши до неимения нужд, отвергает от себя всякое вожделевательное движение и расположение, которое бывает тогда только, когда пет еще желанного. В таком учении был нашим руководителем и божественный апостол, предвозвестив прекращение и упокоение в нас всех настоящих забот даже о лучшем, не нашедши же предела одной любви, ибо говорит: Пророчествия упразднятся, и знания умолкнут, а любы николиже отпадает (1 Кор. 13:8), а это значит то же, что и сказать: любовь всегда пребывает одинаковой. Но говоря, что с любовью пребывают вместе и вера и надежда, и их опять выше справедливо ставит любовь. Ибо надежда в движении до тех пор, пока не пришло наслаждение уповаемым, и вера также служит опорой в неизвестности уповаемого. Ибо так и определил ее апостол, говоря: Есть же вера уповаемых извещение (Евр. 11:1). Когда же придет уповаемое, тогда при неподвижности всего другого пребывает деятельность любви, не находя себе преемника. Почему и первенствует она во всех преспеяниях добродетели и в предписаниях закона. Поэтому если душа достигнет когда–либо этого конца, то не будет иметь нужды в ином, как объявшая полноту сущего, и окажется в себе единой как–то соблюдшей признаки самого Божия блаженства, ибо жизнь высшего естества есть любовь, потому что прекрасное непременно любезно знающим, Божество же знает Само Себя, а ведение делается любовью, потому что познаваемое прекрасно по естеству. Истинно же прекрасного не касается надменное пресыщение. Но как и насыщение не пересекает связи любви с прекрасным, то божественная жизнь всегда будет совершаться любовью, и она, прекрасная по естеству, естественно исполнена любви к прекрасному, не имеет предела действованию по любви, так как в прекрасном невозможно достигнуть какого–либо конца, чтобы с концом прекрасного прекратилась вместе и любовь, ибо прекрасное оканчивается только тем, что ему противоположно. А в ком естество не восприимчиво к худшему, тот не престанет идти к нескончаемому и беспредельному благу. Поэтому так как всякое естество привлекается свойственным ему, в некоем же свойстве с Богом и человечество, как носящее в себе подобие Первообраза, то по всей необходимости к Божественному и сродственному влечется душа. Ибо свойственное Богу должно сохраняться вполне и непременно. Но если душа будет легка и проста, потому что не тревожит ее никакая телесная скорбь, то приближение к влекущему соделается ей приятным и удобным. Если же в связи с вещественным она утверждена как бы гвоздями пристрастия, как это естественно бывает с телами, во время землетрясений засыпанными землей (присовокупи предположительно, что тела не только придавлены обвалами, по изъязвлены какими–то спицами или деревянными рожнами, нашедшимися в обвалившейся земле), то в каком виде естественно остаться телам, бывшим в таком положении, когда сродники для погребения извлекут их из–под развалин (конечно, будут они изломаны, изорваны, испытают самые тяжкие повреждения, при усилии вытаскивающих истерзанные комами земли и спицами); подобное некое страдание, кажется мне, происходит и с душой, когда Божия сила по человеколюбию извлекает свою собственность из–под неразумных и вещественных развалин. Ибо не по ненависти и не мстя за худую жизнь, как я рассуждаю, в мучительные расположения вводит согрешивших Бог, — Бог, присвояющий и влекущий к Себе все, что только по Его милости пришло в бытие. И, как с лучшею целью привлекает к Себе душу Он — Источник всякого блаженства, так в привлекаемом по необходимости происходит болезненное расположение. Ибо, как очищающие в огне золото от примешанного к нему вещества не подмес только расплавляют огнем, но по всей необходимости и чистое плавят вместе с нечистым и по истреблении последнего остается одно первое, так и при истреблении в очистительном огне порока вполне необходимо быть в огне и вступившей с ним в единение душе, пока не истребятся всеянные в нее примесь, вещество и нечистота, будучи поглощены огнем. И, как если к какой–либо верви но всей ее длине пристанет самая липкая грязь, потом верхний конец верви будет просунут в какое–либо узкое отверстие, и кто–либо сверху усиленно потянет вервь через отверстие, то влекомая вервь по всей необходимости следует за влекущим, а облегшая ее грязь, сильным влечением стираемая с верви, будет оставаться вне скважины, как причина того, что вервь несвободно идет своим путем, но терпит насильственное натягивание от влекущего, — подобное нечто, кажется мне, разуметь должно и о душе, что, опутавшись вещественными и земными пристрастиями, страждет она и бывает в напряженном состоянии, когда Бог влечет к себе Свое собственное, а чуждое, как сросшееся с нею несколько, стирает с усилием и причиняет ей болезненные и невыносимые страдания.
Григорий. Поэтому, сказал я, Божий суд, как видно, не наказание налагает на особенно согрешивших, но, как показало слово, производит только отделение добра от зла; привлекая к общению в блаженстве, отторжение же приросшего делается мучением для привлекаемого.
Макрина. Так, говорит наставница, и моя мысль, что мера страданий в каждом — количество порока. Ибо несправедливо и тому, кто долгое время пребывал во зле, которое запрещено, и тому, кто вовлечен в неважные некие погрешности, равно страдать при очищении от дурного навыка — напротив того, по большему или меньшему количеству вещества возгорится мучительный тот пламень на время, пока будет питающее его. Поэтому, на ком велико вещественное бремя, для того истребительному пламени необходимо сделаться великим и более продолжительным, а в ком в меньшей мере примешано годное в пищу огню, для того наказание настолько понижается в силе и мучительности действия, сколько в наказуемом умаляется мера порока. Ибо злу надлежит некогда быть вполне и непременно изъятым из существующего, и что, но сказанному выше, существует в действительности, тому вовсе не быть. Ибо порок не имеет свойства быть вне произвола, и, когда все произволение в Боге, тогда порок придет в совершенное уничтожение, потому что не останется ему вместилища.
Григорий. Но что выгоды, спросил я, в добро этой надежде размышляющему, какое зло претерпеть и единолетнее только страдание? Если же невыносимая эта мука продлится на вековое некое продолжение времени, то какое утешение надежды останется напоследок тому, для кого наказание соразмерно целой вечности?
Макрина. Пусть позаботится, сказала наставница, или вовсе сохранять душу чистой и не сообщимой со сквернами порока, или если это вполне невозможно, потому что естество наше страстно, пусть по крайней мере недостатки добродетели у нее будут в чем–либо незначительном и удобоисправимом. Ибо евангельское учение знает некоего должника тмою талант (Мф. 18:24), и еще пятью сот динарий, и еще пятидесятъю (Лк. 7:41), и еще каким–нибудь кодрантом (Мф. 5:26), а это самая последняя монета; праведный же суд Божий простирается на все, с тяжестью долга соразмеряет необходимость взыскания и самой малости не оставляет без внимания. Отдача же долгов, по словам Евангелия, состоит, не в уплате денег, но в том, как сказано, что должник предается мучителем, дондеже воздаст весь долг свой (Мф. 18:34), и это не иное что значит, как то, чтобы необходимый долг заплатить претерпением мучения, т. е. долг приобщиться скорбей, каким он стал повинен в продолжение жизни, избирая но неразумию одно чистое и не растворенное ничем противоположным удовольствие, а таким образом, отложив все для себя чуждое, т. е. грех, и, совлекшись стыда, быть в долгах, достигает человек свободы и дерзновения. Свобода же есть уподобление неподвластному и самоправному, первоначально дарованное нам Богом, но закрытое стыдом долгов. Всякая же свобода по природе есть некая единая и сама с собой родственная. Поэтому вследствие этого все свободное будет сообразно с подобным ему. Но добродетель неподвластна, поэтому в ней будет все свободное, так как свободное неподвластно. А как естество Божие есть источник всякой добродетели, то следует, что в Нем будут освободившиеся от порока, да будет, как говорит апостол, Бог всяческая во всех (1 Кор. 15:28), ибо это изречение, выражающее, что Бог будет все и во всем, ясно, кажется мне, подтверждает исследованную прежде мысль. Поскольку в настоящем различно и разнообразно проводится нами жизнь, то много есть такого, в чем принимаем участие, как–то время, воздух, место, пища, питие, одежды, солнце, светильник и многое иное, удовлетворяющее потребностям жизни, и из всего этого ничто не есть Бог. Ожидаемое же блаженство ни в чем этом не имеет нужды, всем же этим взамен всего будет для нас естество Божие, уделяющее Себя соразмерно всякой потребности той жизни, — и это явствует из Божественных слов, а именно о том, что Бог для достойных бывает и местом, и жилищем, и одеянием, и пищей, и питием, и светом и богатством, и царством, и всем, что по понятию и по имени содействует нам к доброй жизни. Но Кто бывает всем, Тот бывает и во всех. Этим, мне кажется, Писание научает совершенному уничтожению порока, ибо если во всех существах будет Бог, то, без сомнения, не будет в существах порока. А если предположит кто, что будет и порок, то как сохранится в своей силе сказанное, что во всех Бог? Потому что исключение порока делает недостаточным понятие слова «все». Напротив, Кто имеет быть во всех, Тот не будет в том, что не существует.
Григорий. Поэтому, спросил я, что надлежит сказать тем, которые малодушно взирают на бедствия?
Макрина. Им скажем, говорит наставница: напрасно, вы, люди, негодуете и с неудовольствием смотрите на эту цепь необходимой последовательности вещей, не зная, к какой именно цели направлено все отдельно взятое в домостроительстве Вселенной, потому что всему надобно в некоем порядке и в последовательности по художнической премудрости управляющего прийти в согласие с естеством Божиим. Ибо для того приведено в бытие и естество словесное, чтобы богатство божественных благ не было недейственным; но всеустроившею премудростью уготованы как бы некие сосуды, и произволением одарены преемники душ, чтобы было некоторое вместилище, приемлющее в себя блага, по прибавлении вливаемого делающееся всегда большим. Ибо таково причастие божественного блага, что, в ком оно бывает, того делает большим и более восприимчивым, будучи им восприемлемо в приращение силы и веса, так что питаемый всегда растет и никогда не прекращает роста. Поскольку источник благ источает их непрерывно, то естество причащающегося, так как в приемлемом нет ничего излишнего и бесполезного, все втекающее обращает в прибыток собственной своей величины, делается и сильнее привлекающим лучшее и в большей мере вмещающим при взаимном приращении того другого и питаемой силы, при изобилии благ больше и больше возрастающей, в снабжении питательным, увеличивающегося прибавление сил в возращаемых. Поэтому естественно прийти в такую величину тем, в которых никакой придел не пересекает возрастания. Потом, когда предлежит нам столько великого, неужели негодуете на то что естество идет вперед к собственной цели своей путем, для пас установленным? Ибо невозможно совершить нам течения своего туда иначе, как оттрясши с души своей гнетущее нас, разумею эту тяжелую и земную ношу, и попечением о лучшем очистившись от пристрастия к этой ноше, какое имели в настоящей жизни, чтобы чистым могло быть усвоено подобное. Но если есть у тебя некоторая привязанность к этому телу и печалит тебя расторжение связи с любимым, то и в этом не лишен ты надежды. Ибо увидишь телесное это покрывало, разрушенное теперь смертью, снова сотканным из того же, но не в этом грубом и тяжелом составе, а так, что нить сложится в нечто легчайшее и воздушное, почему и любимое при тебе будет и восстановится снова в лучшей и вожделеннейшей красоте.
Григорий. Но, как видно, сказал я, по связи речи привзошел у нас в слово и догмат о воскресении, который, кажется мне, по учению Писаний, должен быть истинным и достоверным и не подлежать сомнению. Но поскольку немощь человеческого разумения более как–то утверждается в таковой вере удобопонятными для нас умозаключениями, то хорошо будет и эту часть не оставить необозренной. Поэтому посмотрим, что надлежит сказать.
Макрина. И наставница говорит: чуждые нашего любомудрия, держась разных предположений, один так, другой иначе, в какой–либо части касались догмата о воскресении, не соглашаясь в точности с нашими и не вовсе лишая себя таковой надежды. Иные обижают человечество, не делая из него особого рода, но утверждая, что одна и та же душа бывает попеременно то в человеке, то в бессловесном, переоблекаясь в тела, и всегда переходит в какое ей угодно, делаясь из человека каким–либо животным или летающим, или водяным, или живущим на суше, а из них возвращаясь опять в человеческое естество. Другие же подобное пустословие простирают и до растений, так что и древесную жизнь почитают душе сообразной и свойственной; а еще другим кажется, что от человека только всегда заимствует душу другой человек, так что одними и теми же душами непрестанно проводится человеческая жизнь, потому что одни и те же души бывают непрерывно то в одних, то опять в других. Но мы утверждаем, что хорошо, начав с церковных догматов, в такой только мере заимствовать подобные мнения у любомудрствовавших, в какой через это можно показать, что они некоторым образом согласны с догматом о воскресении, ибо что говорят они, будто бы душа по разлучении с телом опять входит в какие–либо тела, то не слишком несходно с уповаемым нами возвращением в жизнь. И паше учение полагает, что тело у пас и теперь составлено, и вновь составится из мировых стихий. Та же мысль представляется и внешним, ибо и они не могли придумать иного какого–либо естества телу, кроме стечения стихий. Но разница в том, что, как говорится у нас, для той же души слагается снова то же тело, сочетаемое из тех же стихий, — они же думают, что душа переходит в какие–либо иные тела, как словесные, так бессловесные и бесчувственные, о которых согласно признают, что состав их из мировых частей, разногласят же в том, что не почитают его состоящим из того же самого, что первоначально было соединено с душой во время плотской жизни. Поэтому, пусть будет засвидетельствовано внешними любомудрие, что не вне пределов вероятности душе снова стать в теле. Благовременно же будет рассмотреть несостоятельность их учения и самой последовательностью, открывающейся нам в согласии с разумом, сколько можно, обнаружить истину. Поэтому что же сказать об этом? Переселяющие душу в разные естества, по моему мнению, сливают свойства естества, смешивают и путают между собою все вещи: бессловесное, словесное, чувствующее, бесчувственное, — если только будут они друг в друге, никаким естественным сцеплением не отделенные друг от друга до неподвижности. Ибо утверждать, что душа одна и та же ныне делается словесной и разумной по такому–то покрову тела, потом опять кроется в норы с пресмыкающимися, или присоединяется к стаду птиц, или переносит на себе тяжести, или делается плотоядным, или живет под водой, или же переходит в бесчувственное, коренистое и деревянистое, пускающее от себя отпрыски ветвей и на них возращающее или цвет, или иглу, или что–либо питательное, или ядовитое, — не иное что значит, как все почитать за одно и то же и в существах признать одно естество, смешанное какой–то слитной и неразделимой общностью с самим собою, потому что никакое свойство не отличает одного от другого. Кто говорит, что то же бывает во всем, не иное что хочет сказать, но то, что все есть одно, и видимая разность в существах нимало не препятствует смешению несообщимого, так что, если увидит что–либо ядовитое и плотоядное, необходимо ему признать видимое соплеменным и сродным себе; такой на цикуту будет смотреть не как на чуждое собственной своей природе, если и в растениях видит человечество, но не останется неподозрительная для него и самая гроздь, произращаемая для жизненной потребности, потому что и она из числа произрастаний; растения также у пас и те зерна в колосьях, которыми питаемся. Поэтому как же занесет серп па срезание колосьев? Как выжмет гроздь, или па пашне выроет с корнем терн, или сорвет цветок, или будет ловить птиц, или зажжет костер дров, когда неизвестно, не на сродников ли, или предков, или соплеменников поднимается рука и не их ли телами воспламеняется огонь или наполняется чаша, ие из них или составится снедь? При мысли о каждой из этих вещей, что растением или животным делается душа человеческая, не положено же знаков, каково растение или животное, если оно из человека, и каково, если из иного; предзанятый таким предположением ко всему будет расположен одинаково, так что по необходимости или сделается жестоким к тем самым людям, которые пользуются еще в пророке жизнью, или если в рассуждении соплеменников склонится природой к человеколюбию, то придет в одинаковое расположение ко всему одушевленному, хотя бы то было из пресмыкающихся или из числа зверей, но даже если будет и в лесу среди деревьев принявший это учение, то и деревья почтет за толпу людей. Поэтому что за жизнь такого человека? Или перед всем он благоговеет по соплемениичеству, или жесток к людям по безразличию их со всем иным. Поэтому такое учение и по сказанному должно быть отринуто, тогда как и многое другое но основательным причинам не допускает нас принять подобное мнение. Ибо слышала я от обучающих подобному, будто бы предполагают некие племена души, прежде жизни в теле составляющие особое некое гражданство, по легкости и удободвижности природы своей вращающиеся вместе с обращением Вселенной; но по некоей склонности к пороку души, как бы утратив свою пернатость, бывают в телах сперва человеческих, потом через общение с неразумными страстями по оставлении человеческой жизни доходят до такого скотоподобия, что ниспадают даже до этой растительной и бесчувственной жизни, так что по природе легкое и удободвижное, какова душа, делается сперва тяжелым и несущимся вниз по причине порочности, вселяющейся в тела человеческие; потом по утрате разумной силы избирают для жительства бессловесных, и оттуда по отъятии дара чувств переходят в эту бесчувственную жизнь, какая в растениях, но отсюда опять восходят по тем же степеням и восстанавливаются в небесную область. Такое учение для умеющих сколько–нибудь судить обличается само собою, не имея в себе никакой твердости. Ибо если душа из жизни небесной пороком низвлекается в древесную жизнь, из древесной же добродетелью восходит опять в небесную, то сомнительным оказывается их учение и что поэтому признается преимущественным, древесная ли или небесная жизнь, ибо повторяется какой–то подобный прежнему круг, между тем как душа никогда не останавливается там, где она была. Если из жизни бесплотной нисходит в телесную, а из этой — в бесчувственную, оттуда же снова восходит в бесплотную, то преподающими это учение не иное что измышляется, как безразличное слияние зла и добра, потому что и небесное жительство не пребудет в блаженстве, если живущих там касается порок, и деревья не останутся лишенными добродетели, если признается, что отсюда душа возвращается к добру, а там начинается жизнь порочная. Ибо если душа, круговращаясь в небе, опутывается пороком и, им совлеченная в жизнь вещественную, снова возносится отсюда к жительству на высоте, то этим приводят они к обратной мысли, что вещественная жизнь есть очищение от порока, а непогрешительное совершение пути делается душам началом и виною зол, если здесь, оперившись добродетелью парят они вверх, а там, за порочность утратив перья, делаются лежащими низко и пресмыкающимися по земле от смеси с дебелостью вещественного естества. И нелепость таких учений не ограничивается тем, что предположения ведут к противному, но и сама мысль не остается в них навсегда твердой. Ибо если небесное почитают неизменным, то как в неизменном имеет место страсть? И если дольнее естество страстно, то как в страстном преспевает бесстрастие? Но они смешивают несмешиваемое и соединяют несообщимое, усматривая в страсти неизменность и опять в изменяемом бесстрастие, да и этого не держатся навсегда, по, откуда переселили душу по ее порочности, туда опять поселяют ее из жизни вещественной, как безопасную и чистую жизнь, как будто забыв, что она там, обременившись пороком, вмешалась в естество дольнее. Так у них охуждение жизни настоящей и похвала небесному сливаются и смешиваются между собою, потому что охуждаемое, по мнению их, ведет к прекрасному, а почитаемое лучшим дает в душе повод наклонности к худшему. Поэтому из догматов истины должно быть выброшено всякое погрешительное и несостоятельное мнение о подобных предметах. Но, как не постигшим истины, не последуем и всем тем, по мнению которых души из женских тел переходят в мужскую жизнь, или, наоборот, в женщинах бывают души, разлучившиеся с телами мужскими, или из мужей переходят в мужей же, а из жен бывают опять в женах. Ибо первое мнение не заслуживает одобрения не только потому, что оно несостоятельно и обманчиво, само собой превращаясь в противоположные предположения, но и потому, что нечестиво учит, будто ни одно существо не приводится в бытие, если естеству каждого не положит начала порок. Если не рождаются ни люди, ни растения, ни скоты, пока не ниспадает на них душа свыше, а падение бывает вследствие порока, то, по мнению утверждающих это, начало составу существ — порок. И почему в одно и тоже время сходится то в другое и человек рождается от брака и с брачным жаром совпадает падение души? И что еще этого нелепее: если весной много животных бессловесных сходится парами, то можно ли сказать поэтому, что и в горнем вращении весна производит зарождение порока, так что приходится вместе и душам, исполненным зла, падать, и утробам бессловесным оплодотворяться? Что же кто–либо скажет о земледельце, втыкающим в землю ветви, оторванные от растений? Как это рука его вместе с растением зарывает в землю и человеческую душу, так что с утратой у души перьев впадает стремление человека к наслаждению? Поэтому та же нелепость и в другом мнении, именно полагать, что душа любопытствует знать, когда сходятся живущие в супружестве, или наблюдает зачатие младенцев, чтобы войти в зарождающиеся тела. А если муж откажется от брака, а жена освободится от необходимости мук рождения, то неужели тогда и порок не обременяет душу? Следовательно, пороку, который там, в горней стране, брак дает побуждение нападать на душу, или и без него касается души привязанность к противоположному? И следовательно, бездомной и скиталицей будет душа блуждать посреди, отпав от небесного и не получив, если так случится, на долю себе тела. Потом как же предположить при этом, что Божество правит существами, начало человеческой жизни приписывая этому случайному и неразумному падению душ? Ибо по всей необходимости с началом согласно и последующее за ним, а если жизнь началась каким–то случайным событием, то, без сомнения, делается случайным и продолжение ее. Но напрасно такие учители поставляют существа в зависимости от Божественной силы, когда утверждают, что не по Божией воле родились в мире, но начало приходящего в бытие приписывают какому–то дурному случаю, как будто не составилась бы жизнь человеческая, если бы зло не подало повода к жизни. Поэтому если таково начало жизни, то явно и продолжение пойдет по началу, ибо никто не скажет, что из дурного происходит хорошее и из доброго противное — напротив того, по свойству семени ожидаем и плодов. И так всякой жизнью управлять будет самовольное и случайное движение, когда нет никакого промысла о существах. Но совершенно бесполезной будет предусмотрительность рассудка, никакой пользы не произойдет от добродетели и ни во что вменится чуждаться зла. Ибо все непременно заключаться будет в случайном и жизнь ничем не отличится от неоснащенных кораблей, самыми неопределямыми случайностями, как бы какими волнами, от одной встречи с хорошим или дурным будучи переносима к другой встрече, ибо не может быть пользы от добродетели для тех, у кого естество ведет начало от противоположного. Если жизнь наша в Божием распоряжении, то с этим вместе признается, что не порок дает начало нашей жизни. Если же от порока происходим, то, конечно, и живем во всем сообразно с ним. Итак, бреднями поэтому окажутся и суд после настоящей жизни, и воздаяние по достоинству, и все иное, о чем сказано нам и чему веруем для искоренения порока. Ибо как возможно быть без порока человеку, родившемуся по причине порока? И как произойдет какое–либо произвольное стремление к добродетельной жизни в человеке, естество которого, как говорят, ведет начало от порока? Как ни одно бессловесное животное не покушается говорить по–человечески, но, пользуясь природным и естественным голосом, не почитает оно нималой потерей, что не имеет доли в даре слова; таким же точно образом, у кого началом и причиной жизни признается порок, те не пришли бы к пожеланию добродетели, так как это не в их природе. Но во всех рассудком очистивших душу есть вожделение добродетельной жизни и радение о ней. А этим ясно показывается, что порок не старше жизни и не от пего природа возымела первое начало — напротив того, начало жизни нашей — домостроительствующая во всем Божия премудрость; душа же, пришедши в бытие таким способом, какой угоден был Сотворшему, по самой власти избирать, что ей нравится, делается тогда тем по силе произволения, чем пожелала быть. Сказанное узнать можно из примера. Возьмем для этого глаз — ему по природе свойственно видеть, не видит же но произволу или по болезни, ибо иногда и противоестественное может стать на место естественного, когда кто или добровольно смежает глаз, или но болезни лишается зрения. Так и о душе можно сказать, что хотя создание ее от Божества и, как в Божестве, не мыслим никакой порок, то и для души нет в пороке необходимости, однако же, будучи так сотворена, собственным своим приговором водится в том, на что решается, или по произволению смежая око для прекрасного, или по злоумышлению пребывающего с вами в жизни врага повреждая это око, живет во тьме обольщения, или же, наоборот, чистым оком взирая на истину, делается далекой от темных страстей. Поэтому, когда же, спросит иной, она приведена в бытие и как? Но вопрос о том, как произошла каждая вещь, совершенно должен быт изъят из слова, ибо и о подручном нашему разумению, о чем имеем понятие с помощью чувства, невозможно было бы исследующим разумом постигнуть, как составилось видимое; поэтому подобное этому даже богоносными и святыми мужами признано непостижимым. Ибо верою, говорит апостол, разумеваем совершитися веком глаголом Божиим, во еже от неявляемых видимым быти (Евр. И, 3), а этого, как думаю, не сказал бы он, если бы полагал, что искомое познаваемо рассудком, — напротив того, что волей Божей совершен и сам век, и все, что в нем сотворено (а век и есть то самое, в чем умопредставляется вся тварь, как видимая, так и невидимая), — этому верю, говорил апостол. А то, как сотворено, оставил он неисследованным. Ибо подобное этому, как думаю, непостижимо ищущим, так как вопрос об этом показывает нам в себе много затруднений: как из естества постоянного — движимое, из простого и непротяженного — протяженное и сложное? Из самой ли превысшей Сущности? Но это не может быть признано по разнородности с Нею существ. Откуда же иначе? Вне Божия естества ничего не усматривает разум, ибо наше мнение разделится на разные начала, если, кроме творческой причины, признано будет что–либо такое, у чего художническая премудрость заимствует запасы для твари. Итак, поскольку Виновник существ один, с превысшим же существом приведенное Им в бытие неоднородно, то с обеих сторон одинаковая несообразность предположений — признать ли тварь происшедшей из Божия естества или сказать, что все составилось из какой–либо иной сущности. Ибо или предположено будет, что и Божество имеет свойства твари, если сотворенное сродно с Богом, или вне Божией сущности введено будет некое вещественное естество, по несозданности вечностью существа равняющееся Богу, как, представив себе, манихеи и некоторые эллинским любомудрием вовлекшиеся в подобные мнения представление это обратили в догмат. Поэтому, чтобы особенно избежать обоюдной несообразности в вопросе о существах, слово о том, как приходит в бытие каждое из них, по примеру апостола, оставим неисследованным, заметив только то одно, что устремление Божественного произволения, когда пожелает, бывает делом и хотение осуществляется, немедленно обращаясь в естество по власти Всемогущего, которая чего только премудро и художнически пожелает, не оставляет изволения не приведенным в действие. Приведение же изволения в действие есть сущность. Но как существа делятся на два рода: на существа духовные и телесные, — то и творение духовных существ не кажется сколько–нибудь несоответствующим естеству бесплотного, а, напротив того, близко к нему, показывая в себе невидимость, неосязаемость, непротяженность, что если представит кто в мыслях и о превысшем естестве, то не погрешит. Телесная же тварь, поскольку представляется со свойствами, не сообщимыми как–то с Божеством, то более всего причиняет великое затруднение разуму, который не в состоянии понять как из невидимого видимое, из неосязаемого твердое и упорное, из неопределенного определенное, из того, что не имеет количества и величины, заключаемое непременно в какие–либо меры, представляемые относительно к количеству, также взятое порознь все то, что примечается в естестве телесном. Об этом скажем одно только, а именно что из усматриваемого в теле ничто само по себе не есть тело: не тело — наружный вид, и цвет, и тяжесть, и протяжение, и количество, и всякое иное видимое качество, а, напротив того, каждое из них есть понятие, взаимное же их стечение и соединение между собой делается телом. Поэтому так как эти составляющие полноту тела качества постигаются умом, а не чувством, Божество же духовно, то какой труд умному производит умное, что взаимным своим стечением породило у пас естество тела. Но это уже вне подлежащего исследованию. А спрашивалось у нас: если души не существовали прежде тел, то когда и как приходят они в бытие? И по этой–то причине вопрос о том, как приходят в бытие, как недоступный, слово паше оставило неисследованным, а то, с какого времени души имеют начало бытия, как непосредственно следующее за тем, что и перед этим рассмотрено, остается разыскать. Ибо если допущено будет, что душа живет прежде тела в одиноком некоем состоянии, то вполне необходимо признать имеющими силу иные нелепо примышленные учения вселяющих души в тела по причине порока. Но никто из здравомыслящих не предположит, что происхождение душ позднее и следует уже за образованием тел, так как для всякого ясно, что все неодушевленное не имеет в себе ни движущей, ни растительной силы, а возрастание и местное движение воспитанного в материнской утробе не подлежит ни сомнению, ни спору. Поэтому остается признать, что начало состава души и тела — одно и то же. И, как земля, от земледельцев приняв в себя отросток от корпя, производит дерево, не от себя вложив растительную силу в питаемое, но доставив только положенному в нее способы к произрастанию, так говорим, что похищаемое у человека к насаждению человека само некоторым образом есть нечто живое — от одушевленного одушевленное, от питаемого питаемое. Если же малость отростка не вмещала в себе всех действий и движений души, это нимало не удивительно, ибо и пшеничное зерно в семени не представляется тотчас колосом (ибо как колосу вместиться в зерне?), но, поскольку земля питает зерно приличными соками, делается оно колосом, не изменяя в земной глыбе своего естества, но обнаруживая и усовершая себя по действию нищи. Поэтому, как в растительных семенах возрастание понемногу приходит в совершенство, так и в человеческом составе соразмерно телесной величине выказывается и душевная сила, сперва делаясь питательной и растительной в образуемых внутренностях, после этого сообщая дар ощущения происходящим на свет и тогда уже, как некий плод па выросшем растении, слегка проявляя разумную силу, не всю вдруг, но, по мере того как растение идет вверх, последовательно увеличивая преспеяние. Итак, поскольку похищаемое у одушевленных в основание одушевленного состава не может быть мертвым (потому что омертвение бывает но утрате души, а утрата не предшествует обладанию), то познаем из этого, что в сорастворе–нии, составляемом из души и тела, перехождение в бытие бывает общее, так что ни одно не предшествует, ни другое не опаздывает. Но в возрастании числа душ разум необходимо предвидит со временем остановку, чтобы не произошло непрестанного течения в естестве посредством прибывающих вновь, льющемся всегда вперед и не прекращающем нигде движения. А что и в нашем роде должна со временем непременно произойти остановка, этому полагаем ту причину, что, так как всякое умопостигаемое естество имеет свою полноту, то естественно со временем достигнуть своего предела и человеческому роду (так как и он принадлежит к естеству умопостигаемому), чтобы не думали о нем, будто бы всегда представляется недостаточным, потому что всегдашнее присовокупление вновь прибывающих делается обвинением роду, что в нем еще недостаток. Поэтому, когда человечество достигнет своей полноты, тогда непременно остановится текучее это движение естества, достигнув необходимого предела, и место этой жизни заступит другое некое состояние, отдельное от нынешнего, проводимого в рождении и тлении, ибо если пет рождения, то по всей необходимости не будет и тлеющего. Прежде разложения начинается сложение (сложением же называем появление на свет рождением); из этого непременно следует, что, когда не предшествовало сложение, не последует и разложения. Итак, согласно с верой, последующая за этим жизнь оказывается некой постоянной и неразрушимой, неизменяемой ни рождением, пи тлением
Григорий. Когда наставница кончила это, поскольку многим из сидящих с нами показалось, что речь достигла надлежащего конца, то, убоявшись, что некому будет у нас решить того, что о воскресении предлагается внешними, если наставница потерпит что от недуга (что действительно и случилось), — говорю: речь не коснулась еще самого главного вопроса в догмате: Богодухновенное Писание и в Новом и в Ветхозаветном учении говорит, что, когда естество наше в некоем порядке и в связи совершит полный оборот времени, непременно остановится наконец и это текучее движение, совершаемое преемством рождаемых, и, как наполнение Вселенной не допустит уже возрастания в большее число, вся полнота душ из невидимого и рассеянного состояния опять возвратится в собранное и видимое, причем те же самые стихии сойдутся между собою опять в ту же связь. А такое состояние жизни, по Божественному учению Писания, называется воскресением, причем именем этим означается все движение стихий при восстановлении земного.
Макрина. Поэтому, о чем же из этого, говорит она, не упомянуто в сказанном прежде?
Григорий. О самом, говорю, догмате воскресения.
Макрина. Однако же, говорит она, многое из того, что было говорено теперь пространно, ведет к этой цели.
Григорий. Не знаешь разве, сказал я, какой рой возражений касательно этой надежды противопоставляется нам противниками? И вместе намеревался я высказать, что в опровержение воскресения изобретается любителями споров.
Макрина. Но она говорит: прежде, кажется мне, надлежит вкратце повторить, что изложено об этом догмате в разных местах Божественного Писания, чтобы этим можно было заключить наше слово. Так, слышу в божественных песнях песнословящего Давида, когда, предметом своей песни избрав устройство Вселенной, в сто третьем псалме к концу песнопения говорит следующее: Отымеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся: послеши Духа Твоею, и созиждутся, и обновиши лице земли (Пс. 103:29 — 30); выражает же этим, что все во всем совершающая сила Духа животворит тех, в ком только она бывает и наоборот лишает жизни тех, кого только оставляет. Итак, поскольку сказует, что при удалении Духа происходит исчезновение живых тварей, а при появлении Его возобновление исчезнувших, исчезновение же по порядку речи предшествует обновляемому, то утверждаем, что этим самым возвещается Церкви тайна воскресения, как пророческим духом предрек благодать эту Давид. Но и в другом месте тот же самый Пророк говорит, что Бог Вселенной и Господь существ явися нам при составлении праздника во учащающих (Пс. 117:27), речением учащение давая разуметь праздник кущей, который, хотя древле узаконен был преданием Моисеевым (причем законодатель, как думаю, пророчески предрек будущее), однако же, всегда будучи совершаем, не был еще совершен в действительности, ибо в образах загадочным значением совершавшегося предуказывалась истина; самого же истинного праздника кущей еще не было, но ради этого, по пророческому слову, Бог всяческих и Господь явися нам, чтобы для естества человеческого из разоренного жилища нашего составилась куща, опять собранием стихий телесно учащаемая. Ибо слово учащение по выражаемому в нем понятию означает одеяние и украшение им. Изречение же это в псалмопении имеет такой вид: Бог Господь, и явися нам, составите праздник во учащающих до рог олтаревых (Пс. 117:27). И оно, кажется мне, загадочно предвозвещает со всей разумной тварью составление единого праздника, на котором низшие с высшими ликовствуют вместе в собрания добрых. Ибо при преобразовательном устройстве храма не всем позволялось бывать внутри внешней ограды, но возбраняем был вход всему языческому и иноплеменному, да и входящим внутрь не всем равно давался доступ во внутреннейшее, а только очистившим себя неким более чистым образом жизни и некими кроплениями; и из них опять не всем была доступна сама внутренность храма, но одним священникам дано было законное право по нужде священнодействия бывать внутри завесы; а та неприступная и сокровенная часть храма, в которой водружен был алтарь, украшенный некими ограждениями из рогов, закрыта была для входа и самих священников, кроме одного, предстоятель–ствовавшего во священстве, который однажды в год, в некий узаконенный день, совершая некое пеизглаголанное и таинственное свя–щеннослужение, один входил во внутренность. Поэтому, когда так велика была разность в этом храме, который служил образом и подобием духовного состояния, соблюдение предписаний, касающихся тела, научает тому, что не все словесное естество приближается ко храму Божию, т. е. к исповеданию великого Бога; но те, которые введены в заблуждение ложными предположениями, находятся вне Божественной ограды, а из тех, которые за исповедание допущены внутрь, предпочтительнее других предочистившие себя кроплениями и чистотой жизни, и из них посвященные уже имеют большее преимущество сподобиться внутреннего тайноводства. Но, чтобы кто мог в большую ясность привести значение загадки, должно ему дознать при помощи научающего слова, что некоторые из разумных сил, ка1с святой алтарь, водружены в святилище Божества, некоторые же опять и из этих представляются превосходящими, выставившись наподобие рогов; и другие около них в некоем последовательном порядке занимают первые и вторые места. Род же человеческий по прирожденной порочности изгнан из Божественной ограды и, очищенный баней омовения, допускается внутрь. Но поскольку некогда будут разорены эти средние преграды, которыми порок отделил нас от того, что внутри завесы, то, когда естество наше воскресением снова воздвигнется в кущу и уничтожено будет всякое растление существ, произведенное пороком, тогда окрест Бога для учащенных воскресением составится общий праздник, на котором всем предлежит одно и то же веселие, потому что никакая разность не разделяет более разумного естества в причастии равных благ, но и те, которые ныне по порочности вне, будут некогда внутри святилищ Божественного блаженства и соединятся между собою рогами олтаревыми, т. е. превосходнейшими из премирных сил. Откровеннее говорит об этом апостол, выражая всеобщее согласие на доброе: Ему всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповестъ, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца (Флп. 2:10 — 11). Вместо рогов именует он ангельский и небесный чин, а прочим означает тварь, после них умопредставляемую, т. е. нас, которыми всеми возобладает единый согласный праздник. Праздник же есть исповедание и познание истинно Сущего. Но можно, продолжает она, собрать много и других мест святого Писания в подтверждение догмата о воскресении. Ибо Иезекииль пророческим духом, миновав все среднее время и продолжение его, останавливается силой предведения па самом времени воскресения и, взирая на будущее как уже на настоящее, представляет взору в повествовании своем. Видит он поле великое, простирающееся в беспредельность, и на нем кости, то собранные в великую кучу, то разметанные, как ни есть, по разным местам; потом Божественной силой сдвигаются они со сродными и своими собственными и входят в свои составы, потом покрываются они жилами, плотями и кожами (что псалмопение называет учащаемыми), и дух животворит и возбуждает все, что лежало на иоле (Иез. 37:1 — 10). Что же кто–либо скажет о том изображении у апостола чудес по воскресении, которое под руками у читающих и в котором говорит Писание, что по некоему повелению, по звуку труб в мгновение времени все мертвое и лежащее вдруг изменится в состояние естества бессмертного (1 Сол. 11:16)? Но не будем повторять евангельские изречения, как всем известные, ибо не словами только говорит Господь, что мертвые воскреснут, но действительно производит само воскресение, начав чудотворение с того, что ближе к нам и что менее могло казаться невероятным. Ибо сначала в смертельных болезнях показывает животворящую силу, повелением и словом прогоняя недуги; потом воздвигает недавно умершую отроковицу; потом юношу, выносимого уже на погребение, восстав с одра, отдает матери; после этого разлагавшегося уже четырехдневного мертвеца Лазаря живым изводит из гроба, гласом и повелением оживотворив лежащего; потом Себя самого — человека, пронзенного гвоздями и копием, воскрешает из мертвых в третий день, места гвоздей и удар копья представляя во свидетельство Воскресения. Об этом не почитаю нужным и распространяться, потому что нет никакого сомнения в принявших написанное.
Григорий. Но вопрос не о том, сказал я, что будет некогда воскресение и человек предстанет на нелицеприятный суд — с этим и по причине доказательств из Писания, и на основании уже исследованного согласятся многие из слышащих. Остается же рассмотреть, согласно ли с нынешним будет и уповаемое? Но если действительно так будет, то сказал им я, что лучше бежать от людей надежде воскресения. Ибо, если тела человеческие, какими бывают при конце жизни, таковыми опять восстановлены будут в жизнь, то люди в воскресении ожидают себе какого–то нескончаемого бедствия. И может ли быть какое зрелище, более жалкое этого, когда в крайней старости согбенные тела претворятся во что–то гнусное и безобразное, потому что плоть истощена в них временем, морщинистая кожа присохла к костям?! Поскольку жилы стянуты, как неутучняемые уже естественной влагой, а потому все тело сжалось, то представляется странное и жалкое какое–то зрелище, потому что голова приклонена к колену, рука, неспособная к естественной деятельности, с дрожью невольно всегда суется туда и сюда. Каковы опять тела у изнуренных продолжительными болезнями, тем только отличающиеся от голых костей, что кажутся прикрытыми тонкой и уже изветшавшей кожей? Каковы у опухших от водяной болезни? А у одержимых (так называемою) священною болезнью какое слово возможет предоставить взору безобразное искажение тела? Как постепенно распространяющаяся у них гнилость поедает все члены — и орудные, и чувствилищные? Что, скажет кто–либо об изувеченных во время землетрясений или на войнах или от другой какой причины и прежде смерти несколько времени проживших в этом бедственном состоянии или об имевших от рождения по какому–либо повреждению целую жизнь изуродованные члены? Что же должно думать о новорожденных младенцах, подкидываемых, задушаемых, гибнущих случайно? Если таковые опять возвращены будут в жизнь, то останутся ли во младенчестве? Что бедственнее этого? Но они достигнут меры возраста. А каким млеком воспитает их опять природа? Поэтому, если опять оживет у нас тело по всему то же, ожидаемое бедственно. А если не то же, воскрешаемый будет некто другой, а не лежащий во гробе. Ибо если положен ребенок, а восстанет совершенновозрастный или наоборот, то как можно сказать, что воскрешен сам мертвец, когда погребенный изменился по разности возраста? Ибо не другого ли видит вместо одного, перед кем вместо ребенка — совершенновозрастный, вместо старца — цветущий возрастом, вместо изможденного — здоровый, вместо иссохшего — дородный, а также и все другое, подробным исчислением чего затруднилось бы слово? Если тело оживет опять не таким же, каким было, когда предавалось земле, то не мертвое воскреснет, но земля снова претворится в иного человека. Поэтому что для меня воскресение, если вместо меня оживет некто другой? Как узнать мне самого себя, видя в себе уже не себя? Ибо не буду подлинно я, если не буду по всему тот же с самим собой. Как и в настоящей жизни, если имею в памяти чьи–либо черты, предположу для слова, что такой–то плешив, с большими губами, курнос, белотел, с голубыми глазами, с сединой в волосах, с морщинистым телом; потом, отыскивая его, встречаюсь с молодым, длинноволосым, горбоносым, смуглым и все прочие черты лица, имеющие иной вид — неужели, смотря на последнего, признаю за первого? Но какая нужда медлить более над слабейшими возражениями, оставив сильнейшие? Ибо кому не известно, что естество человеческое подобно какому–то потоку: человек от рождения до смерти всегда в каком–то движении, и тогда прекращается в нем движение, когда перестает существовать. Движение же это не местная какая–либо перестановка, не само из себя выходит естество, но поступает вперед через изменение. Изменение же, пока оно продолжается, не останавливается на одном и том же (ибо как возможно сохраняться в тождестве изменяющемуся?); но, как огонь на светильне, по–видимому, кажется всегда одним и тем же, потому что непрестанное всегда движение дает видеть, что он непрерывно тот же и сам с собой связан; на самом же деле, всегда сам за собой преемственно следуя, никогда не остается одним и тем же, ибо извлекаемая теплотой влага вместе и воспламеняется и, сгорая, претворяется в дым, и силой изменения производится всегда движение пламени, сгорающий предмет изменяющее собой в дым; поэтому два раза в одном и том же месте дотрагивающемуся до пламени невозможно в оба раза коснуться одного и того же; скорость изменения не дожидается прикасающегося опять в другой раз, с какой бы поспешностью ни сделал он это — напротив того, пламя всегда новое, всякий раз только что происшедшее, всегда само за собою следующее и никогда не остающееся одним и тем же; нечто подобное происходит и с естеством нашего тела. Ибо, что всегда притекает и утекает в естестве нашем, то, проходя и двигаясь, всегда движением изменения тогда только останавливается, когда прекращается и жизнь. Пока тело живо, нет в нем остановки: или наполняется, или испаряется, или тем и другим непременно поддерживает всегда бытие свое. Поэтому если человек и после вчерашнего дня уже не тот же, но вследствие изменения делается другим, то, когда воскресение возвратит опять тело паше к жизни, тогда один, без сомнения, сделается какой–то толпой людей, так что в воскресшем будет все без недостатка: младенец, ребенок, отрок, юноша, муж, отец, старец и всякий средний возраст. А как целомудрие и непотребство приводятся в дело плотно, как и те, которые за благочестие претерпевают мучительные казни, и те, которые по изнеженности не выносят их, то и другое выказывают телесным чувством, то как возможно на суде сохраниться справедливости? Или когда один и тот же ныне согрешит, потом очистит себя покаянием и, если случится, опять понолзнется в грех, тело же — и оскверненное и неоскверненное — но естественной последовательности изменится, и ни которого из них не станет навсегда, тогда какое тело будет наказано у непотребного? Покрывшееся ли морщинами в старости перед смертью? Но это уже иное, а не то, которым сделан грех. Или оскверненное страстью? Где же старец? Поэтому или ие воскреснет он и воскресение не действительно, или он будет воскрешен и избежит наказания подлежащего ему. Скажу и иное нечто из возражаемого нам не приемлющими учения этого. Природа, говорят они, ни одной части в теле не оставила без дела: в одних заключаются причина и сила нашей жизни, без них не может состоять плотская жизнь наша — таковы например, сердце, печень, мозг, легкое, чрево и прочие внутренности; другим предназначено в удел движение чувственное; отправлением иных — деятельность и перехождение с места на место, а другим дана способность к произведению потомства. Поэтому если последующая за этим жизнь паша будет состоять в том же, то преставление бывает напрасно. Если же истинно то слово (как и действительно оно истинно), которым определяется, что в жизни по воскресении не имеет места брак и что жизнь поддерживается тогда не пищей и питием, то какое употребление будет из этих членов тела, когда в опой жизни не ожидается от них того, ради чего имеем те члены ныне? Ибо если для брака — то, что служит к браку, то когда не будет брака, не будем иметь нужды в служащем к нему. Так к делу служат руки, к хождению — ноги, к принятию пищи — уста, к пережевыванию — зубы, к перевариванию — внутренности, к извержению оказавшегося ненужным — исходные пути. Поэтому, когда не будет тех отправлений, почему или для чего будет и устроенное для них? А вследствие этого, если не будет в теле того, что нимало ие может содействовать к этой жизни, необходимо не быть к нему ничему, составляющему тело ныне, потому что жизнь состоять будет в другом. Иной же не назовет и воскресением такой перемены в теле, при которой ни один из членов его по бесполезности своей в этой жизни не восстанет с телом. Если же воскресение всех этих членов окажет свое действие, то Содетель воскресения соделает напрасной для нас и бесполезное для будущей жизни. Но надлежит верить, что и воскресение будет, и будет не напрасно. Итак, слову должно внимательно рассмотреть учение, чтобы в догмате этом во всех отношения сохранилась у пас правильность.
Макрина. Когда же выговорил я это не без достоинства, говорит наставница: нападал ты на догматы о воскресении по так называемой риторике и убедительные возражения представил со всех сторон, противопоставил истине так, что не очень вникающие в тайну истины, вероятно, поколебались несколько в учении и подумали, что недаром возбуждено сомнение в сказанном. Но истина не такова, продолжает она, хотя мы не в состоянии с подобным риторским искусством отвечать на возражения, однако же истинное об этом учение сберегается в тайных сокровищах премудрости и тогда сделается явным, когда самим делом изучим тайну воскресения и не будет уже нам нужды в словах к обнаружению уповаемого. Но, как для бодрствующего ночью длинные речи о том, каков свет солнечный, делает ни к чему не нужным едва только появившаяся приятность луча, так всякий помысел, гадателыю касающийся будущего состояния, окажется ничтожным, когда ожидаемое совершится с нами на опыте. Но поскольку надобно сделанные нам возражения не оставлять вовсе неисследованными, то поведем о них речь так: надлежит прежде уразуметь, какая цель догмата о воскресении, ради чего изречено это в святом слове и составляет предмет верования. Поэтому, чтобы можно было это представить в объеме какого–либо определения, скажем так: воскресение есть восстановление нашего естества в первоначальное состояние. Но в первой жизни, Создателем которой был сам Бог, не было, как вероятно, ни старости, ни детства, ни страданий от многообразных недугов, ни другого какого–либо бедственного телесного положения, потому что неестественно было Богу создать что–либо подобное. Напротив того, пока в человечестве не произошло стремления ко злу, естество человеческое было Божиим неким достоянием. Но все это вторглось в нас вместе со входом порока. Поэтому жизнь без порока не возымеет никакой нужды в том, что произошло от порока. Ибо, как необходимое последствие у совершающего в стужу путь озябнуть телу или у идущего под зноем лучей загореть поверхности тела, а если не будет ни жара, ни стужи, то, без сомнения, и путник освободится от загара и от озноба и неосновательно стал бы кто спрашивать, от какой произошло это причины, когда причины нет, — так естество наше, соделавшись страстным, встретилось с необходимыми последствиями страстной жизни, но, возвратившись опять к бесстрастному блаженству, не подвергнется уже последствиям порока. Итак, поскольку всего того, что к естеству человеческому примешалось из жизни бессловесных," прежде в нас не было, пока человечество не впало в страсть по причине порока, то необходимо, оставив страсть, оставить вместе и все, что при ней усматривается. Поэтому неосновательно стал бы кто доискиваться в будущей жизни того, что произошло в нас по страсти. Как если кто, имея на себе изорванный хитон, скинет с себя эту одежду, то не увидит уже на себе неблагообразия того, что сброшено, так когда и мы совлечемся мертвенного этого и гнусного хитона, наложенного на нас из кож бессловесных животных (а слыша о коже, думаю разуметь наружность бессловесного естества, в которую облеклись мы, освоившись со страстью), тогда все, что было на нас из кожи бессловесных, свергнем с себя при совлечении хитона. А воспринятое нами от кожи бессловесных — плотское смешение, зачатие, рождение, нечистота, сосцы, пища, извержение, постепенное прихождение в совершенный возраст, зрелость возраста, старость, болезнь, смерть. Поэтому если не будет при нас этого, то как останется у нас происшедшее от этого? Потому при надежде, что другое некое состояние последует в будущей жизни, напрасное дело догмату о воскресении противополагать, что не имеет ничего общего с жизнью по воскресении. Ибо морщинистость и дородность тела, сухощавость и полнота, и все иное, что бывает с текучим естеством тел, что общего имеют с той жизнью, которая чужда текучего и скоропереходящего препровождения настоящей жизни? Одного только требует понятие о воскресении, чтобы пришел человек в бытие рождением, или, лучше сказать, как говорит Евангелие: Родился человек в мир (Ин. 16:21); о продолжительности же или краткости жизни и о смерти — таким или иным образом она прилунилась — напрасное дело входить в исследование при мысли о воскресении. Так или иначе допустим ее предположительно, выйдет, конечно, одно и то же, потому что от такого различия нет ни затруднения, ни удобства в воскресении. Начавшему жить, без сомнения, надлежит жить, как скоро разрушение, произведенное в нем смертью, исправлено будет воскресением. А как или когда бывает разрушение, что в этом воскресению? К другой цели клонится разыскание этого, например, в удовольствии ли кто жил или в скорби, добродетельно или порочно, похвально или предосудительно, бедственно или счастливо проводил время. Ибо все это и подобное этому открывается из меры и образа жизни, и в таком случае для произнесения суда над проведенной жизнью необходимо будет судье исследовать страсть, утрату, болезнь, старость, зрелость возраста, юность, богатство, убожество, как человек, находясь в каждом из этих обстоятельств хорошо или худо проводил жизнь, доставшуюся ему в удел, и долгое ли время испытывал много благ или зол или не коснулся вовсе и начала тех и других, кончив жизнь в несовершенном еще разуме? Но, когда Бог воскресением возвратит естество человеческое в первоначальное его устройство, тогда не нужно будет говорить о подобном этому и думать, будто бы такие затруднения воспрепятствуют силе Божией в достижении цели. А цель у Бога одна: когда людьми, одним после другого, совершится уже вся полнота естества нашего, одни вскоре после этой жизни окажутся уже чистыми от порока, другие в надлежащие после этого времена испытают врачевство огня, иные же найдутся не познавшими па опыте в этой жизни равно ни добра, ни зла — всем предоставить причащение благ в Нем сущих, которых, говорит Писание, ни око не видит, ни слух не слышит и которые помыслам не бывают доступны (1 Кор. 2:9). А это, по моему понятию, не иное что значит, как пребывание в самом Боге, ибо благо, превосходящее слух, око, сердце, само будет превысшим всего. Разность же добродетельной или порочной жизни после этого наиболее окажется в том, что скорее или позднее приобщится человек уповаемого блаженства, ибо мере привзошедшей в каждого порочности будет, конечно, соответствовать и продолжительность врачевания. Врачеванием же души будет очищен от порочности. А это не может быть благоуспешным без болезненного расположения, как по предшествовавшему исследованию найдено. Но лучше познает излишество и непригодность возражения, кто вникнет в глубину апостольской мудрости, ибо апостол, уясняя тайну эту коринфянам, которые, может быть, представляли ему то же самое, что противополагается ныне восстающими на догмат к опровержению приемлемого верой, собственным своим достоинством низлагая дерзость их невежества, говорит так: Скажешь мне: Како восстанут мертвии? коим же телом приидут? Безумие, продолжает апостол, ты еже сееши, не оживет, аще не умрет: и еже сееши, не тело будущее сееши, но голо зерно, аще случится пшеницы или иное какое из семян: Бог же дает ему тело, якоже восхощет (1 Кор. 13:35 — 38). Здесь, кажется мне, апостол заграждает уста незнающим собственных мер естеству, по своей крепости судящих о Божией силе, полагающих, что столько возможно и Богу, сколько вмещает человеческое понятие, а, что выше нас, то превосходит и Божие могущество. Ибо вопросивший апостола: Како восстанут мертвии? — выдает за невозможное рассеянным стихиям тела прийти опять в соединение; и как его быть не может, другого же тела, кроме соединения, стихий и возможности не остается, то, по примеру сильных в словопрении, по некоей последовательности заключив из предположенного им, говорит: если тело есть собрание стихий, а вторичное их соединение невозможно, то каким телом воспользуются воскресающие? Поэтому, что казалось для них соплетенным с какой–то искусственной мудростью, апостол назвал безумием не усматривающих превосходства Божия могущества в прочей твари, ибо, оставив высшие чудеса Божий, которыми мог в недоумение привести слушателя, например: что такое тело небесное и откуда оно? что такое тело солнечное, или лунное, или видимое в звездах? что такое эфир, воздух, вода, земля? — неосмотрительность возражающих изобличает тем, что обыкновенно при нас и нам обще. Не учит ли тебя земледелие говорить, что суетен по своей мере гадающий о силе Божией, превосходящей всякую меру? Отчего из семени вырастают тела? Что предшествует их произрастанию? Не смерть ли, если только разложение составившегося есть смерть? Ибо семя не дало бы ростка, не разложившись в земной тверди, не сделавшись разбухшим и многоскважинным, так чтобы могло своим качеством входить в единение с окружающей влагой и таким образом претворяться в корень и отросток и на этом не останавливаться, но превращаться в стебель, как бы некими связями препоясуемый но середине коленами, чтобы в прямом виде мог нести на себе обремененный плодом колос. Поэтому где было это появляющееся из зерна пшеницы прежде разложения его в земной глыбе? Однако же есть это в зерне. А если бы не было того прежде, то не произошло бы и колоса. Поэтому, как тело колоса рождается из семени, потому что сила Божия из этого последнего художнически производит первое, и оно и не совершенно одно и то же с семенем и не вовсе от него отлично, так, говорит апостол, и тайна воскресения истолковывается тебе уже в чудодействуемом над семенами, так что сила Божия но преизбытку власти не только разложившееся возвращает тебе снова, но дает тебе при этом иное великое и прекрасное, чем естество приводится для тебя в большее великолепие. Сеется, сказано, в тлении, восстает в нетлении: сеется в немощи, восстает в силе, сеется не в честь, восстает в славе, сеется тело душевное, восстает тело духовное (1 Кор. 15:42 — 44). Ибо, как пшеничное зерно по разложении своем в земной тверди, оставив количественную малость и в качестве наружного вида отличительное свойство свое, не утратило само себя, но, само в себе пребывая, делается колосом, весьма много отличаясь от себя самого величиной, красотой, разнообразием и наружностью, таким же образом и естество человеческое, оставив в смерти все свои отличительные свойства, какие приобрело страстным расположением, разумею бесчестие, тление, немощь, разности возраста, не утратило себя самого, но как бы в колос какой применяется в нетление, славу, честь, силу, совершенство во всем; и жизнь его не естественными управляется уже свойствами, но переходит в некое духовое и бесстрастное состояние, потому что само свойство тела душевного состоит в том, чтобы вследствие какого–то течения и движения всегда изменяться и из состояния, в каком находится, переходить в другое. Ибо что ныне усматриваем прекрасным не в людях только, но и в растениях и в скотах, ничего того не останется в тогдашней жизни. Но и во всем апостольское слово, кажется мне, согласно с нашим понятием о воскресении и показывает то самое, что содержит в себе наше определение, говоря, что воскресение не иное что есть, как восстановление нашего естества в первоначальное состояние. Ибо в начале миротворения, как знаем это из Писаная, сперва, как говорит слово, прорастила земля былие травное (Быт. 1:12), потом из ростка произошло семя, от которого, когда пало на землю, взошел опять тот же самый род произросшего первоначально. Но это, говорит божественный апостол, совершается и при воскресении. Не тому же только научаемся у него, что человечество переменится в большое велелепие, но и что уповаемое не иное что есть, как то же самое, что было вначале. Так как первоначально не колос из семени, но семя из колоса, после же этого колос вырастает из семени, то последовательность, примечаемая в примере, ясно показывает, что все блаженство, какое произрастет нам в воскресении, восходит до первоначальной благодати. Ибо и мы, первоначально некоторым образом быв колосом, после того засушены зноем порока. Но земля, приняв нас, разложенных смертью, в весну воскресения, это голое зерно тела снова покажет колосом добророслым, ветвистым, прямым и простирающимся в небесную высоту вместо соломы или стебля, украшенным нетлением и прочими боголепными признаками. Подобает бо, сказано, тленному сему облещися в нетление (1 Кор. 15:33). А нетление, слава, честь и сила, как исповедуем, принадлежат собственно Божию естеству, и они были прежде у созданного по образу и снова ожидаются. Ибо первым колосом был первый человек Адам, но поскольку со входом порока естество разделилось на множество, то, как бывает с плодом в колосе, так мы, один по одному, совлекшиеся вида, подобно этому колосу, и смешавшиеся с землей, в воскресение вместо одного первого колоса, став бесчисленными тьмами жатв, снова произрождаемся в первобытной красоте. Жизнь же добродетельная будет иметь ту разность с пороком, что здесь еще в продолжение жизни возделывавшие себя добродетелью тотчас произрастут в совершенный колос, а у кого сила в душевном семени в продолжение этой жизни стала какой–то истощенной и увядшей от порока, те, по словам сведущих в подобном этому, как бывает с так называемыми роговыми наростами, хотя и произрастут в воскресение, но встретят великую строгость у судии, так как они не в состоянии прийти в вид колоса и стать тем, чем были мы до ниспадения до земли. Хождение же приставника за урожаем состоит в собрании плевел и терний, произросших вместе с семенем, потому что вся сила, питающая корень, перелилась в подложное семя, отчего настоящее осталось непитательным и недозревшим, заглушённое произрастанием противоестественным. Поэтому, когда в питательном ослаблено будет и придет в уничтожение все, что есть в нем подложного и чуждого, по истреблении огнем противоестественного, тогда и естество питающих семян будет иметь обильную пищу и созреет в плод, при таком попечении, восприняв общий вид, первоначально данный нам от Бога. Но блаженны те, в которых немедленно, едва порождаются в воскресение, воссияет совершенная красота колосьев. Говорим же это не в том смысле, будто бы в воскресении телесная некая разность обнаружится в живших добродетельно или порочно, так чтобы одного почитать несовершенным по телу, а другого признавать достигшим совершенства — напротив того, как в продолжение жизни и узник, и живущий на свободе — оба подобны между собою телом, но великая между обоими разность в удовольствии и в печали; так, полагаю, надлежит заключать и о разности добрых и злых в будущее время. Ибо совершенство тел, возрастающих из посеянного, по словам апостола, состоит в нетлении, славе, чести и силе; умаление же таковых качеств означает не телесное некое отсечение возросшего, по отъятие и отчуждение каждого свойства, представляемого добрым. Итак, поскольку представляемому о нас непременно надлежит быть чем–либо одним из противоположного: или добром, или злом, то явно, что сказать о ком–либо «он не в добре» послужит доказательством, что он непременно во зле. А в пороке нет ни чести, ни славы, ни нетления, ни силы. Поэтому совершенно необходимо, в ком нет этого, о том принять за несомненное, что в нем есть представляемое по противоположности: немощь, бесчестие, тление и все, что подобного тому рода, о чем говорено в предыдущих словах, что трудно бывает освободиться от душевных страстей, происходящих от порока, всецело срастворившихся и сросшихся с душой, обратившихся с пей в нечто единое. Поэтому по очищении и истреблении таковых страстей огненными врачевствами место каждого свойства заменит собой представляемое лучшим: нетление, жизнь, честь, благодать, слава, сила — и если еще что иное этому подобное представляем умосозерцаемым и в самом Боге и в Его образе, то есть в естестве человеческом.
Слово о божестве Сына и Духа и похвала праведному Аврааму
На многоцветных лугах с любителями таковых зрелищ бывает, что глаз их не может остановиться на чем–нибудь одном из видимого по причине равной красоты во всем, но как все привлекает их вожделение, то при желании ничего не оставить неосмотренным они часто остаются ни при чем — подобное нечто произошло и с моей мыслью, когда обозревал я луг Писания. Ибо разнообразие красоты мыслей равно ко всему влечет душу и делает, что вожделение не останавливается по невозможности в равноценном легко найти предпочтительнейшее. Вот как блистательны цветы в пророчестве великого Давида! А каков цвет — этот божественный апостол, показывающий красоту делания райского, издающей великое Христово благоухание! Красоту же лугов евангельских опишет ли какое человеческое слово?
Но мне кажется, что хорошо при времени вспомнить приточное наставление и подражать пчеле, о которой Писание (Сир. 11:3) говорит, что хотя и слаба она силами (ибо никогда не видано, чтобы сорвала целый цветок и на спине унесла в улей), но, тонкую и пуху подобною пыльцу с лепестков по средине цветка стряхнув крыльями и собрав к себе на ноги, ими производит эту мудрую работу, шестью ножками воздвигает впрямь такое же число углов; и в средине гладкостью крыльев как бы мазями какими наводит лоск на эти тонкие и перепончатые стенки. А чтобы и наше слово сделалось, как говорит Соломон, годным во здравие и царям, и людям простым (Притч. 6:8), молитвой привлечем благодать — я и вы вместе, потому что в этом общая наша польза, лучше же сказать, в большей мере ваша, если получить что–либо хорошее гораздо выгоднее, нежели сообщить. Евангелие запрещает в мехи ветхи вливать повое вино (Мф. 9:17); загадочный смысл этого относится, может быть, к настоящему времени. Ибо недавно выжатое вино по естественно происходящему воскипению влаги полно духа и вследствие естественного движения в виде пены выбрасывает из себя грязную нечистоту. Это вино не иное что есть, по моему рассуждению, но учение о Святом Духе, как говорит апостол: Духом горяще (Рим. 12:11). Его–то мехи, если они ветхи, протекают и обветшали от неверия, не удерживают в себе, но разрываются от величия догмата. Поэтому, если сообщается им какая–нибудь высокая мысль из учения, делятся они на части от тяжести догмата, и сами становятся безполезными по причине разрыва, и производят, что благодать Духа льется напрасно. Ибо в злохудожну душу не внидет премудрость, как говорит Писание (Прем. 1:4).
Лучше же сказать, позвольте мне подражать обычаю бедных, ибо у них в обыкновении, если когда удостаиваются богатой трапезы, без стыда из предложенного им запасаться пищей на следующий день. Поэтому и я, воспользовавшись небольшими некими остатками вчерашних дорогих припасов, из этого по силам моим припасу слово, многое из предложенного сего дня сберегая для гостей более совершенных.
Поэтому что же от вчерашней вечери осталось невкушенным и не употребленным в дело? История апостольских деяний повествовала нам о прибытии Павла в Афины по причине неистовой преданности тамошнего народа идолам и привязанности к жертвенным курениям. Дух Святой раздражался в блаженном Павле, подобно полноводному какому–то потоку утесняясь в душе апостола и не находя себе выхода среди недостойных. Поэтому Павел вступает в состязание со стоиками и эпикурейцами и, став на ареопаге, от обычного им возводит их к богопознанию, потому что для вступления в проповедь служат ему жертвенник и надпись. Но к чему упомянул я об этом чтении? К тому, что и ныне, подобно этим афинянам, есть люди, ни во что же ино упражняющиеся, разве глаголати что или слышати новое (Деян. 17:21). Иные вчера и за день, оторвавшись от трудных занятий, стали какими–то внезапными преподавателями богословия; иные, может быть, слуги, не раз бичеванные, бежавшие от рабского служения, с важностью любомудрствуют у нас о непостижимом. Вы, конечно, знаете, кого в виду имеет слово, потому что все в городе наполнено такими людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки. Это торгующие платьем, денежные менялы, продавцы съестного. Ты спросишь о волах, а он любомудрствует тебе о Рожденном и Нерожденном. Хочешь узнать о цене хлеба, а он отвечает тебе, что Отец больше, а Сын у Него под рукой; если скажешь, что пригодна баня, решительно говорит, что Сын из ничего. Не знаю, как надлежит назвать это зло — бредом или сумасшествием и такой повальною болезнью, которая производит помешательство в рассудке.
Поэтому говорю, что сказание об апостоле к ним относится. Ибо, что Писание повествует об афинянах, то ныне можно видеть на этих людях. Лучше сказать, если надобно говорить правду, то нынешние поступают неизвинительнее и афинян. У тех духовные очи как бы некоей грязью покрыты были идольской прелестью, и не могли они самолично видеть благочестивой истины о Сущем; впрочем, как бы осязая несколько помыслами, понимали то одно, что Божество совершенно непостижимо, и превысшее всего Существо по естеству не таково, каким почитает его рассудок. Поэтому, исповедуя, что истинный Бог неведом, воздают неведомому чествование капищем и надпись. Ибо что мысль их обращена была к истинно сущему Богу, об этом свидетельствует сам апостол, возвещая им того Бога, перед Которым, как думали они, выражали свое благочестие чествованием в капище. Поэтому хуже ли этих упоминаемых сумасбродствующие ныне, не уступающие, что Божество выше их постижения, но хвастающиеся, что так знают Бога, как каждый самого себя? Кто оплачет, сколько должно, слепоту этих жалких, которые, когда в наше время свет истины целую Вселенную осиявает благочестивой верой, одни не замечают этого сияния? Или не знаете, какой разумею свет, изобилующий в наше время? Перечтите мне эти царственные светила, которые, по числу равняясь евангельским и объяв едва не весь мир, просвещают миром и благочестием, когда Творец всего — Бог подражает первому чудодействию миробытия, не только поставив великое светило в начало видимого, но присовокупив к нему и светило меньшее, осиявающее отеческими лучами. Потом, когда вообще нам предложено столько благ, они, как обезумевшие под ударами демонов, бесстыдно восстают против истины догматов, подобно тем стоикам и эпикурейцам, с которыми состязуется Павел у афинян.
И, чтобы не подумали вы, будто бы слово прибегает к клевете, посмотрим на сами догматы, упомянутые нами. Стоики держатся той мысли, что Божество вещественно, а эти доказывают, что Единородный Сын сотворен — без сомнения же, знаете, какое сродство у сотворенного с вещественным. Опять эпикурейцам кажется, что нет ничего высшего над составом и распорядком существ, но все проносится случайно, без всякого промышления о Том, что делается; и, чтобы короче выразить их заблуждение, скажем, что догматы их клонятся к безбожию. Посмотрим же, не подражатели ли эпикурейцам отмещущие Сына? Никто не возражай на это, что Эпикур не знал Отца и не исповедует Его Божества, поэтому как же наравне с ним не чествуют и эти, не отрицающие Божества в Отце? Осмотревшись немного, найдешь, что аномей — новый Эпикур. Усмотрим же это так: апостол назвал Сына сиянием славы, образом ипостаси (Евр. 1:3), силой и премудростью Божией (1 Кор. 1:20) и всеми подобными тому именами, из которых каждое как бы состояло в некоторой необходимой связи с другим, немыслимо само по себе одно, но постигается во взаимном соединении обоих. Ибо сияние необходимо есть сияние чего–либо и образ непременно чей–либо. Поэтому, как свет не будет сиянием, если нет светоносной причины, так и сияющее естество не может быть представлено само по себе без представляемого с ним сияния. А подобно и образ показывает ипостась, ипостась же познается по образу. Так и сила Божия не может быть без Бога и Бога неестественно представлять себе без силы. Поэтому, кто утверждает, что нет чего–либо из означаемого в этом сочетании, тот вместе с силой отрицает и остальное. Но защитники нечестия говорят, что Сына никогда не было. Поэтому если не было Сына, то, без сомнения, не было и Отца. Если не было сияния, то не было и Сияющего. Если не было образа, то, конечно, не было и ипостаси. Если не было силы, то не было премудрости, если не было всего того, без чего не может быть Бога, то как был сущий над всеми Бог? Это ведет к мысли, что нет Бога, потому что невозможно представить себе славы, не издающей блистания, ипостаси, не имеющей образа, а также премудрого без премудрости, сильного без силы, отца бездетного. Итак, сказанным доказывается, что отвергающий Сына не верует в бытие Отца, а где не веруют в бытие Отца, там вовсе отвергают Божество; отрицать же Божество не иному кому свойственно, как Эпикуру. Итак, эпикурейцами оказались нынешние преподаватели обманчивого учения в оскорбление Единородного Сына, приписывающие преимущество Отцу и утверждающие, что Один больше, а Другой меньше, Один посылает, а Другой посылается; вырывая что–то об этом изречении из Писания, они обращаются к неразумным и говорят: Господь сам исповедует, что послан Отцом. Ты знаешь, что послан, а не слыхал, что с Ним и Пославший? Пославый Мя со Мною есть, говорит Он (Ин. 8:29). И сказанное не научило тебя, что и посылается, и не отлучается? Хотя посылается по человеколюбию, однако же не отлучается по неделимости естества. Но еще говорят: Единородный исповедует, что Отец больше Его, когда говорит: Отец Мой болий Мене есть (Ин. 14:28). Итак, исследуем, братие, неужели лжет Изрекший: Аз во Отце, и Отец во Мне (Ин. 14:10)? Если Отец больше Сына, то как большее вмещается в меньшем? Если Сын меньше Отца, то как большее наполняется недостаточным? Больший стесняется, без сомнения, в меньшем, и меньший не может расшириться до того, что превосходит величиной, почему необходимо Сыну недостаточествовать в Отце и Отцу избыточествовать в Сыне, и лжет Изрекший: Аз во Отце (если Он меньше, должно было сказать: Аз в части Отца), и Отец во Мне (если Отец больше, справедливее было бы сказать: некая часть Отца во Мне). Если же целый Отец в целом Сыне и целый Сын в целом Отце, то где большее и где недостаточное? И надобно ли говорить много, когда все их пустословие должно сдержать одним словом: Иже во образе Божии сый не восхищением непщева быти равен Богу (Флп. 2:6). Скажи мне, неужели слышишь, что равен, а понимаешь, — неравен? Какое новое учение, в котором неравное выражается словом «равен»! Но, может быть, кому–нибудь из более многосведущих прилично отыскать этому основание, почему и Отец больше Сына, и Сын равен Отцу? Ибо кажется, что это как–то не сходится одно с другим.
Итак, оставив состязание со многими противниками, отечески побеседую с вами о предлежащем. Знаю, что евангельские изречения, которые учат о Господе, не все равносильны и не от одного и того же достоинства заимствуют свои значения. Одни велегласно проповедуют высоту Божества в Сыне Божием; другие же нисходят до смирения естества человеческого. Ибо когда Господь говорит: Аз ти повелеваю (Мк. 9:5), и: Хощу очистися (Мк. 1:41), и: Отец во Мне и Аз во Отце (Ин. 14:10), и: Видевый Мене, виде Отца (Ин. 14:9), и: Аз и Отец едино есма (Ин. 10:30), и: Никто же знает Сына, токмо Отец (Мф. 11:27); и: Вся Моя Твоя суть, и Твоя Моя: и прославихся в них (Ин. 17:10); — все такие выражения показывают силу, превысшую всякого естества и всякой власти. А когда склоняет речь к немощи нашего естества, тогда говорит следующее: Прискорбна есть душа Моя (Мф. 26:38); Аще возможно, да мимоидет чаша (Мф. 26:39); Не может Сын о Себе творити ничесоже (Ин. 5:19); Я принял заповедь, что реку, и что возглаголю (Ин. 12:49); Восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему (Ин. 20:17). Сюда отнеси и слезы о Лазаре, и утомление от пути, и желание пищи, и испрашивание воды, и пришествие к смоковнице, и незнание о бесплодии растения, и сон о корабле. Ибо все это и подобное этому означает не достоинство в начале сущего Божия Слова, но снисхождение в рабьем зраке уничижившего Себя до немощи нашего естества.
Поэтому и сказано: Пославый Мя болий Мене есть (Ин. 14:28). Итак, посмотрим, от Кого это слово. Как Он послан? В образе ли Божий сый, или принял па Себя зрак раба? В полноте ли Божества или истощив Себя во образе раба? Совершенно же явно, думаю, что о Божией силе и о Божием Естестве вездесущем, всепроникающем и всеобъемлющем, и сказать несправедливо, что посылается, потому что вне его нет ничего нового, куда бы, не быв там прежде, оно пришло, когда послано — напротив того, все содержа своей охранительной силой, не имеет, куда бы могло переселиться, само будучи полнотой всего.
Поэтому посольством называется по воле Отца совершенное снисшествие Сына Божия к нашему смирению и к нашей немощи, потому что пречистого естества переселение в нашу жизнь не местным признается движением Господа, но показывает снисхождение с высоты славы до смирения плоти. Поэтому снизошло и явилось Слово, не без покрова, но сделавшись плотью, явился образ Божий не сам по себе, но в образе раба. Итак, вот Кто сказал, что не может о Себе творити ничесоже, очевидно потому, что стал плотью, ибо не мочь свойственно немощи. Как свету противополагается тьма, жизни — смерть, так силе — немощь, но Христос — Божия сила и Божия Премудрость, а силе, конечно, не свойственно не мочь. Ибо, если сила немощна, что будет мощно? Поэтому, когда Слово утверждает, что не может творити, тогда очевидно, не Божеству Единородного приписывает бессилие, но свидетельствует о невозможности для немощи нашего естества, а немощна плоть, как написано, дух убо бодр, плоть же немощна (Мф. 26:41). Итак, Божественное Писание в том и другом случае истинно, и большим исповедуя, и не отрицая равенства. Когда Писание имеет в виду человеческое естество, тогда Невидимого исповедует большим видимого по плоти. А когда руководит мысль к Божеству, тогда сравнительное это сопоставление большего и меньшего не употребляется, а вместо этого проповедуется единство: Аз и Отец едино есма; но различное по неравенству не может быть одним.
Достаточно ли слово наше объяснило вам дело, еретическое неравенство исключив из догматов благочестия? Или потребуете, как в суде, чтобы слово это подтверждено было большим числом свидетелей? Итак, позвольте мне, оставив попечение о краткости слова, свободно вспомнить об одном событии из древней истории, и, может быть, повествование это будет у нас нелишним для цели. Выслушайте апостольское чтение, кратко передающее историю Авраама, где говорится: Аврааму обетова Бог, понеже не единем имяше болшим клятися, клятся Собою, глаголя сказанное Им (Евр. 6:13).
Поскольку многим, вероятно, неизвестно содержание истории, то перескажу ее вам, насколько можно короче. Бог повелением Своим переселяет Авраама от близких ему родных и из места рождения; и живет патриарх в чужой земле, укрепляясь в надежде на обетование. В испытание твердости перед Богом обращается мужу долговременное замедление уповаемого; обещано же было, что Авраам сделается отцом народа. Много прошло времени; естество потерпело ему свойственное, потому что возраст у него склонился уже к старости, а надежда все продолжалась. В старости и у него и у супруги, как и естественно, утратилась крепость, нужная к чадородию. И история, не стыдясь, указывает на это, говоря, что у Сарры престаша женская (Быт. 18:11), при которых производится зачатие. Хотя тело по миновании молодости уступало природе и горбилось от старости; однако же надежда у них на Бога как–то не старилась, а цвела. В это время рождается у них Исаак, чтобы видно было, что рождение это не дело природы, но действие Божией силы. Обрадованы они были, как и естественно, этим даром Божиим: с рождением сына как бы расцвели опять их седины, у состарившейся по мере потребности потекли обильные источники молока — престарелая подает сыну полный сосец. Восхищалась она таким сверхъестественным чудом, говоря: Кто возвестит Аврааму, яко млеком питает отроча Сарра (Быт. 21:7)? Потом младенец по понемногу крепнет, поспешает в предшествующей отрочеству возраст; вот уже отрок во цвете лет, в свежей красоте, сладостное зрелище для родителей, преспевает красотою, приходит в большую зрелость; при красоте телесной приумножает в себе душевные добродетели. Что естественно было чувствовать к нему родившим, это, подвергнув собственному рассуждению, сами исследуйте в себе, с каким расположением отец смотрит, когда сын забавляется, принимает участие в борьбе, в детских играх, в науках, в приятнейших сообществах со сверстниками! В это–то время патриарху готовится испытание и искушение, чему предай он больше: любви ли к Богу или естественной склонности. В содрогание прихожу, пересказывая только о жестокости испытания. Снова беседует с ним Бог и призывает его по имени. Авраам с усердием повинуется призванию, по прежним примерам надеясь, конечно, получить в приращение новую милость. Но вот повеление! Какое же?
Поими сына твоего, сказано (Быт. 22:2). Может быть, слово это не поражает еще отцова сердца. Ибо, конечно, отец рассуждает что–либо такое, например дается ему повеление сочетать сына браком и поспешить брачным ложем, чтобы пришло к своему концу благословение о семени. Но посмотрим, что присовокуплено к слову, сказано: поими сына твоего возлюбленнаго, единороднаго. Смотри, какое жало в этом слове, как пронзает отцовы внутренности, как разжигает естественный пламень, как пробуждает горячую любовь, называя сына и возлюбленным, и единородным. Такими именами сколь сильнейшая могла быть возжжена к нему любовь? «Потом что делать мне с сыном, прияв его?» «Вознеси Мне», — говорит Бог. «Не жрецом ли приказываешь сделать, кого повелеваешь вознести?» «Не жрецом, но жертвой и приношением всесожигаемым в жертву; вознеси Мне, сказано, во всесожжение на горе, какую тебе укажу». Что чувствуете, слушая это повествование, вы, отцы, вы, естеством наученные нежной любви к детям? Знаете, конечно, как отеческий слух принимает приказание о заклании единородного сына. Кого не поразило бы такое слово? Кто не отвратил бы слуха? Не лучше ли умереть при таком повелении, нежели принять сказанное к сердцу? Не мог ли Авраам войти в суд с Богом, в защитника своего представив саму природу, говоря: «Для чего, Господи, приказываешь мне это? Разве для того сделал меня отцом, чтобы сделать детоубийцей? Для того дал мне вкусить сладостного сего дара, чтобы обратить меня в притчу миру? Своими руками предам закланию сына и пролью перед Тобою родную кровь? И Ты ли приказываешь это? Ты ли увеселяешься такими жертвами? Мне убить сына, от которого ожидал я быть погребенным? Такое ли ложе устрою ему? Такое ли приготовлю ему брачное веселье? Возжгу ли для него не светильник брачный, но погребальный огонь? Следовательно, этим буду и увенчан? Так сделаюсь отцом народов я, которому не дано иметь и сына?» Но сказал ли или подумал ли что–нибудь такое Авраам? Нет. Напротив того, как скоро узнал цель повеления, обратив взоры к Божией любви, забыл немедленно о естестве и, как бы земное какое бремя сбросив с себя страстные расположения естества, всецело предал себя Богу и приступил к исполнению повеления. И даже не сообщил о том своей супруге, хорошо и с пользой для себя делая, что женщину не признал достойной доверия в совете, потому что и Адаму, принявшему совет Евы, не был он полезен. Поэтому, чтобы Сарра сама не потерпела чего женского и материнского и в Аврааме не ослабила сильной и чистой любви к Богу, решился он утаить дело от супруги. Ибо Сарра, если бы узнала, что такое делается, то, по всей вероятности, чего бы не наделала или как не стала бы плакаться Аврааму?! Что вытерпела бы она, повергшись на сына и заключив его в объятия, если бы видела, что насильно влекут его на заклание? Каких бы ни употребила речей?! «Пощади естество, муж, не делайся поводом к бурному рассказу в свете! Он единородный у меня сын, единородный по мукам рождения Исаак, один в моих объятиях. Он у меня первый и последний. На кого после него посмотрим за трапезой? Кто будет приветствовать меня этим сладостным голосом? Кто назовет меня матерью? Кто услужит мне в старости? Кто похоронит по смерти? Кто сделает могильную насыпь над телом? Видишь ли этот цвет юности, который если бы кто видел и во враге, конечно, сжалился бы над его красотой. Это — плод долговременной молитвы, это — отрасль преемства, это — остаток рода, это — опора старости. Если на него заносишь нож, то окажи эту милость мне, бедной; на мне сперва сделай употребление этому ножу, и тогда же, что тебе угодно, делай над сыном, пусть общая будет у обоих могила, пусть один и тот же прах покрывает тела, пусть общий надгробный памятник возвещает наши страдания, пусть глаз Сарры не увидит ни Авраама, который убивает своего сына, ни Исаака, убиваемого отеческими руками».
С такими, конечно, и подобными речами обратилась бы Сарра к Аврааму, если бы наперед знала, что делается. Но, чтобы ни в чем не было препятствия предприятию, возложив дрова на осла и взяв с собой нескольких служителей, Авраам всецело предался Божией воле. Потом, оставив служителей, чтобы не стали советовать чего–либо малодушного и рабского и не воспрепятствовали жертвоприношению сына, его одного ведет с собой, как имеющего уже по возрасту достаточные силы и для тяжелых дел. Ибо, с ослицы переложив ношу на сына, его заставил нести связку дров. Голос сына снова уязвляет внутренности у отца — вот другое искушение, нимало не легче предыдущего. Исаак называет отца этим сладким именем и говорит: Отче. Но Авраама не задушили слезы при мысли, что вскоре потом не услышит больше такого сладкого голоса, не вздыхает при этом слове, не говорит ничего плачевного и жалобного, но с твердой и непоколебимой душой и сыновнее приемлет лоно, и свой произносит ответ. Ибо говорит ему: Что есть, чадо? Здесь представь себе и смышленость, и рассудительность юного, как безобидно напоминает отцу по–видимому недосмотренное им, не укоряя отца ни в недогадливости, ни в забывчивости, но напоминая об этом недосмотре под предлогом, что хочет только узнать. Ибо говорит: Се дрова, огнь и нож, где есть жертва? Но Авраам, ободряя ли сына или, как пророк, ручаясь за будущее, говорит: Бог узрит Себе овча во всесожжение, чадо. И после этого испытание души патриарховой еще продолжается. Достигает он предуказанного ему места, создает Богу жертвенник; сын предложил отцу нужные вещества, приготовлен костер, и дело пока идет безостановочно, так что какой–либо малодушный не может сказать: если испытание до этого и было выдержано, то Авраам не остался бы таким же, как скоро более этого приблизился бы к страданию.
После этого отец касается сына, и природа не противится делу; сын предает себя отцу, делает с ним все, что угодно. Кому из обоих больше подивлюсь? Тому ли, кто из любви к Богу налагает руки на сына, или тому, кто даже до смерти послушен отцу? Препираются между собою, один — возвышаясь над естеством, другой — рассуждая, что воспротивиться отцу — хуже смерти. Затем отец связывает сына сперва узами. Нередко видел я живописное изображение этого страдания и никогда не проходил без слез мимо этого зрелища — так живо эту историю представляет взору искусство. Исаак лежит перед отцом у самого жертвенника, припав на колено, и с руками, загнутыми назад; отец же, став поодаль отрока на согнутое колено и левой рукой отведя к себе волосы сына, наклоняется к лицу, смотрящему на него жалостно, а правую ножом вооруженную руку направляет, чтобы заклать сына, и острие ножа касается уже тела, — тогда приходит к нему свыше глас, останавливающей дело.
Какой же был это глас? Ибо едва приводим речь свою на прямой путь, как некоего молодого коня, непослушного, необузданного, уклонившегося с прямой дороги и многими кругами скакавшего по сторонам. А предположено нами было показать свидетельство апостольского слова, что Отец не больше Сына. Ибо здесь Писание, слову Божию предоставив имя ангела, приводит глас: И воззва и Ангел Господень, и сказал: за то, что сотворил еси глагол сей, и не пощадел еси сына твоего возлюбленного, Мною Самем кляхся (Быт. 2:12–16) исполнить все, что можно узнать и в обетовании Слова. Поэтому кто же беседовавший с Авраамом? Ужели Отец? Но не скажешь, что Отец есть чей–нибудь ангел. Следовательно, Единородный Сын, о Котором говорит пророк: Нарицается имя Его велика совета Ангел (Ис. 9:6). Конечно, Павел, в раю посвященный в тайны, знает то, что клятвенное это обетование дано Единородным. А Павел говорит, что, Аврааму обетовая, Бог Слово, понеже ни единым имяше болшим клятися, клятся Собою (Евр. 6:13). Как же эти говорят, что Отец больше Сына, когда Павел утверждает, что Сын не имеет большего?
Но возвратимся опять к новому евангельскому вину, чтобы при помощи учения приняв в себя воскипение духа, и нам самим сделаться сосудами, годными для такого вина, — такими сосудами, которые и сами не расседаются, и не разливают сокровенной в них благодати. Слышу псалмопение, пророчествующее, как думаю, о настоящих бедствиях, ибо говорит оно о грешниках: Отчуждишася грешницы от ложесн, заблудиша от чрева (Пс. 57:4). Ложеснами рожденных по Богу называется, думаю, Церковь, потому что, в собственном чреве своем нося порождаемых ею, верой производит их на свет. Но грешники, подобно рождаемым преждевременно, отчуждишася от ложесн и заблудиша от родного чрева, ибо не вижу на матернем ложе отступников веры и утверждаю, что пророчество говорит о них, введенных в заблуждение обманом, что они заблудиша от чрева, заблудились в том, что глаголаша лжу. Ярость их, продолжает пророк, по подобию змиину, не просто подобно змию (κατα την ομόιωσιν οφεως), чтобы уподобление было не животному, но прибавление члена к слову «змий» (του οφεως) загадочно указывает на исконное зло.
Но и нам, может быть, пригодно воспоминание о змие к обличению дерзко отверзающих уста против Духа. Ибо думают, что имеет сильное возражение против Духа именно то, что Святое Писание не нарицает Духа Богом (как они думают, потому что мы не согласны с ними), а говорят: словом «Божество» означается естество, а как этого имени нигде нет при имени Дух, то заключаем из этого, что Дух не одного и того же естества с Отцом и Сыном. Пусть же возьмут они змия и обвинителя безумной своей хулы. Ибо, как мы утверждаем, естество Божие означающего Его имени или само по себе не имеет, или не имеет для нас; если же что и говорится о Нем, по человеческому ли обычаю или в святом Писании, то принадлежит это к означающему несущественные свойства Божества, само же естество Божие пребывает неизреченным и неизглагоданным, превышающим всякое словесное обозначение. Благовремеино, думаю, предложить вам это место Писания, где змий объясняется с Евой, показывая ей, что имя «Божество» имеет значение зрительной деятельности. Ибо, советуя коснуться запрещенного, объявляет им такую пользу сего непослушания: Отверзутся очи ваши, и будете яко бози (Быт. 3:5). Смотри, и змий свидетельствует, что словом «Божество» означается зрительная деятельность, ибо не иначе можно что–либо видеть, как с отверстыми очами. Итак, название Божеством выражает не естество, но зрительную силу. Поэтому неужели не признают, что и Дух Святой видит? Или и это будут оспаривать? Ибо если видит, то, конечно, по этому действованию имеет имя. Если же потребуют и это узнать из писания, то, хотя излишнее дело останавливаться на том, что уже признано, однако же, с терпением представим не знающим доказательство и этому. Кто усмотрел святотатство Анании? Как узнал Петр, что Анания стал сам своим вором, когда воровство произвел он втайне один с супругою? Не Дух ли Святой и в Петре был, и присутствовал при Анании? Поэтому Петр говорит: Почто исполни сатана сердце твое, солгати Духу Святому? Не человеком солгал еси, но Богу (Деян. 5:3–4). Поэтому, как Тот, Кто говорит, что оскорбивший существо разумное оскорбил человека, не относит оскорбления к двоим, но отношение делается к одному лицу, познаваемому по разным отличительным свойствам, так и Петр, сказав, что Анания солгал и Духу, и Богу, разумеющим благочестиво показывает, что двумя этими именами означается одно и то же. Но да сделаемся и мы способными к прозрению истины и причастниками Божества, по дару Святого Духа о Христе Иисусе, Господе нашем! Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Слово против Ария и Савелия
1. Отрыгну сердце мое слово благо (Пс. 44:2), сейчас сказал псалмопевец. Сие–то Слово благо последователи Ария и Ахилла, произнося нечестивейшия речи, дерзнули объявить созданием и тварию, и многих увлекли в свое заблуждение. А савеллиане, разсуждая противно сим, пытаются уничтожить ипостась Сына, и полагая, что тот же единый Отец почтень двумя именами, называют Его сыно–отцем (ὑιοπατορα). И то и другое мнение ставятся упомянутыми еретиками как бы две западни; а между ними идет средний узкий и тесный путь вводяй в живот (Матф. 7:14), по слову евангельскому. Многие, уклоняясь от одной западни, делаются добычею другой; но ты, кажется, боясь впасть с которую либо из них, бежишь и от самаго пути истины, думая, что не должно заниматься разсуждениями о Боге. Смотри, чтобы, опасаясь заблуждений той и другой ереси, не подпасть наказанию за недостаток благочестия. Сам Спаситель, став во главе истиннаго пути, воскликнул говоря: Аз есмь путь и истина (Иоан. 14:6); не уклоняйся ни на право, ни на лево, дабы не оказаться на котором либо из (ложных) путей. И еще: Аз есмь дверь овцам; не входяй Мною, но прелазяяй инуде, тать есть и разбойник (Иоан. 10:1–7), и сетию уловленный погибнет. Итак, склоняющиеся своею мыслию к которому либо из сих заблуждений, да услышать, что Спаситель наш Иисусь Христос есть Сын Божий, и называется так по естеству, а не именуется только Сыном, в несобственном смысле сего слова, каке мы, будучи тварию; что Он не имеет начала, но вечен; почему по самой ипостаси Своей Он и в безконечные веки будет царствовать с Отцем.
2. Но, может быть, кто нибудь скажет: все, что безначально, должно быть и нерожденно; как же возможно правильно назвать безначальным Сына, самое имя Котораго указывает на начало? Ибо Сыном Он именуется потому, что рожден; а что рождение заключает понятие о начале, сего никто не отвергнет. Итак, если Он Сын, то для нас ясно, что Он получил начало при рождении. А быть может Он будет иметь и конец, скажет кто нибудь, разсуждая философски. И апостол говорит, что Он покорится Покоршему Ему всяческая, и предаст царство Богу и Отцу (1 Кор. 15:28, 24 ); посему можно думать, что Он, как не существовавший прежде рождения, снова разрешится в небытие.
Взойди со мною в твердыню веры, дабы не быть увлечену тебе обольщениен таких разсуждений как бы сильным порывом ветра, подобно тому как с узкой и открытой дороги прах сметается ветром в пропасти погибели. Если Отец всего не рожден и вечен, премудр и всемогущ, а апостол, благовествуя веру в Него, всем проповедует, что Христос Божия сила и премудрость (1 Кор. 1:24): то как осмеливаются подчинять Его рождение времени и признавать не вечным и не безначальным? Ибо если рождение нашего Спасителя, по мнению некоторых, во времени получило начало: то сим лишается чести не только Сын, но и Отец, по слову Сына: ни Мене весте, ни Отца (Иоан. 8:19); иже не чтит Сына, не чтит Отца (Иоан. 5:23); один лишается чести как не существующий прежде рождения, а другой как не имеющий прежде бытия Сына ни силы, ни премудрости. Разсуждая же последовательно, они должны придти к мысли, что Отец прежде рождения Сына не был и Богом; ибо какой же Он Бог, если не обладал силою и премудростию? Если же Священное Писание провещало нам, что Он есть от века Бог: то должно веровать, чго Он вечно имел у Себя Премудрость и Силу, то есть, Христа.
3. Помню, что я прежде обещал показать вам как бы в зеркале, образ отношений между Отцем и Сыном; ибо что; касается до самаго Божескаго естества, то; не подлежит человеческому слову. И сам Бог беседует с нами не по силе Своего величия, но соразмеряет глас Свой с слухом человеческим так, чтобы мы способны были своим слухом принять Божественный глас. Свое нестерпимое и необъятное величие Он соразмеряет со взорами человеческими, и будучи Богом, является человеком; ибо Себе умалил, зрак раба приим (Флп. 2:7), дабы мы, люди, могли зреть Бога. Посему как мы веруем, что не будучи человеком, Он явился человеком, хотя по естеству был и есть Бог, Свое необъятное величие ограничивший телом, и в Себе, как бы в зеркале, явивший нам все величие Божества, дабы воспользовавшись им, как зрительным стеклом, мы узрели и Отца (ибо сый, по апостолу, образ Бога невидимаго (Кол. 1:15) сказал: видевый Мене, виде Отца (Иоан. 14:9): так и посредством того, что сказано в Писании сообразно с мерою нашего слуха (хотя сие, по немощи слова, часто и не вполне соответствует Божеству), мы соответственным образом созерцаем Его мыслию. Ибо как ради нашего зрения Он явился Богом, плотию описуемым: так и ради нашего слуха возвещается Словом умаленным по сравнению с величием Божества.
4. Итак на основании Писания доказано, как сказали мы, что человеческое слово не обемлет Бога и Его свойств. Поелику же никакая часть речи недостаточна, чтобы объять вечность Сына: то Писание загадочно означает совечность Сына с Отцем при помощи предлога (прежде), говоря: прежде денницы родих Тя (Пс. 109:3); » еще: прежде всех холмов, и всякаго создания раждает мя (Прит. 8:25). Прилагая эту частицу, Писание указывает, что Он безначален; ибо называя Его существующим прежде всего, и особенно, прежде век, оно обращает нашу мысль к вечности и безначальности. А как вечно совозседающий с Отцем может быть наименован Сыном и рожденным, пример сего я укажу тебе в солнечном луче, хотя при сем слово и не коснется самаго естества. Отчего не сказать, что свет родился от светила? Но как не прежде солнце, а потом лучь, но вместе с бытием или происхождением солнца есть и произошел лучь, и вместе с существованием светила стал существовать и свет, и как раждающееся от светила является рожденным не по некотором времени, а вместе с ним: так не прежде Бог, а потом Его Премудрость, но вместе с бытием Бога всяческих, Который был всегда, всегда существовала и Премудрость, то есть, Христос, хотя премудрость по справедливости и именуется рожденною от Бога и порождением являющаго ее, Слова же: прежде всех холмов раждает мя, несомненно указывают на Спасителя людей, рожденнаго Отцем. И выражение: днесь родих тя (Пс. 2:7) означает прежде рожденнаго и вечно с Ним сущаго: а вводя означение времени: днесь, Писание показывает, что, тогда как все проходит перед Ним преемственно, Он рождается вечно, доколе будет именоваться это: днесь. А когда это: днесь прекратится вместе с сим миром, тогда Он уже не раждается, по навсегда всецело став рожденным, и возсев судиею и мздовоздателем живым и умершим, вечно будет царствовать с Отцем.
5. А чтобы изречение: Господь созда мя начало путей Своих в дела своя (Прит. 8:22) не было виною (ложных) мыслей у имеющих поврежденный разсудок, не должно и его пройти молчанием. Переводчики, не совсем точно переводя с еврейскаго на греческий язык, сказали: созда мя (ἔϰτισέ με), а по изследовании найдешь тут: содела мя (ἐποίησέ με). Впрочем, и выражепие созда мя, если тщательно вникнуть в него, не выражает ничего несогласнаго с словами: содела мя. Если бы (писатель) сказал только: Господь созда мя: то у некоторых могло бы возникнуть недоразумение. Но поелику прибавил: начало путей своих в дела своя, то очевидно, что сказанное нужно понимать так: Господь соделал, чтобы начальствовать Мне над делами Его и начало путей своих вверил мне. Когда же Отец возимел начало путей своих? Или когда Он не был действующим? Или от кого получил силу и действование? Ибо если Он не от века имел у Себя все: то это значит, что Он получил сие от кого либо иного, так что нужно вообразить себе иного какого–то Бога, старейшаго, чем Он. Но кто прежде даде Ему, и воздастся ему (Рим. 11:35), говорит Писание. Если же все от Него: то никогда не найдти начала путей Его и дел Его, но от века Он действовал. А если вся Сыном быша, и без Него ничтоже бысть (Иоан. 1:3); то совершенно очевидно, что Отец от века имеет у Себя действующую Премудрость. Если Отец действует от века, а без Сына не бывает никакого действия: то слово: быть созданным, нельзя понимать так, что (Сын) после был создан, дабы (Отцу) действовать. Но выражение: созда мя начало путей своих, означает; вверил мне пути Свои, чтобы они были под Моим начальством; говорится о начале не время означающем, а власть. Ибо и апостолы говорят, что Господа и Христа Его сотворил есть (Деян. 2:36). Если бы выражение: сотворил есть означало тварь и создание, то были бы двое, которых сотворил Он, одного Господа, а другаго Христа. Что Христос называется царем, это никому не безизвестно; а слово сотворил означает, что Отцем вверены Ему две власти, — господственная и царственная, или, лучше сказать, одна власть, но почтенная двумя или более наименованиями. Посему и те и другие, увлеченные тем и другим заблуждением, пусть убедятся, что Сын, вечно существуя с Отцем, рожден и вместе безначален; безначален по вечному пребыванию с Отцем, а рожден, потому что от Отца получил бытие; как сказали мы о светиле, что оно есть виновник света, но не прежде света, а современно ему. Посему Он и во веки пребудет, и никогда не перестанет царствовать; ибо Он и не начинал быть, но именует Себя вечно действующим с Отцем, говоря: Отец Мой доселе делает, и Аз делаю (Иоан. 5:17). Слово: доселе ведет мысль к вопросу: отколе. А так как это: отколе, относящееся ко времени, Он опустил, а сказал только: доселе, то сим означил, что Он все вечно делает с Отцем. Он доселе делает, производя, животворя, возращая, всем управляя, и никогда не престанет делать, потому что бездействие не приличествует Богу, и делая Он не устанет, чтобы нуждаться в покое.
6. Думаю, что увлеченные Ариевым заблуждением воспользовались в свою защиту следующим евангельским изречением: Пославый Мя болий Мене есть (Иоан. 14:28); на основании сего они предположили, что Сын есть создание и тварь. И ответ наименовавшему Его учителем благим: никтоже благ, токмо един Бог (Матф. 19:17), породил у них предположение, что Он есть человек, и имеет название Сына в несобственном смысле. По моему мнению их предположение, что Сын чужд существа Отчаго, порождено и следующими словами, сказанными в евангелии Марка: о последнем дни и часе, никтже весть, ни ангели, иже суть на небесех, ни Сын, токто Отец один (Марк. 13:32). А савеллиане, без внимательнаго разсуждения прочитав слова: Аз и Отец едино есма (Иоан. 10:30); видевый Мене, виде Отца (Иоан. 14:9): и еще: егда предаст царство Богу и Отцу (1 Кор. 15:24), впали в величайшее заблуждение нечестия, думая, что Сын временно изшел от Отца в следствие отпадения человека от Бога, а после исправления человеческаго грехопадения опять сокрылся, и, разрешившись, слился с Отцем. Или ты, мудрствующий савеллиански, не читал следующее место апостольскаго послания, противоречащее твоему мнению, где между прочим сказано: по действу державы крепости Его, юже содея о Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себе на небесных, превыше всякаго начальства и власти и силы и господства и всякаго имени именуемаго не точию в веце сем, но и в грядущем (Ефес. 1:19–21)? Или и евангельский глас не убеждает тебя в том, что не временен Сын, но и в будущем веке суд над всеми вручен Сыну? Отец бо, сказано, не судит никомуже, но суд весь даде Сынови: да вси чтут Сына, якоже чтут Отца (Иоан, 5:22–23). И в другоме месте апостол говорит: во откровении Господа Иисуса с небесе, со ангелы силы Своея, во огни пламенне, дающаго отмщение неведущим Бога и не послушающим благовествования Господа нашего Иисуса Христа (2 Сол. 1:7–8). Смотри, как не послушающие, по словам апостола, понесут наказание — гибель вечную, когда Он придет прославиться во святых своих; понесут же наказание от Сына, который, по твоему мнению, уже не существует.
7. Если же хочешь знать, что означает выражение: егда предаст царство Богу и Отцу; то и сие не будет сокрыто от тебя, хотя ты и оказался мало восприимчив к истине, и хотя сие будет противоречить, по–видимому, заповеди Христовой: не пометайте бисер ваших пред свиниями (Матф. 7:6). Но, подражая Богу, буду держаться благой надежды, не скрывая истину и от злочестивых; ибо Он одинаково дождит и равно разливает дневной свет на праведных и неправедных (Матф. 5:45). Ужели же не взыщешь истины, испытав такую любовь? Уже ли не обратишь к нам умственный слух, дабы убедиться, что в словах Писания нет противоречия одного места с другим, но все со всем сообразно и согласно? Посему слова: тогда и Сам Сын покорится покоршему Ему всяческая (1 Кор. 15:28) и еще: егда предаст царство Богу и Отцу (1 Кор. 15:24), нельзя понимать согласно с твоими мыслями. Ибо Он по всему уподобился человеку и страдал вместе с ним, по слову пророка: Сей грехи наша носит, и о нас болезнует (Ис. 53:4) и: Той недуги наша прият и болезни понесе (Матф. 8:17), поелику облекся в доступную для них плоть, и по нас, как сказано, грех сотвори (2 Кор. 5:21), не сотворив греха, но как бы сотворивший, быв по нас клятва, да искупит нас от клятвы (Гал. 3:13), и был наименован проклятым, благоволив, по состраданию, именоваться одним с нами именем; во всем этом Он уподобился человеку, приняв самый образ раба, как будто Сам Он был преступником закона, и, предложив (в жертву) за род человеческий собственное Лице, преклонил Отца, призывая Его к умилостивлению. Но поелику не весь род человеческий покорился Сыну, то и Сам Он, будучи покоршимся, является и представляется вменяющим Себе пред лицем Отца непокорство людей. Когда же все покорится Сыну (а ныне не у видим Ему всяческая покорена — Евр. 2:8), тогда скажет Он: все покорилось Мне. А когда все покорится Ему, тогда и Сам Он явится покорившимся Покоршему Ему всяческая (1 Кор 15:28). Если бы все мы были Христовы, и Христос был бы Божий, и был бы покоршимся. А если мы еще не Христовы: то не Божий еще и Христос, болезнующий о нас. Итак, когда все будем Христовы, тогда и Христос будет Божий, покорив чрез Себя Отцу всех, которых прежде приял от Него, да будет Бог всяческая во всех (1 Кор. 15:28). Он является некоторым образом не покорившимся Отцу, когда врученные Ему, образ коих Он принял, еще не покорились Ему. Когда же все покорится Ему: тогда Он явится предавшим царство Богу и Отцу. Под царством же должно разуметь не достоинство скиптродержательства, ибо Отец не нуждается в царском достоинстве, чтобы обратно получить от Сына то, что прежде снисходительно вручил в Его распоряжение. Твоя тайная мысль, кажется, именно такова. Ты нечествуешь не только по отношению к Сыну, уничтожая Его ипостась, но и по отношению к Отцу, выражая мысль, что Он не был царем на то время, как уступил царство Сыну, а потом снова получит оное от Него, как будто нуждаясь в этом достоинстве. Сын передаст Ему не достоинство царское, как я прежде сказал, но вступивших в Его царство и покорившихся Ему. Представив и передав таковое царство, Он скажет; вот царское священие, язык свят, люди обновления Моего (1 Петр. 2:9) и еще: се Аз, и дети, яже Ми дал есть Бог (Евр. 2:16); ибо Он дал их Ему, подчинив Ему все народы: дам Ти языки достояние Твое и одержание Твое концы земли (Пс. 2:8).
8. Знай и то, что изречение: Аз и Отец едино есма (Иоан. 10:30) не уничтожает ипостась Сына; ибо едино суть по существу, едино по достоинству, едино по разуму, едино по мудрости, но не едино по ипостаси. Ибо и из слов апостола можно доказать, что едино не означает одно и тоже лице, что видно из многих мест, как например из слов о насаждающем и напаяющем (1 Кор. 3:8); ибо лице различается здесь разделительным именем: кийждо, сказано, свою мзду приимет по своему труду. Итак слово едино не должно быть признаваемо уничтожающим другое лице. Посему когда доказано, что ни одно из этих выражений взаимно не противоречит, и когда они согласны в утверждении правой веры: перестань мудрствовать савеллиански, уклонись от зломудрия и соделай благое, убедившись в истине. Довольно с тебя и сего для доказательства того, что ты мудрствуешь лукаво.
9. Получи понятие и об ариано–неистовствующем Ахилле. Почему ты, отступив от веры и оставив правый путь, впал в глубины нечестия против Сына, предполагая, что Он есть тварь и чужд существа Божескаго? Не ужели недостаточно для тебя, для доказательства рождения Его от Отца, одних имен Его, — что Он именуется Премудростию и Силою Божиею? А конечно и ты согласишься, что премудрость и сила нерукотворенны и не устрояемы, но суть свойства духа и как бы проявления ума, служащаго корнем для отпрыска мудрости. Если же премудрость, как говоришь ты, создана и устроена в какое либо время, — та Премудрость, которая древнее всякаго времени и создания, то есть, Сын: то смотри, чтобы не оказаться тебе, с твоим мнением, несогласным с словами Писания: без Него ничтоже бысть (Иоан. 1:3). Или если скажешь, что сия премудрость есть после приобретенная, то постарайся ясно доказать нам, что была некая другая премудрость; старейшая сей, которою создана и эта вторая; ибо без премудрости невозможно чему либо быть создану. Посему у Отца Премудрость и была перворожденною всей твари, дабы чрез Нее устроилось все. Сын именуется также и Словом, во свидетельство того, что Он рожден, и дабы не признавали Его сотворенным. Ибо раждается, а не творится слово, произносимое устами, но приводимое в движение сердцем. Свидетель мне Отец, который говорит: отрыгну сердце Мое слово благо (Пс. 44:2). Свидетельствует вместе и Сын: Аз из уст Вышняго изыдох (Сир. 24:3). Как же мысль твоя подемлет такое бремя дерзости, признавая Его тварию?
10. Ты слышал прежде сказанное о Сыне; послушай же теперь и дальнейшее, именно, что бе поставленное в преходящем времени, означает вечность. В начале бе Слово (Иоан. 1:1). Начало Божие непостижимо для человеческой мысли. Посему–то, как сказали мы прежде, когда Писание употребило такой образ речи: в начале, то разумей вечное Божеское начало. Тоже выражается и словом бе; Слово же означает единосущную с Отцем ипостась. А дабы мы не думали, что Сын некогда был не являемым, сокрываясь в Отце, и дабы не представляли себе Слово не произнесенным и внутренним (ибо такого рода Слову, не имеющему в Себе ипостаси, в каком уме или в каком письмени надлежало иметь свое бытие?): то Иоанн сказал: и Слово бе не в Боге, но у Бога, означая сим особую ипостась, сущую у Слова от существа Отчаго. Точно так же и для того, чтобы не разумели мы премудрости художнической, которая свое бытие имеет или в человеке, или в каком либо произведении, он сказал: бе у Бога, дабы мы разумели Бога, сущаго от Бога. Кроме сего он поставил и имя: и Бог бе Слово. Бог начала не имеет; иначе Он не был бы и Богом; это не только мы говорим, но тоже гласят и ученики философов, которым ты не должен бы уступать в деле стяжания познаний о Боге.
11. А дабы мы веровали, что Он существует как Бог, имея бытие Сам от Себя, Отец дал Ему человеческий образ, облекши Его плотию, чтобы явить Сына и человеческим взорам. И зная, что Он есть сущий Бог, не вообрази, на основании слов: Пославый Мя болий Мене есть (Иоан. 14:28), что Сын ниже или менее (Отца). Ибо Ему, вочеловечившемуся, надлежало в смиренномудрых словах открывать Свое величие. Он Сам сказал: да хвалит тя искренний, а не твоя уста (Прит. 27:2). Ибо как же не надлежало Ему смиренномудренно являть себя меньшим Отца безпредельнаго и все наполняющаго, когда Он был ограничен плотию и измеряем человеческими взорами? Но и кроме сего не чуждо истины именовать Ему Виновника бытия большим Себя. Ибо если бы не было Бога, то откуда бы Премудрость? Если бы не было Отца, то откуда Сын? Посмотри, как Сын всюду и всячески смиренномудрствует и вместе с тем являет Божеское величие, и прежде всего, когда Он говорит юноше, наименовавшему Его благим: что Мя глаголеши блага? никтоже благ, токмо един Бог (Марк. 10:18). И он справедливо отвечал так. Он как бы так сказал: юноша, Я явился тебе как человек, а ты, назвав Меня, как одного из книжников, учителем, прибавил еще: благий. Никто из людей не благ; это наименование свойственно единому Богу. Итак ты безразсудно назвал благим того, кто доселе являлся тебе человеком. Ответив так, Он явил сему человеку свое смирение, говоря: никто не благ из тех, кого имеешь в мысли. А прибавив: токмо един Бог (а Он и Отец едино суть), Он, таинственно и вместе смиренномудренно раскрыв истину, явил Себя сопричастным по благости Отцу. Итак слова: Аз и Отец едино есма (Иоан. 10:30) и: Аз во Отце и Отец во Мне (Иоан. 10:38) показывают, что Он равен Отцу; ибо Сыну совершеннаго Отца необходимо быть совершенным.
12. Но, может быть, скажешь вот еще что: если Отец, будучи совершенным, все наполняет: то что же остается наполнять совершенному Сыну? Говорю, что Они взаимно восприемлют и вмещают один другаго. Ибо сказано: Аз во Отце и Отец во Мне. А взаимно один другаго вмещающие, по величию будут равны между собою. А как Они суть один в другом, постарайся это выслушать. Одно должно обниматься другим; следовательно обемлемое заключается в обемлющем, а обемлющее не будет обниматься обемлемым. Не думай, что Бог имеет в Себе какую либо пустоту, в которую восприемлется обемлемое. О людях так думать должно; ибо мы неспособны вместить других, и не вмещаемся в другаго, а если бы и вместились, то заключались бы в пустоте и ею были объяты. О Боге же должно мыслить так: как в душе человека, при совмещении двух или более наук, врачебной например и философской, или каких нибудь других, оне не теснят одна другую в уме и вместилище душевном, и при многочисленности находя себе простор и совмещаясь между собою; наполняя душу, оне не выделяются одна от другой, так что для проницательных людей представляют вид единой сущности, потому что пребывают в едином и том же уме, но между собою различаются, ибо иное дело врачебная наука, а иное — философская: так и Отец и Сын, занимая одно и тоже место, взаимно восприемля один другаго и составляя единое, как сказали мы немного прежде, различаются один от другаго ипостасию и наименованием, существуя однакоже один в другом. Так при разлитии в воздухе запаха масти в одном и том же пространстве существуют и воздух и запах; по–видимому, они слились тут, на самом же деле откроется, что иное воздух, и иное — запах. Так же свет солнечный и дуновения ветров, взаимно сливаясь, и, по–видимому, находясь в совершенно смешанном состоянии, имеют между собою большое различие; ибо свет и ветер не мало различны один от другаго. Сим предметам уподобь Божество, и, представив в мысли нечто высшее, нежели что выражается словом, найдешь, что Оба едино по существу и единению сил, и что сей единый Бог разделяется по ипостаси и наименованию на Отца и Сына.
13. Может быть, возразишь мне и следующее: если Отец, равно как и Сын, все наполняют, то какое же место остаетея для силы враждебной? Ибо вместе с собою иметь врага — Богу не приличествует. А если там, где находится князь злобы, Бога нет: то Бог окажется ограниченным и обемлющим только часть всего. Отвечаю, что Он вездесущ, и нет места, где Бога нет, хотя в каком либо месте и находится князь злобы. Ибо лучи солнца не оскверняются падая на грязь и нечистоты, но даже уничтожают их, изсушая своим жаром: так и Бог наш именуется огнем поядающим (Евр. 12:20); и еще: огнь пред Ним возгорится (Пс. 49:3), дабы для возлюбленных служить светильником и светом, а для врагов пламенем поядающим; ибо попалит, сказано, окрест враги Его (Пс. 96:З). Посему и князь злобы, желая избегнуть огненосных стрел Божиих, бегает по всем местам. Всюду находя Бога, проходит по всем людям; когда находит пламенеющих Духом, бежит и от их пламени. А найдя в ком нибудь, не имеющем Духа Божия, выметенное и убранное убежище (Матф. 13:44), он, по кратком отдохновении, погибнет вместе с радушно принявшим его; ибо одинаково окажется врагом и принявший его, соделав своим другом противника Божия.
14. Думаю, что для утверждения истины достаточно и сих разсуждений. Но пусть не оставлено будет мною по забвению или подобно пловцу, увлеченному в другия места сильным ветром, разсмотрение и того, почему, вместе со всеми, не знает (последняго) дня и Сын (Марк. 13:32), имеющий в Себе Отца и Сам сущий в Отце? И это означает избыток Его смирения. Ибо Сыну Божию надлежало по преимуществу смирить Себя, потому что Он по преимуществу совершенно восприял и весь образ человеческаго бытия. Сказав, что Он не знает, Он явил слушателям Свое смирение. А дабы не оказаться сказавшим неправду, Он прибавил: токмо Отец един весть; по букве Он отрекся от ведения, а по силе таинственнаго выражения исповедал оное, ибо когда знает один Отец, то знает и Сын, поелику Он и Отец едино суть. От сего проистекли два блага для рода человеческаго, — урок смирения и неведение конца мира, полезное для жизни. Что труднее было бы знать, день кончины, или самаго Бога и Отца? Если же Отца познал Сказавший: да знаете Мене, якоже знает Мя Отец и Аз знаю Отца (Иоан. 10:15): то как же Ему не знать дня, котораго Он Сам был и Создателем? Ибо без Него ничтоже бысть (Иоан. 1:3). Наше слово, в котором предложены кратко сии доказательства, каково бы ни было само по себе, да не послужит ни для кого препятствием к (приобретению) правой веры! Итак вы, последователи Савеллия и Ария, столь между собою различающиеся, познав из сказаннаго всю истину, войдите со мною в согласие, и шествуя между той и другой сети; обретете путь истины, идя по которому, узрите вечную жизнь.
Слово о Святом Духе против македонян духоборцев
1. Может быть, не следует и отвечать на пустые речи, ибо к сему кажется, относится мудрая заповедь Соломона, повелевающая не отвечать «безумному по безумию его» (Притч. 26:4). Но поелику есть опасность, чтобы вследствие нашего молчания ложь не усилилась над истиной и чтобы гнилостная гангрена ереси, разрастаясь на счет истины, не заразила здравое учение веры, мне показалось нужным дать ответ не по безумию тех кто направляет против благочестия подобные речи, но для исправления вредных мнений. И заповедь, преподанная в притчах, поучает, кажется, не молчанию, но исправлению безумных, — тому, что должно не сообразовать ответы с безумием высказанных мнений, но лучше ниспровергать безрассудные и ошибочные их мысли о догматах.
2. Что же они возражают нам? Они обвиняют в нечестии тех, кто мыслит о Святом Духе достойно Его величия; что исповедуем мы о Духе, следуя учению отцов, то самое они, объясняя по произволу, делают для себя поводом обвинять нас в нечестии. Мы исповедуем, что Дух Святый равночестен с Отцом и Сыном, так что между Ними нет никакого различия ни в чем, что благочестно мыслится и именуется относительно Божеского естества, за исключением особности Духа Святаго по Ипостаси, именно, что Он от Бога есть и Христов есть, как написано (Ин. 15:26; Гал. 4:6); с Отцом Он не сливается, потому что Отец не рожден, а с Сыном — потому что Сын есть Единородный. И мы исповедуем, что, имея некоторые отличительные (личные) свойства, Он во всем прочем, как сказано, имеет равенство. Противники говорят, что Он по естеству чужд общения с Отцом и Сыном и по отличию естества стоит ниже и уступает во всем: в могуществе, славе, достоинстве и вообще во всем, что выражается в именах и понятиях, усвояемых Богу; и посему они говорят, что Он не причастен славе и недостоин равночестности с Отцом и Сыном; могуществом Он обладает в той мере, какая достаточна для назначенных Ему некоторых частных действий, а силы зиждительной Он совершенно чужд. При господстве у них таких мыслей ими последовательно выводится заключение, что Дух не имеет в Себе ничего такого, что благочестиво говорится и мыслится относительно Божеского естества.
3. Какое же будет наше слово? Предлагающим такие суждения мы не ответим ничего нового или измышленного нами самими, но воспользуемся свидетельством о Святом Духе Божественного Писания, которое научило нас, что Дух Святый есть и именуется Божеством. Посему если и они согласны с ним и не сопротивляются Божественному гласу то пусть скажут они, готовые на борьбу с нами: для чего спорят они не против Писания, а против нас? Ибо мы не говорим ничего иного, кроме сказанного Писании. В Божеском естестве, которое исповедуем, мы ни по учению Писания, ни на основании понятий разума не признаем никакого такого различия, чтобы Божеское и верховное естество делилось само в себе на большее и меньшее. Поелику веруем, что Оно просто, единообразно и несложно, и не усматриваем в Нем никакого сочетания и сложения из несходного; то, как скоро раз мы составили в душе понятие о Божеском естестве, вместе с сим на основании самого имени должны будем признать, что Оно имеет совершенство во всем, что должным образом представляем в Нем; ибо Божество имеет совершенство во всем, что мы понимаем как добро. А если бы оно в чем–либо не достаточествовало и в чем–нибудь не имело совершенства, то вследствие такого недостатка было бы неполно и понятие Божества, так что в этом частном отношении Божество уже не может ни быть, ни именоваться Божеством. Ибо как усвоит кто–нибудь это наименование несовершенному и недостаточествующему, нуждающемуся в восполнении отъинуды?
4. И при помощи чувственных примеров можно увериться в справедливости этого рассуждения. Естество огня при прикосновении к нему всем существам одного и того же вида сообщает одинаковое ощущение тепла, и не испытывает одно существо усиленную теплоту, а другое — слабейшую. Пока существует огонь, он весь постоянно сохраняет непрерывное единство с самим собою по тождеству действия. Если же в какой–нибудь части он остыл бы, то остывшее уже не будет именоваться огнем, но с изменением теплотворной деятельности на противоположную изменяется и наименование. Так и относительно воды, воздуха и всего, входящего в стихийный состав, о каждом (имеем) одно и то же понятие, не допускающее ни увеличения, ни уменьшения. Ибо о воде нельзя сказать, что она есть вода в большей или меньшей степени, доколе она будет одинаково влагой, дотоле ей по справедливости будет придаваться и наименование воды; если же последует изменение в свойство противоположное, то вместе изменится, конечно, и ее имя. И в воздухе мягкость, стремление вверх и легкость одинаково усматриваются во всех частицах, а плотное, тяжелое и падающее на землю не может именоваться воздухом. Так и Божеское естество, доколе заключает в себе совершенство по всем понятиям, благочестно Ему усвояемым, дотоле по совершенству добра справедливо прилагается к нему его имя; если же отъято будет нечто из Ходящего в состав понятия о совершенстве, то в отношении утраченной части наименование Божеством будет ложно и не будет соответствовать предмету; ибо как невозможно сухому телу придавать наименование воды, остывшее называть огнем, плотное и тугое именовать воздухом, так или, лучше сказать, еще более невозможно именовать Божеством существо, в котором не подразумевается понятие совершенства.
5. Посему если в Писании и у отцов наших истинно, а не по имени только Дух Святый наименован Божеством, то что еще остается говорить противникам славы Духа? Ибо если (наименован) Божеством, то, конечно, и благим, и всемогущим, и премудрым, и славным, и вечным и вообще всеми подобными именами, возвышающими мысль к (Божескому) величию. Несложность Его свидетельствует, что все сие принадлежит Ему не по какому–либо участию, так чтобы можно было думать, что иное есть в Его собственном естестве, а иное привходит от присутствия упомянутых свойств; это свойственно только (тварям) получившим естество сложное. А что Дух Святый несложен, это всеми признается одинаково, и возражателей против этого нет. Если же Его ее естество по самому понятию своему несложно, то благость Он имеет не приобретенную, но Сам по своему существу есть благость, премудрость могущество, святость, правда, вечность, нетление, и вообще Ему свойственны все высокие и превосходнейшие имена. А когда Он таков, то на основании какой же мысли утверждают, что Он неславен, — утверждают, не страшась тяжкого осуждения за хулу на Духа? Очевидно, они утверждают, что не должно веровать, что он славен. Не понимаю, вследствие какого умствования они признали полезным не признавать славного по естеству тем, что Он есть.
6. Достаточной защитой их (мнения) не может служить и то, что поелику в заповеди, преданной Господом ученикам, Дух Святый поставлен третьим по порядку (Мф. 28:19), то к Нему неприложимо понятие, достойное Божества. Ибо там, где действие по отношению к благу не имеет никакого уменьшения или изменения, порядок по числу основательно ли почитать знаком некоторого уменьшения или изменения по естеству? Это было бы подобно тому, как если бы кто, видя пламень, разделенный в трех светильниках (а предположим, что причина третьего пламени есть первый пламень, возжегший последний преемственно чрез средний), потом стал утверждать, что жар в первом пламени сильнее, а в следующем уступает и изменяется в меньший, третий же уже не называется и огнем, хотя бы он так же точно жег, и светил, и производил все, что свойственно огню. А если ничто не препятствует, чтобы и третий светильник был огнем, хотя бы он был возжен от предыдущего пламени, то какая же разумность у тех, которые нечестиво думают уничтожить достоинство Святаго Духа, потому что Божественным гласом Он исчислен после Отца и Сына? Если недостает какого–либо из свойств, приличествующих Богу, в том, что созерцается в естестве Духа, то они «хорошо» свидетельствуют, что не имеет Он славы; если же величие достоинства Святого Духа усматривается во всем, то к чему оспаривать исповедание сей славы? Это подобно тому, как если бы кто, признавая кого–либо человеком, еще не считал бы безопасным вместе с сим признать в нем разумность, или смертность, или другое что–либо, что говорится о человеке, и посему опять отнял бы то, что дал. Ибо если кто неразумен, то и не человек. Если же это допущено, то как подвергается сомнению мыслимое соединенно с понятием человека? Итак, если истину говорит утверждающий о Духе, что Он есть Божество, то неложно говорит и полагающий, что Он есть досточтимый, так же как и славный, благий, равно как и сильный, ибо все эти представления соединяются в понятии Божественности, так что необходимо одно из двух: или и не называть Его Богом или не отнимать от Божественности никакого из приличествующих Богу свойств. Посему должно непременно соединять в мысли вместе то и другое: и Божеское естество с свойственным понятием о нем, и благочестивые понятия о Божеском и высочайшем естестве.
7. Итак, когда сказано, что Дух есть Божеского естества, и сказано правильно, а с сим именем (Божества), сказали мы, соединяется понятие о всяком величии, то давший Силе это имя, вместе с сим признал и остальное, — что Он есть и славен, и силен и все иное, что имеет значение совершенства. Ибо неестественно не признавать это о Духе по несообразности противоположных сим именований, ибо не признающий Его славным должен признать бесславным и отвергающий в Нем силу должен согласиться приписать Ему противное. Точно так же и касательно досточтимости и благости, и кто не допустит в Нем наилучшего, тот, конечно, признает противное. Если же это ужасно и выше всякой нелепости и богохульства, то ясно, что благочестивые согласятся с знаменательнейшими именами и понятиями о Святом Духе и скажут, что Он есть то, что мы часто говорили — досточтимый, сильный, славный, благой и все другое, что говорится о Нем согласно с благочестием. Все сии свойства находятся в Духе не в несовершенном виде и заключают в себе не ограниченное количество блага, но соответствуют названиям вполне бесконечно; ибо не до некоторого предела только Он досточтим, так что затем мыслится в Нем нечто иное, недосточтимое, но всегда таков. И посмотришь ли ты на протекшие века, обратишь ли взор в грядущее — нигде не найдешь недостатка в чести, или славе, так чтобы они или умножались чрез приращение, или уменьшались через отъятие. Итак, если Он весь во всем совершен, то ни в чем не допускает уменьшения. Ибо в какой мере при таком предположении уменьшится совершенство, в такой мере будет дано место недостойным представлениям, ибо что не совершенно досточтимо, о том предполагаем, что оно в некотором отношении причастно противному. Если же это даже и в мысли допустить есть признак крайнего безумия, то, конечно, справедливо будет приписывать Духу Святому совершенство во всем благом беспредельное, не ограниченное, не уменьшенное ни в каком отношении.
8. Если таков есть Дух, то мы рассмотрим сейчас, то ли же самое можно сказать и о Сыне, равно как и об Отце. Ужели кто не признает совершенной честь и в Сем, и в Оном? Я думаю, что все, имеющие ум согласятся с сказанным. Итак, если честь Отца совершенна, совершенна честь и Сына, а признано, что совершенство чести принадлежит и Духу Святому, то зачем новые учители догматов узаконяют нам, что не должно исповедывать Его равночестным Отцу и Сыну? Мы на основании предыдущего исследования не можем ни говорить, ни думать, чтобы то, что для совершенства не имеет нужды ни в каком приращении, было менее досточтимо чего–либо другого. Ибо не понимаю, в чем может состоять умаление того, что не допускает понятия об увеличении по причине полноты и совершенства. А отвергающие равночестие, конечно, учат умалению чести Но умалив сравнительно (с Отцом и Сыном) Святаго Духа, они по той же последовательности извратят в противные и все благочестивые представления о Нем, не приписывая Ему совершенства ни в благости, ни в силе, ни в чем другом из того, что благочестиво говорится о Нем. Если же, уклоняясь от явного нечестия, исповедуют совершенство Его во всем, что приписывают Ему как благо, то пусть скажут эти мудрецы, как одно совершенство совершеннее или более вечно, чем другое? Ибо пока имеет место понятие о совершенстве, то это понятие не допускает ни увеличения, ни уменьшения в представлении совершенства.
9. Итак, если допускается, что Дух Святый есть совершен, а при этом благочестиво признается также и совершенство во всем благом Отца и Сына, то пусть дадут отчет, на каком разумном основании они считают себя вправе отрицать (Божественность) Духа? Ибо уничтожение равночестности есть доказательство того, что они не почитают Его причастным совершенству. В чем же, по их мнению, состоит та самая честь, воздаваемая Божескому естеству, которой они хотят лишить Духа? Не о той ли чести говорят, которую воздают и люди людям, выказывая знаки почтения и словами, и наружным видом, выражая подчиненность уступкой первого места на пути и тому подобным, что считается почетным в пустом обычае нашей жизни? Все это основано на произволе делающих подобное, если предположим, что это оставлен то никто из людей не будет иметь никакого естественного основания быть почтеннее прочих, потому что естественные свойства одинаково у всех равны. Это дело ясно и несомненно, ибо того, кто сего дня казался для многих почитаемым вследствие начальственной власти, которою был облечен, мы впоследствии самого найдем одним из числа почитающих, как скоро начальство перейдет к другому. Не такой ли вид чести они придумывают и для Божеского естества, так что, когда мы хотим, оно имеет честь, а когда перестаем почитать, то с нашим произволом прекращается и Божеская честь? Не смешно ли и не нечестиво ли вместе думать так? Ибо не чрез нас Божество становится досточтимее Себя Самого, но всегда Оно одинаково; Оно не может перейти ни к худшему, ни к лучшему, ибо первого не допускает, последнего (же) нет для Него.
10. Итак, каким образом ты будешь чтить Божество? Как возвысишь Высочайшего? Как прославишь Сущего выше всякой славы? Как восхвалишь Непостижимого? «Аще вси языцы, аки капля от кади» (Ис. 40:15), как говорит Исайя, то хотя бы все человечество, соединившись вместе, единогласно воздало славу, была ли бы каким приращением Славному по естеству сия благодарность капли? «Небеса поведают славу Божию» (Пс. 18:2) и малыми вестниками достоинства почитаются, потому что «взятся великолепие» Его не до небес, но «превыше небес» (Пс. 8:2), объемлемых малой частью Божества, образно называемой «пядию» (Ис. 40:12). И человек, сие слабое и кратковременное животное, хорошо уподобляемое траве (Пс. 102:15), сегодня существующий, а завтра нет, верит, что он достойно почтил Божеское естество! Это подобно тому, как если бы кто–либо, зажегши тонкую нить из пакли, подумал, что он чрез эту искру придает сиянию солнца некоторое приращение. Какими выражениями, скажи мне, ты почтишь, если захочешь вполне почтить, Духа Святаго? Скажешь, что Он совершенно бессмертен, что непреложен и неизменяем, всегда благ, не имеет нужды в даровании чего–либо другими, что все во всех действует, как хочет, свят, владычествен, прав, праведен, истинен, испытует глубины Божий, исходит от Отца, от Сына приемлет и тому подобное? Но чрез это и подобное что даруешь Ему? Говоришь о том, что присуще, или чтишь тем, что не присуще? Если приписываешь неприсущее, то дар твой пустой и не придаст Ему ничего большего, ибо называющий горькое сладким и сказал ложь и достойное порицания похвалил. Если же говоришь о том, что действительно в Нем есть, то Он, конечно, таков по естеству, исповедуешь ли таковым или нет; ибо Апостол говорит, что «аще не веруем, Он верен пребывает» (2 Тим. 2:13).
11. Итак, чего хочет малодушие и великодушие тех, кои ублажают честью Отца, думают, что должно воздавать равную честь и Сыну, а колеблются даровать оную Духу? Если что не от нашего произвола зависит полнота чести, собственно присущей Божескому естеству, но она принадлежит Ему естественно, то подобное мнение (еретиков) обличает упорство неразумия неблагодарных; Дух же по своему естеству есть досточтим, славен, силен, есть все, что ни разумеем высокого, хотя бы они не хотели того. Так (они) говорят: но из Писания мы знаем, что Отец есть Зиждитель, знаем также, что и чрез Сына все произошло, но о Духе слово Писания ничему такому не научило нас. И возможно ли почитать Духа Святаго равночестным с Тем, кто чрез Зиждительство явил такое величие силы? Что же мы ответим на это? Что «суетная глаголаша в сердцах» (Пс. 11:3) своих думающие, что Дух не всегда есть с Отцом и Сыном, но в известное время должен быть умопредставляем самобытным, а в другое понимаем в соединении (с Отцом и Сыном). Ибо если небо, и земля, и вся тварь произошли без Духа чрез одного Сына от Отца, то пусть скажут говорящие это, что делал Дух Святый тогда, когда Отец с Сыном совершал творение? Некоторыми другими делами занимался и потому не касался творения всего? Но какое они могут показать исключительное дело Духа, когда совершалось творение? Как глупо и неразумно придумывать другое творение, кроме совершенного Отцом чрез Сына!
12. Но скажут: не был занят Он, а по какой–то лености и праздности и по уклонению от трудов отстранился от заботы касательно творения? Но да простит нас за эти пустые слова самая благодать Духа! Ибо, идя по следам нелепости утверждающих это, мы невольно осквернили наше слово их мнениями, как бы некоторой грязью. Благочестивое же разумение такого рода: ни Отец без Сына никогда не мыслится, ни Сын без Святаго Духа не понимается. Ибо как нет средства взойти к Отцу, если кто не будет вознесен чрез Сына, так невозможно «рещи Господа Иисуса, тпочию Духом Святым» (1 Кор. 12:3). И так последовательно и согласно Отец и Сын и Дух Святый познаются всегда друг с другом в совершенной Троице; и прежде всякого творения, и прежде всех веков, и прежде всякого примышления понятий Отец всегда есть Отец, и в Отце Сын, и с Сыном Дух Святый. Итак, если Они существуют нераздельно друг с другом, то какова глупость решающихся рассекать в какое–либо время Несекомое и разделять Неделимое; так что дерзают говорить: один Отец сотворил все чрез одного Сына, тогда как Святый Дух во время творения или не присутствовал, или не действовал! Ибо если Он не присутствовал, то пусть скажут, где был, когда Бог всему определял бытие? Или они придумают какое–нибудь особенное помещение для Духа, так что Он был отдельно сам в себе на время творения? А если присутствовал, то как был недействующим? По бессилию что–либо делать или по нехотению? Добровольно ли остался без дела или будучи принужден некоторой сильнейшей необходимостью? А если по произволению Он избрал недеятельность, то, конечно, и ни в чем другом Он не захочет действовать и окажется, по их мнению, лжецом говорящий, что Он действует «вся во всех», как хочет (1 Кор. 12:6).
13. Если же у Него есть стремление к действованию, а какая–либо высшая власть препятствует Его намерению, то пусть скажут о причине такого препятствия. Зависть ли то к славе дел, чтобы чувство удивления пред созданным не перешло к другому, или недоверие к содействию, как бы присутствие Его не послужило ко вреду дела? Ибо, конечно, при таких предположениях, эти мудрецы объяснят нам и причины их. Если же ни зависть не касается Божеского естества, ни какая–либо ошибка не мыслима в непогрешительном естестве, то чего хочет мелочность их понятий, отделяя силу Духа от зиждительной причины, тогда как должно, чтобы низменные и человеческие понятия были оставлены при разумении Высочайшего, а был принят образ мыслей достойный высоты искомого. Поелику и Бог, сущий над всем сотворил все чрез Сына не потому, что имел нужду в каком–либо содействии, и единородный Сын действует все Святым Духом не потому, чтобы имел меньше силы привести в исполнение, но источник силы есть Отец, сила же Отчая — Сын, а дух силы — Дух Святый; все же творение как чувственное, так и бестелесное есть произведение Божеской силы. И поелику нет места труду в том, что составляет Божеское естество, ибо вместе с изволением следует исполнение, намерение тотчас бывает осуществлением, то все чрез творение происшедшее естество по отношению к движению воли, устремлению намерения и сообщению силы справедливо можно назвать начинающимся от Отца, продолжающимся чрез Сына и совершающимся в Духе Святом.
14. Мы, размышляя о сем просто и обычным нам образом, не допускаем оной мудрости противников, веруя и исповедуя, что во всем существующем и мыслимом, находящемся в мире и выше мира, во времени и прежде веков с Отцом и Сыном должен быть разумеем и Дух Святый, не лишенным ни воли, ни действия, ни другого чего–либо из того, что благочестиво мыслится как благо. И посему, исключая отличия по порядку и по Ипостаси, мы не принимаем различия ни в чем (прочем), но говорим, что Он числится третьим (лишь) по последованию после Отца и Сына, третьим же и по порядку предания (Мф. 28:19). Во всем же остальном исповедуем нераздельное единение по естеству и по чести, по Божественности и славе, и (по) велелепию, и по власти над всем, и по благочестивому исповеданию. А относительно служения и поклонения и всего того, о чем идут мелочные рассуждения у этих мудрецов, говорим, что Дух Святый выше всего, что зависит у пас от произволения человеческого; и поклонение наше (Ему) ниже должной чести, и если иное что–либо обычай людской считает почетным, то и то ниже достоинства Духа. Ибо неизмеримое по естеству выше всех приносящих Ему посильные дары почитания от малой, ограниченной и скудной силы. Но это говорим мы для согласных с более благочестивым понятием о Святом Духе, именно, что Он есть Божество и естества Божеского.
15. А если бы кто отверг это выражение и смысл, соединенный с наименованием Божества, а стал бы говорить разглашаемое многими к уничижению величия Духа, именно, что Он принадлежит не к Творящим, а к сотворенному и что должен быть почитаем не Божеского, а сотворенного естества, то на сии слова ответим, что так думающих мы не научены почитать христианами. Ибо как никто не назовет человеком недозрелый зародыш, но признает за ним только возможность развиться в человека, если будет доношен, а пока (зародыш) в несовершенном виде, он нечто другое, но не человек; так и того, кто не чрез всецелое таинство принял образование благочестия, наше учение не признает христианином. Ибо можно слышать, что и иудеи исповедают Бога — и Бога нашего. И Господь соглашается с ними в Евангелии, что они почитают не иного Бога, как Отца Единородного: «Его же вы», говорит, «глаголете, яко Бог ваш есть» (Ин. 8:54). Итак, неужели должно именовать христианами иудеев, потому что и они исповедают и чтут Поклоняемого нами? Знаю, что и манихеи произносят имя Христа. Что же? Поелику и они чтут поклоняемое нами имя, то и их причислить к христианам? Так и тот, кто хотя исповедает Отца и признает Сына, но отвергает величие Духа, «веры отверглся, и неверного горший есть» (1 Тим. 5:8) и ложно носит название христианина. Апостол повелевает, чтобы человек Божий был «совершен» (2 Тим. 3:17). Совершенным же бывает обыкновенно человек, когда имеет всю полноту естественных свойств; ему должно быть разумным, способным к мышлению и знанию, причастным жизни, прямым по виду, могущим смеяться, имеющим плоские ногти. Если же кто назвал бы человеком того, кто вышесказанных естественных признаков при сем представить не мог, то напрасно почтил бы такого сим названием. Так и христианин отличительным своим признаком имеет веру в Отца и Сына и Святаго Духа, она есть облик по таинству истины образовавшегося. Если же этот образ окажется иначе устроенным, то я не признаю естества в безобразном. Если в вере не приемлется вместе (с Отцом и Сыном) Дух Святый, то это будет слияние начертания и отчуждение от естественного образа и изменение отличительных признаков человечества. Ибо истинно слово Екклезиаста, что таковой не живой человек, но «яко же кости» (как он говорит) «во чреве раждающия» (Еккл. 11:5). Ибо как исповедает Христа не признающий вместе с помазанным помазания? Сего «помаза», говорит, «Бог Духом Святым» (Деян. 10:38).
16. Итак, пусть скажут нам уничижающие славу Духа и поставляющие Его наряду с подчиненным естеством, что знаменует помазание? Не царство ли? Что же? Ужели не веруют, что Единородный есть царь по естеству? Не будут, конечно, противоречить сему те, у которых сердце нисколько не закрыто покрывалом иудейским. Итак, если Сын царь по естеству, а помазание есть символ царства, то какое следствие вытекает тебе отсюда? То, что помазание не есть что–либо чуждое природному царю, и что Дух полагается во Святой Троице не как чуждое что–либо и постороннее Ей. Ибо Сын Царь, а живое, и существенное, и ипостасное царство есть Дух Святый, которым Единородный, будучи помазан, есть Христос и Царь сущего. Итак, если царь Отец, царь и Единородный, а царство Дух Святый, то, конечно, одно понятие царства в Троице. Мысль же о помазании таинственно указывает на то, что нет никакого различия между Сыном и Святым Духом. Ибо как между поверхностью тела и помазанием елея ни разум, ни чувство не усматривают ничего среднего, так неразделимо единение Сына с Духом Святым; так что для того, кто намеревается коснуться верой Сына, необходимо предварительно осязать миро, ибо нет в Нем никакой части, которая обнажена от Святаго Духа. Посему исповедание Сына Господом бывает у приемлющих оное во Святом Духе, так как приближающихся верой отовсюду предваряет Дух. Итак, если Сын царь по естеству, а Дух Святый достоинство царства, которым помазуется Сын, то какое еще придумывается отчуждение царства по естеству от себя самого?
17. Потом обратим внимание и вот на что. Признак царского достоинства, конечно, составляет власть над подчиненным. Но что подчинено царственному естеству? Под сим разумеем, конечно, века и то, что в них, ибо «Царство Твое», говорит (Пророк), «Царство всех веков» (Пс. 144:13). Говоря же века, объемлет все находящееся в составе их творение, видимое и невидимое, ибо в них сотворено все Творцом веков. Итак, если царство разумеется всегда с царем, а подчиненное естество признается чем–то иным (отличным) от начальствующего, то как нелепо поступают те, которые, противореча сами себе, хотя присвояют помазание царю по естеству как достоинство, но низводят сие самое (помазание) в подчиненный ряд как низшее достоинства? Ибо если (Дух Святый) принадлежит по естеству к числу подчиненных, то как Он согласуется с достоинством царства Единородного, будучи помазанием царства? Если же соприятие Его в величие царства показывает Его начальственность, то какая необходимость уничтожать все, низводя в служебное и рабское унижение, причислением Его к рабствующей твари? Ибо тому, кто говорит о Нем то и другое, — что Он и начальствен и подчинен, невозможно говорить истину в обоих случаях. Ибо если начальствует, то неподвластен, если же рабствует, то уже нельзя ставить Его наряду с царствующим естеством. Ибо как люди причисляются к людям, ангелы — к ангелам и все к однородному, так необходимо Духа Святаго признать принадлежащим к чему–либо одному из двух: или к господствующему, или к подчиненному естеству. Ибо разум не признает ничего среднего между тем и другим, так чтобы думать, что есть некоторое новоизобретенное особенное естество в средине между сотворенным и несотворенным, так что оно и причастно обоим и не есть вполне ни то, ни другое. Ибо нельзя допустить мысли о каком–то смешении противного и сплетении сотворенного с несотворенным, смешанных между собою, и о двух противоположностях, соединенных в одну Ипостась. Составленное чрез это чудовищное смешение существо не только будет сложно, но сложено притом из несходственных и несогласных по времени частей, ибо существующее чрез творение, конечно, новее существующего несотворенно. Итак, если говорят, что естество Духа смешано из того и другого, то должны допустить понятие и о некотором смешении древнейшего с новейшим; и будет, по их мнению, нечто древнейшее себя самого и (опять) нечто новейшее себя самого, так что в какой мере Дух не создан, будет древнейшим, а в какой создан, будет позднейшим. Итак, поелику это неестественно, то, конечно, необходимо сказать, что истинно о Духе что–нибудь одно из сего, именно, — что Он не создан.
18. Рассмотрим, как нелепо и следующее. Если все мыслимое сотворенным по тому самому, что получило бытие чрез творение, имеет равночестие, то какая причина, отделяя Дух от прочих (тварей), поставлять Его наряду с Отцом и Сыном? Разумная последовательность показывает, что не сотворено то, что умосозерцается вместе с естеством несотворенным, а если бы оно было сотворено, то нисколько не имело бы значения более однородной с ним твари и не могло бы согласоваться с высочайшим естеством.
Если же станут говорить, что Дух и сотворен, и имеет значение более, чем тварь, то опять оказывается в сотворенном естестве внутреннее противоречие и разделение на господствующее и подчиненное; так что одно благодетельствует, а другое приемлет благодеяние, и одно освящает, а другое освящается. И все, что, как мы веруем, даруется твари от Святаго Духа, то Ему присуще, обильно источается и на других изливается; но как тварь Он будет нуждаться в даруемом оттуда благодеянии и благодати для того, чтобы существовать и по причастию иметь общение в благах, от однородного с ним изливаемых. А это похоже на избрание и лицеприятие, что хотя в естестве нет никакого предпочтения, но предметам, не имеющим различия по бытию, дается неодинаковое значение. Но на это, я думаю, никто из благомыслящих не согласится; Дух или не доставляет другим (благ), если не имеет их естественно, или, если верят, что дарует, то, конечно, признают, что имеет. А быть источником дарования благ, самому же ни в чем постороннем не иметь нужды исключительно свойственно Божескому естеству.
19. Потом рассмотрим и сие: чрез святое крещение чего достигаем? Не причастия ли жизни, уже не подлежащей смерти? Думаю, что никто не станет противоречить этим словам, кто только и каким бы то ни было образом причисляет себя к христианам. Что же? Животворящая сила в воде ли, которая употребляется для преподания благодати крещения? Всякому ясно, что она приемлется ради телесного служения, но сама собою ничего не привносит для освящения, если не претворится чрез освящение, а оживотворяющий крещаемых есть Дух, как говорит о сем собственными устами Господь, что «Дух есть, иже оживляет» (Ин. 6:63). Животворит же не Он один, будучи воспринят ради благодатного сего совершения чрез веру, но должна предшествовать вера в Господа, чрез которую жизненная благодать усвояется верующим, как сказано Господом, что Сын «ихже хощет, живит» (Ин. 5:21). Но поелику и даруемая чрез посредство Сына благодать зависит от нерожденного источника, то посему Писание научает, что должна предшествовать вера во имя Отца, оживляющего «всяческая» (1 Тим. 6:13), как говорит Апостол, так чтобы животворящая благодать, исходящая от Него, как бы из некоторого источающего жизнь источника, приводила в совершенство удостаиваемых оной чрез Единородного Сына, Который есть истинная жизнь, действием Духа. Итак, если жизнь чрез крещение, а крещение совершается во имя Отца и Сына и Духа Святаго, то что говорят считающие за ничто Того, Кто доставляет жизнь? И если эта благодать мала, то пусть скажут, что почтеннее жизни? Если же все, что ни есть почтенного, ниже жизни, говорю (об) оной высокой и почтенной жизни, которой никак не причастно неразумное естество, то как дерзают столь великий дар или, лучше, Самого, доставляющего сей дар, унижать своими понятиями и низводить в подчиненное естество, отторгнув от Божеского и высочайшего. Потом, если и малым считают этот дар жизни, как будто из него не открывается нисколько высоты и величия естества Дарующего, то как они не подумают о последствии, именно, что то же самое понятие побуждает и об Единородном, и об Отце Его не думать ничего великого, так как та же самая жизнь, которую мы имеем чрез Духа, даруется чрез Сына от Отца.
20. Посему если малым почитают (это) даром сии ненавистники и враги своей жизни, и потому позволяют себе бесчестить подающего сию благодать, то пусть знают, что не одному Лицу они выказывают неблагодарность, но чрез Святаго Духа простирают хулу на Святую Троицу. Ибо как благодать, изливаясь на достойных, источается нераздельно от Отца чрез Сына и Духа, так и хула, также преемственно распространяясь, от Сына переходит на Бога всяческих. Ибо если чрез отвержение (посланного) человека отвергается пославший, каково бы ни было расстояние между человеком и пославшим, то, кто скажет, какое осуждение грозит дерзающим против Духа! Потому, быть может, и возвещено Законоположником осуждение без прощения против такой хулы (Мф. 12:32), что в ней хульником преднамеренно оскорбляется вместе все блаженное и Божеское естество. Ибо как благочестиво приявший Духа знает в Духе славу Единородного, а видящий Сына знает образ Беспредельного и чрез этот образ напечатлевает в познании своем первообраз, так точно и презритель Духа, когда дерзает восставать против славы Его, по той же последовательности (понятий) простирает хулу на Отца чрез Сына. Итак, имеющим ум должно страшиться, чтобы не покуситься на такую дерзость, конец которой есть совершенная погибель дерзкого, но сколько есть силы возвышать Дух словом, возвышать же и прежде слова в мысли, ибо невозможно, чтобы слово не возвышалось вместе с мыслью. И даже когда достигнешь до верха человеческой силы, до высоты и величия понятий, каких только может достигнуть человеческий ум, то и тогда думай, что все это ниже высочайшего достоинства, по сказанному в псалмопении: только после того, как вознесете Господа Бога нашего, тогда «покланяйтеся подножию ногу Его»; причина же необъятного достоинства не иная, говорит, как та, что Он свят есть (Пс. 98:5).
21. Итак, если всякая высота человеческой силы ниже величия Поклоняемого (ибо это дает разуметь Писание чрез подножие ног), то как глупы думающие, что имеют такую силу в самих себе, что от них зависит определять по достоинству честь высшему всякой чести естеству и посему почитать Духа Святаго недостойным некоторых придуманных знаков чествования, как будто их сила может дать больше, чем сколько вмещает достоинство Духа! О как жалко и несчастно безумие их! Не разумеют, что такое они сами, говорящие это, и что Дух Святый, Которому надмеваясь они противопоставляют себя! Кто скажет этим людям, что человек есть дух исходящий и невозвращающийся, что в утробе матерней чрез нечистое зачатие они водворяются и в нечистую землю все разрешаются, что получили жизнь, которая сравнивается с травою (Пс. 102:14), что, расцветши ненадолго в житейской лести, опять иссыхают, и цвет их опадая исчезает: что они были ничем прежде рождения, во что перейдут, точно не знают, потому что душа, пока она пребывает в плоти, не знает собственного жребия! Таковы люди!
22. Дух же Святый, во–первых, свят по естеству, так же как Отец По естеству свят, равно как и Единородный. Таков же Дух Святый и по животворности, и по нетлению, и неизменности. Он вечен, праведен, мудр, прав, владычествен, благ, силен, Дарователь всех благ и прежде всего самой жизни. Он есть всюду сущий и каждому присущий, и наполняет землю, и на небе пребывает, изливается в премирных силах, все наполняет по достоинству каждого, и сам пребывает полным. Он есть со всеми достойными и не отделяется от Святой Троицы. Он всегда испытует глубины Божий, всегда приемлет от Сына, и посылается, и не отделяется, и прославляется, и имеет славу, ибо Дающий другому славу, очевидно, должен иметь преизбыточествующую славу. Иначе как прославит тот, кто непричастен славе? Если бы Он не был некоторым светом, то как бы являл благодать света?
Точно так же не явит и прославляющей силы, кто не есть сам слава, и честь, и величие, и велелепие. Итак, Дух прославляет Отца и Сына. Но не ложен сказавший: «прославляющыя Мя прославлю» (1 Цар. 2:30). «Аз прославих Тя», говорит Отцу Господь, и опять: «прослави Мя Ты, Отче, у Тебе Самаго славою, юже имех у Тебе прежде мир не бысть» (Ин. 17:4–5). Божественный глас отвечает: «и прославих, и паки прославлю» (Ин. 12:28). Видишь ли круг славы в преемственной передаче ее подобными? Сын прославляется Духом, Сыном прославляется Отец, и, обратно, Сын имеет славу от Отца, и Единородный бывает славою Духа, ибо чем прославится Отец, как не истинной славою Единородного? В чем опять прославится Сын, как не в величии Духа? Так и опять наше слово, делая обратный круг, прославляет Сына чрез Духа, а чрез Сына — Отца.
23. Итак, если таково величие Духа, и если все, что ни есть хорошего или благого от Отца чрез Единородного, совершается в действующем вся во всех Духе, то для чего наши противники сами себя делают врагами собственной жизни? Зачем отчуждаются от надежды спасаемых? Зачем отсекают себя от соединения с Богом? Ибо как прилепится кто–либо ко Господу, если Дух Святый не совершит единения нашего с Ним? Зачем препираются с нами о служении и поклонении? Зачем подвергают насмешке имя служения относительно Божеского и не имеющего ни в чем нужды естества, как будто не себе самим делают добро в прошениях о спасении, но оказывают Богу некоторую честь, если захотят спастись? Твоя польза моление просящего, а не честь дарующему — (просимое). Итак, зачем как дарующий (нечто) приступаешь к благодетелю или, лучше сказать, и благодетелем не удостаиваешь именовать Подателя благ, но, пользуясь жизнью, не чествуешь Животворящего и, ища освящения, презираешь Уделяющего благодать освящения, и, не отрицая, что Он имеет силу давать блага, почитаешь недостойным моления, не рассудив и того, во сколько раз дающий благо выше, чем тот, у кого просят его. Ибо прошение не доказывает еще вполне величия того, у кого просят; возможно что–либо просить и у неимеющего, это зависит от произвола просящего. А дарующий какое–либо благо дает несомненное доказательство присущей ему силы. Итак, почему же ты, приписывая Ему большее, то есть силу подавать все, что ни есть хорошего, лишаешь моления как чего–то великого; хотя часто, как сказано, бывает и то, что по самообольщению просящего молят и тех, кои ни над чем не имеют власти. И от идолов рабы суетности просят того, что по мысли им, но прошение от сего не прибавляет какой–либо славы идолам; и они по самообольщению, держась их в ожидании получить нечто из того, чего надеются, не перестают просить. А ты, убежденный, каких и сколь великих благ дарователь Дух Святый, презираешь моление и прибегаешь к закону, который повелевает Господу Богу поклоняться и тому Единому служить (Втор. 6:13)! Но скажи мне, как ему Единому будешь служить, отделив Его от единения с Единородным и Духом? Это будет поклонение иудейское.
24. Но скажешь: представляя в мысли Отца, с этим названием объемлю вместе и Сына. Но приемля мыслью Сына, скажи мне, не приемлешь ли вместе и Духа Святаго? Не можешь противоречить. Ибо как исповедаешь Его, если не Духом Святым? Отделяется ли когда–либо от Сына Дух так, чтобы при поклонении Отцу не включалось вместе и поклонение Сыну и Духу? Что такое, по их мнению, самое поклонение, которое, как бы отборный какой–то дар принося Богу над всем и даже простирая сию честь до Единородного, не удостаивают сего дара Духа? Ибо человеческий обычай называет поклонением преклонение подвластных до земли, которым выражают приветствие сильнейшим. Так известно, что и патриарх Иаков, умилостивляя гнев брата, при встрече с ним выразил смиренномудренное уничижение таким видом поклонения, ибо «поклонися», говорит (Писание), «до земли трижды» (Быт. 33:3). И братья Иосифа, пока и сами его не узнавали, и он притворялся не знающим их, по причине превосходства достоинства почтили класть поклонением. Поклоняется и великий Авраам хеттеям, пришлец туземцам, показав, думаю, тем, что делал, сколько природные жители могущественнее пришельцев. И много подобного можно привести как из древних повествований, так и из примеров настоящей жизни. Такое ли и они разумеют поклонение? И как не смешно думать, что не должно удостаивать Духа Святаго даже и того, чего удостоил Патриарх и хананеев? Или думают, что кроме этого есть другое какое–либо поклонение, так что одно приличествует людям, а другое высшему естеству? Как же они совершенно отрицают поклонение Духу, не даруя ему и такого, какое воздается людям?
25. И какой же образ поклонения почитают они в особенности приличным Богу? Выражаемый словами или совершаемый телодвижением? У людей обычен тот и другой, ибо и слова произносятся людьми, и совершаются поклонения. Итак, что предпочтительнее по отношению к Богу? Всякому, хотя сколько–нибудь имеющему рассудка, ясно, что человеческое естество не имеет никакого дара, достойного Бога, ибо Творец наш благих наших не требует (Пс. 15:2). Мы же, люди, те выражения почтения и любви, которые оказываем друг другу, показывая себя смиреннее друг друга чрез признание превосходства ближнего, переносим в служение превосходнейшему Естеству, принося в дар высшему всякой чести Естеству то, что считается почетным у нас. И посему люди, приходя к царям или властителям, если хотят достигнуть чего–нибудь для себя у властительствующих, не простую просьбу приносят державным, но чтобы больше склонить к милосердию и благоволению к себе, смиряются на словах, поклоняются телом, касаются колен, падают на землю, и всячески возбуждая жалость тем, что делают, вызывают участие к своему прошению…
Посему узнавшие истинное Владычество, которым управляется все сущее… о том, чего бы им желалось. Смиренные душою по причине совершающегося в мире сем… А высокие по разумению вечных и неизреченных надежд, поелику не умеют, как просить, да и человеческое естество не может выказать какой–либо чести, соответственной велелепию славы, переносят установленное между людьми служение к почитанию Божества. И это поклонение есть с мольбою и смирением возносимое прошение о чем–либо желаемом. Посему и Даниил преклоняет пред Господом колена, прося человеколюбия к пленному народу (Дан. 9:3–9). И о Том, Кто понес наши немощи и за нас молился по причине человечества, которое восприял, Евангелие повествует, что Он пал на лице во время молитвы и в таком виде творил молитву (Мф. 26:39), узаконяя тем, думаю, человеку не быть дерзким во время прошения, но все направлять к умилостивлению, поелику Господь «гордым противится, смиренным же дает благодать» (Иак. 4:6; Притч. 3:34), и в другом месте: возносящий себя «смирится» (Мф. 23:12). Итак, если поклонение есть как бы некоторое моление, содействующее достижению цели прошения, а прошение обращается к Господу силы, то какой смысл нового законоположения, чтобы (ни) от Дающего не просить, ни пред Начальствующим не преклоняться, ни Владычествующему не служить?..
Опровержение мнений Аполлинария (антиррик)
1. Хорошим бы началом для нашего слова мог быть глас Го повелевающий беречься «лживых пророк, иже приходят», говорит, «к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы. От плод их познаете их» (Мф. 7:15–16). Итак, если плод различает и истинную овцу, и губителя овец, который в кротком виде без опасения проникает в среду стада и (здесь) обнаруживает прикрытую кротостью вражескую пасть; то должно обращать внимание на плоды как добрые, так и худые, посредством которых разоблачается обманчивость внешнего вида. Ибо, говорит, «от плод их познаете их». По моему мнению, добрый плод всякого учения есть приращение спасаемых в Церкви, а гибельный и пагубный — отторжение состоящих в оной. Итак, если кто словом учения увеличит стад и во все стороны дома распространит виноградник, и насадит вокруг Господней трапезы заблуждающихся, как бы дикую маслину претворив в новонасаждение масличное; кто в сладкий и пригодный для питья поток учения ввергнет таинственные жезлы, чрез которые размножаются стада, так чтобы стяжание Лавана уменьшилось, а часть Иакова увеличилась и умножилась значительным приплодом, — если такого рода покажет кто плод учения (ибо плод, как сказано, есть приращение истины), то он есть истинно пророк, пророчествующий духом по Божественному намерению. А если кто–либо исторгает ветви винограда, опустошает Божественную трапезу, вырывая с корнем растения, питает злые замыслы против духовного водохранилища, так чтобы овцы уже не зачинали по жезлам патриарха и стадо не умножалось значительным приплодом, но отдалялось бы от питательного пастбища, то есть отеческих преданий, и искало пристанища вне ограды и рассеивалось по чужим пастбищам, то если таков будет плод учения, явственно окажется волчий вид, скрытый под кожей овцы.
2. Итак, исследуем, что произрастило нам учение Аполлинария сирийца: прибавление стад или уменьшение, собрание рассеянных или рассеяние соединенных, защиту или извращение отеческих догматов. Посему если к лучшему направлено старание вышеупомянутого, то он, конечно, овца, а не волк, если же напротив, то «внемлите же от лживых пророк» (Мф. 7:15), говорит Господь. Да не скроются уста, острыми зубами нововводительства вооруженные на вред и погибель приближающегося к ним тела и терзающие здравое тело Церкви Божией. А чтобы сказанное не показалось злословием, мы предложим одно из распространенных его слов, надписание которого таково: «Доказательство божественного бытия во плоти (σαρκωσις) по подобию человека». Кто тщательно раскроет смысл надписания, тот, может быть, не будет иметь нужды в самом сочинении для обличения нелепости его учения. «Доказательство», говорит, «божественного бытия во плоти по подобию человека». Хорошо в обличение этого нового изобретения имен предложить Божественные слова. Писание говорит: «Слово плоть бысть» (Ин. 1:14), и: слава вселилась в «землю нашу» (Пс. 84:10), и: «Бог явися во плоти» (1 Тим. 3:16), дабы каждым из сих изречений мы научились, что непреложное, всегда неизменное по существу Божество является в пременяемом и изменяемом естестве, чтобы собственной неизменностью уврачевать нашу изменяемость ко злу. А он говорит, что не Бог явился во плоти, или, что то же, не Слово стало плотью, в подобии и образе человека (Флп. 2:7) чрез восприятие лица раба, поживши жизнью людей; но выдумывает для Слова какое–то божественное бытие во плоти, не знаю, что означая этим речением, — превращение ли Божества, из простого и несложного своего естества изменившегося в плотяную вещественность, или допуская, что Божеская сущность пребывает сама в себе, объявляет другое какое–то божественное бытие во плоти, среднее между человеческим и Божеским естеством, которое ни человек, ни Бог, а как бы причастно тому и другому; он в какой мере есть бытие во плоти, имеет сродство с человечеством, а в какой мере есть Божественное (бытие во плоти), выше, чем человеческое. Но Богом оно быть не может, ибо Божество просто по естеству и несложно, а что не имеет простоты, тому, конечно, равным образом чужда и Божественность. Опять, не есть также оно и человек, ибо тот, кто состоит из разумной души и тела, называется человеком, а к тому, в ком не разумеются соединенными вместе то и другое, как может быть применено название человека? Ибо говорим: тело человека и душа человека, пока умопредставляем каждую из сих (частей) саму по себе, а соединение сих обоих и есть, и называется человек.
3. Итак, что такое божественное бытие во плоти, которое не есть ни человек, ни Бог и которое изображает надписание слова, сего нельзя узнать из (предыдущего) исследования. «Доказательство», говорит, «божественного бытия во плоти по подобию человека». Опять, что значит: «по подобию человека?». Что божественное бытие во плоти совершается подобно человеческому? Когда это? В последние дни? Но где тайна девства? Ибо не по подобию человека плотью становится Господь, как говорит сочинитель, но Божественной силой и Духом Святым, как говорит Евангелие. Прежде веков? Но как уподобляется сущее несущему? Человек последний по творению, Господь же Царь прежде веков. Итак, по подобию какого человека бывает оное божественное бытие во плоти, если оно предвечно? По подобию Адама? Но еще не было его. По подобию другого какого–либо человека? Но кто сей мыслимый прежде Адама человек, чтобы подобно предлежащему образу совершилось бытие во плоти Бога? Ибо подобное существующему, конечно, не бывает подобно несуществующему. Таким образом, у него в слове являются две нелепости: или создание оказывается старейшим создавшего, или сущее во плоти Божество уподобляется несущему; ибо Божество было от начала, а Адама не было. Итак, если Божеское естество имеет плоть по подобию человека, то божественное бытие во плоти уподобляется несущему; а что уподобляется несущему и само, конечно, не существует. Но Аполлинарий говорит, что оное бытие во плоти было иным каким–то способом, отличным от человеческого. Но какое подобие между инородными (предметами)? Итак, если нельзя допустить ни того, чтобы божественное бытие во плоти совершилось по подобию человека прежде веков, ни того, чтобы (сие) воплощение произошло по подобию человека в последние времена, когда по домостроительству Божию о человеке Бог явился во плоти (ибо такой мысли не допускает тайна рождения от Девы), то сделал ли он надписание своего сочинения в том или другом смысле, оно (одинаково) нелепо. Итак, думаю, что сказанным для внимательных слушателей достаточно объяснено, что надписание не обдумано и не опирается ни на каком твердом рассуждении.
4. Время предложить исследованию и самое сочинение, обозначаемое сим надписанием. Передам же, во–первых, собственными словами, вкратце изложив смысл, те места его сочинения, в которых нет опасности пропустить что–либо без исследования. «Только, — говорит, — одну благочестивую веру должно считать благом, ибо вера без исследования и Еве не принесла пользы, так что и христианская должна быть исследованной, чтобы где–нибудь незаметно не совпала она с мнениями еллинов или иудеев». Весьма много распространившись об этом в начале, он продолжает речь, говоря, что у неверных и еретиков распространено мнение, что Богу невозможно быть человеком и страдать подобно человеку; такое мнение под видом веры вводится еретиками, которые говорят, что Христос чрез рождение от жены и чрез страдание стал божественным (ενθεον) человеком. Какие известные ему еретики, которые называют Христа божественным человеком, про то пусть знает он сам и его ученики, мы же, живши во многих местах и тщательно беседовавши как с общниками (нашего) учение, так и с несогласными касательно вопросов о Слове, еще не слыхали никого, кто бы произнес такое выражение о тайне, что Христос был божественным человеком. Итак, намеревающемуся исправлять ложные понятия о догмате и вводить вместо них более благочестивые должно было не выдумывать себе то, чего нет, и сражаться с несуществующим, но вооружаться против того, что действительно говорится противниками. Ибо и знающие дело врачи не противопоставляют своего искусства несуществующим страданиям, но прилагают знание к болезни, уже обнаружившейся. Итак, или пусть укажет, кто сказал, что не Бог явился во плоти, но Христос стал божественным человеком, тогда и сочинение его, как не напрасно написанное, мы примем, или, пока не отыскивается такая болезнь, все признают, что напрасно ввязываться в борьбу с тем, чего нет.
5. Но не без цели он в своем сочинении делает вид, будто ему необходимо опровергать такое мнение; чтобы проложить некоторый путь и приступить последовательно к раскрытию собственного учения, он предположил несказанное как сказанное, дабы, представляясь опровергающим оное при помощи притворного противоречия, доказать, что Божество смертно. Ибо вся цель сочинения у него к тому направлена, чтобы доказать, что Божество Единородного Сына смертно и что прияло в нем страдание не человечество, но бесстрастное и неизменяемое естество изменилось для участия в страдании. Отсюда, что полезное для него имеет в виду его сочинение, нетрудно знать тем, кто проник его тайны; а следствия отсюда, ясные и для младенцев, такого рода, что их не высказали бы и самые безбожные из еллинов. Ибо если умерло самое Божество Единородного, то вместе с ним умерла, конечно, и жизнь, и истина, и правда, и благость, и свет, и сила, ибо всем этим по различным отношениям Единородный Бог и есть, и называется. Но поелику Он прост, неделим и несложен, и все, что ни сказуется о Нем, есть всецело, а не частью то и частью другое, так что если есть в нем одно из сих свойств, разумеются и все другие, и если нет одного, то вместе с тем уничтожаются и все; то если смертью уничтожено Божество, вместе уничтожено смертью и все, что умопредставляется соединенным с Его Божеством. Но Христос не просто сила, но сила Божия и премудрость Божия. Итак, когда все это с Божественностью Сына чрез смерть было уничтожено, то не было у Отца ни премудрости Божией, ни силы, ни жизни, ни чего другого, что именуется в Нем совершенством. Ибо все сие принадлежит Богу, и все Отчее, как мы веруем, находится в Сыне; так что все (сии совершенства) суть во Отце, если есть Сын, если же нет Сына, то, конечно, нет и их, потому что все Отчее мы исповедуем имеющим бытие в Сыне. Итак, если смертью сила уничтожена, а Христос есть сила Божия, то какая опять из небытия воззвана сила, когда сущая уничтожена смертью, а другой не осталось? Ибо и противниками нашими признается, что сила Отца имеет бытие в Сыне. Итак, если сила едина, а она, подпав владычеству смерти, обратилась в ничтожество во время домостроительства страдания, то какая вымышляется им другая сила, воззывающая ту силу от смерти? Если скажут, что одна умерла, а другая осталась бессмертной, то уже не станут признавать, что сила Отца имеет бытие в Сыне, и таким образом последовательно отвергнут как неистинные слова самого Господа, которые свидетельствуют, что все, принадлежащее Отцу, принадлежит Сыну (Ин. 16:15; 17:10). Ибо имеющий все, что имеет Отец, конечно, имеет в себе и бессмертие Отца; а бессмертие, пока оно то, что называется (этим словом), не допускает смешения и общения со смертью. Итак, если говорят, что Божественность Сына смертна, то утверждают, что Он не имеет в себе бессмертия Отчего. Но истину говорит Глаголющий, что имеет в Себе всего Отца; следовательно, ложно говорит утверждающий, что смертен тот, в котором усматривается вся вечность Отца. Итак, поелику, по мнению благочестивых, едина сила Отца и Сына, ибо в Отце мы видим Сына и в Сыне Отца, то ясно доказывается, что подверженное страданию по естеству принимает смерть, а недоступное страданию в страстном действовало бесстрастно.
6. Но перейдем к следующему в его сочинении. Опять буду говорить его словами, вкратце излагая содержание их. Говорит, что «именовать Христа Божественным человеком противно апостольскому учению, чуждо и (определениям) Соборов, и что начало такому превратному умствованию положили Павел, и Фотин, и Маркелл». Потом, по примеру сильных борцов, как бы ближе схватившись с своим собеседником и нашедши настоящего виновника сего речения, говорит так: «как называешь человеком от земли Того, о Котором засвидетельствовано, что Он есть человек нисшедший с небеси и который назван Сыном человеческим»? Опять и в этих (словах) утверждение прежде принятого есть начало другой нелепости. Ибо чтобы доказать, что умер Бог, совершенно не допускает никаких умозрений о земном Его естестве. Поелику же претерпевать смерть по видимости вполне свойственно земле, то говорит: «человек, нисшедший с неба, не есть человек от земли. Однако он человек, хотя и с неба снисшел, ибо Господь не отрицает такого названия в Евангелиях». Как в сказанном сохраняет он последовательность? Если человек не от земли, но с неба к нам снисходит, то как снисходящий с неба называется Сыном человеческим? Конечно, он должен допустить, что как на земле представлению о сынах предшествует представление об отцах, так и человек приходящий, по его мнению, с неба, поелику называется сыном человеческим, не без причины именуется так по отчеству; но что есть у него на небе умопредставляемый пред ним по–человечески отец — другой человек. Ибо если он опирается на сем изречении: «никтоже взыде на небо, токмо сшедый с небесе, Сын человеческий» (Ин. 3:13), и посему отрешает его от сродства с земным человеком, называя (однако ж) приходящего с неба Сыном человеческим; то, конечно, допускает для того, кто снисшел к нам, некоторого другого такого же отца на небе, и в небесной жизни предполагаются (у него) племена людей и народы и все, что есть в настоящей жизни. Итак, если пришедший с неба есть Сын человеческий, а родившийся от Марии из семени Давидова по плоти именуется Сыном человеческим так же, как свыше снисшедший, то ложно, по их мнению, он называется Сыном Божиим, так как ни небесный, ни земной (человек) не имеют ничего общего с Божеством. Но сводя сказанное им в одно главное положение, так заключает речь: «если же и с неба Сын человеческий, и от жены Сын Божий, то как не тот же самый Бог и человек»? Что одного и того же должно признавать и человеком, и Богом, это и я говорю, и это признает каждый чтитель правой веры, хотя и не в том смысле, как сочинитель, ибо ни Божественное не есть земное, ни небесное — человеческое, как он думает; но свыше сила Вышнего чрез Святаго Духа вселилась, то есть вообразилась в человеческом естестве; от непорочной же Девы присоединилась часть плотская, и таким образом рожденное в ней наименовано Сыном Вышнего; так что Божия сила усвоила (плоти) сродство с Вышним, а плоть (Божеству) сродство с человеком.
7. «Но он есть Бог, — говорит, — по духу, бывшему во плоти, а человек по плоти, восприятой от Бога». Опять, что такое бытие во плоти духа вне единения с нашей плотью? Откуда же восприят человек, как не от первого человека, о первом происхождении которого из земли, а не с неба известно нам от повествующего о родословии его Моисея? Ибо Бог «персть (взем) от земли; созда (Бог) человека» (Быт. 2:7). А что состоялось другое сотворение человека с неба, о том ни от кого нам неизвестно. Потом он присовокупляет к сказанному: «тайна во плоти явилась», это он говорит хорошо, это наше слово. Затем: «Слово стало плотью по единению», и сии речения сказаны здраво. Ибо кто говорит, что Слово соединилось с плотью, тот выражает не иное что, как сочетание (συνδρομην) двух (естеств). «Но не бездушна, — говорит, — плоть, ибо говорится, что она ратует против духа и воюет против закона ума» О крайнее неразумие! Облекает Бога небездушной плотью. Итак, спросим: если Бог Слово восприял одушевленную плоть, как говорит сочинитель, а одушевленными называем и тела бессловесных, то приписывающий Слову человеческую плоть и притом одушевленную, соединяет с Ним не иное что, как всецелого человека; ибо кроме разумного естества в человеческой душе нет никакой другой особенности, потому что все другое у нас общее с бессловесными. Способность вожделений, сила страстности, желание пищи, насыщение, сон, пищеварение, изменение, извержение ненужного — все одинаково и у нас, и у бессловесных совершается посредством некоторой душевной силы. Итак, говорящий, что восприятое (Словом) есть человек, и признавший его одушевленным, что иное сделал, как не приписал Ему и разумную силу, которая свойственна человеческой душе, (как это видно) из самих апостольских речений, которые он предложил нам. Ибо сказавший, что «мудрование плотское, вражда на Бога: закону бо Божию не покоряется» (Рим. 8:7), говорит об очевидных особенностях избирающей и разумной способностей; ибо повиноваться или противиться закону свойственно произволению; и самое имя «мудрование» (φρονημα) никто не отделит от действия мышления; а что «помышлять» (φρωνειν) то же, что понимать, этому, конечно, никто не будет противоречить даже из младенцев; также противувоюющий и пленяющий (Рим. 7:23) как может быть чужд действия разумения? Ибо что произвол злых стремится к худому, это не доказывает, что у них нет ума, но что (хотя) они далеки от хорошего разумения, однако же мыслят; поелику и о том змие, которого Писание изображает нам начальником и изобретателем зла, боговдохновенное слово говорит, что он не неразумен, когда приписывает ему мудрость большую, чем у других (Быт. 3:1).
8. Итак, те самые предложенные нам изречения, которыми он думает подтвердить свои слова, обличают нечестие его учения. Ибо не в этих одних изречениях Апостол противопоставляет плоть духу, то есть злое произволение более правильной жизни, но и коринфянам, порицая их преданность страстям, говорит, что «плотстии есте» (1 Кор. 3:3). Итак, в то время, в которое к ним обращено было слово, по тричастному разделению людей Аполлинарием люди были не причастны действию по уму? Или вообще они названы Павлом плотскими по безмерному расположению к плоти, получив такое название от того, чего в них был избыток? И на такой смысл указывает связь речи в написанном: «идеже бо», говорит, «в вас зависти и рвения и распри, не плотстии ли есте» (1 Кор. 3:3). Завидовать же и спорить есть (принадлежность) действия по уму. Следующее же за сим в сочинении (Аполлинария) содержит основанное на многих свидетельствах доказательство того, что человек состоит из трех частей: из плоти, души и ума, что недалеко и от нашего мнения; ибо одно и то же: сказать ли, что человек состоит из разумной души и тела, или, считая ум особенно сам по себе, то, что умопредставляем в человеке, разделять на три части, хотя такое деление и дает еретикам много поводов к заблуждению касательно этого (предмета). Ибо если кто способность разумения станет считать отдельной, тот может сказать, что и способность раздражения, и опять способность вожделения также отдельны. А может быть, кто–нибудь и прочие движения души, исчисляя по такому понятию (о них), вместо троечастности человека станет доказывать, что он есть некоторое многочастное и многосложное (существо).
9. Но оставим это, чтобы, останавливаясь на частностях, не распространить нам безмерно опровержение, а перейдем к следующему. Утвердив при помощи многих рассуждений триестественность, или тричастность, или чем бы кто ни захотел назвать человеческую сложность; он упоминает о некоторых определениях Соборов, собранных против Павла Самосатского, где сказано, что Господь явился как Бог с неба (αποτεθεωσθαι), также о символе, провозглашенном в Никее, представляя изречение оного, буквально высказанное таким образом: «с небеси сшедшего, и воплотившегося, и вочеловечившегося». И этими словами как бы подготовив то, что намерен высказать, он обнаруживает смысл своего намерения, и как бы опираясь уже на доказанное, так буквально говорит: «а вместо духа, то есть ума, имея Бога, Христос с душой и телом справедливо называется человеком с небеси». Что общего имеет сказанное с вышеприведенным? Где это постановил Собор против Самосатского? Но оставлю то, что относится к древности нашего учение. Чему учит вера словами Никейских догматов: «сшедшего с небеси и воплотившегося» как не тому, чтобы не разуметь о плоти, что она прежде сошествия, но признавать ее последующей за сошествием? Эти речения: «воплотившегося и вочеловечившегося» проповедуются всеми в церквах, и это наше или, лучше, Церкви слово. Где же находится в сказанном, что вместо духа, то есть ума, имея Бога, Христос с душой и телом называется человеком с неба? Станешь ли рассматривать в этом выражении просто букву или смысл сказанного: ни в том, ни в другом не найдется того, что им сказано. Ибо те выражения настолько отстоят от выражения Аполлинария, насколько отстоят, говоря словами псалма, «востоцы от запад» (Пс. 102:12). А смысл сказанного им, что общего представляет с тем, который выражается (в символе)? Аполлинарий говорит, что воплотившийся в человеческой плоти Христос вместо духа, то есть ума, имеет в себе Бога. (Говорит же это повелевающий не называть Христа божественным (ενθεον) человеком, тогда как сам прежде всего утверждает, что Он имеет в себе Бога как иного в ином). Глас же Собора говорит: «сшедшего с неба». Итак, пусть уразумеет (этот) великий и беспристрастный (муж) сошествие к нам с небес; ибо мы нисколько не разногласим относительно этого понятия, хотя разум здесь открывает и высший смысл, именно, что здесь говорится не о местном нисхождении Божества, всюду сущего и все содержащего, но означается снисхождение к уничиженности нашего естества. Но в каком бы смысле ни пожелал кто принять сошествие, слово Собора говорит далее: «воплотившегося»; хорошо и это сказано, ибо как соответственнее оно истолковало бы рождение от жены? Ибо Он родился от жены не как есть Бог сам по себе. Сущий прежде творения чрез рождение по плоти не восприемлет самого бытия, но Святым Духом предуготовив вход своей силе и нисколько не имея нужды в вещественной помощи для устроения собственного жилища, по сказанному о премудрости, Он Сам «созда Себе дом» (Притч. 9:1), образовав в человека персть от Девы, персть, чрез которую соединился с человечеством.
10. Итак, где в этих словах (символа) говорится то, что кажется Аполлинарию: «вместо духа, то есть ума, имеющий Бога Христос с душой и телом справедливо называется человеком с неба»? Если позволительно ему произвольно приводить в свою пользу божественные изречения и подобно толкователям снов применять к этому писанию тот смысл, какой захочет, то пусть придает божественным словам такой или другой смысл. Если же, как говорит Апостол, «бабиих басней» (1 Тим. 4:7) и «скверных суесловий» (1 Тим. 6:20) всячески должно отрицаться, то никак не должно дозволять ему согласовать между собою различное и соединять несходное. Но в том самом, чем он вооружается против сказанного, он является скорее споборником нам самим в опровержении его учение, ибо говорит, что и Павел называет первого Адама душой (1 Кор. 15:45), соединенной с телом; это он говорит хорошо и за истину. Итак, первый человек «в душу живу», упомянутый Павлом, имел какую–то неразумную душу? Однако история свидетельствует о немалом в нем даре разумения, ибо Богом приведены были к нему животные, а он был виновником изобретения имен, придумывая соответственное и приличное каждому (название). Но и преслушание, и склонность к недолжному, и стыд о сделанном, и умение при обвинениях находить оправдание — все это служит доказательством деятельности ума. Но для чего же теперь умолчано Павлом о разумности в душе Адама? Не потому ли, очевидно, что вместе с частью поименовывается и остальное, как в словах: «к тебе всяка плоть приидет» (Пс. 64:3) чрез плоть Давид означает все человечество? И Иаков, переселившийся к египтянам «в седмидесятих и пяти душах» (Втор. 10:22), не изображается в Писании ни лишенным ума, ни бесплотным в это время.
11. Но сочинитель говорит, что «второй человек с неба называется духовным (1 Кор. 15:45), и это означает, что человек, соединенный с Богом, не имеет ума». Но обличение нелепости готово в тех самых словах, кои он предложил. Ибо сказавший: «яков небесный, тацы же и небеснии» (1 Кор. 15:48), далеко отстраняет нас от такого мнения. Потому что если уверовавшие в грядущего с небес и сами Павлом называются небесными, перенесшими, как говорит, жительство на небеса (Флп. 3:20), и если каков оный небесный, таковы и сии небесные, говорит Апостол; а никто из приявших веру не лишен ума, то совершенно необходимо это сравнительное уподобление почитать доказательством того, что и в Нем по подобию людей есть ум. Ибо «яков», говорит, «небесный, тацы же и небеснии»; так что они необходимо должны признать, что или во всех есть ум, или ни в ком. Ибо как особенности перстного усматриваются в тех, кои произошли от него, так необходимо, по изречению Апостола, чтобы «искушена по всяческим» нашей жизни, «по подобию, разве греха» (Евр. 4:15) (ум же не есть грех), имел свойства всего нашего естества. Таким образом, апостольское слово, что мы таковы, как Он, тогда будет истинно, когда будет признано, что и Он стал таким, как мы, дабы чрез то, что соделался, как мы, соделать нас, как Он.
12. Опять припомним сказанное Аполлинарием: «почему и первого Адама Павел называет душой, существующей с телом, а не без тела, и дающей название целому (человеку), хотя и сама по себе по соединению с духом она также называется душой». Говоря это, он признает, что по соединению именем души называются три (части человека), как будто бы то же понятие души заключало в себе значение и тела, и духа. «Но последнего, — говорит, — Павел называет духом животворящим (1 Кор. 15:45)». Но как оному (первому человеку) дал название по той особенности, которая в нем избыточествовала пред прочими, то, конечно, та же причина имеет силу и относительно последнего. Если Адам называется душой, потому что согрешил, то человек, соединенный с Богом, наименовывается всецело духом, потому что греха «не сотвори, ниже обретеся лесть во устех его» (Ис. 53:9). Но он не принимает такого понимания, ибо говорит, что «оный от земли перстен, потому что в нем одушевлено тело, образованное из персти». Следовательно, ум, который он называет духом, не был дан Адаму вместе с образованием (его тела)? Итак, в чем у пего подобие с Богом? Что же (у него) происходит из Божественного вдуповения, если не верить, что это ум? «А сей, — говорит, — называется небесным, потому что воплотился Дух небесный». Какое Писание говорит это? Какому из святых приписывает такое выражение, что воплотился Дух? Не то мы слышим в Евангелии, не тому учит нас великий глас Апостола; Апостол проповедает, что «Слово плоть бысть» (Ин. 1:14), и евангельская история говорит, что Дух снисшел в виде голубя (Мф. 3:16); о воплощении же Духа не сказал никто из приявших духом тайны. Слава вселилась в земле нашей «и истина от земли возсия» (Пс. 84:10; 84:12), «Бог явися во плоти» (1 Тим. 3:16), «правда с Небесе приниче» (Пс. 84:13) и многое другое подобное (говорит Писание), Духа же воплотившегося не знает богодухновенное Писание. «И прежде существует, — говорит, — человек Христос, не так, как будто бы был кроме Него другой Дух, то есть Бог, но так, как бы Господь в естестве Бога человека был Дух Божественный». Это буквальные выражения сочинителя. Поелику же, как бы по недостатку способности писать вразумительно, мысль здесь не очень ясна, то прежде я разоблачу от мрака выражений находящийся в них смысл, а затем уже подвергну исследованию то, что им сказано.
13. «Прежде существует, — говорит, — человек Христос». Он разумеет вместе с Словом, сущим в начале, явившегося человека как существующего прежде явления (во плоти) и раскрывает эту мысль в том, что следует (дальше). Ибо говорит, что «не другой есть Дух кроме Него», утверждая чрез это, что самая Божественность Сына, есть от начала человек, что яснее показывается следующими далее словами, ибо говорит, что «Господь в естестве Бога человека был Дух Божественный». Он сделал Бога и человека одним естеством и поименовал соединение двух человеков. Итак, мысль сказанного та, что явившийся чрез плоть от Девы не только по вечности Божества, как все веруем, но и по самой плоти мыслится (имеющим бытие) прежде всего существующего. Ибо в доказательство своего мнения приводит вслед за сказанным (места Писания): «прежде даже Авраам не бысть, Аз есмь» (Ин. 8:58); слова Иоанна: «первее мене бе» (Ин. 1:15); «един Господь, Имже вся» (1 Кор. 8:6); «Той есть прежде всех» (Кол. 1:17) и некоторые слова Захарии, которые мы опустим как насильственно привлеченные к сей цели. Если бы утверждаемая им нелепость была сокрыта изворотом каких–либо мыслей, то хорошо было бы позаботиться мне об обличении сокрытого, но поелику он явно возглашает нечестие, то, не знаю, что больше могло бы выйти из наших слов. Если плоть предвечна, если «прежде Авраам не бысть», был (родившийся) от Девы, то следует, что Дева старее Нахора, следовательно, Мария прежде Адама. И что говорю? Как кажется, она старее и древнее самих веков, самого создания (всего) существующего. Ибо если воплотился от Девы, а плоть называется Иисусом; Апостол же свидетельствует, что Он есть прежде всего, то, как кажется, этот пресловутый муж ведет к той мысли, что и Марию должно почитать совечной Отцу. Но умалчиваю о крайней несообразности, до которой последовательно доходит нелепость его новословия. Проницательный может увидеть нелепость из последствий (его мнений), хотя бы мы и не обнаружили безобразия в букве (его сочинения).
14. Но пройдем мимо зловония сих мыслей, заметив только то, что если плоть предвечна, то ни Божество не истощилось, ни Сын не явился во образе Божием и не облекся в лицо раба, но чем был по естеству, тем явился ныне, не уничижив Себя. Да простит слову моему Слово, но о прочем умолчу. Если плоть прежде всего, то все произошло от слабости, а не от силы, «Духу бо бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41). Итак, вот до чего простирается у него нелепость! И кто из последовательного хода его мыслей не поймет, что следует отсюда! Ибо, конечно, в Том, Кто с плотью существует предвечно, он будет разуметь вместе с плотью и все ее свойства: утомление, печаль, слезы, жажду, сон, ощущение голода и другие еще большие несообразности. Поелику же «отроча родися нам» (Ис. 9:6), как говорит божественное слово, и пастыри обрели Господа в пеленах, и как говорит Лука: «Иисус преспеваше премудростию и возрастом» (Лк. 2:52) в возрастании, пока не пришел в меру совершенного человека, следуя естественному пути, то что скажут те, кои усматривают плоть от вечности — в каком возрасте тела был Он прежде век? Ибо в человеческой жизни прошел Он все возрасты. Отроком ли был человек оный, сущий прежде всякой твари, или младенцем, или юношей, или прямо в совершенном теле? Если скажут: отроком, то, конечно, должны представить и причину, почему в течение стольких веков не пришел Он в совершенный возраст. А если назовут возрастным, то да удостоят научить нас, каким образом в человеческом рождении сжимается он до младенческой малости? Где оставляет избыток тела? Каким образом уменьшается объем в малую окружность? Потом, как объем тела возвращает опять к собственной мере? Воспринимая ли то же тело, какое имел от начала, чрез постепенное приращение, или прилагая себе иное посредством питания? Но если скажут: то, какое имел от начала, то сим покажут, что питание было совершенно излишним, а если не отвергают, что Господь принимал пищу, то что скажут о плоти, оставленной на небе? Ибо по справедливости оставлена была большая часть (сей плоти) и взято из оной столько, сколько могло вместить чрево Девы. Конечно, и о ней будут повествовать нечто чудное и отсюда составят другие догматы, к которым необходимо приведет их последовательность нелепых басен.
15. Но опустим и это. А вот о чем каждый вправе спросить у допускающих учение о предвечном оном воплощении. Если думают, что плоть всегда была у Господа, то утверждают, что Бог был плоть, но всякая плоть оказывается упругой при прикосновении, а упругое вещественно и сложно; сложное же подвержено разрушению, отсюда, конечно, совершенно необходимо и Самого Его признавать вещественным и сложенным из разных частей и, естественно, подверженным разрушению. Ибо знаем, из чего составлено было тело Его, когда по–человечески жил между людьми; что и оно состояло из плоти, костей и крови, как и у других людей, заключаем из знаков гвоздей, из крови, пролившейся от удара копья, и из того, что неверовавшим, когда Он явился по воскресении, Господь сказал: «осяжите Мя и видите: яко дух плоти и кости не имагпь, яко же Мене видите имуща» (Лк. 24:39). Итак, если Божественное воплощение, как говорит Аполлинарий, имело начало не от Девы, но было и прежде Авраама, и прежде всякой твари, то, конечно, тело Его таким же было и всегда, каким являлось ученикам, — то есть твердым, упругим, составленным из плоти и костей. Итак, все это было всегда, и никакого нисхождении Его в уничижение не было; но что было сокровенным как Божественное по естеству, то явилось во время вочеловечения. Измыслил ли Арий или худший его Евномий к разрушению славы Единородного что–либо подобное тому, что представляет нам Аполлинарий в сем сочинении? Богом, воплощенным от вечности, каким–то составленным из костей, кожи, нервов, плоти и жира, сложенным из разных веществ, не имеющим в Себе ни простоты, ни несложности, (является у него) Слово, сущее в начале и у Бога, и Слово, само сущее Бог (Ин. 1:1–2); Который в последние дни посредством приобщения к уничи–женпости нашего естества соделался плотью по человеколюбию и, соединившись чрез оную с человеком, принял в Себя все наше естество, дабы чрез срастворение с Божеским (естеством) обожествилось человеческое и начатком оным освятился вместе весь состав нашего естества.
16. Думаю впрочем, что можно и не говорить о неправильном понимании им отдельных божественных изречений, которые он приводит в защиту своего учения. Так как это ясно само по себе, то излишне было бы удлинять наше исследование. Ибо во свидетельство того, что Слово всегда пребывает во плоти и крови, предлагает апостольское изречение, которое говорит, что чрез Него мы прияли «избавление кровию Его, и оставление прегрешений» (Еф. 1:7) плотью Его. Что слова сии указывают на другую мысль, думаю, не сомневается никто из имеющих ум. Ибо кто не знает той Божественной тайны, что Началовождь нашего спасения взыскует заблудшую овцу (Лк. 15:4)? Овца же оная есть мы люди, отторгнутые грехом от разумной сотни овец. И взимает на собственные рамена целую овцу, ибо не в части овцы последовало заблуждение, но поелику вся совратилась, то и возвращает всю. Не одну кожу носит, а то, что под ней, оставляет, как хочет Аполлинарий. Сию–то (овцу) на раменах Пастыря, то есть в Божестве Господа пребывающую, чрез восприятие делает единой с собою, желая чрез то взыскать и спасти погибшее. Когда же нашел искомое, взял найденное на себя; ибо овца двигалась не собственными, однажды уже заблудившимися ногами, но несена была Божеством. Посему–то видимое (в Нем) овца, то есть человек, следы же Его, как написано, не познаются (Пс. 76:20). Ибо носящий на Себе овцу не отпечатлел в Своей человеческой жизни ни единого следа греха или заблуждения; но какие следы Божий достойно было отпечатлеть в течение жизни, такие и явил, как–то: учения, исцеления, воскрешения мертвых и другие чудеса. Итак, взяв на Себя сию овцу, Пастырь стал едино с ней, посему и со стадами говорит голосом овцы. Ибо каким образом человеческая немощь могла бы вместить приражение Божеского гласа? Но человечески и, как бы так сказать, овчески разговаривает с нами: овцы Мои глас Мой слышат (Ин. 10:3; 10:16). Итак, Пастырь, взявший на Себя овцу и посредством нее говорящий нам, есть и овца, и Пастырь — овца в том, что восприято, а Пастырь в том, Кто восприял.
17. Поелику Пастырю доброму надлежало положить душу Свою за овец, дабы разрушить смерть собственной смертью, то Началовождь нашего спасения становится и тем, и другим — и священником, и агнцем в том, что способно приобщиться страданию, совершив смерть. Ибо как смерть есть не что иное, как разрешение души и тела, то соединивший в себе то и другое, то есть душу и тело, не отделяется ни от той, ни от другого. «Нераскаянна бо дарования» Божий (Рим. 11:29), как говорит Апостол. Но уделив Себя и телу, и душе, посредством души отверзает разбойнику рай, а посредством тела прекращает действие нетления; в том и состоит разрушение смерти, чтобы сделать бездейственным нетление, уничтожив оное в животворящем естестве. Ибо совершаемое чрез тело и душу делается благодеянием и даром для нашего естества всего вообще; и таким образом посредством воскресения соединяет все разъединенное Тот, Кто есть едино с обоими, Кто, как написано, собственной властью предал тело сердцу земли (Мф. 12:40), душу же положил «о себе» (Ин. 10:18). Когда Он говорит Отцу: «в руце Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46), а разбойнику: «в рай» (Лк. 23:43), то утверждает истину тем и другим; ибо оное Божественное пребывание, иначе раем называемое, надобно веровать, находится не в другом каком месте, как в многообъемлющей длани Отца, как говорит и Пророк, вещающий к горнему Иерусалиму слово от лица Господа; «на руках Моих написах стены твоя, и предо Мною еси присно» (Ис. 49:16). Таким–то образом Господь и смерти подвергается, и смерть не владычествует над Ним. Ибо сложное делится, а несложное не допускает разрушения, но при разделении сложного несложное естество пребывает и по отделении души от тела не отделяется ни от той, ни от другого. Доказательством служит действие, производящее, как сказано, в теле нетленность, в душе пребывание в раю. Простой и несложный не разделяется при разделении души и тела, но, напротив того, совершает единение их; собственной неразделимостью и разделенное приводит в единство; на сие–то и указывает сказавший, что Бог воскресил Его из мертвых (Кол. 2:12). Ибо относительно воскресения Господа нельзя думать, что Он, как Лазарь или другой кто–либо из оживленных, возвращается к жизни чуждой силою; но Единородный Бог Сам воскрешает соединенного с Ним человека, сперва отделив душу от тела, потом опять соединив оба, и таким образом происходит спасение естества (нашего) всего вообще, почему и называется Он начальником жизни (Деян. 3:15). Ибо Единородный Бог в (естестве), умершем за нас и восставшем, мир примирил с Собою (2 Кор. 5:19), всех нас, соделавшихся общипками Ему по плоти и крови, чрез сродную с нами кровь искупив, как бы каких военнопленных; на что указывает и апостольское изречение, в котором сказано: «что мы имамы избавление кровию Его, и оставление прегрешений» плотью Его (Еф. 1:7). Так говорим мы на основании (правильного) разумения представленных слов Апостола, а не так, как (толкует оные) Аполлинарий. Пусть способный рассудить оценит, что более благочестиво, то ли, как мы говорим, что Слава по домостроительству обитала на земле нашей, или, как он утверждает, что плоть не воспринята только Божеством для благодеяния (людям), но сосущественна и соестественна Ему.
18. Думаю, что никакой нет нужды исследовать, к тому или другому из сих мнений склоняется пророк Захария в своих загадочных речениях, то есть на Господа или на кого другого указывает смысл его слов. Он говорит: «Мечу, востани на пастыря моего и на мужа» соплеменника «моего» (Зах. 13:7). Мы думаем, что слово (Пророка) с угрозою воздвигает меч на несправедливо действующих в отношении к соплеменникам. Аполлинарий же на основании названия пастырь говорит, что меч воздвигается на Господа, не зная, что во многих местах Писания слово (Божие) называет пасущими и пастырями тех, коим вверено начальство. Что же касается до мест из Послания к Евреям, которые он насильственно привлекает к той же цели, то в его доказательствах так ясно выказывается нелепость, что оную легко уразуметь каждому, кто обладает хоть малой долей разумения. Поелику написано, что Бог «в последок дний сих глагола нам в Сыне. Многочастне и многообразие древле Бог глаголавый отцем во пророцех» (Евр. 1:2; 1:1), то это, говорит, служит доказательством, что человеческое естество явившегося нам Бога предвечно. Ибо, изъясняя Апостола, буквально говорит так: «из сего явствует, что оный человек, глаголавый нам о делах Отца, есть Бог, Творец веков, сияние славы, образ Ипостаси Его, который собственным духом есть Бог, а не имеет в Себе Бога как иного, отличного от Себя, но Сам Собою, то есть плотью очистил мир от грехов». Так буквально говорит Аполлинарий, и мы ничего не изменили в сказанном им. Посему если человек «глаголавый» есть Творец веков, как кажется этому писателю, а плоть есть сияние, зрак же раба изображает Ипостась Божию, то мне кажется недостойным сражаться против сказанного, а гораздо лучше оплакивать безумие тех, кои приняли такое новое учение. Человек, говоривший с нами по–человечески нашим голосом, делавший плюновение устами и брение рукою, влагавший персты в уши глухим, прикасавшийся к больным и мертвым, успокаивавшийся от труда посредством сна и сидения, плакавший, тосковавший и скорбевший, чувствовавший голод, принимавший пищу и требовавший воды, — сей человек в самой плотяности и человечности представляется существующим пред происхождением всего сущего, и Богом называется естество плоти сложное, твердое и упругое! Да заградится всякий слух благочестивых, и Божественные и чистые догматы да не сквернятся теми, кои позорят оные, дерзко приписывая Божеству самые плотские немощи. Ибо кто не знает, что Бог, явившийся нам во плоти, по учению благочестивого предания, невеществен, невидим, несложен, был и есть неограничен и беспределен, вездесущ и всю тварь проницает, но в том, что являлось людям, был зрим в человеческом облике? Ибо совершенно необходимо, чтобы всякое тело определялось некоторой поверхностью, таким образом, сама поверхность есть предел заключенного в ней тела. Все же, обнимаемое пределом, заключается в некотором определенном количестве, а определенное не может быть беспредельным. Да и Пророк говорит, что «величию Его несть конца» (Пс. 144:3). Итак, если Божеское естество есть плоть, как говорит сочинитель, а плоть необходимо обнимается пределом поверхности, то каким образом величие Божие, по слову Пророка, простирается в бесконечность? Или как в определенном можно разуметь беспредельность, в ограниченном — безграничность? И еще более, что уже и прежде сказали, как из смерти (явилось) могущество? Ибо если, как говорит Аполлинарий, самый глаголавший человек есть Творец веков, сам собою, то есть плотью (как изъясняет он), сотворивший все; а между тем само слово Божие называет плоть немощной, то писатель сей думает не иное что, как то, что крепость, сила, могущество и другие высокие и достойные Бога совершенства происходят из немощи.
19. И как ни ужасно сие, однако наше слово, следя далее за последовательным выводом из его учения, находит у него богохульство и на самого Отца. Он говорит, что человек есть сияние славы Божией и что в «плотяном боге», которого он, как бы идола, создал в своих суетных помыслах, изображается Ипостась Божия. Посему как луч имеет сродство с солнцем и сияющий из лампады свет — со светильником, и образ человека указывает человеческое существо; так, конечно, (если то, что явилось нам, воссияло от славы Отца, и образ Ипостаси Его есть плоть) и естество Отца по строгой последовательности должно быть признаваемо плотяным. Ибо нельзя сказать, что бестелесное изображается телом и из невидимого сияет видимое. Но какова слава, таково, очевидно, и сияние, и каков образ, такова, конечно, и Ипостась, так что если первый есть тело, то, конечно, не может быть представляема бестелесной и последняя. Упоминает он и о догмате (утвержденном) в Никее, где Собор всех отцов провозгласил единосущность. Но никто не назовет единосущным разнородного, а тем (лицам), у коих сущность понимается тождественной, конечно, приличествует и единосущность. Итак, если Сын, «плотяной бог», и есть, и именуется плотью предвечно по самому естеству, а что Он единосущен Отцу, в том не сомневается и сам сочинитель; единосущны же один другому те предметы, понятие о сущности которых тождественно, то следует, что Аполлинарий должен допустить предположение, что и естество Отца некоторым образом человеческое и плотяное, чтобы сохранить по отношению к обоим имя единосущности. Так что одно из двух: или, называя Отца бестелесным, а Божество Сына плотяным, допустит их разносущность, или, признавая общность по Божеству и сущности равно в Отце и Сыне, сделает плотяным естество Божества и в Отце. Но как бы желая исправить такую нелепость, выше, где произвольно изъясняет изречение Захарии, говорит, что от лица Отца сказано о Сыне «соплеменник» (συμφυλος) (Зах. 13:7), что значит: соестественный и единосущный. Правильно или нет понял он слова Захарии, другой вопрос, а что выводит отсюда, таково: «пророческое слово, — говорит, — показывает сим, что Сын единосущен Богу не по плоти, но по духу, соединенному с плотью». Но каким образом плотяной Бог его прежде сложения мира соединяется с плотью? Ибо когда не было веков, не было и ничего другого из твари, в ряду же сотворенных вещей плоть явилась после всего и последней. Итак, с какою же плотью соединился Сын, когда естество человеческое не пришло еще в бытие? Но Аполлинарий знает некоторую другую плоть кроме человеческой. Каким же образом утверждает, что самый человек, глаголавший нам о делах Отца, и есть оный Бог Творец веков? Кто изъяснит нам нелепость сих новых загадок? Человек прежде бытия человека, плоть, существующая прежде, чем сама была создана, и предвечное, происшедшее в последнее время, и все другое подобное сему, о чем беспорядочно рассуждает!
20. Но пусть писатель наш по произволу блуждает по распутьям своих рассуждений; мы же в обличение нечестивых мыслей, предложив апостольское учение, и им самим упоминаемое, перейдем к дальнейшему. «Иже во образе Божии сый» (Флп. 2:6), говорит (Апостол); не сказал: имеющий образ, подобный Богу, как говорится о созданном по подобию Божию, но в самом «образе Божий сый»; ибо в Сыне все, что принадлежит Отцу, следовательно, и вечность, и неколичественность, и невещественность, и бестелесность; так что в Сыне во всем сохраняется образ Отческих свойств. И будучи «равен Богу», равенство допускает ли мысль о каком–либо различии и отменности? Как равенство может приличествовать тому, что по естеству различно? Ибо если одно по естеству плотяно, а другое свободно от плотяности, то каким образом кто–либо будет почитать равным первое с последним? «Себе умалил», говорит Апостол, «зрак раба приим». Какой «зрак раба» ? Конечно, тело, ибо от отцов слышим мы, что оный зрак есть не иное что, как тело. Итак, говоря, что принял зрак раба, а зрак есть плоть, утверждаем, что, будучи по Божескому образу нечто другое, Он принял рабский образ, как нечто иное по естеству. Впрочем и слово «умалил» ясно представляет, что не всегда Он был тем, чем явился нам, но в полноте Божества Он равен Богу, недостижим и неприступен и тем более невместим в ничтожной человеческой малости; сделался же вместимым смертному естеству плоти только тогда, когда, как говорит Апостол, умалил неизреченную славу собственного Божества и уничижил Себя до нашей малости; так что то, чем был, было велико, совершенно и необъятно, а то, что принял, было равномерно с мерой нашего естества. Ибо говорит: «в подобии человечестем быв» и образе (Флп. 2:7), очевидно, как от начала не имеющий в себе подобие такому естеству и не облеченный ни в какой телесный образ. Ибо как на бестелесном может быть напечатлен чувственный образ? Но тогда является в образе, когда, облекаясь, возлагает оный на Себя, образ же этот есть естество тела.
21. Итак, «обретеся якоже человек». Ибо и человек Он, хотя и не во всем человек, но «якоже человек», по причине таинства рождения от Девы; чтобы из сего явно был что не во всем Он покорился законам человеческого естества, но божественно восприяв жизнь и не имев нужды в действии брака для образования собственного тела, не во всем обретается обыкновенным человеком по особенности Его происхождения, но «якоже человек», и таким образом умалил Себя, соделавшись человеком без изменения (Своего естества). Ибо если бы от начала был им, то в чем заключалось бы умаление? Ныне же Всевышний чрез соединение с уничиженностью нашего естества умалил Самого Себя, ибо соединившись с принятым им образом раба и став едино с ним, усвояет немощи раба. И как бывает у нас по связи между членами, если что случится с оконечностью ногтя, то все тело разделяет боль с страждущим членом, так как сочувствие проходит по всему телу; так соединившийся с нашим естеством усвояет и наши немощи, как говорит Исайя: «Той недуги наша прият, и болезни понесе» (Мф. 8:17), подвергшись язвам за нас, чтобы язвою Его мы исцелели (Ис. 53:4–5); не Божество потерпело язвы, но соединенный с Божеством чрез единение человек, естество которого может быть доступно уязвлению. Совершается же сие для того, чтобы разрушить зло тем же путем, каким оно вошло. Поелику смерть вошла в мир ослушанием (первого) человека, то изгоняется она послушанием второго человека (Рим. 5:12—19). Посему (Господь) бывает послушным «даже до смерти» (Флп. 2:8), чтобы уврачевать послушанием преступление прсслушания, а воскресением из мертвых уничтожить вошедшую преслушанием смерть, ибо воскресение человека от смерти есть уничтожение смерти. «Темже», говорит, «и Бог Его превознесе» (Флп. 2:9), эти слова служат как бы некоторой печатью предшествующего рассуждения. Ибо явно, что высочайшее не нуждается в возвышении, но уничиженное подъемлется на высоту, как скоро теперь становится тем, чем прежде не было. Ибо соединенное с Господом человеческое естество подъемлется на равную высоту вместе с Божеством, и возносится именно то, что подъемлется из уничиженности, а уничиженное есть образ раба, чрез вознесение становящийся Христом и Господом. Поелику же человек, восприятый Христом, как следует между людьми, назван был особенным именем вследствие таинственного извещения Деве от Гавриила, и человеческое в Нем было наименовано, как сказано, Иисусом (Лк. 1:31); Божеское же естество не может быть объято именем, между тем чрез срастворение два стали едино, то посему и Бог именуется от человеческого (естества) заимствованным именем. Ибо «о имени Иисусове всяко колено поклонится» (Флп. 2:10), и человек становится превыше всякого имени, что свойственно Божеству, Которое не может подчиниться именовательному обозначению, так чтобы как высокое является в уничиженном, так и уничиженное прияло взамен того высокие свойства. Ибо как Божество получает имя чрез человека, так превыше имени становится от уничиженности вознесенное до Божества; и как бесславие рабского образа имеет отношение к соединенному с рабом Богу, так и воздаваемое от всей твари поклонение Божеству приносится соединенному с Божеством (человеку); и таким образом, «о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, И всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:10–11). Аминь.
22. Но как бы краснея пред самим собою и стыдясь нелепости сказанного, Аполлинарий, кажется, отменяет некоторым образом то, что доказывал прежде, и намеревается допустить, что подобие Сына с человеками есть после привзошедшее (επιγεννητικη). Ибо говорит: «вот равенство того же Иисуса Христа с Отцом прежде существовало, а подобие с человеками после привзошло…»
По–видимому, он раскаивается в сказанном прежде, и если бы сделал сие, если бы только от сердца отверг нелепое мнение, то и мы прекратили бы обличение. Но из сделанного им оказывается, что добрая мысль, заключающаяся в сих словах, дает ему повод к другой нелепости; потому что буквально говорит так: «и что яснее того, что не иной соединился с иным, то есть совершенный Бог с совершенным человеком?». Что эти слова не имеют ничего общего с предыдущими, очевидно всем способным следить за смыслом слов. Ибо каким образом равенство с Отцом, прежде существовавшее, и после привзошедшее, как сам говорит, подобие с человеками доказывают, что не был совершенным человеком тот, чрез коего вочеловечился совершенный Бог? Это подобно тому, как если бы кто, сказав, что небо отстоит от земли, потом стал бы утверждать, что из сего ясно, что свинец равного объема тяжелее олова, и сочел бы тяжесть за небесное расстояние. Точно так же никто не скажет, что несовершенство человечества, чрез которое Бог является в нашем естестве, доказывается тем, что подобие Сына с человеками признается после привзошедшим. Но я отложу пока доказывать нечестие и безумие такого мнения, теперь же попытаюсь обратить исследование на то, что у него буквально написано по порядку далее, чтобы с первого же раза открылись его погрешности. Говорит, что (Христос) не есть совершенный Бог с совершенным человеком. Доселе оставил под сомнением, кого из сказанных назвал несовершенным, так что, по неясности обозначения, мысль может относиться равно к тому и к другому, и из того, что слышали, нельзя узнать, кого почитает он несовершенным — Бога или человека, или то же самое думает об обоих. «Он, — говорит, — по духу есть Бог, обладающий славою Божией, по телу же — человек, носивший бесславный образ человеческий». Назвал Бога, назвал и человека, но всякому известно, что значение сих наименований не одно и то же, но что особый смысл имеет слово «Божество» и особый — «человечество». Ибо Бог есть всегда тожественная вина всех благ, которая всегда была и никогда не престанет быть; человек же в некоторых отношениях имеет сродство с естеством бессловесных, подобно им живет при помощи плоти и ощущений, но отделяясь от бессловесных прибавлением ума, в сем имеет особенность естества; ибо никто, определяя человека, не станет определять его по плоти, костям и органам чувств; никто также, сказав о силе питания и пищеварения, не укажет в этом особенности человеческого естества, но признаком человека служит способность мышления и разумность. Итак, одно и то же — обозначать ли естество посредством имени или посредством особенности, принадлежащей естеству; ибо кто скажет: человек, укажет тем на разумность; кто поименует разумность, этим же словом укажет на человека. Так и Аполлинарий, поименовав Бога и человека, если под (первым) выражением понимал все те признаки, которые открываются в Божестве, то при помощи (своего) толкования не мог также уничтожить и того, что означается словом человек; но если называется человек, то, конечно, это название истинное, а не лжеименное; истина же имени выражается в том, что он есть животное разумное. А разумность, конечно, происходит от ума, так что, если человек, то необходимо и разумен, если же не разумен, то и не человек.
23. «Но по телу, — говорит, — был человек, носивший бесславный образ человеческий». Это он предлагает нам от себя, а не из учения Писания. Впрочем, чтобы сии самые слова превратить в противное тому, что он имеет в виду, рассмотрим его слова таким образом. «Носил, — говорит, — бесславный образ человеческий». Посмотрим сначала, в чем состоит слава человека, и таким образом из того, что будет следовать отсюда, уразумеем, что такое бесславие. Слава человека, то есть истинная слава, есть, конечно, жизнь по (правилам) добродетели; ибо только изнеженным свойственно определять славу или бесславие людей по здоровому цвету лица, или свежести плоти, или, наоборот, по безобразию тела. Итак, если славным у людей признается добродетель, то бесславным, конечно, порок. Между тем Аполлинарий говорит, что Бог восприял бесславный образ человеческий. Итак, если бесславие в пороке, а порок есть постыдное направление произвола, произволяет же разумение, а разумение есть некоторое движение ума; то следует, что кто видит в Боге человеческое бесславие, тот не может отнять разума у человека, чрез которого Бог жил человеческой жизнью. И это согласно с божественным Писанием, именно, что Он соделался грехом ради нас (2 Кор. 5:21), то есть соединил с Собою способную (саму по себе) ко греху (αμαρτικην) душу человеческую. «Господа, — говорит, — явившегося в рабском виде», но раб сей, вид которого принял на себя Господь, был ли совершен или нецелостен? Ибо недостаточность и изувеченность в отношении к полноте живого существа по справедливости должна быть названа повреждением. «Не человек, — говорит, — но «якоже человек», потому что неодносущен с человеком по владычественной части Его». Если неодносущен, то, конечно, иной сущности; что же имеет другую сущность, у того и естество, и название не может быть общее. Иное существо огня и иное воды, и обоих название различны. А Петр и Павел, поелику одно естество, то и имя существа у них общее, ибо каждый из них человек. Итак, если по существу (Господь) был нечто другое, — не человек, а только по видимости принял образ, подобный человеку, на самом же деле различествовал по естеству, то должен он сказать, что и все было только какою–то призрачностью и обманчивой мечтою; ложно у Него было ядение, ложен сон, не существенны все чудеса исцелений, не было креста, пе было положения во гробе, не было и воскресения после страдания; но все являлось только призрачно, и, по мнению сочинителя, не было ничего из того, что представлялось. Ибо если Он не был человек, то как было повествуемое о Нем? Как назовет кто–либо человеком того, кто чужд человеческого существа? «Не был, — говорит, — односущен с человеком по владычественной части его». Но кто отнимает владычественную часть у человека, которая и есть ум, тот в остальном видит скота, скот же не человек. Потом говорит: «уничиженного по плоти, но превознесенного от Бога на Божескую высоту». Здесь опять кроме нечестия еще более безумия, нежели в прежде сказанном. Одно, говорит, уничижено, другое превознесено. Плоть, говорит, уничижена, хотя оная и нисколько не имела нужды в уничижении, будучи уничиженной по естеству; Божество же, говорит, превознесено, хотя высочайшее и не нуждается в возвышении. Итак, куда же превознесено Божество, которое превосходит все и превыше всякого возвышения? Напротив, хочет ли то признать сочинитель или нет, возвышается уничиженное по естеству, как несколько выше рассуждали мы о сем в нашем слове.
24. Подобно тем, которые проговариваются во сне, он, оставив последовательность в рассуждении, снова употребляет в дело наши слова и вставляет в свои речи то, что мог бы сказать и здраво рассуждающий о догмате. Он различает то, что прославляется, и того, кто имеет славу. «Прославляется, — говорит он, — как человек, а славу имеет прежде (сложения) мира, как Бог, сый прежде век». Доселе он рассуждает здраво, если бы слова его этим и ограничились, может быть, кто–нибудь подумал бы, что он, раскаявшись, дошел до мыслей более согласных с благочестием. Но теперь, как бы окольным каким путем обойдя в своей речи эту здравую мысль, он снова возвращается на поприще заблуждения, и, обратив к нам множество ругательств и приравнив нас по учению к иудеям и еллинам, опять возвращается в своем слове к той блевотине, которую извергал прежде при помощи суетных умствований, вымышляя для Христа предвечную плоть и утверждая, что Сын, Который родился от Девы, был воплощенным умом; не в Деве восприяв плоть, но прошед чрез нее, как чрез канал (παροδικως), Он по внешнему образу явился таковым же, каковым был прежде век, то есть богом плотяным или, как он выражается, воплощенным умом. говорит он, и распятый называется Господом славы (1 Кор. 2:8) и Господом сил, по слову пророческому (Ис. 8:13.); посему же Он произносил и такие изречения, свидетельствующие о Его самовладычестве и господстве: «Аз тебе глаголю» (Лк. 7:14), «Аз ти повелеваю» (Мк. 9:25), «Аз делаю» (Ин. 5:17) и другие многие с таковым же высшим значением. Но что скажет сей именитый муж, где он поместит сосцы, пелены (повивальные), прилив и отлив жизненной силы, постепенное возрастание тела, сон, утомление, подчинение родителям, тоску, скорбь, желание пасхи, требование воды, принятие пищи, узы, заушения, раны от бичей, ношение терния на главе, облечение в багряницу, биение тростью, копие, оцет, гвозди, желчь, плащаницу, погребение, гроб, камень? Как все это он отнесет к Богу? Ибо если его плотяной бог всегда был тем, чем явился чрез Марию, и являемое взору было Божество, то Божество претерпевает все упомянутое — сосет, пеленается, питается, утомляется, растет, наполняется, извергает, спит, тоскует, скорбит, стенает, ощущает жажду и голод, с поспешностью приходит к смоковнице, не знает, есть ли и время ли быть плодам на дереве, не ведает дня и часа, подвергается биению, терпит узы, заушается, пронзается гвоздями, проливает кровь, умирает, погребается, полагается в новом гробе. Неужели он соглашается признать, что все это свойственно и естественно предвечному Божеству, что Оно не возросло бы, если бы не питалось сосцами, и что Оно совершенно не могло бы и жить, если бы © помощью питания не возмещало истощение силы? А как его плотяной бог не знает того дня и часа? Как он не знает времени смокв — того, что в пасху нельзя найти на дереве плод, годный для снедения (Мк. 11:13)? Скажи, кто это неведущий? Кто это скорбящий? Кто находится в беспомощном положении? Кто вопиет, что он оставлен Богом? Если Божество Отца и Сына едино, то от кого последовало это оставление, о котором Он возгласил на кресте? Ибо если Божество страдало (а благочестиво мыслящие признают, что у Отца с Сыном едино Божество), и если страждущий говорит: «Боже мой, Боже мой, вскую Мя еси оставил» (Мф. 27:46), то как единая сущность Божества во время страдания разделяется, и одна» часть его оставляет, а другая оставляется; одна подвергается смерти, а другая пребывает в жизни; одна умерщвляется, а другая воскрешает умерщвленное? Или он не будет исповедывать единство Божества Отца и Сына и поэтому явится поборником Ария? Если же, восставая против Ария, скажет, что (Божество Отца и Сына) едино, то никак не останется в согласии с самим собою, не имея возможности удержать придуманный им вымысл; эти восклицания и состояния духа, свидетельствующие о страдании и уничижении, он по необходимости отнесет к человеческой природе и согласится, что естество Божеское и при общении с человеческими страданиями осталось неизменным и бесстрастным. Свидетельствует о сем и сам Аполлинарий, говоря о Нем, что «прославляется как человек, восходя из (состояния) бесславия, а славу имеет прежде (создания) мира, как Бог, сый прежде век». Ибо бесславие, конечно, есть плотское естество, подверженное страданию, следовательно, вечная слава есть чуждое страдания и бессмертное могущество.
25. А чтобы не казаться нам в своих словах клеветниками, передам и буквально то самое, смысл чего был изложен нами. «Еллины и иудеи, — говорит он, — явно впадают в неверие, не желая слышать, что Бог рожден от жены». Почему, говоря здесь о рождении, он умолчал о плоти, хотя «рожденное от плоти», конечно, было «плоть», как негде говорит Господь (Ин. 3:6)? Желая доказать, что самая рожденная плоть есть Божество и что Бог не во плоти явился, он говорит: «Бог, будучи во плоти прежде веков, после родился от жены и пришел (в мир) испытать страдания и подъять нужды естества (человеческого)». Говоря сие, он не признает в Нем даже человечества, однако же как человека подвергает Его страданиям, хотя человеческого естества и не усвояет Ему. Ибо как может быть человеком тот, о котором говорит, что Он не от земли? Писание говорит, что человеческий род произошел от Адама, и он первый Божественной силою произведен из земли. Посему и Лука, излагая родословие мнимого сына Иосифова, называет Его Адамовым (Лк. 3:38), соединяя начало Его рождения с именем каждого из праотцов. Итак, происходящий не от рода человеческого, конечно, есть что–либо иное, а не человек. Если же Он не человек, так как не имеет начала, принадлежащего роду человеческому, и не Бог, так как не бестелесен, то что такое этот бог во плоти, придуманный сочинителем, — на сие пусть отвечают ученики и поборники его лжеучения. «Но, — говорит он, — нас приняли бы еллины и иудеи, если бы мы сказали, что рожденный есть божественный человек, подобно Илии». Но кто же из еллинов принимал за истину чудеса, которые были с Илией; то, например, что огонь, получив двоякий образ, — вид колесницы и вид коней, движется в направлении, противном его природе, именно, несясь сверху вниз, и что Илия, поднимаясь на огненной колеснице, правит огнем и среди пламени сохраняется невредимым, причем огонь влечет за собою огонь, то есть огонь коней — огонь колесницы? Ибо если кто поймет все это как должно, тот сим самым откроет себе путь к принятию тайны (воплощения), усматривая в сем повествовании некое образное пророчество о вочеловечении Господа, предызображенное событиями. Ибо как огонь, по природе своей стремящийся вверх, силою Божией приближается к земле, а Илия, охваченный небесным огнем, снова воспринявшим свое естественное движение, и сам возносится с ним, так невещественная и безвидная сущность (ουσια) — Сила Вышнего, восприяв зрак рабий, естество (υποςτασις), родившееся от Девы, возвела оное на собственную высоту, преобразовав в Божеское и совершенное естество. Таким образом, не верующий сему не поверит и чудесным событиям с Илией; а прежде научившийся истине, прикровенно изображенной в его жизни, не будет враждебно относиться и к сей самой истине.
26. Затем он обращает ругательства против нас, не принимающих сочиненной им басни, и говорит: «под прикрытием веры не верующие в Бога, рожденного от жены и распятого иудеями, постыждаются, подобно им, посему и Сам Он постыдится их». Кто же не знает, что употреблять проклятие в борьбе с противниками свойственно только бессильным защитить то, что имеют в виду? А мы говорим только, что предлежат две пропасти: с одной стороны пропасть (лжеучения) Аполлинариева, а с другой — Ариева и что упавшим в ту или другую одинаково предстоит разбиться, с тем разве различием, что если выбрать из двух зол, то, кажется, в Ариевой можно разбиться меньше. Ибо хотя и тот, и другой чистое существо Единородного низводят в униженное состояние, но Арий приравнивает Владыку ангелов к бестелесному естеству ангельскому, возвещая, что они одинаково ниже естества несозданного, что и Он, и они произошли чрез создание. А этот до того доводит безумие, что признает Его равночестным с человеком, умаленным пред ангелами, и решает, что естество Его — плотское. Но сколько естество бестелесное превосходнее тел, столько и нечестие Ариево предпочтительнее заблуждения Аполлинариева. Кто же (из них более) неверующий, под прикрытием веры, толкователь тайны (воплощения) от Девы? Предложу на общий суд нашу веру, осмеиваемую сим сочинителем, и его собственное мнение. Мы говорим, что Бог, будучи по существу невеществен, безвиден и бестелесен, по некоему человеколюбивому домостроительству на конец исполнения всего, когда зло возросло уже до высшей степени, для истребления греха соединяется с естеством человеческим, подобно солнцу, проникающему в мрачную пещеру и появлением света уничтожающему тьму. Ибо, восприяв в Себя нашу нечистоту, Сам Он не оскверняется–от скверны, но в Себе Самом очищает сию нечистоту. Ибо «свет», сказано, «во тьме светится, и тьма его не объят» (Ин. 1:5). Так бывает и при врачевании. Когда к болезни приложено лечение, болезнь исчезает, но не перемещается во врачебное искусство. Таково наше слово. А он говорит, что Бог от начала был во плоти; и таким образом, видимое и осязаемое тело, рожденное в последние дни, постепенно возраставшее от принятия человеческой пищи, было то самое, которое существовало прежде всего сущего, которое сотворило и людей, и всякое создание видимое и невидимое; оно то самое, которое чувствует утомление и с томлением принимает испытание смертное. Не понимаю, почему этот мудрец не приписывает Творцу никакого утомления, когда создавались небеса, земля и все чудеса творения, а говорит, что Он был утомлен, когда шел из Иудеи в Галилею! Для израильтян Он превращал скалу во вместилища вод, а Сам у жены–самарянки просит пить! Сорок лет не утомляется дождить небесную пищу стольким тьмам людей, а Сам течет к смоковнице в чаянии снеди, которой не было. Если таково мнение о догмате того и другого из нас, то пусть разумный слушатель сам рассудит, кто из нас неверный под прикрытием веры.
27. По его словам, мы говорим, что распятый не имел в своем естестве ничего Божеского, даже самого главного — имени духа. Против этой клеветы легко защититься отрицанием. Ибо если Аполлинарий думает, что дух есть ум, то никто из христиан не говорит, что соединившийся с Богом человек был половинный, но во всей целости вступил в соединение с Божеской силою. Посему пусть какими кто хочет именами называет части человека: умом ли, духом ли, или сердцем; ибо в Писании приводятся три наименования владычественной части в человеке, а именно: «сердце чисто созижди во мне, Боже» (Пс. 50:12); и еще: «разумный строительство стяжет» (Притч. 1:5); и еще: «кто бо весть от человек, яже в человеце, точию дух живущий в нем» (1 Кор. 2:11). Посему не лишен ни духа, ни ума, ни сердца (Тот, Кто родился) при осенений силы Вышнего и наитии Святаго Духа. Итак, не к нам относится брань, будто мы говорим, что оный человек не имеет в себе духа, то есть ума, а к самому виновнику брани, осыпающему нас порицаниями, которые идут к нему. Ибо, именуя ум духом и говоря, что человек Христос не имеет ума, он сам утверждает, что Господь не имеет духа. Какое еще возводит обвинение? По его словам, мы неправы, когда говорим, что, кроме собственного естества, (оный) человек имел в себе еще нечто большее, а именно живущее в нем Божество. Если он ставит это в вину, мы не уклоняемся от обвинения, подвергаясь ему вместе с Апостолом. Потому что им наученные веруем, что образ Божий, существующий в умопредставлении, в образе раба получает бытие в явлении (Флп. 2:6–7). Если же образ Божий превосходнее образа рабского, то, конечно, являемое не равночестно с тем, что сокровенно. Итак, усматриваемое во плоти и обращавшееся с людьми заключало под собою нечто превосходнейшее себя. Вот что сочинитель вменяет нам в преступление против веры. Но и Апостол говорит, что «в Том живет всяко исполнение Божества телесне» (Кол. 2:9). Сказав: «в Том», он означил не половину являемого, но самим значением сего слова объял подлежащий предмет всецело. Если же тело, в котором жило Божество, было человеческое, а сие тело небездушно; отличительную же часть человеческого духа составляет ум (ибо если отделить его, осталась бы только, как часто говорили мы, скотоподобная часть); то следует, что сей благородный муж осыпает поношениями не нас, но Апостола или, лучше сказать, и то изречение великого Иоанна, которое гласит, что «Слово плоть бысть, и вселися в ны» (Ин. 1:14). Не (сказал) в какую–либо часть нашего естества, но, поставив множественное число, обозначил тем все, что мыслится в нашем естестве; и сначала отделил Слово от плоти, а потом соединил, потому что Слово было самобытно и было у Бога, и что был Бог, то же было и Слово, ибо и Оно было Бог. Но когда «во своя прииде» и воссиял во тьме, тогда «Слово плоть бысть» (Ин. 1:11; 1:14), Своей силою соделавшись плотью во (чреве) Девы. Итак, пусть перестанет поносить нас, дабы не нанести вместе с тем оскорбления и святым.
28. Опустив средину его рассуждений, где он высказывает мысль, что думающие с ним неодинаково отрицают тайну (воплощения), упомяну только об одном из того, что в увлечении наговорил он, чтобы оклеветать нас. Он говорит, что если мы не это (а иное) говорим, то «должны сказать, что Христос не имел бытия прежде рождения на земле, не существовал прежде всего и даже не сроден Богу». Но что Он имел бытие прежде Своего земного рождения, это мы исповедуем, хотя и нет сомнения, что Его плоть происхождения земного. А выражение «быть сродным Богу» отвергаем, ни один христианин не составит выражения столь унизительного и чуждого для величия Божия, так как оно выражает мысль, что истинно сущий Бог только сроден Богу, а не есть Бог истинный. Даже и Евномий не отказался бы от такого твоего выражения о Господе, ибо и он, отвергая истину Его Божества, мог бы назвать Его сродным Богу, подобно тому, как соделываются членами тела Христова и сопричастниками Его те, кои уверовали в Него; они не суть то же, что есть Господь, но причастны Ему, и именуются одним именем с Тем, Коему причастны. Таким образом, обвиняя за то, что не говорим этого, сообразно с исповеданием благочестивых, он сам засвидетельствовал благочестность и безукоризненность сказанного нами. За сим в доказательство того, что плоть есть Божество, он к прежде сказанному прибавляет еще следующее: «ибо кто, — говорит он, — свят от рождения?». Как будто он не читал написанного у Иеремии, о котором Господь сказал: «прежде неже Мне создати тя во чреве, освятих тя» (Иер. 1:5). Писание свидетельствует, что Он свят не только от рождения, но и прежде рождения. И младенец, взыгравший в матерней утробе, радостно приявший глас целования матери Господней, и он был свят от рождения, как возвещает о нем глас ангела: «и Духа Святаго исполнится еще из чрева матере» (Лк. 1:15). К сказанному Аполлинарий прибавляет следующее: «кто мудр, не получив научения?». А мы говорим, что премудрость Божия, которая есть Христос, не от научения получена, но учительна, и не сомневаемся, что часть нашей плоти, соединенная с Божеской премудростью, по причастию восприяла благо премудрости, не сомневаемся, уверяясь Евангелием, повествующим, что «Иисус преспеваше премудростию и возрастом и благодатию» (Лк. 2:52). Как в теле постепенное приращение достигает до полного развития естества при помощи питания, так и в душе преуспеяние в совершенстве премудрости достигается причастными оной при помощи упражнения. «Кто, — говорит, — властен творить дела Божии?». Какими детскими умозаключениями он хочет умалить неизреченное величие Господа! Власть творить дела Божий принадлежит и людям, удостоившимся силы Божией, каков, например, был Илия, по произволу низводивший и затворявший людям дождь, ниспосылавший на врагов огонь, производивший муку в глиняном сосуде, творивший изобилие елея в чванце, дуновением даровавший мертвому жизнь и совершивший многие другие чудеса, повествуемые о нем в слове Божием. Таким образом, Божеской силою творить какие–либо чудеса, кои во власти Божией, не превышает человеческого естества, но самому быть силой высшей всего — это превышает. В сие веруем и мы, и все, в истине принявшие слово Божие.
29. А присоединенное им к сему непонятное различение, какие подлежащее внимательному с нашей стороны разбору, мы предоставляем рассуждению людей опытных. Ибо что желал он выразить словами: «различая действование по плоти и уравнивая (действование) по духу»? Это он присовокупил к евангельскому изречению, которое гласит: «Отец Мой доселе делает, и Аз делаю» (Ин. 5:17). Если у кого есть сила защищать бессмысленное, пусть станет на защиту этих слов и скажет, с какой мыслью он прибавляет еще к только что сказанным словам подобные выражения, которые буквально таковы: «кто снова получает равенство в могуществе и различие действования по плоти, по которому не всех оживотворил, но некоторых, Кого восхотел». Извлекая простую и безыскусственную мысль божественного Писания, мы держимся относительно приведенных слов (Писания) такого понятия. Когда слышим глагол Господа: «Отец воскрешает мертвыя и живит, тако и Сын ихже хощет, живит» (Ин. 5:21), сие не так разумеем, как будто некоторые животворящим хотением отвергаются, но поелику и слышим, и веруем, что все, что имеет Отец, принадлежит и Сыну (Ин. 16:15), то явно, что в Сыне усматриваем и хотение Отца, единое для всех. Если же в Сыне хотение Отчее, а Отец, по слову Апостола, всем «хощет спастися, и в разум истины прийти» (1 Тим. 2:4), то, очевидно, Обладающий всем, что принадлежит Отцу, и всецело имеющий в Самом Себе Отца, имеет в Себе вместе с другими совершенствами Отца и хотение спасти. Итак, если Он не имеет недостатка в этом совершенном хотении, то, конечно, ясно, что, кого Отец хочет оживотворить, тех и Он животворит, не уступая в человеколюбии хотения, как думает Аполлинарий, говоря, что Он восхотел оживотворить не всех, а некоторых. Ибо не Господня воля виною того, что одни спасаются, а другие погибают, — иначе пришлось бы к ней относить вину погубления — но спасение или погибель некоторых зависит от произволения принявших слово (Божие). К своим умствованиям он прибавляет, что «никто по своей воле не умирал и не воскресал», и, сказав это, приводит изречение Евангелия: «Никтоже возьмет душу Мою от Мене, область имам положити ю, и область имам паки прияти ю» (Ин. 10:18). Какую душу, разумную или неразумную, спросил бы я у приписывающих Богу душу, не имеющую ума? Если скажут: неразумную, то признают, что Христос был облечен естеством скота, а не человека, если же скажут: разумную, то чем иным представляют они разумение, как не разумом? Ибо разум не есть звук без значения, но движение мышления, начало и основание разумности. Посему называющий душу разумной признает ее и способной разуметь, а разумение есть движение и действие ума. А как стал бы действовать ум, которого нет, если признают душу Господа лишенной ума? Итак, если Господь имеет душу, которую по произволению приемлет и полагает, душу не скотскую и (не) неразумную, но свойственную человеческому составу, то, конечно, должно признать, что Им воспринята душа человеческая и одаренная разумом.
30. Что за сим говорит он о зерне умирающем, а потом вновь вырастающем со множеством зерен, охотно прейду молчанием, потому что его слова клонятся в нашу пользу и подтверждают нашу мысль. Ибо какое это зерно умирающее и в своем воскресшем колосе вместе с собою возбуждающее к жизни множество зерен? Не думаю, чтобы кто–нибудь в такой мере был несведущ в Божественных догматах, чтобы не видеть отсюда, что таинство страдания относится к человеку. Доказательство сказанного то, что и мы умираем вместе с Ним, и спогребаемся, и совосстаем. Для желающих легко подражать тому, что однородно (с ними), а подражание превышающему нас недоступно. Посему если смерть подъята плотью, то и нам, живущим во плоти, легче будет смертью подражать смерти. А если смерти подверглось Божество, то как мы, сущие во плоти, будем умирать вместе с Божеством? Плоть умирает и совоскресает с плотью. Если же Божество претерпело сие, как хочет того Аполлинарий, то нужно искать других божеств, которые умерли бы вместе с Божеством и со–восстали с ним; ибо как Христос умер и воскрес, так, по слову Спасителя, и мы (1 Кор. 15:22; 1 Фес. 4:14). А что такое мы по своему естеству? Божия сила или кровь и плоть, как говорит Писание (Евр. 2:14)? Посему–то ради нас приобщился нашей плоти и крови Соделавшийся ради нас подобным нам. Итак, что по своему существу мы, тем же был и Умерший за нас, подражание Коему предлежит нам, принадлежащим к одному с Ним роду. Доказательством же нечестивости того мнения, которое утверждает, что Божество смертно, служит совершающееся в нас самих. Ибо в обыкновенной человеческой смерти, что умирает и истлевает? Не плоть ли разрешается в землю, а ум остается с душой, не терпя по отношению к бытию никакой утраты от разрушения плоти? Доказательством этому служит то, что богач помнит о находящихся на земле и молит Авраама за связанных с ним родством. И никто не сочтет безумным то, что, на себе испытав неизбежность (суда), он предается заботе о близких к нему. Итак, если наш ум и после смерти остается непострадавшим и неизменным, то с чем же сообразно оному троечастному Богу Аполлинария претерпеть телесную смерть? Как Ему умереть или каким бы то ни было образом потерпеть разрушение от смерти? Ибо всякому известно, что смерть есть взаимное разлучение души с телом, а душа и разум как разделятся сами от себя, чтобы и душе принять смерть? Итак, если наша душа недоступна смерти, то как она может умереть, — на это пусть отвечают раздробляющие Христа на части.
31. «Они смущаются, — говорит он, — смущением неверующих». Это нас он поносит, называя смущающимися и неверующими, беспрекословно внимающих евангельскому гласу, который вещает: «аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не Моя воля, но Твоя да будет» (Мф. 26:39; Лк. 22:42). К этим словам он прибавляет свои такого рода: «и не помнят они, — говорит, — что здесь речь идет о собственном изволении не человека от земли, как они думают, но Бога, сшедшего с небеси». Кто придумал бы сказать подобное? Говорю не о ком–либо из них, дознанных еретиков, но думаю, что и сам отец нечестия и лжи не выдумает для богохульства чего–либо более ужасного сравнительно с тем, что сказано. Понимает ли этот сочинитель, что он говорит? Бог, нисшедший с неба, отвергает собственное изволение Божества и не хочет идти на дело, которого (Оно) «хощет». Итак, воли Отца и Сына разделились. Как же у Обоих воля будет общей? Как при различии изволений будет открываться тождество их естества? Ибо совершенно необходимо, чтобы хотение было сообразно с естеством, как негде говорит Господь: «Не может древо добро плоды злы творити, ни древо зло плоды добры творити» (Мф. 7:18). А плод естества есть произволение, так что у благого естества произволение благое, а у злого — злое. Посему если у Отца и Сына плод воли различен, то по необходимости признают, что и естество Обоих различно. К чему же он восстает на Ария? Почему не присоединяется к Евномию, который, разделяя естество Отца и Сына, рассекает вместе с естеством и хотение и этим преимущественно доказывает различие их существа, отсекая вместе с тем у (Сына как у) низшего пред высшим самое понятие Божественности.
32. Сказанное им повторим опять: «они не помнят, — говорит он, — что здесь речь идет о собственном изволении не человека от земли, как они думают, но Бога, сшедшего с небеси». О каком изволении говорит сочинитель? Очевидно, о том, исполнения которого не хочет Господь, говоря Отцу: «не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Понимает ли Аполлинарий, в какое противоречие впадает его речь? Приближается страдание, и пока еще не приступил предатель со множеством (народа), в то время и происходит сие моление. Кто же молится, человек или Бог? Если он думает, что молящийся есть Бог, то усматривает в Нем немощь, одинаковую с человеческой. И какой же Он Бог, когда в Себе не имеет ничего доброго, но нуждается в высшей помощи? Далее, как Божество осуждает Собственное изволение? Добро или зло было то, чего Он хотел? Если добро, в таком случае зачем не приводится к концу то, чего Он желал? А если зло, то какое у Божества общение со злом? Но, как сказал я, (сочинитель) не понимает, что его речь впадает в противоречие. Ибо если изречение: «не Моя воля, но Твоя да будет» принадлежит Единородному Богу, то сия речь, по некоему противоречию, вращается сама в себе и не имеет никакой твердости. Потому что не желающий исполнения своей воли желает, конечно, того самого, чтобы не исполнилось то, чего желает. К какому же концу будет вести такое моление: хочу, чтобы не исполнилось то, чего хочу? Очевидно, (моление) превратится в противоречие желаемому, и слушающий такую молитву должен будет прийти в затруднение по отношению к тому и к другому (смыслу молитвы). Что бы Он ни сделал, но исход молитвы всегда будет несогласен с хотением молящегося. Исполнит волю молящегося? Но он молится, чтобы не было того, чего желает. Не исполнит желаемого? Но молящийся желает, чтобы было ему то, чего он не желает; так что как ни принять моление, оно не будет иметь определенного смысла, противореча самому себе и само себя разрушая. Для таких затруднений, представляемых речью, может существовать одно разрешение — истинное исповедание тайны, а именно, что страх страданий составляет принадлежность человеческой немощи, так и Господь говорит: «дух убо бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41), а подъятие страдания по домостроительству есть дело Божия хотения и могущества. Итак, поелику иное — хотение человеческое, а иное — хотение Божеское, то усвоивший Себе наши немощи одно говорит как человек — то, что свойственно немощи естества, а другое за тем речение присовокупляет как Восхотевший для спасения людей привести в исполнение высокое и достойное Бога хотение, превысшее (хотения) человеческого. Сказав: «не Моя» (воля), Он означил сим словом (хотение) человеческое, а прибавив: «Твоя», указал на общение с Отцом Его собственного Божества, у которого по общению естества нет никакого различия в изволении, ибо, говоря о воле Отца, сим означил и волю Сына. А сия воля состоит в том, что Он «всем человеком хощет спастися, и в разум истины прийти» (1 Тим. 2:4), что могло исполниться не иначе как чрез попрание смерти, которая была преградой для жизни. А смиренные речения, выражающие человеческий страх и состояние (страха), Господь усвояет Себе, дабы показать, что Он имел истинно нашу природу, чрез приобщение (нашим) немощам заверяя действительность Своего человеческого естества.
33. «Но, — говорит Аполлинарий, — то, что было восприято в единение с Ним, принадлежало не человеку от земли, как они думают, но Богу, сшедшему с небеси». В этих словах неудовлетворительность и темнота изложения вводит в заблуждение относительно последовательности хода мысли того, кто следит за написанным, если только мысль не вполне закрывается сбивчивостью выражения. Он говорит, что «оные означающие страдания речения принадлежат не человеку от земли, но Богу, сшедшему с небеси». Из доселе сказанного явно желание Аполлинария утвердить мысль, что Божество подвержено страданиям. А затем он затемняет мысль нелепыми выражениями. Ибо, сказав: «то, что было воспринято в единение с Ним», прибавляет: «принадлежало Богу, сшедшему с небеси». Перелагая это в более ясную речь, иной сказал бы так, что не человек так говорил, но чрез человека глаголал Бог, воспринявший видимый образ в единение с Собой. Откуда же воспринят был этот человек? От земли? Он отрицает это. А если на небесах он имел бытие, то не от человек. Остается сказать: ниоткуда, чем утверждается, что видимое (во Христе) было мнимым, а не истинным, ибо что ниоткуда, то совсем и не существует. Но в прибавленных им словах он именует сего человека сшедшим с небеси. Однако же Мария была на земле, на земле был вертеп, земные и ясли. Как же он переселяет к нам человека с небеси на землю? Тогда как все Писание исповедует Деву, рождение, плоть, пелены, сосцы, ясли, человеческий образ жизни, Аполлинарий, все это отвергая, измышляет в своем сочинении иного человека, не имеющего происхождения и с нашим естеством несродного.
34. Впрочем, оскорбления, какие он вплетает среди своей речи, полагая, что чем более осыпает нас злословиями, тем сильнее утверждает свое нелепое учение, я думаю, каждый здравомыслящий должен презреть и предоставить вниманию читателей судить, кто исказитель апостольской веры: мы ли, которые, по слову Павла, разумели по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем (2 Кор. 5:16), или он, который постоянно как прежде совершения спасения человеков, так и после оного вводит в свои речи своего «плотяного бога». Присовокупляет к сему и хулу на Христа со стороны иудеев, именно название Его ядцею и винопийцею (Мф. 11:19), и говорит, что это есть необходимо в человеке. Итак, что это за человек, порицаемый иудеями за пищу и питие? Употреблял ли оные Он или нет? Но если не употреблял, то был только призраком человека, а если употреблял, то употребляемое Им в пищу и питие было земное, но небесное земным не питается. Какое противоречие в нелепости! При суждении об одном и том же предмете в какие впадает он противоположные крайности! То представляет Явившегося во плоти выше естества человеческого, то поставляет Его ниже людей, лишая самой лучшей стороны естества человеческого. Ибо самая лучшая часть в нашей природе есть ум, но плоть, в которой Бог явился, говорит, не имела оного. И это ясно усиливается доказать в следующих далее рассуждениях, в которых, дабы подробное исследование нелепостей не показалось кому излишним, мы проследим сказанное им только вкратце. Ибо, опять наполнив свое сочинение множеством оскорблений, он направляет против нас такую речь, — говорит, что неправы те, кои говорят, что единение плоти и восприятие человека одно и то же. Я же, хотя речь моя покажется и несколько грубой, не скрою истины, что ни того, ни другого из сказанных речений язык наш с точностью определить не может. Ибо какое различие между единением плоти и восприятием человека, нелегко объяснить близко к уразумению, потому что единение многоразлично понимается: по отношению к числу, виду, естеству, занятиям и наукам, по отношению к свойствам добродетели и порока и стремлениям к ним. Итак, нужно, чтобы нам объяснили, какое здесь разумеется единение плоти: с самой собой или с другим. Также и относительно восприятия человека — как оно бывает, кто, откуда, как, кем и каким образом восприемлется, равно и предшествующее нам тоже неизвестно. Посему, доколе он будет произносить о тайне слова, не растворенные Божественной солью Писания, мы обуявшую соль внешней мудрости оставим на попрание верным. Кто из евангелистов говорил о единении плоти? Какое апостольское писание научило нас буквально такому выражению: «восприятие человека»? Какой закон, какие пророки, какое богодухновенное слово, какое соборное постановление предало на! оное? Впрочем, из сих двух речений одно он приписывает нам, а другое называет своим, но какое из них присваивает себе, доселе верно не знаем. Ибо мы или ни того, ни другого себе не усвояем, или оба, потому что различия ни в одном из них по отношению к другому никакого найти нельзя; и единение бывает с чем–либо, и восприятие, конечно, есть восприятие чего–либо; каждое указывает на отношение к другому: и восприявший соединяется с восприятым, и соединяющееся соединяется чрез восприятие.
35. Но он говорит, что мы признаем два лица: Бога и восприятого Богом человека, а он думает и говорит иначе: называет его соделавшимся плотью (σαρκωθεντα) и не отличным от бестелесного, но одним и тем же по подобию нашей жизни во плоти. Опять представляет нам несостоятельные рассуждения в защиту своих бредней. «Плотяной» его «бог», естественно, не может быть простым, потому что плоть никто не может представить простой, а что не просто, то не может не быть сложным; он же говорит, что (Божество) едино так же, как един каждый из нас, состоящий, по его словам, из духа, души и тела. Теперь в первый раз мы знакомимся с новым видом счисления, узнавши, что разделенное на три различного рода части составляет единицу. Но о вымышленном им духе отлагаем речь до другого времени. По простейшему же известному нам делению человека, какое принимают очень многие, мы признаём, что он состоит из разумной души и тела. Каким же образом мы назовем два одним, когда Апостол в каждом из нас ясно усматривает двух человеков в том месте, где говорит: «аще и внешний наш человек тлеет», разумея тело, «обаче внутренний обновляется по вся дни» (2 Кор. 4:16), указывая надушу. Если бы даже, по Аполлинарию, было три человека — два, конечно, невидимых, а один видимый, то и тогда, сколько бы он ни утверждал своего мнения примером нашей природы, два называя одним, его опровергает Павел, разделяя человека в двойственном значении. Итак, поелику он подтверждает свои слова примером взятым от человеческой природы, то с опровержением оного, конечно, опровергается и сказанное им. Говорит же он следующее: «как человек есть един, состоя из духа, души и тела..» Я желал бы, чтобы Аполлинарий определил прежде, из какого тела, откуда взятого и когда образовавшегося, и из какой души, разумной ли и человеческой или неразумной, т. е. скотской, думает он, составлен оный человек, и затем уже влагал бы в него разумную часть, которую он называет чем–то отличным от духа, в нас именуя умом, а в нем — Богом. Ибо если бы мнение о каком–то образовании небесного человека по подобию земного было признано за доказанное им прежде, то мы, наученные сей новой мудростью, последовательно пришли бы к нелепому вымыслу, что земной род людей состоит из разумной души и тела, но есть еще род небесных людей, у которых душа неразумна, тело человеческое, а вместо ума Бог примешивается к существу души и тела. К числу сих–то людей относит Аполлинарий явившегося на земле (Господа). Но как существование такого рода людей не доказано, да и нет их, а рожденный от Девы отвергается как не причастный даже естеству нашему; то я почитаю нелепым и непоследовательным называть телом то, что не есть тело, а душою человеческой — что не есть душа. Ибо кто не признаёт душу разумной, тот, конечно, не согласится признать ее и человеческой. Если же это не так, то какое приложение имеет оное трехчастное деление человека, коего две части суть человек, а третья — Бог? «Ибо, — говорит, — не был бы он в подобии человека, если бы не был умом, облеченным плотью, как человек». Был ли лишен ума Тот, в Котором Бог примирил мир себе, этого сказать не могу, но что пишущий это был вне ума в то время, когда писал сие, об этом, если не скажу я, возопиют самые его сочинения. Как может сделаться подобным человеку Тот, Кто есть нечто иное, чем человек, совершенно отличное от нашей природы? Ибо если человек состоит из разумной души и тела, а в вымышленном им человеке нет ни оного тела, ни души, то каким образом примет подобие человека то, что чуждо нашей природе? Но он называет его не человеком, но говорит, что он был как бы человек, не имеющий ума, облеченный плотью. Эти слова и убеждают меня в безумии писавшего оные. Как может уподобиться какой–либо природе то, что оной совсем непричастно? Да и что это за ум, облеченный плотью, тесно с нею соединенный, не отделяемый от нее, но всегда таковым пребывающий? Не из такого ли же он и происходит? Ибо плоть не может и родиться иначе, как только от плоти, как говорит негде Спаситель, что «рожденное от плоти, плоть есть» (Ин. 3:6). Или впоследствии делается таковым? Но в какую же плоть облекшись, он является во плоти? В ту ли, которая существует? Но она происходит из такой же плоти. Или в несуществующую? Но тогда его нельзя назвать имеющим плоть (ενσαρκος), потому что от несуществующего не мог он и заимствовать сего имени.
36. Но посмотрим на неотразимую силу его силлогизмов, которыми он убеждает нас согласиться на то, что Единородный Бог есть воплощенный ум. «Если, — говорит, — Господь не есть ум воплощенный, то Он есть мудрость». Вот непреоборимое положение! Одно из двух, думает он, непременно есть Господь: или ум воплощенный, или мудрость, потому, говорит, необходимо Ему быть тем, если не есть сия последняя, что если Он не будет умом воплощенным, то все, что не есть воплощенный ум, есть мудрость. Итак, что же камень? Что жук? Что прочие предметы, являющиеся нам? Конечно, и относительно их скажет одно из двух: что они суть или ум воплощенный, или мудрость, но ни одно из них не есть ни ум, ни мудрость. Следовательно, рушилось положение нашего сочинителя, и все лжеумствование распалось, как скоро с разрушением основания пало вместе и все его умозаключение. Ибо ничем не доказывается, что эти понятия имеют такую резкую противоположность между собой, что где есть одно, там нет другого, или, наоборот, где нет одного, там непременно находится другое; но ничто не препятствует быть обоим вместе или ни одному. И с противоположной стороны мы также увидим несостоятельность сего положения. Если принимается за истину, что если Он не ум воплощенный, то мудрость, — то истинно будет и то, что вытекает из противоположности, именно, если Он мудрость, то не есть ум воплощенный. Но всякий, исповедающий веру, признает, что Христос есть мудрость, следовательно, по положению мудреца (сего), надобно признать, что Он не есть ум воплощенный; так обеими сторонами доказательства — и первой, и второй, и тем, что он теперь сказал для подтверждения своего мнения, сам сочинитель доказывает, что Господь не есть ум воплощенный. Таково положение — таково и посредствующее доказательство, достойно того и другого и заключение, которое, говорит: «пришествие к нам Христа было не пришествие Бога, но рождение человека». Пусть смеются над сими словами горделивые, мы же, находя более приличным оплакивать лживость сказанного, отказываемся далее обличать сие учение, дабы не показаться насмехающимися. Ибо кто по справедливости не посмеется над несвязно построенным силлогизмом? Но я изложу самые слова его по порядку; они таковы: «если Господь не есть ум воплощенный, то Он будет мудростью, просвещающей ум человека, но она находится и во всех людях. Если же это так, то пришествие Христа не есть пришествие Бога, но рождение человека». Что Господь есть мудрость, превосходящая всякий ум, — никто из благочестивых мужей, руководясь в этом словами святых отцов и апостолов, отвергать не станет. Ибо и Павел ясно вопиет, что Христос «бысть нам премудрость от Бога» (1 Кор. 1:30), слышим также из уст Апостола, что «явися нам благодать Божия спасительная», научающая нас отвергнуться «нечестия», чрез святость и праведность ожидать «блаженного упования» (Тит. 2:11–13). Но что единородный Бог, который над всем, чрез всех и во всех, есть ум воплощенный — этого мы ни от кого из святых не слышали и не допустим внести в божественные Писания это странное и новое учение, особенно имея в виду цель сего нового писателя, который при помощи отвратительного сего лжеумствования хочет ниспровергнуть исповедание премудрости Господней, как мы веруем, умудряющей всякий ум, а на место сего внести странное и новое учение, что Единородный должен называться умом воплощенным, а не мудростью. «Ибо если, — говорит, — мы станем веровать, что Господь есть мудрость, именно та, которая обретается во всех приемлющих благодать, то должны признать, что пришествие к нам Христа уже не есть пришествие Бога», как будто оно чуждо мудрости Божией. Итак, кто не пожалеет о безумии сего мужа? Если, говорит, станем верить, что Христос есть мудрость, то пришествие Его «иже бысть нам премудрость от Бога» (1 Кор. 1:30) не будет пришествием Бога, но рождением человека. Если бы Он был мудростью? Неужели ты не слыхал Пророка, который возглашает: «Дева во чреве зачнет и родит Сына» (Ис. 7:14), и: «отроча родися нам», и что Сын имеет начальство на раме своем, что Он есть сильный и крепкий и Отец не только прошедшего, но и будущего века? (Ис. 9:6).
37. Но опустим сии сноподобные бредни, в которых он возвещает, что Христа должно называть умом воплощенным, а не мудростью просвещающей и что явление Его в жизнь нашу совершилось не чрез рождение. Посмотрим на другое умозаключение. «Если, — говорит, — Слово было не ум воплощенный, но мудрость…» Здесь опять на каком основании этот мудрец ум противопоставляет мудрости как предметы противоположные? Тщательно различающие вещи говорят, что противоположно называемые предметы при взаимном присутствии устраняют друг друга, как например, жизнь — смерть, и смерть взаимно жизнь, порок — добродетель, а последняя — первый и все другое, относящееся таким же образом. Итак, каким же образом он, подобно противоположным предметам, так ум противопоставляет мудрости, как будто им обоим невозможно быть вместе в одном и при одном предмете? Ибо, «если Он, — говорит, — не был ум воплощенный, то мудрость», все равно как бы сказал кто–нибудь, если нет здравия, то болезнь. Как же он доказывает свою мысль? «Если, — говорит, — в уме была премудрость, то Господь не снисшел к нам и не истощил себя». Доказательство неопровержимое! Как на основании того, что Господь был премудрость, утверждает, что Он не сходил к нам. Итак, если на основании того, что Господь есть мудрость, отвергает Его нисшествие (на землю), то, признавая оное, по необходимости должен утверждать, что Он не есть премудрость. Но Аполлинарий признает нисшествие Господа, следовательно, должен признать вместе с сим и то, что Он не есть премудрость. Таковы мудрые доводы сего славного (писателя) против истины! Потом без последовательной связи присовокупляет к сему положению не вытекающее из утвержденных оснований заключение такого рода: «посему и был человек, ибо человек, по Павлу, есть ум во плоти». Прошу читателей не думать, будто мы сами от лица Аполлинария сочиняем это в шутку, на смех; можно из самих его сочинений узнать, что слова сии произнесены им буквально так, как есть. Итак, у какого Павла человек называется воплощенным умом? Пусть скажет нам, какого иного имеет сокровенного Павла. Ибо «Павел раб Иисус Христов, зван Апостол» (Рим. 1:1), во всех своих писаниях ничего такого не сказал. Итак, если ни требование последовательности, ни (какое–либо) свидетельство не подтверждают сего учения, то откуда это странное измышление догматов может иметь достоверность? К сказанному присовокупляет еще другую мысль: «поелику, — говорит, — сей земной был человеком и (притом) небесным…» Но он опять, говорю, забыл о Марии, которой благовествует Гавриил, на которую, как веруем, нисшел Дух Святый, которую осеняет сила Вышнего, от которой рождается Иисус, имеющий начальство на раме своем, то есть в Себе носящий Начало. Начало же, конечно, есть Бог Слово, сущий в начале, и который есть (Сам) Начало, как говорит негде слово Писания: «Аз есмь начаток» (Апок. 1:8). Итак, пусть или докажет нам, что Дева была не на земле, или перестанет вымышлять небесного человека и не боится за людей простых, что они погрешают против Божества; как будто принимая (во Христе) человечество, они не могут признавать в Нем вместе с тем Божества. Ибо рождение от жены есть дело человеческое, Дева же, послужившая сему рождению, явила вышечеловеческое дело; так что рожденное от нее есть человек, а сила к рождению не от человек, но от Святаго Духа и силы Всевышнего. Итак, по истинному разумению Он есть и человек, и Бог — в видимом человек, в умопостигаемом Бог. А он в заключении не так говорит, утверждая, что Божество в видимом, а не в умосозерцаемом.
38. Но перейдем к дальнейшему его умозаключению. «Если, — говорит, — с Богом, который есть ум, был во Христе и человеческий ум…» Вот первое положение! А мы противопоставляем сказанному вот что: кто из святых определял Божество как ум? Из каких писаний мы знаем, что Божество есть то же, что ум, чтобы признать за истину сказанное им, что человек во Христе не имел ума, а Бог бывает умом для лишенного ума? Следовало бы вполне выписать это оскорбительное умозаключение, но боюсь, чтобы читатели не почли нас за каких–нибудь насмешников, как будто мы на посмеяние выставляем безобразие писателя. Впрочем, чтобы сие положение не осталось без вывода, считаю нужным привести одно заключение, выбросив сор, который помещен в средине. «Если, — говорит, — с Богом, который есть ум, был во Христе и человеческий ум, то дело воплощения в Нем не совершается. Если же не совершается дело воплощения в самодвижимом и никем не принуждаемом уме, то это дело, которое есть разрешение греха, совершается в движимой другим и приводимой в действие Божественным умом плоти; участвует же в сем разрешении самодвижный наш ум в той мере, в какой соединяет себя со Христом». Смотри, как соответствуют первому положению сии заключения! Может быть, для изъяснения сих загадочных сновидений нужен нам какой–либо ясновидец и прорицатель, чтобы сказать нам, что значат сии новые речения: «самодвижный ум, и другим движимый, плоть, совершающая дело разрешения». Но оставим и это на посмеяние необузданной юности, сами же перейдем к тому, что у него следует в сочинении далее. «Если, — говорит, — один приобретает что–нибудь более другого, то это делается чрез упражнение, а во Христе нет никакого упражнения, следовательно, (в Нем) нет и ума человеческого». Как он не помнит богодухновенного Писания? Какое упражнение научило искусству Веселеила? Откуда знание столь многого у Соломона? «Ягодичия обирая» (Ам. 7:14), Амос, будучи из пастухов, как получил столь великую силу в пророчестве? И однако ж никто из упомянутых мужей не сходил с неба, не был в начале и не был равен Богу.
39. Но умолчим и о следующем умозаключении, особенно потому, что оно имеет сродство с предшествующим ему заключением, которое буквально таково: «Итак, не спасается род человеческий восприятием ума и всего человека, но приятием плоти». Таково его заключение, различие же между восприятием (αναληψις) и приятием (προσληψις) пусть изъясняют те, которые занимаются изучением грамматических тонкостей, чтобы научить юношей легко распознавать малозначительное различие между теми частицами речи, которые называются предлогами. Ибо мы думаем, что приятый восприемлется и восприятый приемлется, научившись такому употреблению сих слов из Писания: «со славою приял мя еси» (Пс. 72:24), говорит Давид, и в другом месте: «избра Давида раба своего, и восприят его» от овец отца его (Пс. 77:70). Итак, и со славой приятый восприят, и от стад восприятый принят. Об одном и том же Аполлинарий употребляет два выражения, так что едва ли и сам может сказать, что он имеет в виду, говоря, что не восприятием, но приятием Единородный совершил тайну вочеловечения. Я же, опасаясь, чтобы в тине бессвязных слов его не погрузить своей речи, большую часть его пустословия опускаю, почитая достаточным для обличения нелепости его учения самое буквальное изложение написанного им; так что и желающий с особенной силой напасть на сию ересь не столько бы обличил нелепость оной своими доказательствами, сколько обличают его собственные слова; потому что, стараясь доказать ложь, он слабостью защиты явно обнаруживает нечестие своего учения. «Ибо, — говорит, — если с человеком совершенным соединился совершенный Бог, то было бы два». Следовательно, несовершенное в соединении с совершенным не принимается им за два. Неужели никогда не видал оный знаменитый муж детей, котррые, счисляя пальцы на руке, малый вместе с большим, меньший называют одним и больший одним, однако же говорят, что их два, если считают тот и другой вместе. Ибо всякое число есть сложение единиц, означающее вообще сумму, из них составленную. Хотя же число, каково бы оно ни было, от соединения с другим числом увеличивается по количеству в величине пред меньшим, однако и меньшее число будет одно, хотя по величине и уступает большему. Итак, когда мы берем два'числа равной величины, то называем двумя совершенными, когда же соединяем меньшее с большим, то также называем двумя, но одно недостаточным, а другое — совершенным. Но этот сильный в арифметических сведениях муж, если имеет пред собой два совершенных по своей природе предмета, говорит, что они так и называются — два; если же один предмет будет с недостатками, а другой — совершенный, то говорит, что оба составляют одно; не знаю, как соединяя несовершенное с совершенным и придумывая единство между предметами несовместимыми по своим противоположным свойствам. Ибо совершенное с совершенным, а несовершенное с несовершенным по сходству своему скорее соединяется, но каким образом может быть единство противоположного с противоположным, то есть несовершенного с совершенным, пусть скажет нам составитель правил этой новой арифметики.
40. Но он считает неприличным признавать в Единородном Боге ум человеческий и выставляет ту причину, что ум человеческий изменчив. Но по той же причине не должно приписывать Богу. и (восприятия) плоти, ибо и сам сочинитель не будет противоречить тому, что она изменяема, подобно одеждам сменяется с различными возрастами от юности и до совершенного возраста. Да и как быть неизменяемым тому, который сперва был носим на руках матерью, потом был в отроческом, далее в юношеском возрасте, и таким образом, мало–помалу достигая совершенства, пришел, наконец, в меру полного возраста человеческого? Итак, если ум отвергается по причине изменяемости, то по той же причине не должно быть приписано Ему и (восприятие) плоти, и таким образом, по суждению Аполлинария, оказывается ложным и все Евангелие, тщетно будет проповедание и суетна вера наша (1 Кор. 15:14). Если же он не отвергает веры в явление Христа во плоти и притом в сей изменяемой, то по сей же причине, конечно, не может отвергнуть и ума (в Нем). Но как Он, быв во плоти, не осквернился, так и, восприяв ум, не изменился в иного. Я снова буду вести речь об этом предмете, изложив прежде буквально его слова. «Следовательно, — говорит, — спасается род человеческий не чрез восприятие ума и всего человека, но чрез приятие плоти, которой по самой природе свойственно быть под управлением; нужен же (для него) ум неизменяемый, который бы не подчинялся ей по слабости ведения, но без всякого насилия приспособлял бы ее к себе». Кто не знает, что нуждающееся в помощи совершенно отлично по природе от не имеющего нужды в другом; и то, чему по природе свойственно находиться в управлении, отлично от того, что по самому естеству имеет власть управлять? Подобным образом по причине различия сущности установлено, чтобы естество бессловесных было подчинено естеству человеческому, и человек имеет сию власть над бессловесным не приобретенную, но существенно ему принадлежащую. Итак, если природа плоти такова, что она должна находиться под управлением, как говорит Аполлинарий, а власть по естеству принадлежит Божеству, то каким образом, допуская это, полагает, что то и другое от начала едино по естеству; когда всем известно, что иная сущность у подчиненного и иная у начальствующего и что иное есть то, чему естественно состоять под управлением, и иное то, чему по естеству свойственно управлять? Итак, если в той и другом из сих. то есть в плоти и в Божестве, усматриваются противоположные свойства, то как сии два естества составляют одно? Каким образом он облекает Слово какой–то Божественной и небесной плотью? Даже более — он представляет сие Слово с плотью прежде (воплощения), как будто Оно не в последние дни по домостроительству приняло наш образ, но всегда было таковым и всегда в том же состоянии пребывает. Ибо кто говорит, что плоть нуждается в неизменяемом и требует руководителя, тот указывает прямо на нашу плоть, которая по изменяемости природы пала в грех. А если в Слове усматривается какое–то небесное и божественное (как говорит) тело, то из сего, конечно, следует, что он не приписывает Ему совершенно ни изменяемости, ни нужды в руководителе; не наше, но Божественного гласа слово, которое говорит, что «не требуют здравии врача, но болящии» (Мф. 9:12). Ибо на небе нет болезни (происшедшей) от греха, но мы, болея грехом, страдая наследственным злом, — мы по удобопреклонности ко злу возымели нужду в Неизменяемом, заблудившись от спасительного пути, потребовали Руководителя ко благу; так что если сочинитель в самом деле приписывает плоти Господней то, что ей и по природе свойственно быть в подчинении другому и нуждаться в неизменном вожде, то он в своей речи не другое что обозначает, как наш состав. Если же он плотью ограничивает Божество, а Божество, пока Оно есть то, чем называется, не нуждается в другом руководителе, потому что не допускает изменения и перемены к худшему, то напрасно разглагольствует о том, что сказано им теперь о плоти; ибо если она какая–либо божественная, то явно, что и не изменяема, если же изменяема, то, конечно, не божественна.
41. Итак, кто может проследить сей запутанный но, несостоятельный вымысл учений, никогда не постоянный, но подобно сонным мечтаниям являющийся то так, то иначе? То называет он плоть Слова божественной и Ему совечной, то приобретенной и восприятой; то говорит, что она имеет естество, совершенно отличное от нашего, страстного и смертного; то опять представляет оную одержимой немощью изменения и перемены и нуждающейся в руководителе и для того лишает ее ума, чтобы она уврачевалась Божеством; считая ум как бы препятствием Божественному промышлению о людях и (полагая), что Богу приятнее существо, лишенное ума. Итак, он думает, что блаженнее не иметь ума, если, как говорит, Бог восприемлет лишенное ума. Почему же он не поправляет Соломона, который говорит, что «разумный строительство стяжет» (Притч. 1:5)? Думаю, что под приточным гаданием говорится здесь не о другом каком–либо строительстве, как о нашей природе, обуреваемой злом и потерпевшей кораблекрушение, но попечением истинного Кормчего направляемой к пристани Божественной воли. Итак, если лишением ума спасается человек, то как же разумный строительство стяжет? Да и к чему должно быть ближе Божество по естеству? С чем наша мысль предполагает более взаимности в Божеском естестве? Плоть есть нечто грубое и твердое и имеет сродство с земной природой, а разум есть нечто духовное, неосязаемое и не имеющее очертания. Что из них оказывается более способным к соединению с Богом: то, что грубо и земляно, или что неосязаемо и не имеет очертания? Да и каким образом плоть соединяется с Богом, без насилия, как он говорит, соделываясь участницею чистой добродетели? Ибо кто не знает, что добродетель есть то, что правильно совершает воля? Плоть же есть орудие воли, приспособленное к стремлению разума и направляемое к тому, к чему побуждает движущее (оную начало); а воля есть ничто иное, как некий ум и расположение к чему–либо. Итак, если он говорит, что человек, в котором нет ума, участвует в чистой добродетели, то что же тогда будет (в нем) добровольно воспринимать добродетель? Разве сочинитель то, что действует по принуждению, понимает не терпящим никакого принуждения. Ибо если тело не вследствие благого стремления и соизволения ума бывает удалено от худых действий, то правильность действования будет делом необходимости, а не свободной воли, а избирающий доброе по обсуждению в мысли — выше всякой необходимости и насилия, потому что в самом себе имеет расположение к лучшему. Итак, каким образом сочинитель приписывает непринужденность тому, что лишено возможности делать выбор, в чем нет никакого собственного размышления, которое руководило бы его к добру? Ибо безгрешность, зависящая не от произвола, конечно, не заслуживает и похвалы; так мы не хвалим и тех, которые узами удерживаются от злодеяния, которых не расположение, но узы останавливают от совершения злых дел. «Но, — говорит, — Божество без всякого насилия усвояет себе плоть», то есть ненасилуемое он называет добровольным. Но каким образом то, что не имеет собственной воли, добровольно может усвоять себе добродетель? Ибо выбирать и желать, избирать полезное и отвергать вредное — все это дело разума, а лишенные ума рассуждать не могут. Итак, если плоть не насильственно усвояет себя Богу, то сочинитель сим свидетельствует, что она не лишена способности делать выбор и не без рассуждения и осмотрительности стремится к полезному для нее; а такого рода (существо) никто не назовет лишенным ума, ибо как в неразумном может быть какое–либо разумение? Таким образом, говоря это, писатель соглашается, что не только в человеке есть ум, но и преимущественно пред прочими. Ибо произвольное и непринужденное стремление к добру свидетельствует о совершенстве ума; а что усвоение лучшего есть дело разума, это лучше всего доказывает следующими словами, которые буквально таковы: «даруя, — говорит, — всякому подчиненному уму чистую добродетель!..». Итак, если в уме усматривает чистоту добродетели, то каким образом лишает ума оную плоть, в которой видит (сию) чистоту? Одно из двух необходимо должно быть погрешительно в его слове: или участвует в добродетели ум, или плоть, без принуждения усвояющая себе добродетель, не имеет ума.
42. А что присовокупляет он далее без последовательности и связи с предыдущим, исследовать подробно я считаю излишним. Слова его такого рода: «и всем, — говорит, — которые уподобляются Христу по уму и не различествуют от Него по плоти…» Что значит мерзость сих слов, пусть изучают благоговеющие к сему заблуждению, мы же перейдем к тому, что следует у него далее. «И если бы с человеком, — говорит, — соединился Бог, совершенный с совершенным, то стало бы два, один Сын Божий по естеству, а другой по усыновлению». С удовольствием желал бы я узнать от тех, кои признают это учение: если они человека, имеющего ум и совершенного, называют сыном усыновленным, то как назовут безумного (ανοητον), ибо так, конечно, называют человека, не имеющего ума? Ибо Единородный Бог, будучи Сам в Себе без всякого недостатка и совершен, называется Сыном потому, что самое естество заверяет истину сего наименования, какое же имеет название прибавок полусовершенного человека? Ибо если, по Аполлинарию, совершенный человек называется усыновленным сыном, полусовершенный человек, в какой мере он человек, очевидно, будет называться полуусыновленным сыном, поелику обладает только вполовину названием усыновленного, так что, сказать точнее, усыновленный есть оный совершенный человек, а сей (полуусыновленный) лишен половины из трехчастного состава по воле тех, которые делят человека на такие малые части. Но если неприлично Богу иметь усыновленного сына, то, конечно, это одинаково неприлично как относительно совершенного, так и несовершенного, особенно же и более всего неприлично иметь его в урезанном (виде). Потому что если и самое лучшее в человеческом естестве в сравнении с Божеством представляется чем–то ничтожным и далеким от достойного понятия о Боге, то гораздо постыднее было бы видеть при нем естество искаженное. Ибо плоть от того не ближе естеству Отца, что она не есть ум; но что касается до естества, то от сущности Отца одинаково далеки как весь человек, так и часть его; и ни то, ни другое из находящегося в нас — ни ум, ни тело не имеют соответствия со все превосходящим Естеством по самой сущности. Хотя бы баснословие (Аполлинария) вымышляло для Божества какой–то небесный вид плоти, но тем не менее никто здравомыслящий не согласится признать и эту плоть единосущной Богу и Отцу. Если же плоть чужда сущности Отца, то как чуждое Отцу может быть Сыном? Ибо совершенно необходимо, чтобы истинно сущий от кого–либо по сущности был то же, что и родивший его. Но Отец не есть плоть, посему и происшедшее от Него, конечно, не будет плотью, ибо рожденное от духа называется духом, а не плотью. Следовательно, если плоть не от Отца, то и не есть Сын (Его). Итак, как же назвать (сию плоть)? Какое ни придумают имя для оной вымышленной сочинителем небесной плоти, то самое мы, последовательно поступая, дадим и воспринятой от людей плоти, и каким именем ни назовут нашу (плоть), таким же точно будет называться и та. Земное тело не есть Сын, не будет Сыном, конечно, и оное (небесное); земное есть сын усыновленный, таковым же будет небесное; два сына здесь, два, конечно, и там; один Сын в оном (небесном) — плоть и Божество, то же и здесь (в земном). Поелику вся тварь одинаково далеко отстоит от Божеской сущности, то как небесное, так и земное в одинаковой степени должно быть признаваемо чуждым естеству Отца. Остается, что разумнее всего мыслить о Боге то, что соответствует цели Его человеколюбия, а особенного имени Ему не изыскивать никакого, именовать же по тому (свойству), которое в Нем избыточествует и преобладает. Как бывает на море, если кто каплю уксуса пустит в море, и капля сия делается морем, изменившись по качеству в морскую воду; так и истинный Сын и Единородный Бог, свет неприступный, самобытная мудрость, и освящение, и сила и все высокое по имени и понятию, пребывает тем же, явившись людям во плоти. Поелику же плоть, пребывая плотью по своему естеству, претворилась в море нетления (как говорит Апостол, «пожерто будет мертвенное животом» (2 Кор. 5:4)), то вместе с нею и все, что являлось тогда как плотское, пременилось в Божеское и бессмертное естество; ни тяжести, ни вида, ни цвета, ни твердости, ни мягкости, ни очертания по величине, ни другого чего из видимого в ней тогда — ничего не остается; потому что вследствие примешения к Божеству уничиженность плотского естества принята в общение Божеских свойств. Итак, для нас нет никакой опасности понятие о Троице расширить до четверицы, как говорит Аполлинарий, и мы ангелов не порабощаем человеку, как он баснословит о нас. Ибо не человеку служат они, преклоняясь пред Владыкой, и не стыдятся поклоняться Явившемуся вселенной во плоти. Ибо говорит Писание: «Егда же паки вводит Первородного во вселенную, глаголет: и да поклонятся Ему вси Ангели Божии» (Евр. 1:6). А во вселенную вход один — чрез рождение, и нельзя иначе войти в жизнь человеческую, как чрез сей вход. Посему–то слово (Божие) и называет рождение Его во плоти входом во вселенную. Итак, если Ему, вступившему во вселенную, поклоняются все ангелы, а вход Его есть рождение во плоти, то не мы покоряем Владыке Его собственное стяжание, но сама природа ангелов не остается в неведении о высшем владычестве. Итак, да умолкнет говорящий оные пустые слова, будто мы горнее делаем дольним, богоносных ангелов порабощаем богоносному человеку.
43. К сему Аполлинарий присовокупляет еще следующее: «если приявший Бога есть истинный Бог, то богов было бы много, потому что многие принимают Бога». Что же мы на это скажем? Что «Бог бе во Христе, мир примиряя Себе» (2 Кор. 5:19), достоверный свидетель сему великий Павел. Если же сочинитель думает, что мы вводим в свое учение многих богов, потому что, исповедуя, что Бог во Христе примиряет мир себе, мы допускаем, что и в других людях был Бог таким же образом; то мы на это скажем следующее: если много было матерей дев, и ко многим было откровение тайны (воплощения) Гавриилом, и над каждой было наитие Святаго Духа и присутствие силы Всевышнего; если пророки проповедь о благодати относят ко многим, так что во множественном числе говорят: отроки родились нам и сыны даны нам, и (говорят): девы во чреве приимут, и имя всех рожденных ими будет Еммануил; если все ногами ходят по волнам и несказанной силой питают толикие тысячи в пустыне, к насыщению умножая хлеб, в руках учеников растущий; если все четверодневных умерших воскрешают от гробов; если все бывают агнцами Божиими и за нас закалаемой пасхою (1 Кор. 5:7), и ко кресту пригвождают грех, и разрушают державу смерти, и в виду учеников восходят на небо, и сидят одесную Отца; если все приидут судить вселенную в правде, и о имени всех исповесть язык небесных, и земных, и преисподних, — то мы допускаем, что много богов, то есть если признаки сии будут принадлежать многим. Но если один есть Господь Иисус, чрез Которого все, если «из Того и Тем и в Нем всяческая» (Рим. 11:36), и к Нему одному относится столь многое число приличествующих Богу понятий, то есть ли какая опасность вымышлять многих богов, когда говорим, что Бог явился во плоти, имея (человеческую) душу? Ибо что видимое в Нем было человек, кто так не сведущ в евангельском учении, чтобы не знать сказанного самим Спасителем к иудеям: «Ныне же ищете Мене убити, человека, иже истину вам глаголах» (Ин. 8:40)? Видишь ли, что в сих словах Спаситель указал убиваемое, сказав: «ищете Мене убити», — не истину, но «человека», чрез которого говорила истина? Ибо не человек был Тот, Кто глаголал истину, но явно, что глаголавший истину был Бог, а человек посредствовал в передаче сказанного им людям, свойственным ему языком, почему и соделался посредником между Богом и людьми; так как естество человеческое не может вступить в непосредственное общение с Богом и потому имеет нужду в сродном с Ним по природе голосе, чрез который могло бы усвоить себе горнюю силу. Но надобно оставить и это и обратить речь к следующему далее. «Ничто, — говорит, — так не соединено с Богом, как плоть восприятая». Вот осмотрительное изречение! Ничто так не соединено с Богом, как плоть: ни благость, ни вечность, ни нетление, ни вседержительство, ни другое какое из приличествующих Богу понятий, но все это ниже плоти по причине соединения с Богом и единения Бога с плотью, хотя и после приобретенной. Именно это признает сочинитель, ибо, назвавши плоть восприятой, он указал тем на то, что она есть нечто после привзошедшее.
44. Но прейдем молчанием и то, что следует (у него) далее, так как в том самом, что сказано им, заключается доказательство несостоятельности баснотворства, и оно безвредно для читателей. Ибо, предположив, что никакое из приписываемых Богу свойств не соединяется так с Господом, как соединяется с Ним восприятая плоть; он вывел заключение, что не так соединенное, не так должно быть и почитаемо, потом присовокупляет (окончательный) вывод: «а ничто не достойно такого поклонения, как плоть Христова». Мы с намерением умолчим о сей нелепости, как очевидной даже детям. Ибо даже сидящие на улицах и занимающиеся играми дети скажут, что если ничто не заслуживает такого поклонения, как плоть, то плоть Христову должно чтить более, нежели самое величие Отца, Его всемогущую власть и владычество над всем и все другое, что естество наше может изречь о Божеской силе; так что, оставив поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, мы должны чтить и поклоняться одной всему прочему предпочтенной им плоти и ей приписывать вседержительство. Подобно предыдущим и следующее его умствование: «плоть Господа поклоняема, поколику есть одно лицо и одно живое существо с Ним». Упомянув о двух предметах: о Господе и плоти Господа, он из сих двух (предметов) соделал одно живое существо. Теперь ясно открывается, что означает заглавие его сочинения, в котором обещает преподать нам учение о божественном бытии во плоти по подобию человека. Поелику при соединении души с телом жизнь человеческая составляется из смешения и общения сих разнородных (сущностей), и никто не может иначе определить состав наш, как соединением души и тела, то, вообразив то же самое о Божеском естестве, сочинитель тотчас в заглавии сочинения обещает показать, что и Божество должно умопредставлять по подобию человека во плоти; и теперь в этой части сочинения явно старается доказать, что плоть и Господь — одно лицо и одно живое существо, все равно как бы сказать, что видимое в Павле, по тесной связи души с телом, тожественно с невидимым в нем. Следует ли подробно исследовать слова его и опровергать оные? И кто не вправе обвинять нас в неразумии, если мы будем останавливаться над изобретенными им умствованиями? Итак, перейдем к следующему: «если, — говорит, — никакая тварь не достойна такого поклонения с Господом, как плоть Его….» Кто будет в состоянии решить спор Аполлинария с Евномием о первенстве в нечестии? Кто из них будет признан достойным наград за свои великие подвиги против истины? Может быть, при равных силах и одинаковой их ревности к нечестию победа между обоими останется нерешенной. Ибо сей, называя Единородного Бога тварию, не отвергает того, что Он одарен умом и чужд телесной природы, а тот, представив Его от начала сложным из двух различных природ, доказывает, что Он есть одно из плоти и Божества, наподобие человеческой природы, составленное живое существо. Итак, они оба равно поклоняются твари, но Евномий говорит, что она сотворена разумной и бестелесной по естеству, а сей присовокупляет еще, что сия тварь имеет телесную природу и что сия последняя достойна большего поклонения пред прочими тварями, как бы допуская поклонение и другим тварям, что и ревностные чтители учения Евномия признают за нечестие. Итак, пусть он получает награду за победу над Евномием и пусть торжествует украшенный венцами нечестия. Ибо в какой мере в природе человеческой тело ниже души, в такой мере между поклоняющимися тварям узаконяющий поклонение плоти в рассуждении нечестия бессмысленнее почитающих разумную тварь, особенно если он считает достойными поклонения и другие твари, между которыми сравнительно большего поклонения заслуживает плоть. Ибо «никакая, — говорит, — тварь не достойна такого почтения, как плоть Господа». Все существа, признаваемые нами сотворенными, имеют ли они плоть или бесплотны, равно низки пред силой Божиею, но по отношению к самим себе одни имеют более достоинств, а другие менее, так что естество бесплотных существ имеет неравенство пред природой чувственной и телесной. Итак, в какой мере Евномий и Аполлинарий считают достойной поклонения тварь, в рассуждении нечестия они равносильны и равны, но приписывающий преимущество плоти пред духовной природой больше имеет преимущества в нечестии. Пусть же знают ученики сего ложного учения, с кем и о чем идет спор у их учителя!
45. Но посмотрим и на дальнейшие путы, выражаясь словами самого учителя Аполлинариева, которые он непрерывной цепью силлогизмов ставит читателям. «Если, — говорит, — кто думает, что человек соединяется с Богом преимущественно пред всеми людьми и ангелами…» Следовало бы и в этих словах отыскать смысл, но искать в приведенных речениях какого–нибудь внутреннего значения, не говорю правильного, но хотя сколько–нибудь доказывающего нечестивое учение, значило бы все равно, что в камне искать душу или в дереве — разум. Особенно же бессмыслие сказанного им доказывается связью речи: «тот, — говорит, — лишит свободной воли ангелов и человеков, как лишена оной и плоть. Лишение же свободы есть гибель для свободного живого существа; но Творец не погубляет созданного Им естества, следовательно, человек не соединяется с Богом». О какая сила доказательств! Какие неразрешимые плетения силлогизмов! Соединение с Богом уничтожает свободную волю человеков и ангелов, и лишение свободы делается гибелью для одаренного свободой живого существа, а как скоро это признано, то доказано, что человек не соединяется с Богом! Говорят ли что подобное чревовещатели? Прорекают ли подобное сему возглашающие от земли и научившиеся издавать волшебные звуки извнутри себя? Уничтожается свободная воля у людей и ангелов, если природа человеческая соединяется с Богом. Разве не человек был Тот, Который сказал: «ныне же ищете Мене убити, человека, иже истину вам глаголах» (Ин. 8:40)? Ужели не имел единения (ανεκραθη) с Божеским естеством Тот, Кто показал в Себе Божескую силу, свободно совершая все, что Ему было угодно? Но если сего в Нем не было, то будет отвергнуто евангельское свидетельство, совершенно обличен во лжи Павел, пророки и все те, кои предвозвещали чудеса о Господе, а также и те, кои повествовали о том, что произошло после. Если же это действительно было, и Бог явился во плоти, и плоть, соединившись с Божеским естеством, соделалась одно с Ним, то отсюда, по его пиитической басне, следует, что погибла в человеческой природе свобода воли, ангелы сделались рабами, лишившись, оттого что сие произошло, блага свободы! О неслыханное учение! Каково также заключение — сказать: «а потеря самопроизвольного действования есть гибель свободного живого существа». Неужели он не считает в числе живых существ слуг, потому что они, состоя под властью господ, не самопроизвольно распоряжаются жизнью? Сочинитель определяет живое существо самопроизвольностью его деятельности, а у кого нет самостоятельного действования воли, того не повелевает считать даже живым существом. Итак, (по его мнению) мертвым стал оный Ханаан, когда за непочтительность сделался рабом братьев, мертв был слуга Авраамов, мертв Гиезий — отрок Елисея, и в последующие времена — мертв был Онисим, мертвы все сотники, состоявшие под властью других. Да и что говорить об этом, мертвы (у него) все подчиненные власти начальников и (те) которых свободная воля встречает препятствия. Даже те, коим Павел повелевает повиноваться предержащим властям (Рим. 13:1), конечно, мертвы, хотя и имеют душу, потому что, не имея полной свободы, они погибли и не могут быть более живыми существами. Ибо того требует Аполлинариева басня, вымышленная им с той целью, чтобы оную бездушную плоть соединить с Богом, Который над всем; и будет ли эта плоть лишена души или ума — басня сия имеет одинаковое значение в том и другом случае. Тело без души есть мертвец, а что имеет душу без разума, то есть скот; каковой нелепости не избегает и сам он, лишая оную плоть свободной воли, потому что (одним) неразумным животным свойственно не владеть собой, но подчиняться власти человека.
46. Но оставим и это, а перейдем к тому, что следует далее в его сочинении, для краткости же я изложу мнение противника своими словами. Из трех, говорит, частей состоит человек: духа, души и тела, как учит сему и Апостол в Послании к Фессалоникийцам (1 Фес. 5:23), далее приводит следующую часть песнопения трех отроков: «благословите, дуси и души праведных» (Дан. 3:86), затем выражение: духом служить Господу (Рим. 1:9), присовокупляет и слова Евангелия, которые научают, что поклоняющимся Богу «духом (и истиною) достоит кланятися» (Ин. 4:24). Изложив это, прибавляет, что есть нечто кроме сего — плоть, противоборствующая духу; впрочем называет ее не бездушной, чтобы этим показать, что при душе и теле дух есть третье. Итак, говорит, если человек состоит из трех частей, а Господь — человек, то, конечно, и Господь состоит из трех частей: духа, души и тела. Теперь, чтобы стала очевидной погрешительность его понимания божественных Писаний, кратко рассмотрим порознь то, что им сказано. И сперва исследуем то, что у Апостола. Ибо, по нашему мнению, Павел не делит человека на три части, когда пишет фессалоникийцам оные слова, моля Господа всецело освятить их по телу, душе и духу (1 Фес. 5:23). Но здесь заключается некоторое высшее любомудрие в рассуждении нравственного устроения сей жизни и не здесь только, но и там, где он обращает речь к коринфянам (1 Кор. 2:14; 3:1; 15:44—47). Ибо там он указывает некоторого плотского человека и опять иного — духовного, а в средине между обоими — душевного. Человека страстного и вещественного называет плотским, не отягощаемого бременем тела, а пребывающего разумом в горнем именует духовным, того же, кто не есть вполне ни тот, ни другой, имеет однако ж общность с тем и другим, называет душевным. Говоря же это, он ни плотского не лишает умственной или душевной деятельности, ни духовного не представляет отрешенным от связи с телом и душою, ни душевного не выставляет лишенным ума или плоти, но прилагает наименования состояниям жизни, судя по тому, чего в них больше. Ибо «вся» восстязующий и ни от кого не востязуемый (1 Кор. 2:15) и есть во плоти, и имеет душу, и называется духовным; и в неистовстве плотской страсти посягнувший на отцовское ложе (1 Кор. 5:1) не был ни бездушен, ни лишен разума; равно и ведущий средний между похвальным и предосудительным образ жизни не лишен ни того, ни другого — он имеет в себе и ум, и обложен плотским естеством. Но поелику, как сказано (у Апостола), наименование точно приноровлено к видимым признакам жизни, то сластолюбцы, любители удовольствий и склонные к вздорным любопрениям называются плотскими; все же судящие и сами не представляющие для желающих никакого повода к осуждению по высоте образа жизни именуются духовными; душевным же называет того, кто стоит в средине между ними, кто на столько ниже сего, на сколько превышает того. Итак, поелику (Апостол) желает, чтобы совершенный в добродетели свидетельствовал о себе не только тем, что возвышенно в жизни, но обращал бы взор к Богу, хотя бы производил что–либо, имеющее отношение к телу, и не забывал бы Бога, хотя бы творил что–либо среднее (ибо «аще убо ясте», говорит, «аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите» (1 Кор. 10:31), так чтобы и при телесных занятиях не отпасть от цели — славы Божией); то и фессалоникийцам, уже во всем стремившимся к совершенству, преподает чрез благословение всецелое освящение, говоря: «Бог мира да освятит вас всесовершенных (во всем): и всесовершен ваш дух и душа и тело» (да сохранится) (1 Фес. 5:23.); то есть чтобы всякое телесное, и душевное, и духовное занятие направлено было к освящению. Вот наша мысль. Если же Аполлинарий говорит, будто для того благословляется особо ум и также отдельно — тело и душа, чтобы различить силу благословения в каждом из них, то каким образом всецелым сохранится тело, которое вполне и совершенно разрушается смертью? Как будет всецелым то, что от воздержания измождается и худеет, а от более строгого порабощения истощается? Может ли сказать кто–нибудь, что был лишен благословения тот бедный Лазарь, который покрыт был такими ранами и истощался от гноя? Но, хотя и странно сказать, в оном распадающемся от ран теле достигалось благословение Павлово; ибо тело Лазаря сохранилось всецелым для души посредством духовного образа жизни, поелику необходимыми требованиями плоти он не был отвлечен от горней надежды к каким–либо непристойным помышлениям; плоть не развлекала души, и разум не был возмущаем телесными страстями.
47. И псалмопение трех отроков, призывающее «духи и души праведных» к участию в славословии, не повелевает душам особо петь хвалебную песнь и духам отдельно от душ, как думает Аполлинарий. Ибо какая была бы хвалебная песнь одной души, если бы не была восполняема разумом? Душа, лишенная разума, как уже часто говорили мы, есть скот, которому чужда деятельность мышления и разумения. Итак, что же? Если (Писание), как говорит Аполлинарий, отделяет ум от нашей души, то допустим, что исполнять хвалебную песнь Богу для духов возможно, так как умом он называет души. Если же он думает, что душа есть нечто иное, чем ум, то как лишенный ума будет восхвалять Бога? Будет ли приятно Богу песнопение без участия мысли? И какая бы при этом для души была нужда в уме, если бы для божественного славословия достаточно было ее одной, если бы она воспевала песнь сама по себе, нисколько не нуждаясь в содействии ума? Но не этому научились мы от наших толкователей. Но так как души, отделившиеся от телесных уз, как говорит Господь, «равни бо суть Ангелом» (Лк. 20:36), то посему, соединяя души с духами, слово Божие показывает тем равночестность душ с ангелами; ибо ангелы суть духи, по слову Пророка: «творяй Ангелы Своя духи» (Пс. 103:4). С ними–то воспевать хвалебную песнь три отрока считают достойными и души праведных. Спаситель же говоря, что Богу «духом (и истиною) достоит кланятися» (Ин. 4:24), наименованием духа обозначает не ум, а то, что не должно иметь каких–либо чувственных представлений о Боге. Так как самарянка говорит Господу, что Богу должно поклоняться на горе, как будто ограниченному местом, что не свободно от чувственного образа мыслей; то посему Слово говорит заблудшей от истины, что дух есть Бог, то есть бестелесен, и что поклоняющиеся Ему не могут телесно приблизиться к бестелесному, а должны совершать поклонение духом и истиной. Таким образом, к исправлению клонящияся речения Он противопоставляет двоякому неведению (жены), противополагая истину образу, а дух — чувственным представлениям. Потому и Павел говорит, что не образом и не телом, но «духом» служит Господу (Рим. 1:9), следуя истине. А когда говорит, что плоть «закону бо Божию не покоряется» (Рим. 8:7), то этим самым обличает лживость их учения; ибо противоборствовать, пленять, не покоряться и все тому подобное суть действия произволения, а если нет ума, не может быть и произволения. Итак, Аполлинарий ту же самую плоть, о которой говорит, как об одаренной душой и способностью произвола, признает не лишенной и ума; хотя она и называется только плотью, содержит однако ж в себе все существенно человеческое; ибо нельзя назвать человеком, у кого не достает чего–либо такого, без чего была бы неполна его природа.
48. Но «из трех, — говорит, — частей человек». Допустим сие, хотя в его словах и нет ничего, что бы необходимо приводило нас к согласию с этим мнением. «И Господь, — говорит, — называясь человеком, состоит так же, как и сей, из трех частей — духа, души и тела». Не будем до времени противоречить и сему, ибо не погрешит, если кто скажет, что и у оного человека есть все, что составляет нашу природу. «Но Он (говорит это о Господе) есть вместе и небесный человек, и дух животворящий». Примем и это, так как и это наша мысль, если бы только он понимал ее как должно. Ибо срастворившийся с небесным и чрез сие примешение к совершенному претворивший земное должен быть называем не земным уже, а небесным. То же должно сказать и о (наименовании Его) животворящим духом, кто производит в нас действие (жизни), тот есть вместе и дух животворящий. Но посмотрим, для какой цели пользуется сочинитель тем, что сказано. «Если, — говорит, — из всех тех частей, какие и у нас земных, состоит небесный человек (так что имеет и дух такой же, как у земных), то он не есть небесный, но только вместилище небесного Бога». Много в сих словах неясного и трудного к уразумению по нескладности изложения, но тем не менее–то он хочет сказать, открыть легко. Ибо, говорит, если оный человек лишен ума, то он есть небесный, а если бы был целостным, то был бы уже не небесным, но вместилищем только небесного Бога. В этих словах что более другого отвратительно? То ли, что целостность служит препятствием Божеству, как будто плоть, лишенная ума, более способна к единению с Божеством, или же убеждение, будто Бог есть небесный, а восприявший в себя небесного Бога существует не там, где, как веруем, имеет бытие Бог, а в ином, отличном от неба, месте, и именуется иным чем–то, а не этим? Ибо если, как говорит Аполлинарий, он есть вместилище небесного Бога, а «Бог на небеси горе» (Еккл. 5:1), как говорит Екклезиаст, то следует, что вместивший в себя Бога существует вместе со вмещенным, справедливо именуясь вместо земного небесным. Так и тем, что говорит этот писатель (если бы он умел соблюсти последовательность в собственных словах), явно подтверждается учение истины, укрепляясь (даже) мудростью противников.
49. Но рассмотрим, что следует далее. «Если же, — говорит, — мы состоим из трех частей, а он из четырех, то он не человек, а человеко–бог (ανθρωποθεος)». Кому случится прочитать это, пусть не смеется над глупостью и бессмыслием сего выражения, а лучше восплачет о добровольной слепоте поработившихся такому неразумию. Если при вселении Божеской силы человеческое естество сохранится всецело, то Бог Слово будет именоваться человекобогом; и как мифология чрез сложение различных естеств составляет чудовищных животных, их очертания и названия, измышляя и именуя конеоленей, козлооленей и тому подобное, так и этот новый мифотворец, следуя своим наставникам в таких вымыслах, осмеивает Божественное таинство. И тогда как Апостол внятно возглашает, что «человеком воскресение мертвых» (1 Кор. 15:21), — не половиной человека или несколько больше чем половиной, а восприявшим, в полном смысле слова, всецелую природу, обозначаемую наименованием человека; он чрез постыдный вымысл сего имени вместо таинства создает чудовищного минотавра, подавая своими словами чуждым вере много поводов смеяться над учением веры. Ибо желающему поднять на смех наше учение невозможно не обратить внимания на это так нелепо составленное название — будет ли ему казаться преимущество на стороне сочинителя или на нашей; то ли, другое ли скажешь — не отнимешь у того слова значения сложности двух естеств. Так и называющий плоть небесной, тем не менее утверждает, что она есть плоть; плоть же, управляемая одушевленным некоторым естеством и содержащая в себе самой жизненную силу, как хочет того Аполлинарий, в собственном смысле именуется человеком; а восприявший оную и чрез нее явивший себя по естеству есть, конечно, иной, отличный от нее; ибо самое название восприятия показывает разность естеств восприявшего с воспринятым. Посему, если бы даже это было так, разве что послужит препятствием оскорблять во плоти явившегося Бога тем нелепым нарицанием, то есть когда бы и имеющего такой состав стали называть, следуя дерзкому выражению Аполлинария, человекобогом. Ибо и мифология наименовала козлооленя так не потому, чтобы к целому оленю отчасти присоединилось нечто козлиное, или, наоборот, чтобы в этом смешении животных случилось так, что к целому козлу присоединилась часть оленя, напротив, самое сочетание наименований дает разуметь, что (это животное) имеет столько же то, как и другое естество. Посему, если, по мысли сочинителя, один и тот же есть человек и Бог, то, каково бы ни было соединение, будет ли оно полным соединением естеств (того и другого) или неполным, он никак не избегнет нелепости этого составного имени. И если еллины, узнав это от него, обратят наше таинство в предмет насмешки, то он как подавший повод к богохульству непременно окажется под тем пророческим проклятием, которое говорит: горе тому, чрез кого «имя Мое хулится во языцех» (Ис. 52:5).
50. Исследуем и то, что он еще прибавляет к сказанному. «Если, — говорит, — он состоит из двух совершенных, то где Бог, там нет человека, и где человек, там нет Бога». Но если, по его словам, допустить смешение из несовершенного и совершенного, то дерзающие говорить подобное не то же ли самое скажут, что где Бог, там нет человека, и где человек, там нет Бога? Ибо во всех отношениях понятия Божества и человечества различны, и никто не подумает определять Божество усечением человечества. Божество не состоит в том, что не есть человечество, или что оно есть несовершенно, но как то, так и другое мыслится само по себе и умопредставляется как особое понятие. Кто слышит слово «Бог», тот вместе с сим наименованием принимает все, что прилично мыслить о Боге, а кто слышит название «человек», вместе с сим словом представляет все естество его; и значение сих имен не допускает никакого смешения, так чтобы в одном из них понимать другое; ибо ни тем это, ни этим то не означается, но каждое из имен сохраняет свой естественный смысл и по значению они никаким образом не могут быть взаимно заменяемы. Выражения «несовершенное» и «совершенное» возбуждают в уме слушателя различные понятия: совершенным мы называем то, что по отношению к своей природе полно, несовершенным же — противное сему. Ни то, ни другое из них, произносимое отдельно, не означает ни Бога, ни человека, но когда соединяется в названии с каким–либо предметом или именем, то дает разуметь, что означаемое (сими выражениями) есть или совершенно, или несовершенно. Итак, каким образом, если человек (оный) несовершен, Аполлинарий доказывает, что (сей) несовершенный есть Бог, как будто искажение нашей природы более соответствует понятию Божества?
51. Но продолжая речь далее, он опять говорит: «не может спасти мир тот, кто есть человек и подлежит тлению общему людям». Это и я утверждаю, ибо если бы природа человеческая могла сама по себе достигнуть совершенства, то таинство (воплощения) было бы излишним. Но поелику невозможно было ей избежать смерти, если бы Бог не подал ей спасения, то посему свет чрез плоть воссиявает во тьме, дабы плотью истребить происшедшую от тьмы пагубу. Но, говорит, «не спасаемся и Богом, если Он не примешался к нам». В сих словах сочинитель, кажется, здраво рассуждает и возводит ум к правильным мыслям, ибо словом смешение (μιξις) означает единение различных по естеству предметов. «Примешивается же (μιγνυται) к нам, когда соделывается плотью, то есть человеком, как говорит Евангелие: когда «плоть бысть», тогда «вселися в ны» (Ин. 1:14)». И эти слова его не были бы не согласны с здравым учением, если бы он после них не посеял несколько плевел. Ибо наше или, лучше сказать, самой истины слово таково, что Он тогда «вселися в ны», когда соделался плотью, и, наоборот, тогда соделался плотью, когда «вселися в ны». Итак, если Он с того времени плоть, с которого вселение между нами, то прежде благовестия Гавриилом Деве Слово никак не было плотью. Следовательно, тот лжец, кто говорит, что человечество Бога Слова снизошло к нам с неба и что прежде принятия естества человеческого человеком было то, чрез что Божество соединилось с человеческой жизнью. «Но, — говорит, — не истребляет греха людей, не соделавшись человеком безгрешным, и не разрушает владычество смерти над всеми людьми, если не как человек Он умер и воскрес». Если бы до конца речи он так правильно мыслил и произносил слова, согласные с учением Церкви! Но он опять обращается к своему и, осуждая церковное учение, говорит, что страдание мы относим к одному человечеству (Христа), в опровержение же нашего учения приводит свое доказательство такого рода: «а смерть, — говорит, — человека не может истребить смерти». Что имеет в виду доказать, говоря это? То, что самое Божество Единородного, сама истина, сама жизнь во время крестного страдания умирали, так что в продолжение оных трех дней не было ни жизни, ни силы, ни правды, ни света, ни истины, ни самого Божества. Ибо не говорит, чтобы во время смерти одного Божества оставалось другое, так как, по–видимому, часто спорит по сему предмету против Ария и доказывает, что Божество Троицы одно, которое когда умерло во Христе, то другого, как сам своим доказательством утверждает, конечно, не было. И я не могу представить, как может кто–либо подумать, что он не делает Божества смертным. Ибо смерть в человеке есть не иное что, как разрешение сложного, и когда тело в нас разрушается на свои составные части, душа с разрушением тела не разрушается; но разрушается сложное, несложное же остается неразрушенным. Итак, если смерть не простирается на душу, то каким образом может умереть Божество — пусть скажут не ведущие, «яже глаголют» (1 Тим. 1:7).
52. Что же следует за сим и составляет продолжение того же самого доказательства, я опущу. Ибо, доказывая в следующих словах, что самое Божество Единородного умирало, говорит, что «смерть человека не разрушает смерти и что неумерший не воскресает; из всего этого очевидно, что Сам Бог умер, почему, — говорит, — и невозможно было смерти удержать Христа». Все это как содержащее явную в себе нелепость я считаю нужным оставить без исследования, потому что всякий, имеющий ум, сам может видеть нечестие и глупость того, кто открыто объявляет, что Сам Бог умирал, потерпев смерть своим собственным естеством. Впрочем, может быть, не излишним будет заметить здесь, что даже и то, что он говорит от нашего имени, не чисто от (примеси) лжи, но есть в этом и такое, что он коварно выдумывает сам в поношение нашего учения. Он говорит, например, будто мы утверждаем, что Христос не был от начала, так что (только) Слово есть Бог. Но мы того, что сила Божия, и мудрость, и свет, и жизнь — все, что есть Христос, чрез плоть явились в последние дни, не отвергаем; сказать же, что сего когда–то не было, что не было когда–то Господа и Христа, Который под сими именами нам является и оными именуется, мы считаем столь же нетерпимым нечестием, как и совершенное отвержение имени (Христова). Ибо кто говорит, что Христос не от начала (а Христос есть Божия сила и Божия мудрость и все, что ни выражают о Нем высокие и боголепные Его именования), тот отвергает и все то, что разумеется под сим высочайшим именем. Ибо как под именем человека разумеется способность мыслить и приобретать сведения и другие отличительные свойства его природы; а как скоро о чем–либо говорим, что это не человек, вместе с отрицанием этого названия, конечно, отрицаются и прочие особенности (человеческого) естества; таким же образом и Христос есть сила, мудрость, образ и сияние, так что кто скажет, что Он не есть от начала, отвергнет, конечно, и все то, что разумеется вместе с оным (именем). Посему мы, руководимые священным Писанием, говорим, что Христос есть всегда и умопредставляется совечным Отцу. Ибо как Единородный Бог есть всегда Бог, а не соделывается таковым чрез причастие (Божеству) или чрез какое–либо восхождение из низшего состояния до Божественности, так и сила, и мудрость, и всякое боголепно именуемое совершенство совечно Его Божеству, так что не прибавилось к славе Его естества ничего, чего бы не было в Нем от начала. Имя же Христос мы особенно почитаем приличным прилагать Единородному от вечности, будучи приводимы к такому мнению самим значением сего имени; ибо исповедание сего имени заключает учение о Святой Троице, потому что в сем наименовании богоприлично обозначается каждое из исповедуемых нами Лиц. А чтобы не показалось, что мы говорим что–нибудь от себя, присовокупим пророческие слова: «Престол Твой, Боже, в век века: жезл правости, жезл Царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие: сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем радости паче причастник Твоих» (Пс. 44:7–8). В сих словах Писания престол указывает власть Его над всем, жезл правости означает нелицеприятие Его суда, елей же радости изображает силу Святаго Духа, Которым помазуется Бог от Бога, то есть Единородный от Отца, поелику возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Итак, если бы было время, когда Он не любил правды и не имел вражды к беззаконию, то следовало бы сказать, что не был некогда и помазан Тот, Который назван помазанным за то, что возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Если же Он всегда любил правду (потому что не мог иметь когда–нибудь ненависти к Себе, будучи Сам правдой), то понятно, что Он всегда должен быть признаваем и помазанником. Итак, как праведный никогда не был неправедным, так и помазанный никогда не мог быть без помазания, а никогда не пребывающий непомазанным, конечно, есть всегда помазанный (Χριςτος). А что помазующий есть Отец, помазание же Дух Святый, с этим согласится всякий, у кого сердце не закрыто покровом иудейским.
53. Итак, как же он говорит, будто мы не признаем бытие Христа от начала? Но исповедуя, что Христос имеет бытие вечно, мы на этом основании не думаем, чтобы и плоть Его, вымышленная Аполлинарием, была всегда при Нем, но знаем, что Он и от вечности есть Христос и Господь, и после страдания исповедуем Его опять тем же самым, как говорит Петр к иудеям, что «Господа и Христа его Бог сотворил есть, сего Иисуса, Егоже вы распяст» е (Деян. 2:36). Так говорим не потому, чтобы мы в одном лице представляли двух Христов и Господов, но потому что Единородный Бог, будучи Богом по естеству, и Владыкой всего, и Царем всей твари, и Творцом всего сущего, и восстановителем падших, по своему величайшему человеколюбию благоволил и падшее грехом естество наше не только не отвергнуть от общения с Собой, но и опять восприять в жизнь. Сам Он есть жизнь, посему, когда род человеческий был на краю (погибели), когда зло в нас возросло до крайней степени, тогда Он, чтобы не оставить никакого зла не уврачеванным, приемлет примешение к уничиженному естеству нашему, и восприяв человека в Себя и Сам быв в человеке, как говорит к ученикам: «и вы во Мне, и Аз в вас» (Ин. 14:20), чем был Сам, тем соделал и того, с кем соединился. Сам же Он был вечно превышним, посему превознес и уничиженное, ибо превознесенный превыше всего не нуждался еще ни в каком возвышении. Слово было Христом и Господом, тем же самым соделывается и присоединенный, и восприятый в Божество (человек); ибо не Тот, Кто есть уже Господь, возводится вторично на господство, но образ раба делается Господом. Посему «един Господь Иисус Христос, Имже вся» (1 Кор. 8:6), и называется одинаково Христом как Тот, Кто прежде век облечен славой Духа (что символически означает помазание), так и Тот, Кто после страдания, соединившегося с Ним человека украсив тем же помазанием, соделывает Христом, ибо (когда) говорит: «прослави Мя», как бы сказал: «помажи» «славою, юже имеху Тебе прежде мир не бысть» (Ин. 17:5.). Сия же слава, умосозерцаемая прежде мира, и прежде всякой твари, и прежде всех веков, которой прославляется Единородный Бог, по нашему мнению, не может быть какая–либо другая, отличная от славы Отца, потому что учение благочестия говорит нам, что предвечна одна только Святая Троица. «Сый прежде век» (Пс. 54:20), говорит об Отце пророчество. О Единородном же (свидетельствует) Апостол, что «Имже и веки сотвори» (Евр. 1:2), слава же, которая прежде век умопредставляется в Единородном, есть Дух Святый. Итак, что было во Христе, сущем у Отца прежде бытия мира, то также принадлежит и соединившемуся со Христом при конце веков (человеку). Ибо Писание говорит: «Иисуса, иже от Назарета, яко помаза Его Бог Духом Святым» (Деян, 10:38). Итак, да не клевещет он на наше учение, будто мы говорим, что Единородный Бог не всегда есть Христос. Он всегда есть Христос — и прежде домостроительства, и после, человек же Он ни прежде, ни после сего, но только во время домостроительства. Ибо ни прежде рождения от Девы Он не был человеком, ни после восхождения на небеса не остается плотью с ее свойствами; потому что, «аще же и разумехом», говорит Апостол, некогда «по плоти Христа, но ныне ктому не разумеем» (2 Кор. 5:16). Ибо плоть не осталась неизмененной оттого, что Бог явился во плоти, но поелику человечество изменяемо, а Божество не подлежит никакому изменению, то Божество ни в каком отношении не изменяется; Оно не может измениться ни в худшее, потому что худшего не допускает, ни в лучшее, потому что лучшего (Себя) не имеет; а человеческое естество во Христе приемлет изменение в лучшее, из тленного пременившись в нетленное, из преходящего в постоянно пребывающее, из кратковременного в вечное, из телесного и имеющего очертание в бестелесное и безвидное.
54. Поелику же они утверждают, будто мы говорим, что страдал человек, а не Бог, то пусть выслушают от нас вот что: мы исповедуем, что Божество находилось в Страждущем (Христе), но что бесстрастное естество не подвергалось страданиям. Чтобы яснее представить сказанное, мы разумеем это так, что человеческое естество состоит из соединения разумной души и тела; сочетание же того и другого происходит от некоторого вещественного начала, предшествующего образованию человека. Оное вещество делается человеком тогда, когда оживотворяется Божеской силой; так что если допустить, по предположению, что зиждительная сила Божуя не привходит к образованию состава (человеческого), то вещество остается совершенно без действия и движения, не возбуждаясь к жизни творческой силой. И как у нас в веществе усматривается некоторая животворная сила, которой образуется состоящий из души и тела человек; так и при рождении от Девы сила Вышнего, посредством животворящего Духа вселившись невещественно в пречистое тело и чистоту Девы соделав веществом плоти, взятое от девического тела восприяла для зиждемого; и таким образом создан был новый поистине человек, который первый и один показал на себе такой способ явления в бытие, который был создан божественно, а не человечески; потому что Божеская сила одинаково проникала весь состав его естества, так что ни то, ни другое не было лишено Божества, но в обоих, то есть в теле и душе, Оно, как и должно, пребывало приличным и соответствующим природе каждого образом. И как во время рождения (сего) человека Божество, прежде всех веков существующее и вовек пребывающее, не имело нужды в рождении, но при образовании человека вдруг став едино с ним, является вместе с ним и при рождении; так Оно, как вечно живущее, не имеет нужды и в воскрешении, но в том, кто Божеской силой возводится к жизни, восстает, не Само будучи воскрешаемо (ибо Оно и не падало), но в Себе воскрешая падшего. Итак, если Божество не имеет нужды ни в рождении, ни в воскресении, то очевидно, что и страдание Христа совершалось не так, как будто бы страдало Само Божество, но так, что Оно находилось в Страждущем и по единению с Ним усвояло себе Его страдания. Ибо естество Божеское, как сказано, соответственно соединившись как с телом, так и с душою и соделавшись одно с каждым из них, поелику «нераскаянна бо», как говорит Писание, «дарования» Божий (Рим. 11:29), ни от которого из них не отделяется, но всегда пребывает в неразрывной связи с ними; потому что ничто не может отделить (человека) от соединения с Богом, кроме греха, а чья жизнь безгрешна, у того единение с Богом совершенно неразрывно.
55. Итак, поелику грех не имел места ни в том, ни в другом, то есть ни в душе, ни в теле, то в каждом из них, как и следует, присуще было Божеское естество. Когда же смерть разлучила душу от тела, тогда сложное разделилось, а несложное43 не отлучилось, но неразрывно пребыло с тем и другим. Что Божество присутствовало в теле, сему свидетельством служит то, что плоть по смерти сохранилась нетленной, нетление же, конечно, принадлежит Богу; а что Божество не отделялось от души, видно из того, что чрез оную отверзся разбойнику вход в рай. Итак, после того как совершилась тайна, когда сила Божеская соединилась с обеими частями человеческого естества и чрез ту и другую сообщила животворную силу каждой сродной части: чрез плоть — телу, а чрез душу — душе, то есть разумной, а не бессловесной (ибо неразумное есть скот, а не человек); тогда от начала срастворенное с душой и телом Божество, и доселе всегда пребывавшее, в восстании лежащего (во гробе) воскресает; и таким образом, говорится, что Христос воскрес из мертвых; сый Христос и явился им, (Который) был Христом по (Своему) предвечному царству, а соделался (человеком) тогда, когда ангелы возвестили пастырям «велию радость, яже будет всем людем» о рождении Спасителя. «Иже есть», говорит Писание, «Христос», прилично именуемый Господом (Лк. 2:11), по слову Гавриила, возвестившего, что Дух Святый найдет на Деву и сила Вышнего осенит ее (Лк. 1:35). Итак, рожденный таким образом по справедливости называется и Христом, и Господом: Господом по силе Вышнего, а Христом по помазанию Духом. Ибо не Предвечный тогда помазуется, но тот, о котором говорится: «Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (Пс. 2:7). Слово днесь означает средину между двумя частями времени — между прошедшим и будущим, Творец же веков как может быть рожден и помазан в известный момент времени? Посему Божество хотя не умерло, однако воскресло: не умерло, потому что не имеющее сложности не разрушается, а воскресло, потому что, находясь в разрешившемся, подвергшемуся, по закону естества человеческого, падению дало возможность восстать вместе с собой; так что своим пребыванием в той и другой части, имеющей свои особые свойства, уврачевало чрез тело телесное естество, а чрез душу — духовное; и опять соединив собой разделенное, в восставшем и Само воскресает. И как в трости (ничто не препятствует тайну домостроительства Божия, совершившуюся чрез воскресение, изъяснить при помощи вещественного подобия), рассеченной пополам, если кто–нибудь станет соединять верхушки обеих половин на одном конце, то по необходимости и вся разделенная трость всецело соединится вместе; потому что, когда будет складываться и скрепляться в одном конце, вместе с сим сама собой будет происходить связь и в другом; так и во Христе — совершившееся чрез воскресение соединение души с телом все в целости человеческое естество, смертью разделенное на две части — душу и тело, опять приводит в единство, надеждой воскресения уст–рояя связь между разделенными (сущностями). Сие–то и означают слова Павла: «Христос воста от мертвых, начаток умершим бысть», и «якоже бо о Адаме еси» умираем, «такожде и о Христе еси» оживем (1 Кор. 15:20; 15:22). Ибо по примеру, взятому от трости, в одном конце, который от Адама, естество наше чрез грех рассеклось, так как в смерти душа отделилась от тела, в другом же, который от Христа, естество наше опять возвращается в свое прежнее состояние, так как происшедший в нас разрыв чрез воскресение человека во Христе сросся совершенно. Посему–то мы умираем вместе с Умершим за нас, говорю не о смерти, необходимой и свойственной вообще естеству нашему, она постигнет нас и без нашего желания. Но поелику с Умершим за нас добровольно нужно умирать по своей воле, то посему мы сами себе должны примышлять смерть по своему желанию, ибо по необходимости совершаемое не есть подражание произвольному. Итак, поелику смерть, предлежащая каждому из нас по закону природы, постигает нас всегда и непременно, желаем ли мы того или нет; а того, что бывает непременно, никто не назовет произвольным; то с добровольно Умершим за нас мы умираем иным образом, именно погребаясь в таинственной воде чрез крещение, ибо «спогребохомся убо Ему», говорит Писание, «крещением в смерть» (Рим. 6:4), дабы вслед за уподоблением смерти последовало и уподобление воскресению.
56. Но перейдем к тому, что следует в сочинении Аполлинария далее. «Как, — говорит, — Бог соделывается человеком, не переставая быть Богом, если (Бог) не заступает место ума в человеке»? Понимает ли он, что говорит? Называет Бога неизменяемым, и это говорит справедливо, ибо что всегда само себе равно, то, естественно, не может быть чем–либо иным, нежели что оно есть; в ином быть может, но само иным не бывает. Итак, что же был оный ум, находившийся в человеке, как говорит Аполлинарий? Удержал ли он за собой величие неизменяемого естества или перешел в низшее состояние, заключив себя в границы человеческой малости, так что какова она, таким же сделался и он? Но в таком случае человеческий ум равен Божеству, если, то есть как говорит Аполлинарий, Божеское естество стало умом. Ибо если человеческое естество одинаково принимает ум ли наш или вместо ума Бога, то по величию и по значению они будут равны между собой, так как в чем вмещается ум, в том же может заключаться и Божество. Если кто каким–нибудь пустым сосудом станет измерять пшеницу или другие какие–либо зерна, то никто не скажет, чтобы измеряемое одной и той же мерой по количеству было различно от другого, потому что мера пшеницы будет равна мере овса, когда по высыпании этих зерен сосуд будет наполнен другими. Так если Божество заменяет ум, то никто не может сказать, что Оно превосходнее ума, потому что и Божество, также как и ум, вмещается в человеческом естестве. Итак, ум или равен Божеству, как хочет того Аполлинарий, и, заменив собой ум, Оно не изменилось, или он ниже Божества, и Божество, став умом, изменилось в худшее состояние. Но кто не знает, что все почитаемое сотворенным равно низко в сравнении с недоступным и непостижимым Естеством, так что одинаковое допустит изменение в Божестве, скажет ли кто, что Оно изменилось в ум или в тварь? Таким образом, если Аполлинарий не допускает, что Божество изменилось, заступив место ума, то этим он не признает изменяемости в соединившемся, когда Он срастворился с человеком, лишенным разума. Но если Божество не изменилось, став плотью, то тем более осталось неизменным, срастворившись с умом. Если же бытие (Божества) вместо ума доказывает Его изменение, то и обитание во плоти не избежит, конечно, обвинения в изменении.
57. Еще говорит (что заключается у него в средине речи, я опускаю): «если Он по воскресении соделался Богом и уже не есть человек, то как Сын человеческий пошлет ангелов Своих? И как мы узрим Сына человеческого, грядущего на облацех? Как и прежде, нежели соединился с Богом и Сам соделался Богом, говорит: «Аз и Отец едино есъма» (Ин. 10:30)?». Это все он приводит в доказательство того, что телесная природа нисколько не изменилась во что–либо более божественное, но что власы, ногти, вид, образ, объем тела и все прочие как внутренние, так и внешние части тела во Христе (остаются неизменными). Я излишним считаю рассуждать о том, что не должно иметь такие низкие и грубые понятия о Боге, потому что речь противников и сама по себе ясно проповедует нелепость сего мнения. Впрочем дабы кто–нибудь не подумал, что Божественные речения сами подают ему повод вымышлять такие нелепые басни, я кратко прослежу каждое из вышеупомянутых изречений. Поелику, говорит, при конце мира посылающий ангелов называется Сыном человеческим, то, думает он, должно верить, что и всегда будет иметь человеческие свойства. Но он не помнит евангельских слов, где часто Сам Господь Бога, над всем Сущего, именует человеком. «Человек бе» дому владыка, отдавший виноградник «делателем» и по убиении рабов пославший и единородного сына своего, которого делатели, изведши вон из виноградника, убивают (Мф. 21:33—40). Кто это был «оный человек», пославший единородного? Кто сын, убитый вне виноградника? Не он ли также представлен в Писании человекообразно, устрояющим брак сыну (Мф. 22:2)? Должно сказать и то, что Господь, желая помочь немощи тех, которые, мало ценя видимое в Нем подобное себе человеческое естество, не могли посему уверовать в Его Божество, говорит, что при (последнем) суде Сын человеческий пошлет ангелов с той целью, чтобы, поразив страхом, укрепить в вере слабые умы их и ожиданием страшных (явлений) уврачевать их неверие относительно того, что они видели; и узрите, говорит, «Сына человеческаго, грядуща на облацех небесных с силою и славою многою» (Мф. 24:30). И это совершенно согласно как с тем, что мы выше говорили о человеке, насадившем виноград и устроившем брачный пир для сына, так и с данным нами прежде изъяснением. А что сии слова Писания нисколько не благоприятствуют уничижительному мнению Аполлинария, и указанное изречение не подает никакого повода представлять во Христе что–нибудь телесное, это ясно доказывается тем, что к словам, в которых указывается на явление Его при конце веков, присовокупляется, что Господь явится твари «во славе Отца Своего» (Мф. 16:27); так что из сих слов необходимо следует заключить, что или и Отец также имеет человеческий вид, если имеющий явиться в человеческом виде Сын явится во славе Отца, или если величие славы Отчей чуждо всякого образа умопредставляемого видимо, то и Тот, Который обещает явиться во славе Отца, также не должен быть представляем в человеческих чертах; ибо иная есть слава человека и иная слава над всем сущего Бога. «Но, — говорит, — беседуя с людьми во плоти, сказал: «Аз и Отец едино есьма» (Ин. 10:30)». Безумие — почитать доказательством явления Господа при конце мира в человеческом виде то, что Он, находясь во плоти, говорил: «Аз и Отец едино есьма». Итак, сим своим умозаключением он, конечно, утверждает, что и Отец точно так же живет во плоти. Ибо если сказавший, что Он и Отец едино, дает разуметь о единстве по духу, но по плоти, как думает Аполлинарий, то посему Отец есть то же самое, чем являлся тогда по человечеству Сын. Но Божество мы разумеем чуждым всякой телесности, посему единство Сына с Отцом было не по человеческому виду, но по общению Божеского естества и могущества. А что это подлинно так, особенно видно из слов, которые Христос говорил Филиппу: «видевый Мене виде Отца» (Ин, 14:9), ибо точным уразумением величия Сына открывается нам, как в образе — Первообраз.
58. Чтобы напрасно не терять времени над пустяками, я опущу следующие за сим бессвязные и не вполне понятные его речи, в которых даже внимательно следящим за его сочинением не ясно, что он хочет сказать. Каким образом (например) служат у него доказательством его мнения слова: «что никто не может похитить из рук Его овец, данных Ему Отцом», я не могу понять. Также следующее: «Отческим Божеством привлекает к Себе овец»; и еще: «если Христос прежде воскресения был соединен с Отцом, то как Он не был соединен с Богом, Который в Нем»? Сие последнее он как бы с намерением в обличение своего вымышленного учения помещает между своими рассуждениями, которыми доказывает и разделение человека с Богом, и соединение с Ним. Ибо он говорит, что «если Христос был соединен с Отцом, то как не был соединен с Богом, Который в Нем»? Таким образом, человек Христос, будучи иным, соединен был с Богом, Который в Нем. Это, как само собой чрез одно чтение показывающее ложь и несостоятельность его учения, я опускаю. Упомяну только о следующем: «Спаситель, — говорит, — терпел голод, жажду, труд, томление и скорбь». Кто же сей Спаситель? Бог, говорил он пред сим, не два лица, как бы одно было Бог, а другое — человек. Итак, Бог терпел все то, что, по его словам, терпел Оный (Спаситель). «И страдает то, что недоступно страданию, не по необходимости (αναγκη) естества невольного, как человек, но по следствию (ακολεθια) естества». Достанет ли у кого охоты опровергать сию нелепость? В чем находит он различие между необходимостью естества и следствием естества? На самом деле оба эти понятия имеют одинаковое значение. Если, например, я скажу: такой–то имеет слабое зрение, следовательно, он болен глазами, или иначе выражу то же самое: такой–то имеет слабое зрение, итак, необходимо, он страдает глазами, — не одинаковый ли смысл будет в обоих сих выражения Указавший на необходимость указывает на то, что вытекает по следствию, и упомянувший о следствии показывает необходимость. Итак, что значит мудрование нашего сочинителя, по которому он страдания (на естества хочет приписать Спасителю «не по необходимости естества, но по следствию естества»? «Должно было, — говорит, — подвигнуться на страдания по подобию людей». Сказавший: «должно было», не ясно ли указал необходимость? Не так ли употребляет сие слово и Писание? Даже у самих евангелистов можно найти доказательство сего: «нужда бо есть приити соблазном» (Мф. 18:7), «подобает бо всем сим быти» (Мф. 24:6). Не ин ли смысл заключается в том и другом изречении? Сказавший, что «нужда есть прийти соблазном», выразил сим, что соблазны должны прийти; кто сказал, что «подобает сим быти», дал знать, что долженствующее быть необходимо осуществится на деле.
59. Опущу опять и далее следующую его болтовню без связи, как попало, из глупых рассуждений составленную. К концу же сочинения он говорит следующее: «и тогда, как тело на небе, с нами есть до скончания века». Кто это с нами есть, сочинитель, разделяя явно неделимое, не знает. Ибо если тело он помещает на небе, а Господь, как говорит, присутствует с нами, то таковым различением он делает какое–то расторжение и разделение. Ибо не сказал, что тело Его и на небе пребывает, и с нами находится, но сказал: «тогда, как тело на небе». Мы же не на небе находимся, следовательно, с нами, думает он, живущими на земле, присутствует другое какое–то, отличное от находящегося на небе, тело. Таково высокое учение Аполлинария! Мы же говорим, что Господь «сия рек, (зрящим им) взятся» (Деян. 1:9), и по вознесении Своем с нами пребывает, и никакого разделения в Нем нет; но как в нас находится, присутствуя в каждом отдельно и пребывая среди нас, так проницает и все концы творения, равно являясь во всех частях мира. Если в нас телесных присутствует бестелесно, то и в премирных (существах) — также не телесным образом. А он говорит, что разделенный таким образом Господь присутствует в подчиненных тварях не одинаково, но противоположно их природе: в телесных бестелесно, а в бестелесных телесно. Ибо, поместив плоть на небе, Он с людьми соединяется духовно. Что же касается до несостоятельных мнений, где он, чувствуя свое бессилие, в защиту своих басней призывает еллинов, — мнений, которые он, как бы испуская дух, выдыхает на самом конце сочинения, как некоторые последние вздохи; то, я думаю, должно оставить их без исследования. (Опущу также) и все другое сему подобное. Кто хочет узнать вполне бессилие сей ереси, тот пусть прочитает самые его сочинения. Мы же не имеем столько свободного времени, чтобы много заниматься исследованием такого рода суждений, которые явно сами собой и без исследования обнаруживают свою нелепость.
Против Аполлинария к Феофилу, епископу Аленсандрийскому
: Не одной мирской мудростью обилует великое гражданство александрийское, и потоки истинной и подлинной мудрости также изливаются от вас изначала. Посему мне кажется справедливым, чтобы те, которым дано больше сил к добру, больше оказывали помощи в защищении таинства истины, ибо и само высокое Евангелие говорит негде: «емуже дано будет много», более и взыщется с того (Лк. 12:48). Итак, ты поступишь справедливо, если всю присущую по благодати Божией тебе и твоей церкви силу противопоставишь лжеименному знанию тех, которые всегда измышляют нечто новое против истины, которые разрывают союз по Боге, великое и почтенное имя христиан предают молчанию, а разделяют Церковь по именованиям человеческим; и, что всего хуже, люди радуются, что называются по именам своих руководителей в заблуждении. Если бы повсюду и до конца исполнилось пророческое желание, исчезли бы «грешницы от земли и беззаконницы, якоже не быти им» (Пс. 103:35), это, очевидно, было бы всего лучше. Поелику же слова беззаконников превозмогают, приобретая силу против истины в содействии противника, то желательно было бы уменьшить зло и воспрепятствовать более и более распространяющемуся возрастанию нечестия. О чем я говорю? Последователи мнений Аполлинария при помощи порицаний (направленных) против нас, стараются дать (большую) силу своим заблуждениям, утверждая, что Слово плотяно, что Сын человеческий есть Творец веков и что Божество Сына смертно. Разглашают, будто бы в кафолической Церкви некоторые признают в (своем) учении двух сынов: одного по естеству, а другого по усыновлению, после привзошедшего. Не знаю, от кого они это слышали и на какое лицо направляют удары, ибо я доселе не знаю, кто бы говорил это. Однако же поелику приписывающие нам такое учение под видом опровержения сей нелепости усиливают свои мнения, то хорошо было бы, если бы твое совершенство во Христе, как вразумит тебя Дух Святый, отсекло все поводы для ищущих поводов обвинять нас и убедило возносящих оную клевету на Церковь Божию, что у христиан такого учения нет и не проповедуется. Ибо на том основании, что Творец веков в последние дни явился на земле и обращался между людьми, в Церкви не считаются два сына: один Творец веков, а другой при скончании веков явившийся во плоти роду человеческому. Если же кто по домостроительству бывшее явление во плоти Единородного Сына Божия примет за доказательство бытия другого сына; тот, исчислив и все богоявления, бывшие святым прежде явления Единородного Сына Божия во плоти, а также и после оного, по числу Божественных явлений признает множество сынов: будет у него один сын, беседовавший с Авраамом; а другой, явившийся Исааку; боровшийся с Иаковом — также иной; а другой, являвшийся Моисею в различных видах: во свете, во мраке, в столбе облачном, лицом к лицу и созади; другой опять будет сын, ратовавший вместе с преемником Моисея; и иной — беседовавший в вихре с Иовом; также явившийся Исайе на высоком престоле и начертанный словом Иезекииля в человеческом виде; и тот, который после сего светом облистал Павла; и тот, который прежде сего явился на горе в высочайшей славе Петру и бывшим с ним. Если же нелепо и вполне нечестиво по числу различных богоявлений Единородного Сына Божия считать отдельных сынов, то равно нелепо и явление во плоти делать поводом к признанию другого сына. Мы думаем, что видение превысшего Естества было всегда по мере силы каждого из приемлющих Божественное явление: большее и достойнейшее Бога для тех, которые могли достигнуть высоты, меньшее же и менее достойное для тех, которые неспособны вместить большего. Посему не так, как в предшествовавших явлениях, является Господь роду человеческому в домостроительстве пришествия во плоти. Но поелику все люди, как говорит Пророк, «уклонишася, вкупе неключими быша» (Пс. 13:3); и не было, как написано, никого, кто бы мог уразуметь и постигнуть высоту (ум) Божества (Ис. 40:13), то посему явившийся более плотяному роду Единородный Сын соделывается плотью, умалив себя соответственно малости приемлющего; или, лучше, как говорит Писание, «истощив» (Флп. 2:7), дабы естество наше приняло столько, сколько вмещает. Что оный род более предшествовавших был повинен осуждению, это ясно мы знаем из слов Господа, в которых Он говорит, что содомлянам отраднее будет, нежели им (Мф. 10:15), что ниневитяне и «царица южская» осудят при воскресении род оный, возвестил (также) Господь (Мф. 12:41–42). Итак, если бы все, подобно Моисею, могли войти во мрак, в котором он видел Незримого, или подобно высокому Павлу, вознестись превыше третьего неба и в раю научиться неизреченному о предметах, превышающих слово, или с ревнителем Илиею на огне вознестись в эфирное пространство, не чувствуя тяжести тела, или с Иезекиилем и Исаиею видеть на престоле славы или подъемлемого херувимами, или прославляемого серафимами; тогда, конечно, не было бы нужды в явлении Бога нашего во плоти, если бы все были таковыми. Поелику же, как говорит Господь, род оный был «род лукав и прелюбодей» (Мф. 12:39), — лукав потому, как говорит Евангелие, что весь мир тогда лежал во зле (1 Ин. 5:19), прелюбодей же потому, что он оставил благого Жениха и соединился с тем, кто чрез порок осквернил души прелюбодейством; то посему истинный врач, исцеляющий больных, какого болезнь требовала врачевания, такое и приложил попечение к больному; Сам некоторым образом восприял на себя болезнь нашего естества и соделался плотью, которая по самой сущности своего естества немощна, как учит слово Божие: «дух убо бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41). Если бы Божество, бывшее в человеческом естестве — в смертном бессмертное, в слабом сильное, в изменяемом и телесном неизменяемое и нетленное, допустило остаться в смертном смертности, в тленном тлению и другим свойствам таким же образом, тогда по справедливости всякий усмотрел бы двойственность в Сыне Божием, счисляя каждое из рассматриваемых по противоположности (свойств) особо, само по себе. Но если смертное, соединившись с бессмертным, соделалось бессмертным, подобным образом и тленное изменилось в нетление и все прочее также изменилось в бесстрастное и Божественное, то какой остается повод разделять одно на два отличия?
Ибо Слово и прежде воплощения, и после домостроительства во плоти было и есть Слово, также Бог и прежде восприятия образа раба, и после сего есть Бог и есть свет истинный — как прежде, нежели воссиял во тьме, так и после сего.
Итак, если всякое приличное Богу понятие всегда постоянно и неизменно усвояется Единородному, и Он есть всегда один и тот же, будучи всегда себе равен, то кто нас принудит Его явление во плоти именовать двоицей сынов, как будто один есть предвечный Сын, а родившийся во плоти Бог — другой Сын? Ибо мы от таинства научились и веруем, что естество человеческое спасено чрез единение с Словом, но что Сын Божий во плоти должен быть умопредставляем отдельно, этому не научились, и никакой последовательный вывод не приводит нас к такой мысли. Ибо соделавшийся по нас грехом (2 Кор. 5:21) и клятвою (Гал. 3:13), как говорит Апостол, и подъявший немощи (грехи) наши, по слову Исайи (Ис. 53:4), не оставил при себе без исцеления греха, и клятву, и немощь; но «пожерто будет мертвенное животом» (2 Кор. 5:4), распятый «от немощи, но жив есть от силы Божия» (2 Кор. 13:4); клятва изменилась в благословение и все вообще, что ни есть в естестве нашем немощного и тленного, срастворившись с Божеством, соделалось тем, чем есть Божество. Итак, откуда может прийти кому–либо мысль о двоице сынов, как будто бы домостроительство спасения нашего плотью необходимо приводит к такому предположению? Сущий всегда во Отце, и всегда имеющий в себе Отца, и составляющий едино с Ним каков был прежде, таков есть и будет; и иным чем–либо от Него (отличным) Сын не был, не есть и не будет. Начаток же естества человеческого, восприятый всемогущим Божеством, если можно употребить сравнение, как бы некая капля оцта, срастворившаяся с беспредельным морем, хотя находится в Божестве, но не со своими уже отличительными свойствами. Ибо тогда бы можно было заключать о двоице сынов, если бы в неизреченном Божестве Сына открывалось какое–либо иного рода естество с особыми своими признаками, так что в Нем одно было бы слабое, малое, тленное и скоропреходящее, а другое — сильное, великое, нетленное и вечное.
Поелику же по изменении всего усматриваемого в смертном в Божественные свойства различия ни в чем не замечается, ибо что ни видим в Сыне, (все) есть Божество — мудрость, сила, освящение, бесстрастие, то на каком же основании разделять в двояком значении единицу, когда никакое различие не разделяет сего числа? Ибо Божество превознесло уничиженное и наименованному человеческим именем даровало «имя, еже паче всякаго имене» (Флп. 2:9), находящееся в подчинении и рабстве соделало Господом и Царем, как говорит Петр: «Господа и Христа Его Бог сотворил есть» (Деян. 2:36). Ибо при (имени) Христа мы разумеем царство, и по причине совершенного единения восприятой плоти и восприемлющего Божества имена взаимно заменяются, так что и человеческое называется Божеским, и Божеское — человеческим (именем). Посему и распятый у Павла называется Господом славы (1 Кор. 2:8), и поклоняемый от всей твари небесных, земных и преисподних именуется Иисусом (Фил. 2:10). Сим дается разуметь о истинном и нераздельном единстве, именно тем, что неизреченная слава Божества означается именем Сына, когда всякая плоть и «язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога» (Флп. 2:11), так что восприявший крестные страдания, пригвожденный гвоздями и копьем прободенный называется у Павла Господом славы. Итак, если и человеческое (естество) не в своих естественных свойствах является, но есть Господь славы, а никто не осмелится сказать, что два Господа славы, зная, что «един» есть «Господь Иисус Христос, Имже вся» (1 Кор. 8:6), то откуда же приписывают нам двоицу сынов взводящие на нас клевету сию, дабы иметь благовидный предлог к утверждению своих мнений. Вот что мы можем представить в защиту нашу; от твоего же совершенства во Христе желаем большего и совершеннейшего содействия истине, чтобы утверждающие свои мнения клеветою на нас не имели никакого повода порицать истину.
Слово на день Светов, в который крестился наш Господь
Ныне узнаю мое стадо. Сегодня вижу обычный вид церкви, когда, возненавидев попечение о плотских заботах, в совершенной полноте стеклись вы на служение Богу. Теснится народ в доме (Божием), во внутренности недоступного (всем) святилища. Подобно пчелам наполняют и внешние места в притворах те, которые не поместились внутри. Ибо и пчелы одни работают внутри улья, а другие отвне с шумом окружают его. Так и делайте, чада, и никогда не оставляйте таковой ревности. Ибо признаюсь что страдаю пастырским страданием: сидя на этом высоком седалище, желаю видеть собранное вокруг, как бы у подножия горной вершины, стадо. И когда это случается, я полон удивительной радости и слово для меня столь же приятный труд, как для пастырей пастушеские песни. Когда же бывает иначе, когда вы увлекаетесь блужданием языческим (вероятно, разумеет здесь театры и цирки) как вы сделали недавно, в прошедший воскресный день, то я много страдаю и предпочитаю молчать. Я помышляю бежать отсюда и ищу Кармила Пророка Илии и какой–либо необитаемой скалы, ибо для печальных любезно уединение и приятна пустыня. Ныне же, видя вас с самими семействами вашими, во множестве собравшихся на праздник, вспоминаю пророческое слово, которое издревле воспел Исайя, предвозвещая благоплодие и многоплодие Церкви. «Кии суть», говорит, «иже яко облацы летят, и яко голубие со птенцы ко мне» (Ис. 60:8), присовокупляет и сие: «тесно ми мест сотвори ми мест да вселюся» (Ис. 49:20). Вот что сила Духа предвозвестила о многолюдстве Церкви Божией, которая в последующие времена долженствовала наполнить всю вселенную от краев земли до краев. Итак, круговращение времени снова приводит нас к воспоминанию очищающих человека святых таинств, которые смывают неудобосмываемыи грех с души и тела и возводят к первоначальной красоте, дарованной в создании нас величайшим художником — Богом. И посему вы, освященный народ, опытно изведавший блага нашей веры, собрались здесь и привели, как добрые отцы, и тех, которые еще не испытали их, заботли во и старательно руководя непосвященных к совершенному восприятию благочестия. Я же сорадуюсь тем и другим: совершенным, потому что обогатились великим даром, неосвященным, потому что вы надеетесь лучить прекрасные блага — оставление наказания, разрешение уз, соединение с Богом, свободу дерзновения, равночестность с ангелами вместо рабского уничижения. Ибо эти и другие, последующие за сими блага, как залог, вручает нам и дарует благодать омовения. Посему, отлагая до другого времени иные предметы из Писаний, остановимся на предположенной цели, по силам принося празднику свойственные и приличные ему дары. Ибо каждому празднику любезно свое; так брак мы сопровождаем брачными песнями, скорби отдаем обычное ей в надгробных песнопениях, при деле говорим важные речи, в пиршествах разрешаем душевную сдержанность и сосредоточенность; наблюдаем, чтобы каждое время не возмущалось тем, что ему несвойственно.
Итак, родился Христос, как бы не много дней тому назад, рожденный прежде всякой сущности как чувственной, так и умосозерцаемой. Сего дня крещается Он Иоанном, чтобы оскверненное очистить, Духа свыше привести и человека на небеса вознести, дабы павший восстал, а низвергнувший посрамился. И не удивляйся, если мы стали для Бога предметом такого попечения, что Сам Он соделал спасение человека. Заботою злодея мы потерпели насилие — попечением Зиждителя спасаемся. Злой клеветник, вводя в род наш неизвестный дотоле грех, облекся в достойный своего намерения покров — в змия, как нечистый, вошедши в подобного себе, как земной и перстный, по свойству своей воли, вселившись в пресмыкающегося. Христос же, исправляя его лукавство, восприемлет совершенного человека, и спасает человека, и становится образом и начертанием для всех нас, дабы освятить начаток каждого дела и оставить рабам для ревностного исполнения несомненное предание. Итак, крещение есть очищение от грехов, прощение прегрешений, причина обновления и возрождения; возрождение же разумей мыслию созерцаемое, очами невидимое. Ибо подлинно мы не изменим старца в отрока, по слову еврея Никодима и его грубому разумению, и не превратим покрытого морщинами и убеленного сединами в нежное и новорожденное дитя, и не возвратим человека опять в утробу матери. Но запятнанного грехами и состарившегося в злых навыках Царскою благодатью возвратим к невинности младенца. Потому что как новорожденное дитя свободно от вины и наказаний, так и чадо возрождения, по дару Царя получив отпущение, наказанию не подлежит ни за что ответственности. Но такое благодеяние дарует не вода (ибо она была бы тогда совершеннее всего сотворенного), но повеление Божие и наитие Духа, таинственно нисходящего для нашего освобождения; вода же служит для указания очищения. Поелику тело, оскверненное грязью и нечистотою, мы обыкновенно делаем чистым, омывая его водою, то посему мы ее же употребляем и в таинственном действии, чувственным предметом обозначая нетелесную чистоту. А лучше, если угодно, остановимся на более тонком исследовании вопроса о бане (крещения), начав как бы с некоторого источника, с заповеди Писания: «аще кто не родится», говорит Он «водою и Духом, не может внити в царствие Божие» (Ин. 3:5). Для чего два предмета, а не один Дух почитается достаточным для полного совершения крещения? Человек не прост, а сложен, как точно знаем, посему (существу) двойственному и сопряженному (из двух частей) уделены для исцеления его сродные и подобные врачевства: видимому те — чувственная вода, а невидимой душе — Дух незримый, призываемый верою, неизреченно приходящий. Ибо «Дух, идеже хощет, дышет, и глас его слышиши, но не веси, откуду приходит, и камо идет» (Ин. 3:8); Он благословляет тело крещаемое и воду омывающую. Посему не пренебрегай Божественною банею и не почитай ее малоценною, как нечто обыкновенное, по причине употребления воды, ибо Действующий велик и от Него совершается чудное. Потому что и сей святой жертвенник, которому предстоим, по природе есть обыкновенный камень, ничем не различимый от других плит, из которых строятся наши стены и коими украшаются полы; но поелику он посвящен на служение Богу и принял благословение, то он есть святая трапеза, чистый жертвенник, которому касаются уже не все, но только священники, да и те с благоговением. Хлеб, опять, — пока есть обыкновенный хлеб, но, когда над ним будет священнодействовано таинство, называется и бывает телом Христовым. То же бывает и с таинственным елеем, то же с вином: сии предметы малоценны до благословения, после же освящения Духом каждый из них действует отличным образом. Та же сила слова производит также почтенного и честного священника, новым благословением отделяя его от обыкновенных простых людей. Ибо тот, кто вчера и прежде был одним из многих, одним из народа, вдруг оказывается вождем, предстоятелем, учителем благочестия, совершителем сокровенных таинств. И таким он делается, нисколько не изменившись по телу или по виду, но, оставаясь по видимости таким же, каким был, некоторою невидимою силою и благодатью преобразовался по невидимой душе к лучшему. Таким образом, переносясь мыслию ко многим предметам, найдешь удобопрезираемым то, что является, а великим то, что им совершается, особенно же когда соберешь сродные тому, о чем идет речь и подобные (примеры) из ветхозаветной истории. Жезл Моисеев был орехового дерева, и что он иное, как не обыкновенное дерево, которое всякая рука рубит, и несет, и прилаживает к чему угодно, и произволу бросает в огонь? Когда же Бог восхотел сотворить чрез оный высокие и невыразимые словом чудеса, древо превращалось в змия (Исх. 4:2–4). И опять в другой раз удар сего древа по водам то соделывал воду кровью, то изводил бесчисленное племя жаб (Исх. 7:17; 8:6). Затем оно рассекало море до самой глубины, так что оно разошлось и не соединилось (Исх. 14:21). Подобным образом милоть одного из пророков, будучи козьею кожею, соделала Елисея знаменитостью вселенной (4 Цар. 2:13). А древо креста есть спасение для всех людей, хотя оно часть, как слышал я, неважного растения и ценимого менее многих других. И куст терновника показал Моисею явление Бога (Исх. 3:2), и останки Елисея воскресили мертвого (4 Цар. 13:21), и брение просветило слепого от рождения (Ин. 9.6). Все эти предметы, будучи веществами неодушевленными и бесчувственными, послужили средством для великих чудес, прияв силу Божию. На основании подобных рассуждений мы утверждаем, что и вода, будучи ничем иным, как водою, когда благословит ее благодать свыше, обновляет человека в мысленное возрождение. Если же кто–либо, недоумевая и сомневаясь, станет утруждать меня постоянными вопросами и допытываться как вода и совершаемое над нею тайнодействие возрождает, то я могу сказать ему по всей справедливости: представь мне образ рождения по плоти — и я расскажу тебе силу пакибытия по душе. Скажешь, может быть, как будто давая какое объяснение: семя есть причина, производящая человека. Итак, выслушай взаимно и от нас, что благословляемая вода очищает и просвещает человека. Если же опять возразишь мне: «как»; я еще сильнее воскликну тебе в ответ: как влажная и бесформенная сущность делается человеком? Если пройдем нашим словом по всему творению, то и относительно каждой вещи также затруднимся (отвечать). Как произошло небо? Как земля? Как море? Как каждая вещь порознь? Ибо повсюду человеческая мысль, бессильная открыть истину, прибегает к этой частице как, подобно тому, как немогущие ходить — к седалищу. И коротко сказать: повсюду сила Божия и действие непостижимы и неисследимы. Она легко дала бытие всему, чему ни захотела, но сокрыла от нас подробное знание своего действования. Посему и блаженный Давид, обратив некогда ум свой на великолепие творения и исполнившись в душе недоумением пред чудесами его, изрек сии, всеми прославляемые слова: «возвеличишася дела твоя Господи: вся премудростию сотворил еси» (Пс. 103:24). Премудрость он уразумел, а искусства премудрости не постиг.
Итак, оставив трудные исследования, превышающие человеческую силу, спросим лучше о том, что представляется (возможным) уразуметь хотя отчасти. Почему очищение (совершается) водою? И для какой потребности принимаются три погружения? Чему и отцы научили, что и наш ум согласно с ним принимает, есть следующее. Мы признаем четыре стихии, из которых слагается мир; они известны всем, хотя бы мы и молчали о названиях их. А если для более простых нужно сказать и названия их, то они суть: огонь, воздух, земля и вода. Итак, Бог и Спаситель нвш, совершая о нас домостроительство, снисшел на четвертую из сих (стихий) — под землю, чтобы отсюда воссиять жизнь. Мы же, приемля крещение по подражанию Господу — и.учителю, и вождю нашему, хотя в землю не погребаемся (ибо она бывает покровом совершенно умершего тела, скрывая немощь и тление нашего естества), но, нисходя в сродную с землею стихию — воду, скрываемся в ней, как Спаситель в земле. Делая же сие трижды, отображаем на себе тридневную благодать воскресения и делаем это, не в молчании принимая таинство, но с произнесением над нами имен трех Святых Ипостасей, в которые мы уверовали, на которые и уповаем, от которых происходит и настоящее наше бытие, и будущее существование. Может быть, ты, дерзновенно ратующий против славы Духа, не доволен этим и завидуешь чести Утешителя, которою чтят его благочестивые? Перестань же препираться со мною и противоречь, если можешь, словам Господа, которыми законоположено для людей призывание при крещении. Что же говорится в повелении Владыки? «Крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Почему во имя Отца? Потому что Он начало всего. Почему во имя Сына? Потому что Он Зиждитель твари. Почему во имя Духа Святаго? Потому что Он совершительная сила всего. Итак, преклонимся Отцу, дабы освятиться, преклонимся и Сыну, да будет то же самое, преклонимся и Святому Духу, да будем тем, чем Он есть и именуется (т. е. святыми). Нет различия в освящении, как будто бы Отец освящает более, Сын же менее и Святый Дух менее их обоих. Итак, для чего же ты раздробляешь три Ипостаси на различные естества и соделываешь трех богов, неподобных друг другу, когда от всех (их) приемлешь одну и ту же благодать?
Поелику же примеры всегда делают слово более оживленным для слушателей, то я хочу подобием исправить образ мыслей богохульствующих, земным и низким объясняя великое и незримое чувствами. Если бы с тобою случилось несчастие подвергнуться плену от неприятелей, стать рабом, бедствовать и оплакивать прежнюю свободу, которую имел; и вдруг три известные гражданина, прибыв в страну твоих владык и тиранов, освободили тебя от удручающей неволи, поровну заплатив выкуп и равномерно разделив между собою денежные издержки; то, получив такую милость, если будешь справедливо ценить благодеяние, не одинаково ли станешь смотреть на (всех) трех, как на благодетелей, и не по равной ли части внесешь им долг за выкуп, когда общими были и забота о тебе, и издержки? Что касается до примеров, то этого достаточно, ибо ныне мы не имеем целью оправдывать учение веры. Перейдем к настоящему времени и к предположенному исследованию. Нахожу, что благодать крещения не только после крестного страдания возвестили Евангелия, но что и прежде вочеловечения Господа, ветхозаветное Писание повсюду предобразовало образ нашего пакибытия, не ясно являя вид его, но гадательно предызображая человеколюбие Божие. И как агнец был предвозвещен и крест предсказан, так и крещение было предуказано и в действиях, и в слове. Напомним же любознательным о сих прообразах, потому что время праздника необходимо требует сего воспоминания. Агарь, рабыня Авраама, повествование о которой и Павел иносказательно объясняет, беседуя с галатами (Гал. 4:22–28), высланная из дома господина по причине гнева Сары (ибо тяжела для законных жен раба, подозреваемая в близости к господину), одинокая шла по пустынной земле, имея при себе вскормленного ею Измаила. Поелику же оказался недостаток необходимом, и сама она была на краю смерти, и прежде нее дитя, так как вода, бывшая в мехе, истощилась (да и невозможно было Синагоге, доколе она вращалась только среди образов приснотекущего Источника, иметь в себе достаточно жизни), то неожиданно является ангел и показывает ей кладезь воды живой, почерпнув из которого, спасает Измаила. (Быт. 21:14–20). Итак, обрати внимание на таинственный прообраз, как в самом начале погибающему (подавалось) спасение чрез живую воду, не бывшую прежде, но по благодати дарованную ангелом. Опять в последствии времени должно было сочетаться браком тому Исааку, ради которого и Измаил был изгнан со своею матерью из–под отеческого крова. И служитель Авраамов, будучи послан сватом, чтобы привести невесту (своему) господину, находит Ребекку близ колодца, и брак, от которого имел произойти род Христов, получает начало и первое соглашение при воде (Быт. 24:11–27). Также и сам Исаак, когда водил стада, повсюду в пустыне копал колодцы, которые иноплеменники заграждали и засыпали землею (Быт. 26:15–22), во образ тех нечестивых последующего времени, кои возбраняли и препятствовали благодати крещения, противоборствуя истине; однако же копавшие кладези мученики и священники победили, и дар крещения наводнил всю вселенную. То же самое значение слов (Писания) находим и в том, что Иаков, спеша к супружеству, неожиданно встретил Рахиль при колодце; па колодце же лежа.'! большой камень, который множество пастухов, собираясь вместе, отваливали, чтобы таким образом добыть воды себе и овцам (Быт. 29:1–10). Но Иаков один отваливает камень и напаивает овец своей невесты. Это событие, думаю я, есть загадочное изображение и тень будущего. Ибо Кто есть наложенный камень, как не сам Христос? О нем говорит Исаия: и положу «в основание Сиону камень многоценен, избран, (краеуголен) честен» (Ис. 28:16), и Даниил подобным же образом: «отсечеся (от горы) камень без рук» (Дан. 2:45), то есть родился Христос без мужа. Ибо как необычайно и странно, чтобы камень отсекся от скалы без каменотеса и каменотесных орудии, так и превыше всякого чуда — видеть рождение от безневестной Девы.
Итак, долгое время лежал на кладезе разумный камень — Христос, скрывая во глубине и тайне баню пакибытия, имея еще нужду в продолжительном времени, как бы в долгой веревке, чтобы быть открытым. И никто не отвалял камня кроме Израиля, который есть ум, видящий Бога. Далее, он же и воду почерпает и напаивает овец Рахили, то есть, открыв сокровенное таинство, подает живую воду стаду Церкви. Присовокупи к сему и то, что (сказано в Писании) о трех жезлах Иакова. С того времени, как жезла были положены при источнике, богатый Лаван стал бедным, а Иаков — богатым и имеющим много овец (Быт. 30:31–43). Иносказательно же Лаван знаменует дьявола, а Иаков — Христа. Ибо после крещения Христос взял все стада от сатаны и стал сам богат. Великий Моисей в то время как был прекрасным грудным младенцем, подпав общему и печальному определению, которое произнес жестокий фараон на младенцев мужеского пола был оставлен на берегу реки не нагой, но положенный в ковчежец (Исх. 2:3); потому что иносказательно закону надлежало быть в ковчеге. Положен близ воды, ибо закон в близком соседстве с благодатью и ежедневные омовения евреев скоро в последующие времена должны были замениться совершенным и дивным крещением. А по мнению божественного Павла, и самый народ, прошедший Чермное море, благовествовал спасение от воды (1 Кор. 10:1–4). Прошел народ, а египетский царь с войском потонул, и это событие предвозвещало таинство. Ибо и ныне, когда народ, убегая от Египта — злого греха, нисходит в воду пакибытия, сам он освобождается и спасается, а дьявол с своими слугами (говорю о духах злобы) задыхается от печали и бедствует, почитая собственным несчастием спасение людей. Достаточно было бы сего для доказательства того предмета, который предположили мы (раскрыть). Однако же любознательный не должен оставлять без внимания и того, что следует далее. Народ еврейский много, как мы знаем, пострадавший и окончивший тягостное странствование в пустыне, не прежде получил землю обетованную, как перешедши под руководством вождя и правителя своей жизни, Иисуса, Иордан. Иисус же, положивший в потоке двенадцать камней, очевидно, сим предызобразил двенадцать учеников, служителей крещения (Нав. 4:9). А удивительное и всякий человеческий ум превышающее священнодействие старца фесвитянина чем было иным, как не предзнаменованием, самим делом веры в Отца и Сына и Святаго Духа и искупления? Ибо когда весь еврейский народ, поправ отеческое благочестие, ниспал в заблуждение многобожия, и Царь Ахаав тешился идолослужением, имея злою подругою жизни и всескверною учительницею нечестия ненавистную Иезавель; то исполнившийся духовной благодати и вышедший навстречу Ахааву Пророк, при свидетелях — царе и всем народе, вступил в удивительную и необычайную борьбу с жрецами Ваала. Предложив им без огня принести в жертву вола, он показал, как смешны и жалки напрасно молящиеся и вопиющие к не существующим богам. Наконец, призвав сам своего истинного Бога, дивно совершил предложенную борьбу, многое прибавив и присовокупив; и просто, помолившись, низвел с неба огонь на бывшие там сухие дрова, (но) повелев и приказав слугам принести много воды и троекратно полив дрова из водоносов, молитвою возжег огонь из воды; дабы чрез необычное соединение, и сродство, и содействие противоположных по природе стихий с большею необычайностью показать силу своего Бога (3 Цар. 18:16–40) Так, сим дивным священнодействием Илия ясно предвозвестил нам об имеющем совершиться впоследствии тайнодействии крещения. Ибо троекратно возлитою водою возжигается огонь для того, чтобы показать, что где таинственная вода, там и дух воспламеняющий, горящий, огневидный, нечестивых сжигающий, а верных освящающий. Также и ученик его Елисей пришедшего к нему просителя, болевшего проказою Неемана сириянина, омывши в Иордане, очищает от болезни употреблением воды вообще и погружением в реке в частности, ясно предзнаменуя будущее (4 Цар. 5:1–15). Ибо из рек один Иордан, прияв в себя начаток освящения и благословления, как бы из некоторого образного источника излил всему миру благодать крещения. Все это указания на пакибытие чрез баню (крещения) в самих делах и событиях.
Посмотрим, наконец, на пророчества в словах и речениях. Итак, Исайя вопиет, говоря: «измыйтеся, (и) чисти будите, отымите лукавства от душ ваших» (Ис. 1:16). Давид же: «приступите к нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся» (Пс. 33:6). А Иезекииль яснее и понятнее дает прекрасное обетование: «и воскроплю на вы воду чисту, и очиститеся от всех нечистот ваших и от всех кумиров ваших, и очищу вас. И дам вам сердце нов и дух нов дам вам, и отыму сердце каменное от плоти вашея и дам вам сердце плотяно и дух Мой дам в вас» (Иез. 36:25–26). Яснее же всего пророчествует Захария, (изображая) Иисуса облеченным в одежду нечистую, то есть нашу рабскую плоть, совлекши же с него мрачное одеяние, украшает его в одежду чистую и светлую (Зах. 3:1–6); сим образным примером научая нас, что в крещении Иисусовом все мы, совлекаясь грехов, как бы нищенского и из лоскутьев сшитого хитона, облекаемся в священную и прекраснейшую (одежду) пакибытия. Где же поместим мы и оное изречение Исайи, взывающего в пустыне: «Радуйся пустыня жаждущая, да веселится пустыня и да цветет яко крин. И процветет и возвеселится пустыня Иорданова» (Ис. 35:1–2). Ясно, что не безжизненным и бесчувственным местам благовествует радость, но под пустынею образно разумеет грубую и неблагоустроенную душу. Это Разумеет и Давид, когда говорит: «душа моя яко земля безводная» (Пс. 142:6), и опять: «возжада душа моя к Богу Крепкому, Живому» (Пс. 41:3). В Евангелии также (говорит) Господь: «аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет» (Ин. 7:37), и к Самарянке: «всяк пияй от воды сея, вжаждется паки: а иже пиет от воды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки» (Ин. 4:13–14). «И честь Кармилова» (Ис. 35:2) дастся душе, имеющей подобие с пустынею, то есть благодать от Духа (Святаго). Так как Илия обитал на Кармиле, гора же эта сделалась знаменитою вследствие добродетели и славы обитавшего на ней; а Иоанн Креститель, воссиявший в духе Илии (Лк,1:17), освятил Иордан, то посему Пророк предвозвестил, что сей реке дана будет честь Кармилова. И славу Ливанову (Ис. 35:2) отнес к реке по сравнению с высокими деревьями; ибо как оный Ливан имеет достаточный предмет для удивления — самые деревья, которые произращает и питает; так и Иордан прославляется за то, что возрождает и насаждает в раю Божием людей, всегда цветущих и осыпанных добродетелями, которых «лист», по словам псалма, «не отпадет» (Пс. 1:3),а плодам, в свое время снятым, возвеселится Бог, как добрый насадитель веселящийся собственными делами. Пророчествовал божественный Давид и о гласе, который Отец с небес изрек над крещающимся Сыном, дабы слышавших оный, кои до тех пор видели только чувственную уничиженность Его как человека, привести к познанию естественного достоинства Его Божества. В книге (Псалмов) он написал следующее: «глас Господень на водах, глас Господень в великолепии» (Пс. 28:3–4). Но что касается до свидетельств из Божественных писаний, то мы остановимся здесь, ибо слово расширилось бы до безграничных размеров, если бы кто захотел, изъясняя все порознь, изложить в одной книге.
Вы же все, которые красуетесь даром пакибытия и хвалитесь спасительным обновлением, покажите мне после (получения) таинственной благодати перемену нравов, и чистотою образа жизни дайте знать о различии изменения к лучшему. Ибо в том, что видимо для глаз, ничто не переменилось: черты тела остаются теми же самыми, и наружный вид видимого естества не изменяется. Но вполне необходимо какое–нибудь ясное указание, по которому мы признали бы только что рожденного человека, по каким–нибудь ясным признакам различая нового (человека) от ветхого. Такие признаки, думаю я, состоят в свободных движениях души, по которым она, отдаляясь от древнего привычного образа жизни и вступая па новый путь ее, ясно покажет знающим ее, что она сделалась другою, не оставив на себе никакой ветхой приметы. Способ же сего преобразования, если, поверив мне, сохраните (мое) слово, как закон, будет таков. Если кто до крещения был невоздержным, любостяжательным хищником чужого, обидчиком, лжецом, клеветником или предан подобным и близким к сим порокам; тот пусть будет ныне благонравным и целомудренным, довольным своим и от своего подающим тем, кто находится в бедности, правдолюбивым, почтительным, благосклонным, коротко сказать, — подвизающимся во всяком похвальном деле. Ибо как светом рассеивается тьма и как чернота исчезнет, когда будет закрашена белою краскою, так и ветхий человек исчезнет, когда его украсят дела правды. Видишь, как Закхей изменением образа жизни умертвил в себе мытаря, возвратив и дав вчетверо тем, коим неправо причинил ущерб. (Лк. 19:8). Евангелист Матфей, другой мытарь, занимавшийся тем же делом, что и Закхей, после призвания (Мф. 9:9) тотчас переменил жизнь, как бы какую личину, гонителем был Павел, но после (приятия) благодати стал Апостолом понес за Христа тяжкие узы в знак воздаяния и раскаяния за те несправедливые узы, которые, взяв у закона, нес возложить на Евангелие (Деян. 9:1–3). Таковым должно быть возрождение, так должно изглаживать привычку к греху, так должно жить сынам Божиим, ибо мы зовемся после (получения) благодати сынами Божиими. Посему должно тщательно присматриваться к свойствам нашего Родителя, чтобы, образуя себя и свою жизнь по подобию Отца, мы явились истинными чадами Того, Кто призвал нас к благодатному усыновлению. Ибо если кто Отеческое благородство не оправдывает делами, то это дурной признак — он незаконнорожденный, подкидыш. Посему, кажется мне, и Господь в Евангелии, устанавливая нам правила жизни, употребил такие выражения (обращаясь) к ученикам: «добро творите ненавидящим вас, и молитеся за творящих вам напасть и изгонящия вы: Яко да будете сынове Отца вашего, иже есть на небесах, яко солнце свое сияет на злыя и благия, и дождит на праведныя и на неправедныя» (Мф. 5:44–45). Ибо тогда, говорит, будут сынами, когда в своих помыслах напечатлеют подобие Отеческой благости в человеколюбии к ближним.
Посему и дьявол после (получения нами) достоинства усыновления сильнее злоумышляет против нас, бросая завистливые взоры, когда видит красоту новорожденного человека, спешащего к небесному жительству, откуда он ниспал и возбуждает на нас огненные искушения, стараясь отнять и второе украшение, как отнял первое. Но когда почувствуем его нападения, должны прилагать к себе апостольское изречение: «елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся» (Рим. 6:3). Если же мы сделались сообразны смерти его (Флп. 3:10), то затем грех в нас совершенно мертв, будучи пронзен копьем крещения, как оный блудник Ревнителем Финеесом (Чис. 25:8). Итак, беги от нас, ненавистный, ибо хочешь ограбить мертвого, древле бывшего в союзе с тобою, ныне потерявшего способность ощущать удовольствия. Мертвый не питает любви плотской, мертвый не уловляется богатством, мертвый не клевещет, мертвый лжет, не похищает того, что не принадлежит ему, не оскорбляет кого ни случится. Для другой жизни указаны мне правила жизни, я научен презирать мирское, оставлять без внимания земное, спешить к небесному, как определенно свидетельствует Павел, что мир ему «распяся» и он миру (Галл. 6.14). Вот речи души истинно возрожденной, вот слова новопосвященного человека, помнящего собственное обещание, которое он Дао Богу при сообщении ему таинства, — обещание пренебрегать всяким и мучением, и удовольствием ради любви к Нему.
Сказанного нами достаточно для священного предмета дня, который круговращающийся год привел нам в урочное время. Хорошо же заключить слово обращением к человеколюбивому Подателю такого дара, вознося малый глас в воздаяние за великие дела. Ибо Ты, Владыко, поистине чистый и приснотекущий источник благостыни; Ты справедливо отвратился от нас и человеколюбиво помиловал нас, возненавидел примирился с нами, проклял и благословил, изгнал из рая и опять при звал, снял с нас листья смоковницы — постыдный покров и облек одеждою многоценною, отверз темницу и освободил осужденных, окропил водою чистою и очистил от скверн. Уже не будет стыдиться призываемый тобою Адам и не станет скрываться, обличаемый совестью, хоронясь под кустом рая. Уже не станет огненный меч ограждать рая, делая вход недоступным для приближающихся к нему. Но все для нас, наследников греха, изменилось к радости. Доступнее человеку рай и самое небо, пришла в дружественное согласие тварь как в мире, так и превыше мира, древле враждовавшая между собою, и мы люди стали согласны с ангелами, благочестиво исповедуя их богословие. По всему этому воспоем песнь радости Богу, которую древле пророчески возгласили уста, одушевленные Духом: «да возрадуется душа моя о Господе: облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя: яко на жениха возложи на мя венец, и яко невесту украси мя красотою» (Ис. 61:10). Украситель же невесты, конечно, есть Христос, сый и прежде, сый (и ныне) и грядый, благословенный ныне и во веки. Аминь.
Слово на Святую Пасху, и о тридневном сроке Воскресения Христова
Если какое благословение, данное патриархам Духом Божественным, подтвердилось, если какое благо, обещанное духовным законодательством, исполняющим оное ожидается, если в загадочных событиях (Священной) истории усматривается верою некое предначертание истины, если какой пророческий голос благовествовал о сверх–естественном; то все сие есть дело настоящей благодати. И как в предлежащем нашим глазам зрелище наши взоры озаряет один свет, соединяющийся от бесчисленных светильников; так и все Христово благословение, само по себе блистающее, на подобие пламенника, проливает нам сей великий свет, сливающийся из многих и различных лучей писания. Ибо от каждого из боговдохновенных указаний можно заимствовать что либо приличное настоящему празднеству. Спросишь ли о смысле благословения Авраамова? (Быт. 26:4.), Найдешь искомое, взирая на настоящее. Видишь ли звезды небесные, — я говорю о звездах, от Отца нашего прекрасно воссиявших и соделавших Церковь целым небом, — о звездах, благодать от которых, озаряющую душу, означают лучи светильников? И называющий их по истине чадами Авраама, родившимися ему по обетованию, небесным звездам подобными, не погрешит против истины. Удивляешься ли возвышенному Моисею, силою ведения объявшему все Божие творение? Вот тебе благословенная суббота первого миротворения. Чрез ту субботу познай сию субботу, день успокоения, который Бог благословил преимущественно пред иными днями. Ибо в оный истинно успокоился от всех дел своих Единородный Бог, промыслительным воспринятием смерти субботствовавший плотию, и опять возшедши туда, где был, воскресением совоскресил с Собою все лежащее, соделавшись жизнию, и воскресением, и востоком, и днем для седящих во тьме и сени смертной (Ис. 9:2). (Священная) История полна (примерами) подобного благословения. Отец Исаака не щадит сего возлюбленного; единородный соделывается приношением и жертвою, и вместо него закалается агнец (Быт. 22:1–13): в этом повествовании можно видеть все таинство благочестия, Агнец зацепляется за дерево, «держимый рогами»; единородный для себя самого несет дрова ко всесожжению: видишь ли, как все носящий «глаголом силы» Сам и несет бремя наших дров (т. е. грехов), и древом воспринимается, неся как Бог, и возносимый как Агнец? так Дух Святый образно разделил великое таинство между обоими — возлюбленным сыном и вместе указанным агнцем, чтобы показать в агнце таинство смерти, в единородном же — жизнь, неразрушаемую смертию. Если хочешь взять и самого Моисея, воздеянием рук изображающего крест и сим знамением обращающего в бегство Амалика (Исх. 27:11–13), то можешь видеть осуществление сего образа, и Амалика — покоряющимся кресту. Имеешь и Исаию, не мало приносящаго тебе для уяснения настоящей благодати. Ибо от него ты преднаучен о безневестной матери, о безотчей плоти, о безболезненной болезни раждающей, о нескверном рождении. Так говорит пророк: «се дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя ему Еммануил, еже есть с нами Бог» (Ис. 7:14; Матф. 1:23). Что же касается до того, что деторождение было безболезненно, то прежде узнай, что так и надлежало сему быть. Так как всякое наслаждение соединено с страданием, то совершенно необходимо, чтобы когда из (сих) двух нераздельно мыслимых состояний, нет одного, не было и другого; посему где страстное удовольствие не предшествовало рождению, там не последовало и болезни (рождения). Потом эту мысль подтверждает и пророческое слово, говоря так: «прежде неже приити труду, чревоболения избеже, и породи мужеск пол» (Ис. 66:7); или, как сказал другой толкователь, прежде нежели мучилась родами, родила. От этой, говорит пророк, Девы Матери, «Отроча родися нам, Сын и дадеся нам, его же начальство бысть на раме его, велика совета Ангел» и так далее (Ис. 9:6). Сие отроча, сей сын «яко овча на заколение ведеся, и яко агнец пред стригущими его безгласен» (Ис. 53:7), лучше же, как сказал Иеремия, он «яко агня незлобивое ведомое на заколение». Он есть тот «хлеб», в который «влагают древо» враги хлеба и древа (Иер. 11:19). Наиболее же очевидное и ясное указание получаем от пророка, чрез которого ясно преднаписано таинство, — говорю об Ионе, безвредно сокрывшемся в ките и без болезни изшедшем из кита, и тремя днями и столькими же ночами, (проведенными) во внутренностях кита, преднаписавшем пребывание Господа во аде (Ион. 2:1–11). Сие и сему подобное надлежало бы изыскивать и выбирать из каждой книги Писания; ибо все сие видишь в настоящем. На настоящем светлом празднестве «весь закон и пророцы висят» (т. е. утверждаются), как говорит негде Евангелие (Матф. 22:40), и всякое Боговдохновенное слово и закон, но слову Павла, совершаются в сей благодати (2 Тим. 3:16). Ибо здесь и конец страданий и начало благ. Скажу например, — «царствова смерть от Адама» (Рим. 5:14), получив начало тлетворной силы; но ея злая держава продолжилась «и до Моисея», и закон нисколько не обуздал злое могущество смерти. Пришло царство жизни, и разрушилась держава смерти; явилось иное рождение, другая жизнь, иной образ жизни, претворение самой природы нашей. Сие рождение «не от крове, ни от похоти мужеския, ни от похоти плотския, но от Бога произошло» (Иоан. 1:13). Как же это? Ясно выскажу и представлю тебе сию благодать. Сей плод верою чревоносится, возрождением крещения изводится на свет; кормилица его есть Церковь, сосцы, — наставления; пища, — хлеб свыше; совершение возраста, — высокая жизнь; брак — сожитие с мудростию; чада, — надежды; домы, — царство; наследие и богатство, — наслаждение в раю, конец же, — вместо смерти, жизнь вечная в блаженстве предстоящем святым. И великий Захария видит сие начало перемены к лучшему и сомневается о наречении имени: как должно надлежащим образом назвать настоящую благодать; потому что перечисляя другие чудеса, относящияся к страданию, говорит и то о сем времени, что оно «не день и не нощь» (Зах. 14:7), чрез что показывает, что оно не может быть названо днем; потому что нет солнца, и не есть ночь; потому что нет тмы; ибо как говорит Моисей: «Бог тму нарече нощь» (Быт. 1:5). Итак поелику по времени — ночь; по свету же — день; то пророк и сказал: «и не день, и не нощь».
Если же сие время, по слову пророка, не есть ночь, то настаящая благодать именуется и есть нечто совершенно иное в сравнении с сим. Хотите ли скажу, что мне пришло на мысль? «Сей есть день, его же сотвори Господь» (Псал. 117:24), он, — иной, отличный от дней созданных в начале (Быт. 1:5). Ибо в сей день творит Господь новое небо и землю новую, как говорит пророк (Ис. 65:17). Какое небо? Твердь веры во Христа. Какую землю? То есть благое сердце, как сказал Господь, — землю пьющую падающий на нее дождь и плодоносящую обильный колос (Евр. 6:7). В сем творении солнце есть чистая жизнь, звезды — добродетели, воздух — светлая общественная деятельность; море — глубина богатства мудрости и знания, травы и произрастения — доброе учение и божественные догматы, на которых пасется народ паствы, то есть стадо Божие; плодоносные деревья — исполнение заповедей. В сем творении созидается истинный человек, по образу и подобию Божию. Не новым ли миром кажется тебе сие начало, — «день, его же сотвори Господь», — день, о котором говорит пророк Захария, что он ни день сравнительно с другими днями, ни ночь сравнительно с другими ночами? Но наше слово еще не возвестило превосходнейшего о настоящей благодати. Она уничтожила скорбь смертную; она произвела первенца из мертвых; ею сокрушены железные врата смерти; ею уничтожены медные запоры ада. Ныне отверзается темница смерти; ныне пленным возвещается освобождение; ныне слепым дается прозрение; ныне сидящих во тьме и сени смертной посещает Восток свыше (Лук. 1:58; Ис. 9:2). Желаете ли узнать что нибудь и относительно тридневного срока? Довольно узнать только то, что для всемогущей Премудрости, бывшей в сердце земли, для Господа, довольно было и столь малого промежутка времени, чтобы оный великий ум, в ней обитающий, обьюродел; ибо так именует его пророк, называя его великим умом и князем Ассирийским (Ис. 10:11). Итак поелику сердце есть некоторое жилище ума: ибо в сердце пребывает, как думают, властвующая сила души; то посему Господь нисходит в сердце земли, которое заменяет небесное жилище для оного ума, чтобы соделать безумным его совет, как говорит пророк (Ис. 19:11), уловить мудрого в коварстве его и обратить против негоже его лукавые предприятия (Иов. 5:12–13). Начальнику тьмы невозможно было приблизиться к пришедшему чистому свету, если бы он не узрел в нем некоторой части плоти; по сему как скоро увидел богоносное тело, а вместе увидел и содеваемыя самим Божеством чудеса, то возимел надежду, что если чрез смерть овладеет плотию, то овладеет и всею в ней находящеюся силою. И посему проглотив приманку плоти, пронзается удою божества, и таким образом змий приведен удою, как сказал Иов, предвозвестивший имевшее быть чрез него, говоря: «извлечеши ли змия удицею» (Иов. 40:20). Послушаем же у пророка, что замышляло против вселенной самое сердце земли, когда разверзло пасть на Господню плоть. Что говорит ему в обличение Исаия? «Ты рекл еси» в сердце твоем: «на небо взыду, выше облак поставлю престол мой и буду подобен Вышнему» (Ис. 14:13–14). Так замышляло о себе злое сердце. А как еще прежде сей великий во зле ум, злой Ассириянин, разсуждал с собою, о том опять послушаем слова Исаии: «сие рече: крепостию руки моея сотворю, и премудростию разума отиму пределы языков, и силу их пленю: и сотрясу грады населенныя, и вселенную всю обиму рукою моею яко гнездо, и яко оставленная яица возму и несть, иже убежит мене, или противу мне речет» (Ис. 10:13–14). С такою надеждою он принимает в себя Того, кто по человеколюбию низшел в дольняя земли. А что с ним было вместо того, чего надеялся, о том ясно повествует пророчество, говоря о его страдании: «како спаде с небесе денница, како сокрушися на земли» тот, которому подостлана «гнилость», которого одеждою служит покров из червей (Ис. 14:11–12), и прочее, что говорится о его погибели, что желающий может с точностию узнать из самых писаний; мне же нужно обратиться опять к цели слова. Для того истинная Премудрость и посещает велеречивое сие сердце земли, чтобы уничтожить в ней великий во зле ум и просветить тьму; чтобы смертное было поглощено жизнию, а зло обратилось в ничтожество, по истреблении последнего врага, который есть смерть (1 Кор. 15:26). Вот что совершено для тебя в тридневный срок. Не медлительна благодать? Не в очень продолжительное время совершено такое благо? — Желаешь ли знать могущество силы, совершившей (столь многое) в столь краткое время? Изчисли мне все мимошедшие поколения людей, (начиная) от первого появления зла (в мире) и до его уничножения: сколько человек в каждом поколении и сколько тысяч можно их насчитать? Не возможно обнять числом множеств тех, в которых по преемству распространялось зло; худое богатство порока, разделяясь каждому из них, каждым увеличивалось, и таким образом плодородное зло перешло в непрерывно следующие поколения, разливаясь по множеству людей до безконечности, пока, дошедши до самого крайнего предела, овладело всем человеческим естеством, как прямо сказал пророк о всех вообще: «вси уклонишася, вкупе неключими быша» (Псал. 13:3), и не было ничего в сущем, что не было бы орудием зла. Итак уничтоживший в три дня такое скопление зла, собиравшееся от устроения мира до совершения нашего спасения чрез смерть Господа, — ужели малое дал для тебя доказательство превосходной силы? Не сильнее ли оно всех (упоминаемых) в священных повествованиях чудес? Ибо как чудо Самсона тем особенно велико, что он не только одолел льва, но и без труда умертвил его голыми и невооруженными руками, как бы шутя разорвав зверя; так и то, что Господь без всякого труда уничтожил такую злобу, есть наисильнейшее доказательство превосходного могущества. Не потоки неизмеримых вод, с верхних стремнин падающие вниз, ни бездны, переполняющия собственные пределы и морями наводняющие землю, сокрывающие в глубине вод всю вселенную, подобно кораблю с людьми, делающия подводными горы и затопляющия вершины гор, ни потоки пламени по подобию Содома, огнем очищающие развращенное, ни что нибудь другое подобное, но одно простое и непостижимое пришествие Жизни и присутствие Света для сидящих во тме и тени смертной, произвело полное изчезновение и уничтожение тмы и смерти. Прибавить ли что нибудь еще к сказанному? Зло зародилось в змие; искушением змия побеждена жена; за тем женою побежден муж; зло получило бытие чрез троих. К чему я воспоминаю об этом? Из порядка в зле можно уразуметь некоторый порядок добра. Замечаю сии три сосуда зла: первый, в котором (зло) сначала образовалось; вторый, в который перешло; третий, в котором после возрасло. Итак поелику зло распространилось в сих трех (сосудах), то есть в диавольском естестве, в женском поле, и в совокупности мужей; то посему и болезнь уничтожается соответственно с сим в три дня; каждому роду заболевших злом на врачевание отделяется один день: в один день освобождаются от болезни мужи; в другой — врачуется женский пол; в последний, упраздняется последний враг, — смерть и вместе с ним уничтожаются его сопутники: начала, власти и силы враждебных и первенствующих сил (зла). Не удивляйся, что создание добра разделяется временными промежутками. Ибо и при первом произведении мира божественная сила не слаба была, чтобы во мгновение совершить все сущее; но не смотря на то при созидании сущего определила быть и временным промежуткам. И как там, в первый день совершена часть творения, а во второй — другая, и за тем по порядку таким же образом совершено все сущее, так что Бог в определенные дни благоустроил все творение; так и здесь по неизглаголанной мысли его премудрости, в три дня изгоняется зло из существующего, — из мужей, из жен и из рода змий, в которых первых получило бытие естество зла.
Впрочем о причине числа дней мы только предполагаем это; верно сие или нет, оставим на суд слушателей; ибо слово (наше) не есть решение, но упражнение и изыскание. Если же хочешь точно узнать определенный срок этих дней страдания, (ибо в числе не малаго не достанет, если станешь считать время с девятого часа пятницы, в который (Господь) предал дух в руки отчие); то несколько помедли, и может быть слово объяснит тебе это. Какое же слово? Обрати взор на величие божественной силы, и узнаешь то, о чем здесь спрашиваешь. Вспомни об изречении Господнем, что объявляет о Себе имеющий державу над всем, как самодержавною властию, а не по необходимости естественной Он разлучает душу от тела. Он говорит: «никто же возмет душу Мою, но Аз полагаю ю о Себе. Область имам положити ю, и область имам паки прияти ю». (Иоан. 10:18). Как скоро это мне твердо известно, то и искомое уясняется. Ибо всем Правящий со владычним самовластием не ждет принуждения (к страданию) от предательства, не ожидает для того разбойнического нападения Иудеев, ни беззаконного суда Пилатова, чтобы их злоба была началом и причиною общего спасения людей; но своим домостроительством сам предупреждает их наступление способом священнодействия неизреченным и людьми невиданным, самого Себя приносит в приношение и жертву за нас, будучи вместе священником и агнцем Божиим, вземлющим грех мира. Когда же это? Когда предложив ядомое тело Свое в пищу, ясно показал, что жертвоприношение агнца уже совершилось. Ибо жертвенное тело не было бы пригодно к ядению, если бы было еще одушевлено. Итак когда (Господь) преподал ученикам тело для ядения и кровь для пития, то свободною властию Домостроителя таинства тело Его неизреченно и невидимо уже было принесено в жертву, а душа была в тех местах, куда пренесла ее власть Домостроительствующего, вместе с соединенною с нею божественною силою; она обходила оную страну в сердце (земли). Итак считающий время от того часа, когда Богу принесена была жертва великим Архиереем, неизглаголанно и невидимо священнодействовавшим Себя самого, как агнца, за общий грех, не погрешит против истины. Ибо был вечер, когда снедено было сие священное и святое тело. За сим вечером последовала ночь пред пятницею. Далее — день пятницы, разсеченный вводною ночью, разделяется на одну ночь и два дня. Ибо если Бог «тму нарече нощь» (Быт. 1:5), а в продолжении трех часов была тма по всей вселенной, то эта тма и есть ночь, новоразделившая день по средине, разграничившая собою два отдела дня, один, — от разсвета до шестого часа, другой, — от девятого (часа) до вечера. Таким образом доселе было два дня и две ночи. Далее, — ночь пред субботою и с нею день субботы, — ты имеешь три ночи.
Наконец изследуй время воскресения, и найдешь истину сказанного. Когда последовало воскресение? «В вечер субботный» — провозглашает Матфей (28:1). Итак вот (самый) час воскресения по гласу Ангела. Вот предел пребывания Господа в сердце земли. Ибо когда был уже глубокий вечер, начинавший собою ту ночь, за которою последовал первый из (после) субботних дней; тогда произошло землетрясение; тогда блистающий одеждами Ангел отвалил камень надгробный. А жены вставшие незадолго до утра, когда уже появлялся дневной свет, так что показывалось и некоторое сияние восходящего солнца, возвещают уже совершившееся воскресение; о чуде они узнали, час же не был им открыт. Ибо Ангел сказал им, что Господь возстал, а когда, — в слове (своем) не прибавил. Но великий Матфей один из всех Евангелистов точно обозначил время, говоря, что вечер субботный был часом воскресения.
Если же так, то срок по нашему счислению соблюден, когда мы будем считать от вечера четвертка до вечера субботы, вставляя, как сказано, ночь, разделяющую пятницу на два дня и одну ночь. Ибо Властвующему своим могуществом над самым веком прилично было (соделать), чтобы не дела Его по необходимости сообразовались с установленными для времени мерами, но чтобы меры времени делились по новому порядку сообразно потребности сущего, и чтобы, когда божественная сила в кратчайший срок совершает дело благое, и меры времени укорачивались бы. Таким образом и времени прошло не менее трех дней и стольких же ночей, (потому что этого числа требует таинственная и неизглаголанная причина), — и божественная сила, в выжидании обычных промежутков дней и ночей, не встретила препятствия для скорости действования. Ибо Имеющий власть и положить душу свою о Себе и опять восприять, когда хотел, как Творец веков, имел власть в своих делах не быть подвластным времени, но устроять время сообразно с делами.
Но слово еще не коснулось самого главного вопроса. Более любознательным естественно спросить: каким образом Господь в одно и тоже время мог быть в сих трех: в сердце земли, в раю с разбойником и в руках Отца. Ибо фарисеям Он говорит: «яко же бе Иона во чреве китове: тако будет и Сын человеческий в сердце земли» в продолжении трех дней (Матф. 12:40); разбойнику: «днесь со мною будеши в раи» (Лук. 23:43); Отцу же: «в руце Твои предаю дух Мой» (Лук. 23:46). Но ни в преисподней нет никакого рая, ни преисподней в раю, так чтобы в тоже время можно было быть в обоих, или называть их руками Отца. Для благочестиво разсуждающих это, быть может, и изследования не заслуживает. Ибо везде сущий божественною силою и всюду присутствует, и ни от чего не удаляется. Я же, изучая этот предмет, пришел к другой еще мысли, которую для желающих из вас изложу кратко. Когда Дух Святый низшел на Деву и сила Вышнего осенила ее (Лук. 1:35), чтобы образовать в ней новаго человека, (потому названнаго новым, что создан по Богу, а не по человеческому обыкновению), чтобы быть нерукотворенным вместилищем Бога, (ибо Всевышний «не в рукотворенных», то есть не в людьми приготовленных, храмех живет (Деян. 17:24): тогда вместе с тем как Премудростию самою устроен был дом (Прит. 9:1) и осенением Силы, как бы наложением печати извнутри довершено было его образование, божественная сила соединяется с обеими составными частями человеческой природы, то есть с душою и телом, соответственно сочетавшись с тою и другим. Ибо так как обе сии части поражены было смертию чрез преслушание, (для души омертвение состояло в удалении ея от действительной жизни; для тела же в тлении и разрушении); то нужно было из обоих их изгнать смерть примешением жизни. Итак по соединении Божества с каждой из частей человека, в обеих явились ясные признаки всепревосходящего естества. Ибо тело обнаруживало (находящееся) в нем Божество, совершая исцеления чрез прикосновение, душа показывала божественную силу могущественною оною волею. Ибо как телу свойственно ошущение чрез прикосновение, так душе, — движение посредством воли. Приходит прокаженный, уже разлагающийся и невладеющий телом; как изцеляется он Господом? Душа желает, тело «касается. И болезнь тем и другим образом изгоняется. Ибо тотчас, как написано, оставила его» проказа (Матф. 8:3) [10]. Опять, — Он не желает отпустить голодными многия тысячи, бывшия при Нем в пустыне, а руками преломляет хлебы. Видишь ли, как Божество, соприсутствующее обеим (частям), обнаруживается в каждой, — в теле действием, в душе стремлением ея воли. И что нужды перечислять самые чудеса, все совершаемые подобным образом, и обременять слово известным? Перейду к тому, для чего упомянул о сказанном. Как Господь в тоже время был в аду и в раю? Одно разрешение этого вопроса: нет ничего недоступного для Бога, «в нем же всяческая состоятся» (Кол. 1:17). Другое же то, к которому клонится теперь наше слово: так как Бог изменил (μετασϰευάσαντος) всего (восприятого им) человека в божественное естество чрез соединение с ним; то и во время страдания по домостроительсту не отступил ни от одной из частей, с коими однажды соединился: «не раскаянна бо дарования» Божии (Рим. 11:29). Хотя Божество добровольно разлучило душу от тела, но показало, что оно пребывает в обоих. Ибо телом, которое не приняло тления смерти, оно сокрушило имущего державу смерти (Евр, 2:14); душою же открыло разбойнику вход в рай: то и другое делается в одно время и божество совершает благо чрез ту и другую (части человека): чрез нетление тела — уничтожает смерть, чрез душу же, восходящую к собственному своему жилищу, — возвращает людей в рай. Итак поелику состав человеческий двойствен, а Божественное естество просто и единовидно; то и во время разлучения тела от души неделимое не разделяется вместе с сложным; но напротив пребывает тем же. Ибо единством Божеского естества, равно присущего как в теле, так и душе, разрозненное, опять соединяется вместе. И таким образом смерть происходит от разделения соединенного, воскресение же, — от соединения разделенного. Если же спросишь, каким образом будучи в раю, Господь предает Себя в руки Отца, то искомое объяснит тебе высокий Исаия. Ибо он от лица Божия о горнем Иерусалиме, который, как веруем мы, есть не иное что, как рай, говорит: «се на руках моих написах стены твоя» (Ис. 49:16). Итак если Иерусалим, который есть рай, написан на руках Отца, то ясно, что вступивший в рай, совершенно вселяется в дланях Отчих, на которых и божественный город имеет (свое) начертание. Об этом довольно.
Стоит вкратце сказать и о том, что слышим от Иудеев, сильно нападающих своими обвинениями на (наш) догмат. Говорят они, что в постановлении о пасхе Иудеям заповедано Моисеем не только праздновать четырнадцатый период лунного течения, но и семь дней вкушать опресноки, а приправу к опреснокам делать из горьких трав. Итак, говорит Иудей, если вы так заботливо наблюдаете четырнадцатый день, то соблюдайте вместе с тем и горькие травы и опресноки; если же этим можно пренебрегать, то за чем заботиться о праздновании того дня? Ибо нельзя у того же самого законодателя одно почитать справедливым и душеполезным, а другое неполезным и заслуживающим отвержения; так что необходимо или исполнять нам все заповеданное о пасхе, или не держаться ничего. Что же мы скажем?
Вспомним, что Господь учил нас не бояться поношения от людей и не смущаться их порицанием (Матф. 5:11). Известна нам душеполезность соблюдения опресноков, польза горьких трав и четырнадцатого дня. А в каком смысле, — коротко разсмотрим. Закон «сень имый грядущих благ» (Евр. 10:1) имеет в виду преимущественно одну цель — как бы посредством различных постановлений очистить человека от примешавшегося к нему зла. Сие исполняется в обрезании, в субботе, в наблюдении пищи, в различных жертвоприношениях животных, в соблюдении каждого (предписания) закона. И долго было бы с точностию изглагать все то, на что в частности указывает нам гадательно закон относительно очищения жизни. Посему как чрез обрезание, совершаемое духовно, природа отлагает страстность, будучи усекаема в жизни плотяной; как чрез субботствование она научается неделанию зла; как заклание в жертву животных закалает страсти, а узаконенное относительно снедей отделение нечистого побуждает тебя к отчуждению от грязной и нечистой жизни: так и сей самый праздник указывает тебе на тот праздник, к которому душа приготовляется чрез опресноки, в течении семи дней воздержания от ядения квасного. Значение же сих (дней) таково: седмидневное число указывает тебе на сие преходящее время, возвращающееся понедельно, когда ты должен заботиться, чтобы на наступающий день не сохранить никакого остатка вчерашней злобы, чтобы (примесь) злобы прошлого дня не произвела какого кваса или кислоты в сегодняшнем смешении. «Солнце да незайдет во гневе вашем» (Ефес. 4:26), говорит Апостол, повелевающий праздновать «не в квасе ветсе, ни в квасе злобы и лукавства, но в безквасиих чистоты и истины» (1 Кор. 5:8). А что узнали мы об одном виде злобы, то, как известно нам, относится и до остальных видов ея. Что же касается до употребления горьких трав, то горечь изгоняет испорченность и распущенность в жизни, вводит же напротив жизнь воздержную, строгую и неприятную для чувства; поелику «всякое наказание не мнится в настоящее время радость быти, но печаль» (Евр. 12:11).
Итак, кто во всю седмицу сей жизни всегда проводит настояший день без примеси и кваса ветхой злобы, делая приправою жизни воздержание, тот отстраняет от себя всякую примесь тьмы. На сие указывает четырнадцатый (день) лунного течения. Поелику круг течения луны состоит из двадцати девяти дней с половиною, в которые луна, от новомесячия чрез приращение достигши полноты, опять чрез ущерб доходит до совершенного изчезновения света; то ясно, что половина упомянутого числа есть четырнадцатый день и еще немного. Луна тогда бывает в таком виде, что совершив свойственное ей течение в продолжение ночи она продолжает свое круговращение еще на несколько времени, и полная светом смешивает свое сияние со светом дневных лучей, так что ни вечером, ни утром никакой промежуток темноты не разсекает непрерывности света и, не смотря на преемство дня и ночи, свет не разделяется (тьмою). Ибо прежде, чем солнечный луч совершенно скроется на противоположной стороне, тот час является луна и своим светом озаряет землю; и опять, — прежде, чем круг ее совершенно зайдет за горизонт, с остатками лунного света смешивается дневное сияние. Таким образом в сей день полнолуния тьма уничтожается и утро и вечер озаряется преемством светил. Итак, что случается с чувственным светом в четырнадцатый день, когда не допускается примеси тмы во всю ночь и день, то духовный закон желает сделать символом для духовно–празднующих, чтобы они всю жизненную седмицу, — все время своей жизни, соделывали одною пасхою светлою и неомраченною. Вот значение предписаний о пасхе для Христиан. Для сего мы и наблюдаем четырнадцатый день, чрез чувственный сей и вещественный свет восходя к представлению невещественного и мысленного; так что по–видимому мы обращаем внимание на полную луну, озаряющую нас достаточным светом во всю ночь, на самом же деле видим здесь закон для нас состоящий в наблюдении, чтобы все время, измеряемое ночью и днем, было у нас непрерывно светло и свободно от примеси мрачных дел. И о сем достаточно.
А все те мысли, к которым приводит нас крест, чрез который совершилось таинство страдания, можно ли кому либо легко изъяснить словом? Ибо, не было ли безчисленнаго множества способов, ведущих к смерти, чрез которые могло бы исполниться домостроительство о нас смертию? Но из всех (видов смерти), самовластию Определившим самому Себе страдание, назначен сей. Ибо «подобает Сыну человеческому» (Марк. 8:31). Не сказал, — то и то претерпит Сын человеческий, как бы просто сказал кто нибудь, предсказывая то о чем говорил; но утверждает, что сему необходимо нужно быть по некоей неизреченной причине, говоря, что «подобает Сыну человеческому много пострадати и искушену быти и быть распяту и в третий день воскреснути» (Марк. 8:31). Уразумей со мною значение слова подобает, из которого открывается решительно, что страдание именно никак не должно было совершиться иначе, как чрез крест. Какая же причина сего? Одному великому Павлу, наученному неизреченными глаголами, которые он, посвященный в тайны рая, слышал там, свойственно уяснить и сие таинство, как он в словах к Ефесянам отчасти и дает уразуметь сокровенное, говоря: «да возможете разумети со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Разумети же преспеющую разум любовь Христову, да исполнитеся во всяко исполнение Божие» (Ефес. 3:18–19). Ибо не напрасно божественное оное око Апостола мысленно узрело (здесь) образ креста; но чрез сие (Апостол) ясно показал; что всякий отринув от глаз чешую неведения, чисто увидит самую истину. Ибо он знал, что образ креста, представляющий четыре выступа соединенные по средине, обозначает на все простирающуюся силу и промышление Того, Кто на нем явился; и посему каждому выступу дает отличительное название: глубиною именуя то, что идет вниз от средины, высотою то, что находится сверху, широтою же и долготою то, что поперек простирается в обе стороны от связи, так что (часть) в ту сторону от средины называется широтою, а в другую сторону, — долготою. Чрез это, мне кажется, ясно обозначается словом то, что нет ничего существующего, что бы неодержимо было Божескою природою, — и небесное и подземное и отовсюду простирающееся посредине до пределов сущего. Ибо высотою означается горнее, глубиною, — подземное, долготою и широтою все, что заключается в средине и что держится всем управляющею силою. Доказательством сказанного пусть будет то, что происходит в душе твоей, при мысли о Боге. Ибо воззри на небо, представь в уме дольние глубины, простри свою мысль до широты и до пределов всего существующего, и подумай, какова сила содержащая все сие, служащая как бы некоторою связью всего, — и увидишь, как мысль о божеской силе сама собою начертывает в уме образ креста, от горнего низходящий в бездну и до крайних пределов простирающийся поперек.
Сей–то образ (креста) воспел и великий Давид говоря о себе: «камо пойду от Духа Твоего? и от лица Твоего камо бежу? Аще взыду на небо», вот высота: «аще сниду во ад», — вот глубина; «аще возму криле мои рано» (разумеется восток солнечный), — вот широта, если «вселюся в последних моря» (так он называет запад), — вот долгота (Псал. 138:7–9). Видишь, как словами живописует он образ креста? Ты, говорит, проницаешь все, связуешь все сущее и обемлешь Собою все концы, горе Ты находишься, внизу Ты присутствуешь, в сем конце присуща рука Твоя, и в другом указует путь десница твоя. Посему и великий Апостол говорит, что когда все исполнится веры и ведения, тогда Сущий превыше всякого имени, о имени Иисуса Христа получит поклонение от «небесных и земных и преисподних» (Флп. 2:10). Опять и здесь, соответственно образу креста, (Апостол) разделяет поклонение кресту. Ибо превышемирная область в верхней части креста воздает поклонение Владыке, мировая часть в средине, преисподняя же соответствует нижней части (креста). Тоже означает, по моему мнению, и «иота» в соединении с «чертою», оказывающаяся тверже неба, постояннее земли и крепче всего состава сущего. Небо и земля мимо идет (Матф. 24:35) и всего мира образ «преходит» (1 Кор. 7:32); «иота» же из закона «и черта не прейдет» (Матф. 5:18). Опущенная к низу линия, нисходящая сверху вниз, именуется «иота», а проводимая продольно поперек называется «черта», как сему можно научиться и от мореплавателей; потому что дерево, лежащее поперек мачты, на которой распускают парус, именуют чертою (ϰεραία), называя (его так) по его виду. Посему кажется мне, божественные слова Евангелия, под образом креста, гадательно и как бы в зеркале имеют в виду указать на то, в чем все имеет бытие, что более вечно, чем содержащееся в нем, и сила чего сохраняет все сущее. Посему–то и говорит, что подобает Сыну человеческому, — не просто умереть, но быть «распяту», чтобы крест для более проницательных был богословом, чрез (свой) образ возвещающим всесильную власть явившегося на нем и сущего вся во всем.
Не умолчим, братие, и о благообразном советнике, Иосифе Аримафейском, который взявши тело Господа, чистый и святый дар, обвивает его чистою плащаницею и полагает в чистом гробе. Дело сего благообразного советника да будет для нас законом, чтобы и мы подобным образом, когда приемлем оный дар тела, не советовали себе принимать (его) в оскверненную плащаницу совести и полагать в смрадном от мертвых костей и всякой нечистоты гробе сердца. Но, как говорит Апостол, пусть каждый испытывает себя, чтобы благодать не была во осуждение недостойно принимающему ее (1 Кор. 11:28–29).
Но, говоря сие я вдруг чувствую себя пораженным светоносною одеждою Ангела, и потрясает радостию мое сердце оное вожделенное землетрясение, отваливающее тяжелый камень человеческой гробницы, отверзающее всем дверь воскресения. Потечем и мы к сему зрелищу необычайного чуда. Ибо суббота уже прошла, не останемся позади жен. В наших руках да будут и ароматы: вера и совесть; ибо это благоухание Христово. Не станем уже искать живого с мертвыми, ибо ищущего таким образом отревает Господь, говоря: «не прикасайся Мне» (Иоан. 20:17); но когда взойду ко Отцу, тогда тебе можно прикоснуться. Послушаем, что благовествует и жена, верою предупредившая мужа и хорошо сие сделавшая, чтобы предварением в добре оправдаться в причинении зла. Что же благовествует жена? Подлинно «ни от человеков ни чрез человеков, но Иисус Христом» (Гал. 1:1). Ибо послушайте, говорит мироносица, что Господь повелел нам сказать вам, которых Он и братьями своими называет: «восхожду к Отцу Моему и Отцу вашему и Богу Моему и Богу вашему» (Иоан. 20:17). О, прекрасное и благое благовестие! Соделавшийся для нас подобным нам, чтобы, будучи нам сродным, сделать нас Своими братьями, приводит Свое человечество к истинному Отцу, чтобы Собою привлечь все сродное, чтобы впредь никто не укорял нас, что мы служили «не по естеству сущим богам» (Гал. 4:8), потому что мы снова приведены к живому и истинному Богу, и чтобы мы не были отвергнуты и лишены отеческого наследия, чрез усыновление последовав за Сыном. Соделавший Себя чрез воплощение первородным «во многих братиях» (Рим. 8:29) привлек всю тварь, которой приобщился, в принятой на Себя плоти. Но тогда как пред пасхою пресный хлеб имел приправою горечь, мы видим, что после воскресения хлеб приправляется некоторою сладкою снедию. Видишь ли, при ловлении Петром рыбы, хлеб и соты медовые в руках Господа? Подумай, что готовит тебе горечь жизни? Итак и мы, возставши от словесной ловитвы, приступим теперь к хлебу, услаждаемому сотами благой надежды, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Слово на святую Пасху, о воскресении
Люди бедные, но любящие празднества и встречающие их не только с радостию в душе, но и в светлых одеяниях, не имея собственных средств украсить себя, как бы им хотелось, испрашивают всяких драгоценностей у своих родных и знакомых, и таким образом удовлетворяют всем своим нуждам. В таком же положении нахожусь и я сегодня. Будучи не в состоянии сам от себя сказать что–нибудь достойное уже слышанных нами славословий, я прибегну к пособию священной песни, которую недавно мы пропели; воспользуюсь ее содержанием, и таким образом исполню свой долг, присоединив к словам Писания несколько своих, если только у бедного служителя найдутся хотя какие–нибудь славословия для выражения благодарности к своему Господу.
Недавно восклицал Давид, а за ним пели и мы: «хвалите Господа вси языцы, похвалите Его вси людие» (Псал. 116:1). Сим псалмом Давид призывает к прославлению Господа всех, без исключения, людей, начиная от самого Адама; живет ли кто на западе и востоке, или в странах, окрест лежащих, обитает ли на севере или на юге, всех равно побуждает он к песнопению. В других случаях он обращается только к некоторым людям в–частности, призывает например святых, или побуждает к песнопению отроков, а в настоящем собирает своею псалтирию языки и народы. И когда «прейдет», по словам Апостола, «образ мира сего» (1 Кор. 7:31), когда Христос, Царь и Бог, исполнив верою всякую душу неверующую и заградив уста богохульные, явится пред всеми и положит конец суетному учению еллинов, заблуждениям иудеев и необузданному пустословию еретиков; тогда действительно все языки и все, от века почившие, люди воздадут Ему единодушное поклонение. Тогда будет некое дивное согласие в славословии; потому–что праведники будут хвалить Господа по всегдашнему своему обыкновению, а грешники будут умилостивлять по необходимости. Тогда, во–истину, единогласно воспоют победительную песнь все, и побежденные и победители. Тогда же и виновник возмущения, вообразивший себя в величии Господнем, явится пред всеми презренным рабом и отведен будет Ангелами на мучение, а все сообщники и служители злобы его подвергнутся достойному наказанию. Один будет тогда царь и судия, которого все исповедают своим общим Господом; и настанет тогда всеобщая тишина, какая бывает в то время, когда судия возседит на троне, герольд дает знак к молчанию, и народ, ожидая речи судии, устремляет к нему и зрение и слух. «Хвалите» убо «Господа вси языцы, похвалите Его вси людие», хвалите как всемогущего, похвалите как человеколюбивого. Ибо Он оживотворил всех погибших и мертвых, обновил сокрушенный сосуд из бренных останков, лежащих во гробах, образовал, по человеколюбию, существо нетленное, и душу, за несколько тысяч лет разлучившуюся с телом, ввел снова, как–бы после долговременного странствования, в прежнее ее жилище, которое ни от времени, ни от забвения не сделалось для ней чуждым и к которому она устремилась скорее, чем птица летит к своему гнезду. Станем разсуждать о предметах близких к настоящему празднику, дабы наше празднование было сообразно с существом праздника. И безполезно, и неуместно, и странно говорить о чем–либо постороннем и неотносящемся к делу, не только в беседах о предметах веры и благочестия, но и в речах, имеющих предметом своим дела обыкновенныя и мудрость мирскую. Не будет ли безумен и крайне смешен оратор, когда, быв приглашен к светлому брачному пиршеству, вместо приличных веселых речей, соответствующих радости праздника, станет уныло возглашать печальные песни, и с грустию разсказывать описанные в трагедиях бедствия брачной жизни? Или, наоборот, когда ему поручат отдать последний долг умершему и почтить дела его речью, он, не обращая внимания на печальное событие, будет радоваться и веселиться посреди пораженного скорбию собрания? Если же в делах мирских хорошо соблюдать чин и приличие, то, конечно, гораздо необходимее это, когда дело идет о предметах важных и небесных.
Итак днесь воскрес Христос, Бог безстрастный и безсмертный. (Язычник, удержись на время от безразсудного смеха, пока не выслушаешь всего!) Не по необходимости Он пострадал, не по принуждению сошел с небес, и не сверх чаяния воскрес, как будто бы это было для Него неожиданным благодеянием. Нет, Он в самом начале знал конец всего; пред Его Божественными очами открыто было все, имеющее совершиться. Еще прежде сошествия с неба, Он видел и смятение язычников, и ожесточение Израиля, и Пилата, возседящего на троне, и Каиафу, раздирающего одежду свою, и неистовство мятежного народа, и предательство Иуды, и защищение Петрово, и вскоре за сим свое воскресение и переход к безсмертной славе. И зная все, имеющее совершиться, Он не изменил милости своей к человеку, не отложил исполнения смотрения своего о его спасении. Как люди (великодушные), при виде слабого человека, уносимого стремлением потока, движимые состраданием к погибающему, бросаются в воду для его спасения, хотя знают, что и они могут погрязнуть в иле потока и пострадать от камней, быстро несущихся по воде; так и человеколюбивый Спаситель наш, дабы спасти погибшаго от обольщения, добровольно претерпел поношение и безславие. Он сошел на землю, потому–что предвидел и славное восшествие от ней; благоволил умереть, как человек, потому–что знал наперед и о своем воскресении. Не безразсудно Он подвергал себя опасности, предоставляя все неизвестности будущего, как поступает обыкновенный человек, но как Бог, Он располагал все события к известной и определенной цели. «Сей» убо есть «день, егоже сотвори Господь: возрадуемся и возвеселимся в онь» (Псал. 117:24), возвеселимся не в пьянстве и объядении, не в ликовании и безчинствах, но в богоугодных размышлениях.
Сегодня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного дела, оставив дела обыкновенные, как–бы по данному знаку, обращается к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и заступ, украсился праздничною одеждою; корчемницы стоят пустыми; исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны; безпокойства, смятения и бури житейские сменились тишиною праздника. Бедный украшается как богатый; богатый одевается великолепнее обыкновенного; старец, подобно юноше, спешит принять участие в радости, и больной превозмогает болезнь свою; дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому–что еще не может праздновать духовно; девственница веселится душою, потому–что видит светлый торжественный залог своей надежды; мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слуги и домочадцы, все веселятся. Как новый, только–что образовавшийся рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все члены семейств отвсюду собираются в свои домы. И по–истине справедливо сравнивают настоящий день с днем будущего воскресения, потому–что тот и другой собирает людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь собираются по частям. Что же касается радости и веселия, то по всей справедливости можно сказать, что настоящий день радостнее будущего: тогда по необходимости будут плакать те, коих грехи обличатся; ныне, напротив, нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется, и неочистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека так печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника. Ныне освобождается узник, должнику прощается долг, раб получает свободу, по благому и человеколюбивому воззванию Церкви, не с безчестием и заушениями, не ранами освобождается от ран, как это бывает во время народных празднеств, на которых рабы, выставляемые на возвышенном месте, стыдом и посрамлением искупают свою свободу, но отпускается с честию, как это знаете вы сами; ныне и остающийся в рабстве получает отраду. Если бы даже раб сделал много важных проступков, которых нельзя ни простить, ни извинить: и тогда господин его из уважения ко дню, располагающему к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного, подобно Фараону, изведшему из темницы виночерпия; ибо знает, что в день будущаго воскресения, по образу коего мы чествуем настоящий день, он и сам будет иметь нужду в долготерпении и благости Господа, и потому, оказывая милость ныне, ожидает воздаяния в тот день. Вы слышали, господа; не постыдите же меня перед рабами, будто я ложно восхваляю день сей; отымите печаль у душ, удрученных скорбию, как Господь отъял умерщвление от нашего тела; возвратите честь посрамленным, обрадуйте опечаленных, ободрите упадших духом, изведите на свет заключенных, как во гробе, в темных углах ваших домов; пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то ужели победный день Воскресения Христова не утешит скорбящих?
Бедные, примите с любовию день сей, питающий вас! Разслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши болезни! В нем сокрыта надежда нашего воскресения, которая побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок; ибо с уничтожением мысли о воскресении у всех будет одна господствующая мысль: «да ямы и пием, утре бо умрем» (1 Кор. 15:32). Взирая на сей день, Апостол презирает жизнь временную, пламенно желает вечной и, ни во что ставя все видимое, говорит: «аще в животе сем точию уповающе, окаяннейши всех человек есмы» (1 Кор. 15:19). Ради сего дня люди соделались наследниками Богу и сонаследниками Христу. Ради сего дня с воскрешенным человеком возстанут неврежденными все части тела, хотя бы они пожраны были за несколько тысяч лет плотоядными птицами, или поглощены рыбами, псами и другими морскими животными, хотя бы они разрушены были огнем или соделались пищею гробовых червей. Словом сказать, все тела, соделавшиеся от начала мира добычею тления, возвратятся из земли целыми и невредимыми. Притом, воскресение, как учит св. Павел, совершится «во мгновепие ока» (1 Кор. 15:52); а мгновение ока есть одно только движение веждей, так–что ничто не может быть быстрее этой скорости.
Рассчитывая по–человечески, сообразно с твоими силами, ты во–первых ни как не можешь и вообразить того количества времени, какое нужно, чтобы сгнившие и превратившиеся в землю кости сделались по–прежнему плотными и ровными, снова соединились и пришли в приличный и естественный между собою порядок. Потом не можешь придумать, как кости покроются плотию и скрепятся протянутыми нервами; как под кожею проведутся жилы и артерии, как тонкие трубочки; как явится из каких–то неведомых жилищ безчисленное, неизобразимое множество душ, из коих каждая узнáет свое тело, как особливую одежду, и тотчас снова поселится в нем, каждая, несмотря на такое множество однородных духов, будет иметь свои отличительные признаки. Ибо нужно представлять себе все души и тела, начиная от самого Адама, нужно представлять, что, несмотря на такое множество разрушенных домов и на такое множество как–бы из дальнего странствования возвращающихся домовладык, все совершается удивительно и не по обыкновенному. Жилище немедленно возсозидается, и обитатель не блуждает и не ходит взад и вперед, ища своего жилища, но тотчас идет к нему, как голубь безошибочно летит к своей башне, хотя бы даже много было башней около того–же места и оне похожи были одна на другую. Притом, каким образом так скоро явится воспоминание о прежней жизни и мысль о каждом ея действии в существе, за столько веков истлевшем, тогда–как и пробужденный от глубокаго сна человек некоторое время не знает, кто он и где он, и не помнит о самых обыкновенных вещах, пока бодрствование не разсеет его усыпления и не возвратит ему деятельности памяти? Вот сие–то и подобное сему, приходя многим на мысль, поражает их чрезвычайным удивлением, а вместе с удивлением проникает в их душу и неверие. Ибо если ум наш не находит разрешения ддя своих сомнений и недоумений и не может успокоить своей пытливости уразумением, то впадает наконец, по слабости своего соображения, в неверие, отвергая истинность и действительность самого дела. Но вот мы дошли до предмета, о котором часто разсуждают, и который близок и приличен настоящему празднеству. Остановимся же на нем несколько времени и возведя наше слово к приличному началу, постараемся уверить тех, которые неправильно сомневаются в вещах очевидных.
Творец всего, восхотев создать человека, создал его не презренным животным, но существом превосходнейшим всех существ и поставил его царем всех тварей поднебесных. Предназначив его к сей цели, Он даровал ему премудрость и свой образ и украсил его многими дарами. Как же после сего можно думать, что, человек призван к бытию только для того, чтобы, родившись, умереть и подвергнуться совершенному уничтожению? Такая цель ничтожна, и приписывать подобное намерение Богу крайне недостойно Бога. Это значило бы уподоблять его детям, которые тщательно что–нибудь строят, и тотчас же разрушают построенное; потому–то у них и мысли нет о какой–либо полезной цели. Но мы научены совсем противному; мы верим, что Бог создал прародителя безсмертным; но когда произошло преступление и грех, в наказание за сие лишил его безсмертия. Потом, как источник благости и человеколюбия, преклонился на милость к творению рук своих, украшенному мудростию и разумом, и благоволил возвратить нам прежнее состояние. Это учение и само по себе истинно и сообразно с правильным понятием о Боге; потому–то свидетельствует не только о Его благости, но и о могуществе. И люди добрые и сострадательные не остаются равнодушными и жестокими к существам, находящимся под их властию и смотрением. Так стрегущий овец желает, чтобы стадо его было сохранно и даже как–бы безсмертно; пасущий волов всячески старается о размножении своих волов; приставник к стаду коз желает, чтобы козы его были многоплодны; одним словом: всякий пастух, имея в виду какую–либо полезную цель, всегда заботится о том, чтобы стадо его было сохранно и постоянно размножалось. Если же все это справедливо, и если все, что мы сейчас сказали, показывает, что Виновнику и Творцу рода человеческого еще более прилично возстановить и исправить падшее творение свое, то очевидно, что неверующие (будущему воскресению) противление свое утверждают только на той мысли, будто для Бога невозможно воскресить умершее и разрушившееся. Но, по–истине, только мертвые и лишившиеся чувств могут думать, что есть что–нибудь невозможное и неисполнимое для Бога, и таким образом собственную слабость приписывать всемогущему величеству. Чтобы обличить их безумие ясными доказательствами, мы из прошедшего и настоящего покажем возможность будущего, чему они не веруют.
Ты слышал, что человек создан из земли. Объясни же мне, ты, который хочешь все постигнуть умом своим, объясни, каким образом соединилась в одно плотное тело мелкая, разсеянная персть? Как земля сделалась плотию? Как из одного и того–же вещества составились и кости, и кожа, и жир, и волосы? Как в одном теле образовались члены, различные и по виду, и по свойствам? От чего легкое для осязания мягко, а по цвету синевато? От чего печень тверда и багрового цвета? От чего сердце сжато и составляет самую твердую часть тела, а селезенка не имеет плотности и черна, перепонка же бела и от природы соткана наподобие сетей? Размыслим еще и о том, как из одного ребра образовалась первая жена и явилась существом совершенным, подобным первому совершенному человеку? Как одного члена стало достаточно для полного состава и из малого составилось целое? Как из ребра образовались и голова, и руки, и ноги, и внутренние части извивистые и разнообразные, мягкое тело, и волосы, и глаз и нос? Но, чтобы не распространять слишком много своего слова, скажем кратко, что для нас слабых и ничтожных все в создании чудесно и непонятно, и что для Бога создание всего, как всякому известно, не стоило никакого труда. Как же после сего назвать здравомыслящими тех, которые допускают, что весь человек составлен из одного ребра, и в тоже время не верят, чтобы он мог вновь возникнуть из целого человеческого состава? Нет, силы Божественной деятельности мы не можем понять и изследовать своими человеческими мыслями. Если бы мы могли понимать все, то Бог, существо высочайшее, не был бы превосходнее нас. Но для чего говорить о Боге? По некоторым силам мы не можем сравняться и с безсловесными животными, но стоим ниже их. Например, быстротою нас превосходят кони, собаки и многие другие животные, силою верблюды и лошаки, знанием дорóг ослы, остротою зрения серны. Посему–то люди мудрые и разсудительные верят всему изреченному от Бога, но не спрашивают о способах и причинах Его действий, так–как это превышает наше разумение. Всякому из пытливых любоведцев можно сказать: объясни мне, каким образом все видимое получило бытие, скажи, с помощию какого искусства Господь создал столь разнообразное творение? Если ты изследуешь и поймешь все сие, то имеешь право недоумевать и роптать на то, что, уразумевши образ первоначального происхождения вещей, не понимаешь будущего их преобразования. Если же все это представляется тебе сновидением и мечтанием, если всюду познание твое слабо и несовершенно, то не жалуйся и не ропщи на то, что ты, не разумея, как все сотворено, не постигаешь и того, как воскреснет истлевшее.
Один и тот–же Виновник и первоначального создания и второго преобразования. Он знает, как свое творение, подвергшееся тлению, возвратить в прежнее состояние. Нужна ли для сего премудрость, — у Него источник премудрости. Потребуется ли могущество, — Он не имеет нужды в пособии и содействии. Он есть Тот, который, по словам мудрейшего Пророка, «измери горстию воду», и безпредельное «небо пядию, а всю землю горстию» (Псал. 40:12). Обрати внимание на эти изображения: они служат знаками неизреченного могущества и заставляют наш разум с горестию сознаться, что он не может изобрести ничего достойного Божественной природы. Так, Бог и есть всемогущ, и называется всемогущим (конечно, ты не будешь спорить против сего, но согласишься, что это действительно так); а для всемогущего нет ничего трудного или неисполнимого. Для твоей веры (в будущее воскресение) есть много оснований, которые невольно заставляют тебя согласиться с нашими словами, и во–первых, это все разнообразное и многосложное создание, которое яснее всякого проповедника возвещает, что велик и премудр Художник, создавший все видимое. Сверх того, Бог, промышляя о своих творениях и созерцая: издалека слабые дýши неверующих, самым делом подтвердил истину воскресения мертвых, возвративши души в тела многих умерших. Для этого вышел из гроба Лазарь четверодневный мертвец (Иоан. 11:44); для этого и единородный сын вдовицы возвращен матери живым от смертного ложа (Лук. 7:17), и многие другие, которых перечислять здесь было бы трудно. Но зачем говорить о Боге и Спасителе, когда Он, для большего уверения сомневающихся, даровал власть воскрешать мертвых даже рабам своим — Апостолам? Вот доказательство ясное и очевидное! Для чего же еще вы, любители прений, утруждаете нас, как будто мы говорим о том, чего доказать нельзя? Как воскрешен один, так воскреснут и десять; как десять, так и триста, как триста, так и более. Кто сделал одну статую, тому не трудно будет сделать их и тысячу. Не видите ли вы, как художники на небольшом куске воска отпечатлевают формы и модели великих и огромных зданий? В этом случае и небольшая вещь имеет такое же значение, как многие великие здания. Обширное небо есть прекрасное творение Божие. Но вот и человек, которого Бог создал существом разумным, чтобы он, познавая сотворенное, прославлял премудрого Творца, вот и человек устрояет небольшой шар, который в руках человека знающего обращается подобно тому, как Бог движет небесами. Таким образом самое малое произведение становится изображением величественного творения, и в уменьшенном виде изъясняет то, что существует в огромных размерах и не подлежит нашим чувствам. Но для чего же я говорил об этом? Для того, дабы ты знал, что, коль–скоро спросишь меня, кáк воскреснут все от века телá, я тотчас отвечу тебе: так–же, как воскрес четверодневный Лазарь. Человек здравомыслящий, очевидно, поверит на том–же основании и воскресению многих, на каком верит воскресению одного. И ты, допустивши, что совершает сие Бог, конечно, не скажешь, что в этом есть что–нибудь невозможное, и не сочтешь постижимою для ума твоего премудрость непостижимаго; ибо для тебя неизследимо все, относящееся к безпредельному, тогда–как для Бога нет и безпредельного.
Но наше разсуждение будет очевиднее, если мы, сверх сказанного, размыслим еще об образе нашего рождения, — не о том первоначальном и древнейшем, по которому мы произошли от Бога, и о котором прежде говорили, но о том, который и доселе совершается по законам естества. Неизследим и непостижим он для человеческого разума. В самом деле, как из семени, вещества жидкого, неимеющего ни вида, ни образа, составляется голова, образуются твердые бедра и ребра, мягкий и нежный мозг, с окружающими его столь твердыми и жесткими костями, и вообще, чтобы слишком не увлечься подробностями, скажем кратко, весь разнообразный состав живого существа? Но точно так–же, как это семя, в начале неимеющее никакого определенного вида, получает, по устроению непостижимой премудрости Божией, определенную форму, возрастает и увеличивается в объеме, точно так–же и брение, находящееся в гробах и имевшее некогда свой вид, снова получит прежнее устройство, и персть снова соделается человеком подобно тому, как это было и в начале. Тут нет ничего странного; напротив, все совершенно естественно. Положим, что Бог имеет столько же силы, сколько горшечник, и посмотрим, как поступает сей последний. Он берет безобразную глину, превращает ее с сосуд, и, положив на солнце, сушит его и делает твердым. Пусть это будет кувшин, или тарелка, или другой сосуд; но если что–нибудь нечаянно упадет на этот сосуд и опрокинет его, он тотчас же разрушается и теряет свою форму, обратившись опять в безобразную глину. Но художник, если хочет, скоро исправляет случайно разрушившееся и, при помощи своего искусства, из обломков снова составляет сосуд, который ни чем не хуже прежнего. Если же это может сделать горшечник, который сам есть малое создание Божественного всемогущества; то как после сего не веровать Богу, когда Он обещает воскресить умерших? По–истине, это великое безумие!
Посмотрим еще на подобие пшеницы, которым велемудрый Павел вразумляет неразумных: «безумне», говорит он, «ты еже сееши, не тело будущее сееши, но голо зерно, аще случится пшеницы, или иного от прочих. Бог же дает ему тело, яко восхощет» (1 Кор. 15:36–38). Разсмотрим внимательно прозябание пшеничного зерна, и мы скоро познáем образ будущего воскресения. Пшеничное зерно бросается в землю. Здесь, сгнивши от сырости и, так–сказать, умерши, оно превращается в некое млекообразное вещество, которое, несколько сгустившись, дает тонкий и белый росток. Когда росток этот увеличивается в объеме своем столько, что выходит из–под земли, он мало–по–малу из белого превращается в зеленый и становится травою и листьями. После сего, зерно, уже несколько развернувшееся и развившееся, пускает вниз многоветвенный корень, приготовляя в нем подпору для будущей своей тяжести, ибо как корабельные снасти, со всех сторон протянутые к мачте, удерживая ее в равновесии, дают ей твердость и стойкость; так и подобные вервям отростки корня служат опорою и подкреплением для колосьев. Когда же зерно вырастает в стебель, и стебель поднимается в–верх, Бог поддерживает его, ограждая коленцами и узелками, как некий дом связями, дабы он мог удержать тяжесть будущего колоса. Потом, когда стебель приобретает достаточную твердость, шелуха распадается и появляется самый колос. Тут опять еще более чудес. В колосе появляются одно за другим зерна, и каждое семечко имеет свое особенное хранилище. Наконец вырастают тонкие и острые иголочки, которые, как мне кажется, служат колосу защитою против птиц, истребляющих семена, потому–что, укалывая их своим острием, препятствуют им вредить зернам. Видишь ли, сколько чудес представляет одно согнившее зерно, и, быв брошено в землю одно, в каком количестве возстает из ней? Но человек в воскресении получит только то, что он уже некогда имел, и потому наше обновление кажется еще легче и понятнее прозябания зерна.
Перенесемся отоюда мыслию к деревам, для которых зима каждый год бывает временем смерти. Обрываются плоды, падают листья, и дерева становятся сухими, теряют всю свою красоту; но приходит весна, и они обрастают прекрасными цветами, и покрываются листьями. Тогда красотою своею они привлекают к себе взоры человека и служат как–бы местом увеселения для певчих птиц, которые садятся на их ветви. Тогда столько разлито около них удовольствия, что многие оставляли свои домы, украшенные золотом и фессалийскими и лаконийскими камнями, находя приятнее жизнь под деревом. Так и патриарх Авраам построил свою кущу под дубом, не потому, чтобы он не имел жилища, но потому, что его привлекала прелесть ветвистого дерева.
Жизнь змей также представляет мне доказательство для разсматриваемаго предмета. В продолжение зимы жизненная сила их замирает, и целые шесть месяцев оне лежат в пещерах без всякого движения. Но как–скоро наступит известное время и послышатся на земле громовые удары, они, принимая это как–бы за условный знак, выходят из пещер и долгое время живут в обыкновенном своем состоянии. Где же причина всего этого, скажи мне, испытатель и судия Божественных действий? Объясни, почему ты допускаешь, что удар грома пробуждает обмертвевших змей, а не веришь, что по звуку небесной трубы Божией оживут люди, как свидетельствует об этом слово Божие: «вострубит, и мертвии востанут» (1 Кор. 15:52), и в другом месте еще яснее: «послет Ангелы своя с трубным гласом велиим, и соберут избранныя Его» (Матф. 24:31). Не будем же упорствовать в неверии сим изменениям и обновлениям. Жизнь различных растений, животных, даже самих людей вразумляет нас, что ничто, подлежащее тлению и рождению, не остается навсегда в одном и том–же состоянии, но все изменяется и переходит из одного состояния в другое. И прежде всего, если угодно, разсмотрим это изменение в собственных наших возрастах. Мы знаем, каков бывает младенец, пока питается матерним молоком; по прошествии некоторого времени он приобретает силу, и начинает ползать, подобно маленьким животным, поддерживая себя руками и ногами. Около трех лет он уже ходит прямо, и начинает говорить, хотя неясно и заикаясь; потом произносит слова раздельно и становится красивым отроком. От этого возраста он переходит к возрасту юноши; тут щеки его покрываются волосами, он мало–по–малу становится бородатым и так далее; потом уже делается зрелым мужем, крепким и способным к трудам. Но когда пройдет лет сорок, он начинает склонять свою голову, крепость его мало–по–малу сменяется слабостию и наконец приходит старость, с которою совершенно ослабевают силы. Тело преклоняется и нагибается к земле, как пересохшие колосья; дотоле гладкое, оно становится морщиноватым, и тот, кто некогда был цветущим силою юношей, опять становится младенцем, заикается, теряет твердость мысли, и опять, как и прежде, ползает на руках и ногах. Как и чем все это тебе представляется? Не есть ли это изменение? Не многообразные ли это превращения? Не различные ли это обновления, преобразующие смертное существо еще прежде смерти?
Равным образом сон и пробуждение необходимо также убеждают человека в том, о чем мы разсуждаем. По–истине, сон есть изображение смерти, а пробуждение подобие воскресения. Посему–то еще некоторые языческие мудрецы называли сон братом смерти, по сходству явлений, которыми тот и другая сопровождаются. В том и другом состоянии человек забывает прошедшее, теряет мысль о будущем; тело лежит без чувств, не узнает ни друга, ни врага, не видит лиц, его окружающих и смотрящих на него, становится слабым, мертвенным, лишается всей своей живости, и ничем не отличается от тел, лежащих в гробах и могилах. Посему спящего так–же, как и мертвого, легко можешь, если хочешь, ограбить, можешь опустошить его дом и его самого заключить в оковы; он не чувствует ничего, что около его происходит. Но как–скоро проходит время успокоения и отдохновения для чувств, человек встает, как существо, только–что возвращенное к жизни, мало–по–малу прихóдит к сознанию себя и окружающих его предметов, постепенно возвращает свои силы, как–бы одушевляемый живительным бодрствованием. Если же существо еще в настоящей жизни испытывает днем и ночью столько превращений, изменений, перемен, смену памяти и забвения; то безразсудно и дерзновенно неверить Богу, когда Он обещает нам последнее обновление, Богу, который есть вместе виновник и первоначального нашего бытия. Неверующие, как мне кажется, больше всего располагаются к неверию тем, что разрушение тела почитают совершенным уничтожением. Но это несправедливо. Тело не вовсе уничтожается, но только разрешается на свои составные части, каковы вода, воздух, земля и огонь. Если же основные стихии остаются и не уничтожаются; то вместе с ними продолжают существовать, после своего разложения, и сложенные из них существа, сохраняя в них все свои части. И так–как для Бога не трудно сотворить все из ничего, как действительно в начале все и получило бытие; то, очевидно, дла Него еще легче и удобнее образовать все из начал, уже существующих.
Итак не будем ниспровергать благого упования людей, не будем отрицать будущего воскресения нашего тела, второго, так сказать, бытия, непричастного смерти, и не станем чрезмерною склонностию к удовольствиям прогневлять человеколюбивого Бога, даровавшего нам столь сладостное обетование. Ибо мне кажется, что сей истине противятся люди, любящие нечестие и враги всякой добродетели, сластолюбцы и корыстолюбцы, необуздывающие ни зрения, ни слуха, ни обоняния, но всеми чувствами предающиеся удовольствиям. Так–как учение о воскресении предполагает будущий суд, и св. Писание ясно говорит, что мы должны будем отдать отчет в своей жизни, и по воскресении в будущем веке предстанем все пред судилище Иисуса Христа, чтобы по Его суду получить за свои дела достойное воздаяние; то они, сознавая за собою свои беззакония, достойные великого наказания, из страха суда отвергают и воскресение, подобно лукавым рабам, которые, расточив достояние своего господина, помышляют о смерти и погибели его, и, согласно с своими желаниями, составляют себе суетные помыслы. Но так не станет разсуждать никто здравомыслящий. Если не будет воскресения, то что пользы в справедливости и в истине, в благости и во всяком другом виде благочестия? Для чего люди подвизаются и любомудрствуют? Для чего порабощают вожделения чрева, любят воздержание, мало позволяют себе сна и отдохновения, подвергают себя страданиям от холода и жара? «Да ямы и пием», скажем словами ап. Павла, «ýтре бо ýмрем» (1 Кор. 15:32). В самом деле, если нет воскресения, и смерть есть конечный предел нашей жизни; то уничтожь всякое обвинение и порицание, предоставь человекоубийце безпрепятственную свободу, позволь прелюбодею открыто возставать против супружества. Пусть грабитель спокойно предается роскоши и торжествует над своими противниками; пусть никто не обуздывает клеветника, пусть клятвопреступник постоянно прибегает к клятве, потому–что смерть же ожидает и того, кто свято сохраняет клятву. Пусть всякой обманывает, сколько хочет, потому–что и правда не приносит никакого плода. Пусть никто не оказывает милости бедному, потому–что милость остается без возмездия. Подобные разсуждения производят больше безпорядка и смешения, чем потоп; они уничтожают всякую здравую мысль, напротив поддерживают и питают помыслы буйные и безумные. В самом деле, если не будет воскресения, то не будет и суда; если же вы уничтожите суд, то изгóните и страх Божий. А где не управляет людьми страх Божий, там торжествует и ликует диавол со грехом. Посему весьма прилично против таких людей написал Давид этот псалом (13): «рече безумен в сердце своем: нест Бог; растлеша и омерзишася в начинаниих». Если не будет воскресения, то баснею становится и Лазарь и богач, и страшная оная пропасть, и нестерпимый жар огня, и пламенеющий язык, и желание хотя одной капли воды, и перст бедного. Ибо все это, очевидно, изображает будущее воскресение, так–как язык и перст означают не части безплотной души, но члены тела. И пусть никто не думает, будто все это уже совершилось; нет, это только предвозвещение будущего, а совершится во время обновления, когда мертвые оживут и каждый, состоя по–прежнему из тела и души, явится для отчета в своей жизни. Чему научаем был и зритель великих видений вдохновенный Богом Иезекииль, когда созерцал великое, распростертое пред ним поле, покрытое костями человеческими, о которых ему повелено было пророчествовать? Он видел, как плоть росла и покрывала кости, а кости, разъединенные и разсеянные без всякого порядка, приходили в стройный порядок и соединялись между собою. Не очевидно ли, что в сих словах его ясно обозначается воскресение нашей плоти?
Впрочем несоглашающиеся с учением о воскресении мне кажутся не только людьми нечестивыми, но и безумными. Воскресение, оживление, обновление и все подобныя слова приводят мысль слушателя только к телу, подверженному разрушению. Что же касается души, то она, разсматриваемая сама по себе, никогда не воскреснет, потому–что она не умирает, но нетленна и не подлежит разрушению. Но, будучи сама по себе безсмертна, она во всех делах своих имеет сообщником смертное тело; и посему, когда пред праведным Судиею нужно будет давать отчет в делах, она опять поселится в тело, бывшее ей помощником, чтобы вместе с ним принять наказания или награды. Но, чтобы в слове нашем было больше последовательности, станем разсуждать таким образом: чтó мы называем человеком, — тело и душу вместе, или что–нибудь одно из двух? Очевидно, что это живое существо образуется из соединения души и тела: на предметах несомненных и известных нет нужды долго останавливаться. Если же это справедливо: то размыслим и о том, чему мы должны приписывать дела, совершаемые человеком, например прелюбодеяние, убийство, воровство и все подобное, равным образом целомудрие, воздержание и всякое другое действие, противоположное пороку, — телу ли и душе вместе, или одной только душе? И здесь истина очевидна. Душа одна без тела никогда не крадет, не грабит, не подает хлеба алчущему, не напаяет жаждущего, не идет с дерзновением в темницу, чтобы послужить удрученному узами; но при всяком действии душа и тело бывают соединены друг с другом и все совершают вместе. Как же после сего ты, допуская будущий суд, разлучаешь тело от души и определяешь на суд только душу, тогда–как и тело принимало участие в делах? И если тщательно обсудить человеческие грехи и внимательно разсмотреть, откуда возникают первые начала их; то едва ли не откроется, что в беззакониях тело прежде нарушает долг. В самом деле, часто, когда душа покоится и наслаждается невозмущенным миром, глаз с вожделением смотрит на то, чего лучше было бы не видеть, и, передавши болезнь свою душе, вместо царствовавшего в ней спокойствия, поселяет бурю и волнение. Равным образом ухо, услышавши какие–нибудь возмутительные и непристойные слова, чрез себя, как–бы чрез трубу, вносит в помыслы нечистоту пороков и смятение. Нередко и нос посредством обоняния причиняет внутреннему человеку великое и неизобразимое зло. И руки посредством осязания, обыкновенно, изнеживают самую твердую душу. Таким образом, разсматривая постепенно все чувства, я нахожу, что тело бывает причиною многих грехов. Но оно же подемлет и труды для добродетели, терпит болезни и скорби в благих подвигах, когда разсекают его секирою, жгут на огне, подвергают бичеванию, обременяют тяжкими узами, и когда вообще оно переносит всякие мучения, чтобы не изменить священному любомудрию, против которого, как против какого укрепленного города, со всех сторон воюет нечестие. Итак, если и в благих делах тело подвизается вместе с душою, и в беззакониях не оставляет души; то на каком же основании ты утверждаешь, что на суд предстанет душа одна без тела? Учить таким образом и несправедливо и несвойственно мудрому. Если бы душа грешила одна и вне тела, то и наказание понесла бы также одна; но если во всем явно участвует с нею и тело, то праведный Судия не оставит и его без наказания. В этом уверяет меня и св. Писание, когда говорит, что осужденные подвергнутся достойным наказаниям, каковы: огонь, тьма, червь; ибо все это наказания для сложных и вещественных тел. Что же касается души, разсматриваемой отдельно от тела, то до ней не может коснуться огонь; не может устрашить ее и тьма, потому–что нет у ней очей и органов зрения. Что сделает ей и червь, который может вредить только телу, а не духу? Таким образом все сии последовательные разсуждения необходимо заставляют нас согласиться, что будет воскресение мертвых, которое Бог совершит в определенное Им время и чрез то подтвердит самым делом обетования.
Будем же верить Тому, кто говорит: «вострубит и мертвии востанут» (1 Кор. 15:52), или: «грядет час, егда вси сущии во гробех услышат глас Его, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота; а сотворшии злая в воскрешение суда» (Иоан. 5:28–29). Господь не только дает обетования, но и делами, которые совершает ежедневно, ясно поучает нас, что Он всемогущ. Не утрудился Он в–начале при создании всего; не будет иметь недостатка в мудрости и при обновлении созданного. Разсмотрим настоящее и не будем не веровать будущему. Как изумительно для нас всякое действие Божие, так по–истине велико и непостижимо и то чудо, когда мы видим, что черты лица от родителей и дедов вполне переходят к детям и внукам, так–что потомки бывают как–бы портретами своих предков. С изумлением я созерцаю здесь всемудрое художество Первохудожника–Спасителя и Бога, и не постигаю, каким неизреченным таинством созидаются и составляются образы лиц, уже несуществующих и невидимых, образы, в которых как–бы оживают умершие. Часто также в одном человеке отпечатлеваются черты многих лиц, например, нос отца, глаза деда, походка дяди, голос матери. В этом случае человек походит на растение, к которому привиты отростки различных дерев, и которое, посему, приносит разнородные плоды. Все сие сколько удивительно и непостижимо для нас, столько же легко для Творца, и, как известно, совершается Им без всякого труда. После сего крайне безразсудно и нелепо было бы допускать, что черты уже согнивших и истлевших тел вновь являются в других телах, каждодневно рождающихся, в которых таким образом воспроизводятся чужие признаки, и в то–же время не только не соглашаться, что оживут и обновятся в людях их собственные черты, но напротив упорно отвергать сию истину, и самое обетование о воскресении почитать баснею, а не словом Того, который по своему хотению создал и украсил все видимое. Что касается до нас, мы уже утвердились в вере воскресению, возсылая за сие славу Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Слово на святую и спасительную Пасху
Истинный покой Субботы, Богом благословенной, в которую Господь почил от дел своих — одержав победу над смертию для спасения мира, — сей истинный покой уже кончился, и усладил как взоры, так и слух и сердце всем тем, что мы, при совершении торжества, видели, слышали, и чувствовали радостного для сердца; ибо очи наши видели свет, сиявший от свещей и, подобно огненному облаку, носившийся пред нами в нощном мраке; слух оглашался во всю нощь словом (Божиим), псалмами, пениями и песнями духовными, кои, втекая в душу радостным потоком, преисполняли нас благими надеждами, и сердце наше, приходя в восхищение от слышимого и видимого, и возносясь чрез чувственное к духовному, предвкушало несказанное блаженство, так что блага сего покоя, удостоверяя собою в неизреченной надежде на получение уготованного, служат для нас образом тех благ, «ихже око не виде и ухо не слыша и яже на сердце человеку не взыдоша» (1 Кор. 2:9). Поелику светлая сия нощь, слившая свет свещный с утренними лучами солнца, составила один безпрерывный день, не разделенный ни малым промежутком мрака, то размыслим, братия, ο пророчестве, возвещающем, что день сей есть «день, егоже сотвори Господь». Нe тяжкое какое либо и неудобоисполнимое дело заповедано в сей день, но радость и веселие. Ибо пророк прибавляет: «возрадуемся и возвеселимся в онь» (Псал. 117:24). Какой легкий подвиг! Какое нетрудное обязательство! Кто станет медлить исполнением такого повеления? Кто не почтет за ущерб даже малейшую отсрочку в таком занятии? Веселие и радость — вот предписание, вот обязанность! Ими полагается предел осуждению за грех. Мудрость изрекла, что в день веселия забывают ο бедствии. Настоящий день заставил нас забыть первый, произнесенный на нас приговор, или лучше, не только заставил забыть, но и уничтожил его для нас, ибо совершенно изгладил всякое воспоминание ο нашем осуждении. Тогда сказано: «в болезнех родиши чада», ныне рождение безболезненно. Тогда рожденное от плоти было плоть, ныне рожденное от Духа дух есть. Тогда мы родились сынами человеческими, ныне — чадами Божиими. Тогда мы низпали с неба на землю, ныне Небесный соделал и нас небесными. Тогда чрез грех воцарилась смерть, ныне жизнь опять получила владычество чрез правду. Тогда один отверз вход смерти, и ныне Единым же вводится снова жизнь. Тогда чрез смерть мы отпали от жизни, ныне жизнию упраздняется смерть. Тогда от стыда сокрылись под смоковницею, ныне со славою приблизились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из рая, ныне за веру вводимся в рай. Опять предложен нам плод жизни в наслаждение, по желанию нашему. Опять райский источник, разделенный на четыре начала Евангельскими потоками, напаяет все поле Церкви, и бразды, проведенные Сеятелем слова в душах наших ралом учения, упитываясь оными, дают обильную жатву добродетелей. Что же после сего нам дóлжно делать? — Что другое, как не взыграть подобно горам и холмам, коим возвещал пророк, говоря: «Горы взыграйтеся, яко овни, и холми, яко агнцы овчии» (Псал. 113:6)?
Итак, приидите, возвеселимся ο Господе! Он сокрушил силу врага, и водрузил для нас победное знамение Креста, поразив противника. Воскликнем тем гласом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных. Поелику пали полки вражеские, и сам «имущий державу» над злым демонским воинством низложен, истреблен и обращен в ничто, то возопием: Бог наш есть сильнейший Владыка и Царь Великий над всею землею; Он благословил венец лета благости Своея, и собрал нас для сего духовного ликовствования ο Христе Иисусе Господе, Которому слава во веки. Аминь.
Слово на день, называемый по местному обычаю у каппадокийцев: Ἐπισωζομένη, то есть на праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа
Какой приятный сопутник в человеческой жизни пророк Давид! Мы встречаем его на всех путях сей жизни. Как прилично он применяется ко всем духовным возрастам, приспособляется к всякому разряду стремящихся к совершенству! С детьми по Бозе он вместе играет, с мужами вместе подвизается, юношей руководит, старости служит опорою; всем бывает все: для воинов, — оружие, для подвизающихся, — наставник, для упражняющихся в борьбе, — училище, для победителей, — венец; сотрапезник в радости, утешение в печали. Нет ничего в нашей жизни, что лишено бы было этого благодатного участия (пророка). Есть ли какая сильная молитва, которой не содействовал бы Давид? Есть ли какая радость праздника, которой бы не украсил Пророк? Это можно видеть и ныне; ибо и нынешний праздник, как ни велик сам по себе, пророк сделал еще больше, предложив и с своей стороны, приличные предмету оного, слова радости из псалмов. Ибо в одном из них (Псал. 22) повелевает тебе быть овцою, пасомою Богом, и не лишаемою никакого блага, — овцою, для которой добрый Пастырь служит всем, и злаком для питания и водою упокоения и пищею и кущею и стезею и водительством, распределяя свою благодать соответственно каждой нужде. Всем этим он научает Церковь, что должно тебе прежде всего быть овцою доброго Пастыря, благим оглашением руководимою к божественным пажитям и источникам учения, дабы спогребстись ему крещением в смерть и не страшиться этой смерти, потому что это не смерть, но тень и отображение смерти; ибо «аще пойду говорит посреде сени смертныя, не убоюся» того, что будет со мною, как «зла, яко Ты со мною еси» (Псал. 22:4). За тем утешив палицею Духа, ибо Дух есть утешитель, предлагает таинственную трапезу, уготованную «сопротив» демонской трапезе (Псал. 22:5); ибо демоны стужали человеческой жизни чрез идолослужение; «сопротив» им (предлагается) трапеза Духа. Потом помазует главу елеем Духа и, присовокупив к сему вино, веселящее сердце, производит в душе трезвенное упоение, твердо направив помыслы от временного к вечному. Ибо вкусивший сего упоения переменяет краткую жизнь на нескончаемую, в долготу дней продолжая обитание в доме Божием (Псал. 22:6).
Даровав нам это в одном из псалмов, в следующем за ним Давид возбуждает душу к большей и совершеннейшей радости. Если угодно объясню вам сокращенно смысл и сего (псалма). «Господня земля, и исполнение ея» (Псал. 23:1 и след.). И так чтоже странного, о человек, в том, что Бог наш явился на земле и жил с человеками, когда земля есть Его творение и дело? И так нет ничего нового и неприличного в том, что Владыка «во своя» пришел (Иоан. 1:11); ибо Он приходит не в чужой мир, но в тот, который Сам устроил, основав землю на морях и соделав ее удобною для течения по ней рек (Псал. 23:2). Для чегоже пришел Он? Для того, чтобы извлекши тебя из пучины греха, возвести «на гору» (Псал. 23:3), если для восхождения ты воспользуешься царскою колесницею, то есть добродетельным образом жизни. Ибо нельзя взойти на оную гору, если не будут сопутствовать тебе добродетели; для сего ты должен быть «неповинен рукама», не осквернен никаким лукавым делом, «чист сердцем», не обращаясь душою своею ни к чему суетному, и не измышлять против ближнего ни какого коварства (Псал. 23:4). Награда за сие восхождение есть «благословение»; Господь дарует таковому назначенную им милость (Псал. 23:5). «Сей есть род ищущих» Его, восходящих на высоту посредством добродетели и «ищущих лице Бога Иаковля» (Псал. 23:6).
Следующая же часть псалма, может быть, выше и самого Евангельского учения; ибо Евангелие повествует о пребывании Господа на земле и о возвращении его от нас; сей же высокий Пророк, изшед из себя самого как–бы неотягощаемый уже бременем тела и присоединившись к небесным силам, передает нам гласы их, как сии силы, торжественно сопровождая Владыку в его нисхождении, повелевают пребывающим на земле ангелам, которым вверена человеческая жизнь, подъять входы, говоря: «возмите врата, князи ваша, и возмитеся врата вечная: и внидет Царь славы» (Псал. 23:7). И поелику Содержащий в себе все, куда ни нисходит, везде соразмеряет себя с способностию приемлющих, (ибо бывает не только человеком между людьми, но, конечно соответственно тому, и находясь среди ангелов, низводит Себя до их естества), то вратари спрашивают у вестника: «кто есть сей Царь славы?» (Псал. 23:8). В ответ на сие объявляют им, что он есть «крепкий и сильный», имеющий сразиться с пленившим человеческое естество и сокрушить «имущаго державу смерти» (Евр. 2:14), чтобы по уничтожении последняго врага возвратить к свободе и миру род человеческий. Опять повторяет теже гласы (Псал. 23:9–10); ибо таинство смерти уже совершилось, победа над врагами одержана и против них воздвигается победный знак, — крест. И снова «возшел на высоту» Пленивший «плен», давший людям сии благие «даяния» (Псал. 67:19), — жизнь и царство. Снова должны отвориться находящиеся горе врата; в свою очередь торжественно сопровождают его наши стражи и повелевают отверзть Ему горние врата, чтобы в них опять восприять прославление. Но там не узнают Его, облеченного нечистою одеждою (Зах. 3:4) нашей жизни, багряность одеяния Которого (происходнт) от точила (Ис. 63:12) человеческих зол. Посему встречают сопровождающих таким вопросительным гласом: «кто есть сей Царь славы?» За тем (следует) не прежний уже ответ: «крепок и силен в брани», но: «Господь сил», приявший власть над всем, возглавивший в себе все, первенствующий во всем, возстановивший все в прежнее состояние творения, «Сей есть Царь славы».
Видите как Давид увеличил для нас сладость праздника, присоединив собственную радость к веселию Церкви. И так будем и мы подражать Пророку в том, в чем можно успешно подражать, — в любви к Богу, в кротости жизни, в долготерпении к ненавидящим нас, чтобы наставление Пророка было руководством жизни по Боге, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.
Слово о Святом Духе
Предмет всякого праздника соделывает светлее Давид, всегда соответственно потребности настраивая свою многостройную цитру. Итак, и великий праздник Пятидесятницы пусть озарит нам тот же Пророк, бряцалом духа ударяя по струнам мудрости и возглашая песнь. Пусть изречет из оного божественного песнопения сии приличные настоящей благодати слова: «приидите, возрадуемся Господеви» (Пс. 94:1). Прежде нужно узнать благодать, в чем она состоит, а потом применить к содержанию ее соответствующие слова из пророчества; позвольте и мне, сколько возможно, изъяснить по порядку все, что касается сего предмета.
От начала впало в заблуждение человечество относительно познания Бога, и оставив Господа твари, одни обольстившись стали служить стихиям мира, другие же начали почитать естество демонов, а многим и рукотворные изображения идолов показались божеством, и для служения сим лжеименным богам устроялись ими и жертвенники, и храмы, и посвящения, и жертвы, и священные рощи, и капища. Но воззрел оком человеколюбия на повреждение естества человеческого Владыка твари и постепенно опять возводит человеческую жизнь от заблуждения к познанию истины. Ибо как те, кои с некоторым знанием врачебного искусства восстановляют силы истощенных долговременным голодом, не вдруг позволяют им насыщаться, щадя их слабость; но когда посредством соразмерного употребления пищи прибудет у них силы, тогда позволяют сколько угодно наполнять себя пищею; таким же образом,, когда человеческое естество было истощено страшным гладом, домостроительством (Божиим) установлена была постепенность в приобщении к таинственной пище; так чтобы люди, всегда восходя к совершенству в некотором последовательном порядке, достигли таким образом до предела совершенства. Ибо, что спасает нас, это есть животворящая Сила, которой веруем под именем Отца и Сына и Святаго Духа. Но неспособные к восприятию сей истины вполне вследствие приключившейся им от душевного глада слабости, прежде всего отвлекаемые от многобожия пророками, и законом приучаются взирать на единое Божество, и в едином Божестве уразумевают единую только силу Отца, будучи неспособны, как я сказал, к вершенной пище. Затем для ставших более совершенными при помощи закона открывается чрез Евангелие и единородный Сын; после сего предлагается нам совершенная пища для нашего естества — Дух Святый, в Котором жизнь. Вот предмет праздника, посему прилично нам, собравшей для празднования Духу, слушаться предводителя сего духовного ликостояния, Давида, который говорит: «приидите возрадуемся Господеви. Господь же дух есть», как говорит Апостол (2 Кор. 3:17).
Ибо сегодня при окончании, по годичному обращению времени Пятидесятницы в самый сей час (если теперь третий час дня) дарована неизглаголанная благодать. Снова сообщил себя людям Дух, Который прежде отдалился от нашего естества, потому что человек стал «плотию» (Быт. 6:3). И когда бурным оным дыханием были изгнаны из воздуха и рассеяны духовные силы злобы и все скверные демоны, тогда снисшествием Духа в виде огня исполнились Божественной силы все пребывавшие в горнице (Деян. 1:13); ибо невозможно иначе сделаться причастником Святаго Духа, как обитая на высоте сей жизни. Приобщаются Святаго Духа только те, кои мудрствуют горняя, преставив свое жилище от земли на небо, и живут в горнице высокого образа жизни. Ибо так говорит книга Деяний, что, когда собрались в горнице, оный чистый и невещественный огонь разделяется в виде языков по числу учеников. Но они беседовали с парфянами, мидянами и еламитянами и прочими народами, свободно приспособляя свою речь к каждому народному наречию; а я, как говорит Апостол, «в церкви хощу пять словес умом моим глаголати, да и ины пользую, нежели тьмы словес языком» (1 Кор. 14:19). Тогда полезно было говорить одною речью с иноязычными, чтобы проповедь не была бездейственною для несведущих, встречая препятствие в языке проповедующих; теперь же, когда все (здесь) говорим одним языком, нужно поискать огненного языка Духа для просвещения помраченных обманом. Итак, и в сем да руководит нас Давид, взяв в спутники себе Апостола. Ибо сей псалом, начало которого дарует нам радость о Господе, в словах: «приидите возрадуемся Господеви» не только руководит нас к славословию Святаго Духа, но гораздо более в том, что следует далее, поучает нас о Божестве Его. Скажу же вам и самые слова Пророка, с которыми согласуется и великий Апостол; изречение его таково: «Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, по дни искушения в пустыни, воньже искусиша Мя отцы ваши» (Пс. 94:7–9). Упоминая о сих словах, божественный Апостол говорит так: «темже, якоже глаголет Дух Святый» (Евр. 3:7), и сказав сие, приводит самые слова Пророка, относя их Лицу Духа. Итак, Кто есть Тот, Которого «искусиша отцы» их в пустыне? Кто Тот, Которого прогневали? Узнай это от самого Пророка, который говорит, что «искусиша Бога Вышняго» (Пс. 77:56). И Апостол, также указав на Лицо Святаго Духа, приписывает Ему сии самые речения: «тем же, яко же глаголет Дух Святый в день искушения в пустыни, идеже искусиша Мя отцы ваши» (Евр. 3:8–9). Итак, поелику Дух Святый говорит: «искусиша Мя отцы ваши в пустыни», а Пророк свидетельствует, что Тот, Кого искусили в пустыне, есть вышний Бог; то да заградятся уста духоборцев, говорящих неправду о Боге, когда и Апостол, и Пророк сказанным ясно возвещают рожество Духа. Ибо Пророк говорит: «искусиша Бога Вышняго» и как бы от Лииа Божия произносит к израильтянам оные слова: «в пустыни искусиша Мя отцы ваши»; а великий Павел сии слова приписывает Святому Духу, так что чрез это доказывается, что Дух Святый есть Вышний Бог. Итак, согласны ли враги славы Духа видеть огненный язык божественных словес, освещающий сокровенное, или будут смеяться (над нами), как над напившимися сладкого вина (Деян. 2:13)? Я же, хотя бы они и сказали это о нас, советую вам, братие, не бояться порицания таковых и не упадать духом от их насмешек. Если бы и у них было когда–нибудь сладкое вино, это нововыжатое вино, излившееся из точила, которое истоптал Господь чрез Евангелие, дабы напоить тебя кровию собственного грозда (Ис. 63:2–3)! Если бы и они исполнились оного нового вина, названного ими сладким, которого не испортили еще торгаши примесью еретической воды! Тогда они, конечно, исполнились бы и Духа, при помощи Которого все кипящие Духом, как пену, сбрасывают с себя грубость и нечистоту неверия. Но не могут таковые приять в себя сего сладкого вина, потому что носят еще ветхие мехи, которые, будучи не в состоянии сдержать такового вина, еретически расторгаются. Мы же, братие, «приидите возрадуемся Господеви», как говорит Пророк, пия и сладкие пития благочестия, как повелевает Ездра (2 Езд. 9:51), и светло празднуя с ликами апостолов и пророков, «приидите», по дару Святаго Духа возрадуемся и возвеселимся в «день сей, его же сотвори Господь» во Христе Иисусе, Господе нашем, Коему слава во веки веков. Аминь.
Слово на день памяти Василия Великого, родного брата
Благой установил Господь порядок для сих наших ежегодных празднеств, которые по некоей учрежденной последовательности мы уже совершили в сии дни и теперь совершаем. А порядок духовных празднеств для нас тот же, которому научил и великий Павел, свыше имевший познание о таких предметах. Он говорит, что во первых поставлены апостолы и пророки, а за ними пастыри и учителя (1 Кор. 12:28; Еф. 4:11). С сею указанною Апостолом последовательностью согласуется порядок ежегодных празднеств. Но первое празднество я не считаю наряду с прочими. Ибо благодать богоявления Единородного Сына, открывшегося миру чрез рождение от Девы, не просто есть святое празднество, но святое святых и празднество празднеств. И так перечтем следующие после него. Первое начало духовному ликостоянию положили апостолы и пророки; ибо одним и тем же лицам вполне принадлежат оба рода дарований — дух апостольский и дух пророчества. Они суть: Стефан, Петр, Иаков, Иоанн, Павел. Потом после них, сохраняя свою чреду, начинает нам настоящее празднество пастырь и учитель. Кто это? Сказать ли имя или и не именуя достаточно благодати, чтобы указать (сего) мужа? Ибо, слыша об учителе и пастыре после апостолов, ты, конечно, представил уже в уме пастыря и учителя, вполне последовавшего Апостолам. Я говорю о нем, о сосуде избрания, высоком по жизни и слову Василии, который угоден Богови (Деян. 7:20) от рождения, старец нравами от юности, научен, подобно Моисею, всякой премудрости внешних учений и вместе с тем священными Писаниями от младенчества и до конца жизни напитан, возращен и укреплен. Посему, научая всякого человека во всей премудрости Божественной и мирской, как бы какой ободесно–ручный воитель, вооружившись на противников тем и другим учением, преодолевает обоими вступающих с ним в борьбу, превосходя в каждом тех, которые думали, что они имеют в каком–либо из сих учении силу против истины, — еретиков, ссылающихся на Писание, опровергая Писаниями, а еллинов, запутывая их собственным учением. Победа же над противниками имела следствием не падение побежденных, но восстание, ибо побежденные истиною получали венцы, делаясь победителями над заблуждением и ложью.
Таков у нас тот, который предлагает нам ныне настоящее празднество, подлинный провозвестник Духа, мужественный воин Христов, громогласный проповедник спасительного учения, подвижник и предводитель в дерзновении за Христа, которому только время дает второе место после апостолов. Ибо если бы Василий получил жизнь в одно время с Павлом, то, без сомнения, о нем писано было бы вместе с Павлом, как о Силуане и Тимофее. А что предположение мое не чуждо истины, можно доказать следующим образом. Забудем то, что святые предшествуют друг другу по времени; ибо время как прошедшее, так и настоящее одинаково не имеет отношения ни к добродетели, ни к пороку, не будучи по природе своей ни тем, ни другим; так как добро в произволении, а не во времени. Сопоставим вместо сего веру с верою и слово с словом, и тогда правильно сличающий сопоставленные дивные дела найдет в обоих одинаковую благодать, сообщенную одним и тем же Духом, каждому из них соответственно их вере. Если Павел предшествовал по времени, а Василий явился много поколений спустя то почитай это делом Божественного домостроительства о людях, а не доказательством умаления по добродетели; поелику и Моисей родился спустя много времени после Авраама, а после Моисея — Самуил, за ним Илия, после него великий Иоанн, за Иоанном — Павел и после него Василий. Как относительно предыдущих святых позднейшее явление по времени не сделало их меньшими славою по Бозе, так и ныне при слове о добродетели да будет умолчано о старшинстве по времени. Потому что последовательность во времени их явления, как мы сказали, есть доказательство промышления Божиего о человеках. Ибо Бог «сведый вся прежде бытия их», как говорит Пророк (Дан. 13:42), предвидя, что злоба дьявола будет распространяться с каждым поколением людей, приготовляет приличного и соответствующего болезни каждого поколения врача, чтобы не осталась без врачевания болезнь людей от недостатка врачующих и не овладела родом человеческим. Посему когда превозмогала философия халдеев, полагавших причину сущего в известном движении звезд и не признававших высшей видимого Силы, все создавшей; тогда Бог воздвигает Авраама, который, пользуясь сим учением как руководством, чрез видимое обрел Умопостигаемого и для потомков сделался путем веры в сущего Бога, сам достигнув ее чрез оставление отеческого заблуждения и сродства чувств с видимою тварью. Потом, когда египтяне изобрели Демонскую некоторую и чародейственную мудрость по наущению, думаю, омрачающего разнообразною лестью, Бог воздвиг Моисея, более превосходною мудростью уничтожившего египетскую лесть. Знакомый с Писанием знает, конечно, как в то время, когда обманщики противопоставляли Божественным знамениям свои ложные чудеса, Моисей содействием силы высшей превозмог всякую египетскую силу, обратив ее в ничто; разумеешь, что я делаю намек на жезлы и другие чудеса. По прошествии же времени, когда израильтяне, по причине безначалия, при смутном народном правлении пришли в дурное положение, является Самуил, сам держа народ в повиновении и не допуская его до смешения с иноплеменниками; затем, подготовив замену безначалия учреждением царства, собрал разложившиеся между собою колена, сделавшись законодателем царской власти.
Потом много поколений спустя, когда Ахаав, этот женоугодник, и сам отпал от священных законов отцов, сделавшись рабом развратной жены, и чрез нее увлекшись заблуждением идолопоклонства, увлек с собою израильский народ; тогда Бог воздвигает Илию, имевшего врачующую силу, соответственную великости болезни этих людей, — мужа, от презрения заботы о теле изможденного лицом и покрытого густотою собственных волос, отшельника по жизни, строгого на вид, с печальным лицом, с потупленным в землю взором, покрывавшего тело козьею кожею на столько, на сколько требует приличие, остальное оставлявшего открытым погоде и нисколько не заботящегося о сменах жара и холода. Он, явившись народу, бичом голода вразумляет Израиля, как бы каким жезлом, этою казнью поражая беспорядочную жизнь народа. После сего Божественным при священнодействии огнем врачует болезнь идолопоклонства. Спустя много времени после Илии является другой, в духе и силе Илии, рожденный от Захарии и Елисаветы и весь народ собиравший в пустыню своею проповедью; он и обагрение кровью пророков, и всякого рода нечистоты, и разнообразные узы греха, которыми как бы оковами в то время был обложен весь народ, — он все это разрешал проповедью покаяния и омывал чрез погружение в воде Иордана, являясь в делах по Бозе ничем не меньшим подвизавшихся прежде него в добродетели. Воспрепятствовало ли также Павлу позднейшее после Иоанна появление достигнуть высшей степени преуспеяния по Бозе? Не тотчас ли он сделался любителем Божественной красоты, как скоро она воссияла его очам и вместе с тем отпала чешуя с глаз его, образно означавшая покрывало сердечное, которое, облегая душевный взор иудеев, делало их слепыми для истины? И после того, как в таинственной бане сложил нечистоту неведения и заблуждения, не изменил ли тотчас свое естество на более божественное состояние и, как бы скинув эту грубую и плотскую оболочку, вселился в самое небесное святилище? Не отягчаемый нисколько оболочкою телесной, не был ли он внутри богонасажденного рая и, посвященным там истиною в неизреченные таинства, не получил ли оттуда силу слова для приведения всех языков в послушание веры? Посему соделался он отцом почти всей вселенной, посредством духовных болезней деторождения изводя на свет тех, которые чрез него получили образ Христов, в благочестии. Итак, если относительно прочих святых преемство по времени нисколько не умалило их преуспеяния по Бозе, так как благодать каждому одинаково содействовала к совершенству; то справедливо дерзаем причислить к оным именитым святым и человека Божия, бывшего в наше время, великий сосуд истины — Василия; поелику позднейшее по порядку времени явление его не послужило препятствием ни для высокого его стремления к Богу, ни для Божественной благодати в возведении души его к совершенству; время ни намерению Божественного домостроительства ни в чем не повредило, ни умалило значение того участия, которое он принимал в борьбе на защиту таинства (веры). Но, без сомнения, всякому известна цель появления в сие время учителя нашего.
После того как безумное почитание идолов уничтожено было проповедью о Христе и все ложные святилища обратились уже в развалины и ничтожество чрез распространение проповеди благочестия по всей почти вселенной; так что властитель человеческого заблуждения отовсюду должен был удалиться, гонимый из вселенной именем Христовым; изобретатель зла, будучи мудр на злое, не оставил лукавого умышления, как бы опять чрез обольщение сделать себе покорным род человеческий. И под видом христианства он тайно повел опять идолослужение, убедив своими лжеумствованиями склонявшихся к нему, не отпадать от твари, но поклоняться ей, чтить ее и почитать Богом тварь, называемую именем Сына; если же (скажут), что тварь эта создана из ничего и по своему естеству чужда Божеской сущности, то не обращать на это никакого внимания, но усвоив имя Христа сей твари, поклоняться ей, служить ей, в ней полагать надежду спасения, от нее ожидать суда. Весь вселившись в людей, способных вместить всю его злобу, разумею Ария и Аэтия, Ев–номия, Евдоксия и многих других с ними, отступник чрез них прекратившееся было идолослужение опять, как сказано, ввел в христианство; и восторжествовала болезнь людей, служащих твари вместо Творца, так что и содействием тогдашних царей заблуждение поддерживалось, и все предержащие власти поборали по сей болезни. В это время, когда без малого почти все люди готовы были подчиниться превозмогающей силе, Бог воздвигает великого Василия, как при Ахааве — Илию. Прияв священство, некоторым образом пришедшее уже в упадок, он силою обитающей в нем благодати снова воспламенил, как бы некий угасающий светильник — учение веры. Он явился Церкви как бы маяком для блуждающих ночью по морю, всех направил на настоящий путь, споря с префектами, вступая в борьбу с воеводами, смело говоря с царями, вопия в церквах, далеко отсутствующих привлекая посланиями подобно Павлу, не давая поводов уловить себя врагам, так что ни в чем не могли одолеть его противники. Он не боялся отобрания имения, сам себя лишив его ради надежды царствия (небесного). Он чужд был страха ссылки, единым отечеством людей называя рай, а на всю вселенную смотря как на место изгнания для нашей природы. А умирающий ежедневно и всегда добровольно истощающий себя умерщвлением, мог ли когда бояться смерти, которою угрожали враги? Мог ли боятся смерти тот, для кого было несчастием, что он не может часто подражать подвигам мучеников за истину, так как наша (телесная) природа однажды только умирает; тот, который одному из префектов, сурово грозившему вырвать у него из внутренностей печень, шуткою отвечая на грубую угрозу, сказал: «Буду благодарен за твое намерение, ибо печень лежа во внутренностях, немало у меня страдает; выбросив ее, как ты грозишь, освободишь тело от причины болезни».
Итак, появление в мир Василия после прочих святых чем же уменьшает славу его у Бога, чтобы поэтому торжество в честь ему казалось менее праздников другим святым? Рассмотри, если угодно, его жизнь, сопоставив ее с жизнью (одного) какого–либо из прежде его бывших святых. Возлюбил Бога Павел, я говорю о любви, ибо она глава добродетелей, от нее всякая вера и всякая надежда, от нее терпение в ожидании, и во всем благом непоколебимость, и приумножение всякого духовного дарования. Но исследуем, какая мера любви к Богу была в Павле? Конечно, скажешь, что он возлюбил Бога от всего сердца, и от всей души, и от всего помышления, ибо таков высший предел, данный законом для любви к Богу (Втор. 6:5). Посему предавший все свое сердце, и душу, и помышление Богу и ни к чему иному, что составляет предмет попечений в сей жизни, не привязанный находится на высшей степени любви. Итак, если кто может показать, что деятельность нашего учителя была направлена к каким–либо предметам мирских попечений, как–то: богатству, или власти, или желанию суетной славы (о более низких удовольствиях по отношению к нему считаю неприличным и говорить); если найдется, что он заботился о чем–либо таком, то должно признать в нем меньшую меру любви к Богу; так как свойство его желаний отвлекало (бы) его от Бога к чувственному. А если он был враг и недруг всего такого и подобного, прежде из своей жизни изгоняя сочувственное расположение к сему, а затем и жизнь всех очищая как учительным словом, так и своим примером; то ясно будет, что имел в себе такую меру любви к Богу, более которой не вмещает естество человека. Ибо возлюбивший Бога от всего сердца, и души, и помышления как может перейти к высшей степени любви, которая не имеет места? Итак, если мы знаем один предел совершенной любви, состоящей в любви Бога от всего сердца, а Павел и Василий любили, всем сердцем предавшись Богу; то если кто дерзает сказать, что одна была у обоих мера любви, не погрешит против истины. Но Апостол называет любовь высшею из всех добродетелей (1 Кор. 13:13), это же подтверждает святое Евангелие. Апостол говорит, что она превосходнее пророчеств и знания, тверже веры, непоколебимее надежды и всегда неизменна и что без нее всякий подвиг добродетели бесполезен (1 Кор. 13:1–4). А Господь, поставляя в зависимость от сего дарования весь закон и все пророческие тайны (Мф. 22:40), сам называет любовь первою из всех (добродетелей). Итак, если в высшей и объемлющей все прочие добродетели Василий не ниже великого Павла, то во всех других, которыми эта добродетель предводит и которые от нее происходят, без сомнения, он должен оказаться не меньшим. Ибо как имеющий человеческое естество владеет всеми свойствами естества, так и достигший совершенства любви с первообразом совершенства имеет и все соединенные с ним виды добродетелей. Спасает ли вера, спасаемся ли надеждою, ожидаем ли благодати от терпения — «любовь всему веру емлет, вся уповает, вся терпит» (1 Кор. 13:7), как говорит Апостол. И все прочие (совершенства), которые заключаются в понятии добродетели, (не исчисляем их порознь, чтобы не замедлить речи), произрастают от корня любви, так что имеющий ее и в прочих (добродетелях) не имеет недостатка.
Имея эту любовь, великий Василий чрез нее не имел недостатка ни в какой из добродетелей. А если он имел все, то никак ни в чем не был меньшим. Но, конечно, кто–нибудь скажет, что Павел видел третье небо, и восхищен был в рай, и слышал неизреченные глаголы, которых «не лет есть человеку глаголати» (2 Кор. 12:2–6). Но и он такую благодать получил, очевидно, не в этом теле, ибо не скрывает сомнения, говоря: «аще в теле, не вем: аще ли кроме тела, не вем: Бог весть» (2 Кор. 12:2). И о Василии, если бы кто дерзнул, мог бы сказать, что хотя в теле он ничего такого не видел, но для бестелесного и умственного созерцания его ничто из такового не оставалось невиданным. Свидетельствует о сем слово его, которое он возвещал при жизни, и то, которое оставил в числе своих писаний. Павел, обходя страны от «Иерусалима и окрест даже до Иллирика» (Рим. 15:19), проповедовал всем живущим в них слово Евангелия; слово и проповедь Василия также объяло почти всю вселенную и подобно словам Павла всеми было с уважением принимаемо. Но не станем говорить о прочем, чем жизнь Василия сходствует с жизнью Павла, как например: сей распялся миру и тому — мир; сей умертвил тело и он в немощи совершил силу. Для обоих же было «еже жити, Христос», и для того, и другого одинаково смерть приобретение и разрешение к Господу (Флп. 1:21; 1:23) дороже полной блужданий жизни.
Не угодно ли сравнить нашего учителя с Иоанном (Крестителем)? Ибо когда божественный глас свидетельствует, что он более всех рожденных женами и «лишше» пророка (Мф. 11:9; 11:11), то казалось бы безумием и вместе нечестием сопоставлять другого для сравнения с его жизнью. Но и по следам такого и столь великого мужа идти означает высшую степень блаженства. Размыслим же вот о чем: Иоанн не носил мягких одежд, не был и тростью, ветром колеблемою; вместо населенных мест, любил он пустыню и, опять, часто посещал населенные места. Станет ли кто противоречить нашим словам, если истина засвидетельствует и о нашем учителе, что он в сем был не ниже Иоанна? Кто не знает, как не терпел он изнеженного и изысканного образа жизни, во всем вместо удовольствий охотно избирая суровое и трудное, солнцем опаляемый, холодом объемлемый, в постах и воздержании упражняя тело, живя в городах, как в пустынях, нисколько не вредя своей добродетели сообществом с людьми и пустыни делая городами? Ни жизнь среди многолюдства не изменила нисколько тщательного и неуклонного образа его жизни, ни удаление к себе в пустыню ищущих пользы не лишило возможности собираться к нему; так что и при нем, подобно тому, как и при Крестителе, пустыня сделалась городом тесным от стекавшихся в нее. А что он не был тростью, легко склоняемою к мнениям противников, это доказывает непоколебимость его во всех решениях жизни. Полюбилась ему сначала нестяжательность — решение осталось камнем непоколебимым. Возжелал чистотою приблизиться к Богу — желание его было горою, а не тростью, ибо никогда не склонялся пред ветрами искушений. А твердость любви Василия к Богу может быть выражена только собственными словами Апостола, что «ни смерть, ни живот (ни Ангели, ни начала, ниже силы), ни настоящая, ни грядущая, ни ина тварь кая» не могла разлучить сердце его «от любве Божия» (Рим. 8:38–39). Так и во всех решениях относительно добродетели никогда не был он подобен трости и не тверд мыслью, но всегда жизнь его в добром была непоколебима. Дерзал пред Иродом Иоанн, и сей пред Валентом. Сравним между собою могущество этих двух людей. Ирод по определению римлян получил в удел некоторую часть Палестины, а пределом власти Валента было почти все, что обтекает солнце — от границ Персии до Британии и до пределов океана. Цель дерзновения против Ирода была, чтобы он не нарушал закона относительно некоей жены, но обуздывал в себе похоть как запрещенную законом. А в чем состояло дерзновение нашего учителя пред Валентом? Чтобы он оставил неприкосновенною и неповрежденного веру, с которою преступное обращение было осквернением для всей вселенной. Справедливый исследователь дел пусть сопоставит одно могущество с другим и цель дерзновения сего с дерзновением оным. Там осквернение ограничивалось телом Ирода, здесь же была несправедливость против всей человеческой природы, оскорбление веры. Иоанн до смерти не оставил дерзновение, и для Василия пределом дерзновения была ссылка, которую назначил царь вместо смертного приговора. Но относительно Иоанна верили, что он жив и после смерти (Мк. 6:16), и Василию приговор ссылки отменяется самими врагами, так как угроза нисколько не сделала его уступчивее в настойчивости.
Осмелимся ли востечь словом к великому Илии и показать, что наш учитель своею жизнью уподоблялся его благодати? Но никто да не требует от человеческого естества шествия на огненной колеснице, управления огненными конями и переселения на высоту горнего наследия, ибо и Илия, не в пределах уже пребывая природы, остался невредимым в огне, переменив Божественною силою тяжелое и земное на небесное и легкое. Не будем касаться и того, что его слова делались неким ключом даров небесных, отверзая (небо), когда захочет, и заключая по произволению, когда это сделать почтет лучшим, равно и того, что он оставался долгое время без пищи, одним съеданием оного ячменного хлеба сохраняя одинаковыми свои силы на сорок дней, — оставим и это как высшее человеческих сил, ибо для человеческой природы невозможно подражание тому, что выше природы. Да будет умолчано вместе с сим и о малом оном водоносе и о чванце елея, из коих тот и другой достаточно подавали нужное для пищи и во все время голода, бывшего три года и шесть месяцев, продолжали источать дары; ибо чудеса горнего действования имеют особую им свойственную силу для дел, и неправильно было бы приписывать таковые чудодействия человеческой природе.
Итак, что же у нашего учителя усматривается общее с Пророком? Ревность по вере, негодование против отвергшихся ее, любовь к Богу, стремление к истинно сущему, не уклоняющееся ни к чему земному, жизнь во всем испытанная, образ жизни суровый, взор, соответствующий настроению души, важность безыскусственная, молчание более действенное, чем слово, забота о будущем, пренебрежение видимого, одинаковое отношение ко всему внешнему, поставлен ли кто случайно в высоком достоинстве или находится в смиренном и униженном состоянии. Таковым и подобным чудесам Илии подражает учитель наш в своей жизни. Если же кто укажет на сорокадневное неядение Илии — и мы выставим малоядение нашего учителя в течение всей жизни; ибо малоядение близко сходится с неядением, особенно когда последнее бывает малое время, а то продолжается во всю жизнь. Кроме того, тогда ячменный оный, на золе печеный хлеб поддерживал крепость Пророка, конечно, потому, что имел в себе нечто такое, в чем сохранялась сила принесшего такую пищу (3 Цар. 19:5–6). Доказательством этого служит то, что не из единоземцев кто–либо приготовил сей хлеб и предложил его Пророку, но он был насыщен пищею ангельского приготовления; посему оставалась целою и неистощенною сила, приданная телу сею пищею. А здесь поелику не происходило никакого уклонения от того, что обыкновенно, мерою пищи было рассуждение, доставлявшее телу не столько, сколько желало естество, но сколько повелевал закон воздержания. Священническое же служение учителя имеет сходство с таинственным священнослужением Пророка, когда он, чрез утроение, словом веры привлек небесный огонь на жертву. Мы знаем из Писания, что огнем часто называется сила Святаго Духа. Засуху земли учитель наш не разрешал и не наводил. Там великий Пророк, поразив казнью бездождия землю, сам делается и врачом раны, даруя равное страданию исцеление врачевством. Нельзя ли сказать о каком–либо чуде и нашего Илии, подобном сему? Когда однажды по Божиему изволению грозило подобное несчастие и все зимнее время прошло без дождя, и не было никакой надежды на произрастание плодов, тогда учитель, припадая к Богу, не дал страху простереться далее угрозы, умилостивил Бога молениями и молитвами отклонил бедствие бездождия. Жизнь нашего учителя представляет также нечто подобное и тому попечению во время голода, которое великий Илия оказал только одной вдовице Некогда сильный голод отяготел как над самим городом, в котором суждено ему жить, так и над всей подчиненной городу областью. Он продав свое имущество и употребив деньги на пищу, в то время когда редко было, чтобы и очень зажиточные могли готовить себе трапезу, в течение всего времени голода продолжал питать отовсюду стекавшихся и детей всего городского населения, так что и на детей иудеев одинаково простиралось действие его человеколюбия. Конечно, нет никакого различия, исполняется ли Божественная заповедь чрез посредство чванца или иным каким способом. Нуждающиеся, получая утешение, не спрашивают: откуда, но смотрят на то, что сделано. Если Илия вознесен был на небо, то это, конечно, дивно и неизреченно чудно, но нельзя отвергать и другого вида вознесения на небо, когда кто–либо высокою жизнью от земли переселяется на небо, силою духа соделав добродетели колесницею. А что учителем достигнуто сие, согласится всякий беспристрастный исследователь его дел.
Дерзнет ли слово наше коснуться и Самуила? Уступая во всем ином первенство Пророку, укажем с двумя обстоятельствами, повествуемыми о нем, сходное обстоятельство из жизни нашего учителя. Обоих рождение было даром Божиим. Как Самуила мать, так и Василия отец родил по молитве к Богу. И когда в юном еще возрасте постигнут был он смертною болезнью, отец увидел явившегося ему в сонном видении Господа, даровавшего в Евангелии царедворцу отрока и говорящего к нему то же, что и тому сказал Господь: «иди, сын твой жив есть» (Ин. 4:50). И он, подражая вере того, получил тот же плод веры, прияв от человеколюбия Господня спасение сына. Это первое, что мы сопоставляем с чудесами Самуила, другое же то, что образ священнодействия, обоими совершаемого, был тот же. Оба приносили Богу жертвы мира, совершая священнослужение об истреблении врагов, — один уничтожением ересей, другой иноплеменников.
Великий Моисей есть общий пример для всех стремящихся к добродетели, и не погрешит тот, кто целью своей жизни сделал бы подражание добродетелям законодателя. Итак, ничьей не возбудим зависти, если покажем, что учитель наш, в чем только возможно, подражал в своей жизни законодателю. В чем же было это подражание? Некая египетская княжна, усыновив Моисея, обучает его туземному учению, не отлучая его от сосцов матери, доколе юный возраст нуждался в этой пище. То же поистине можно засвидетельствовать и о нашем учителе, ибо знакомый во время воспитания с внешнею премудростью он всегда держался сосцов Церкви, возращая и укрепляя душу свою ее учениями. После сего Моисей отказался от вымышленного родства с лжеименною матерью. И Василий не долго продолжал хвалиться тем, чего устыдился; ибо, отказавшись от всей славы внешней учености, как Моисей — от жизни при дворе, перешел к смиренной жизни и, как Моисей, предпочел евреев египетским сокровищам. Поелику же природа в каждом совершает свои действия, ибо «плоть» каждого «похотствует на духа» (Гал. 5:17), то и Моисей не избег борьбы с египетским помыслом, которую тот воздвигал против помысла чистого, но, помогая лучшему, сделал мертвым злобно восставшего против евреев. Еврейский помысел есть очищенный и неоскверненный, посему содействующий душе умерщвлением удов земных подражает мужеству Моисея, которое выказал он против египтянина. Но нужно опустить большую часть (священной) истории, чтобы, желая тщательно изложить все, что сказано о Моисее и в чем было сходство учителя с законодателем, не обременить слуха. После умерщвления египтянина Моисей оставил Египет и много времени провел сам с собою, жив частным образом. Оставлял и Василий городской шум и все земные волнения и был в пустыне, любомудрствуя с Богом. Моисею свет воссиял в купине. Можем и мы сказать о некотором сходном с сим видении Василия. В одну ночь, когда он молился, было ему сияние света в доме; невещестный был этот свет, Божественною силою осветивший жилище, не возженный никаким вещественным предметом. Моисей спасает народ, освободив его от тирана, свидетельствует то же о нашем законодателе народ сей, который своим священством привел он к обетованию Божию. И нужно ли перечислять подробно, скольких провел он чрез воду? Скольким словом своим возжег столп огненный? Скольких спас облаком Духа? Скольких напитал небесною пищею? Как походил он на камень, в котором древом отверзлось устье для воды, то есть когда образ креста коснулся уст его? Как поил жаждущих оною водою, изливая ее столь обильно, что как бы шла она из бездны? Какую скинию свидения и вещественно уготовал он в предградии для нищих телом, делая их чрез благое учение нищими духом, так что нищета сделалась для них блаженством, доставляя благодать истинного царствия? А скинию истинную для вселения Бога он устроял в каждой душе своим словом, утверждая в ней и некие столпы (столпами я называю помыслы, поддерживающие нас в трудном деле добродетели), Равно и умывальницы для омовения нечистот души, омывающие скверну водою из очей. Сколько светильников поставлял в душе каждого, освещая словом сокровенное? Сколько кадил молитвы и жертвенников приготовлял из чистого и неподдельного золота, то есть из истинного и чистого расположения, в котором тяжелый свинец тщеславия не потемнил блеска дел? Что сказать о таинственном кивоте, который устроил он в каждом, влагая в душу скрижали завета, писанные перстом Божиим? Говорю сие, имея в виду то, что он сердце каждого делал кивотом, способным вмещать духовные тайны, имеющим законы писанными делами начертанный действием Духа (ибо сие означает перст Божий) (Лк. 11:20 Мф. 12:28). В сем кивоте и жезл священства всегда приносил свой плод прозябая чрез причастие святынь, и стамна не лишена была манны; ибо тогда сосуд души бывает лишен небесной пищи, когда внедрившийся в нее грех воспрепятствует притоку манны, а манна есть хлеб небесный. Нужно ли говорить о том, с каким вниманием облекался и сам он в священническую одежду, и украшал ею других по своему примеру, всегда нося на груди украшение, которому имя: слово судное (Исх. 28:15), и изъявление, и истина (2 Езд. 5:40)? Но я предоставлю более усердным иносказательно приложить все это к учителю, как он и сам, соответствуя сему украшению, сообщал оное и другим. Часто мы видели его и находящимся внутри мрака, где был Бог; ибо незримое для других ему постижимым делало тайноводство Духа, так что, казалось, он находится в области того мрака, которым покрывается слово о Боге. Часто противостоял он амаликитянам, употребляя молитву вместо оружия, и в то время, как он поднимал руки, истинный Иисус побеждал врагов. Он разрушил чародейства многих волхователей, подобных оному Валааму, не слушающих истинного слова, но верящих ослиному учению демонов, после того как учитель молитвою изменил клятву на благословение, их уста не могли уже оказывать действие злое.
Но мы бегло и кратко говорим о сем, пусть знакомый с жизнью святого раздельно представит сообразно с действительностью, сколько уготовлявших ковы против других обольщениями и волхвованиями не привели в действие своего лукавства, потому что вера учителя не допустила привести зло в исполнение. Оставляя все продолжение жизни, напомню о кончине обоих. Тот и другой оставил временную жизнь; памятника же своего пребывания в теле не оставил миру ни тот, ни другой; ибо как гроб Моисея неизвестен, так и у Василия нет надгробного памятника, сооруженного вещественным избытком; но вместе с тем, как отошел из жизни, с ним прошло все, что служит к поддержанию человеческой жизни; так что для сего мужа нет никакого вещественного памятника, которым бы при помощи оставленного богатства лучше сохранялась посмертная память нем. Так и о Моисее история говорит, что не найдено гроба его даже до сегодняшнего дня (Втор. 34:6).
Итак, если слово наше доказало, что таков был великий Василий, что сравниваемый по жизни с каждым из великих святых недалек был от них, то справедливо последовательность праздников приводит нас ныне к настоящему празднованию — в честь его. Но день его памяти прилично было бы проводить так, как приятно ему. Посему должно рассмотреть, как мы должны проводить праздник, чтобы праздновать угодно святому. Может быть, кто–нибудь потребует пышного и льстивого похвального слова ему, где бы сказано было об его отечестве и роде, о воспитании родителями и ежедневных занятиях, среди которых возрастал он и укреплялся и чрез которые сделался славным и знаменитым среди людей; но величие усматриваемых в нем достоинств делает излишним всякое такого рода тщеславное прославление его, — даже заботящегося о сем приводит к противному; так как слово не имеет такой силы, чтобы достойно изобразить величие его дивных деяний. Посему, чтобы слабостью речи не нанесено было ущерба удивлению и чтобы, взявшись хвалить, не умалить сколько–нибудь того высокого мнения, которое ныне каждый имеет о нем, лучше будет молчанием умножать в себе удивление, нежели словом умалить похвалу. Ибо можно ли сказать о нем что–либо такое, что сделало бы его более досточтимым? Укажет ли кто на так называемое благородное происхождение его по плоти и крови? Но кто не знает, как великому Василию было противно заниматься относящимся до тела? Как бы беглого какого раба, он всегда сковывал его узами рассуждения; крайним изнурением и воздержанием наказывал он и мучил оного достойного наказания раба — тело, подобно неумолимому господину, не давая никакой пощады узнику. Обращавшегося так с плотью прославлять за благосостояние по плоти было бы самым безумным делом. Ибо как послужит теперь к чести его то, чего он стыдился в жизни? Точно так же вместе с речью о родителях должно быть оставлено и воспоминание об отечестве. Ибо тот, кто возносился выше всего мира и как бы стеснялся всею чувственною природою стихий, так что не сносил и неба над ним простертого, но душою стремился по ту сторону; тот, кто, с созерцанием переходя предел чувственного мира, всегда обитал в мире умосозерцаемом, носился горе вместе с Божественными силами, нисколько не стесняемый телесного оболочкою в полете ума, — как принял бы, когда бы его именовали по названию некоторой части земли и слагали бы ему похвалы, указывая на плодоносие места (его родины)? Было бы обидно и Умалением истинных похвал, если бы при созерцании предлежащей добродетели стали мы дивиться воде, растениям, полям и подобному; так как все что не есть приобретение свободной воли, хотя бы и было вполне прекрасно, не приносит никакой славы тому, кому досталось в удел. Итак, не будем говорить об отечестве и роде и о всем подобном, что имеющим дает не от нас зависящее стечение обстоятельств. Но следует каждому вспомянуть о том его отечестве и благородстве, которые ревнующими о сем достигаются при помощи свободного произволения.
В чем же состояло благородство Василия? Какое его отечество? Род у него — сродство с Божеством, а отечество — добродетель. Приявший в себя Бога, как говорит Евангелие, имеет власть «чадом Божиим быти» (Ин 1:12). Кто станет искать чего–либо благороднее сродства с Богом? А пребывающий в добродетели, и возделывающий ее, и от нее приобретающий благосостояние, отечеством делает для себя то, среди чего обитает. Целомудрие было домом его, премудрость имуществом, правда же, и истина и чистота — светлыми и блистательными украшениями жилища, которым обитающий в нем утешался более, чем сколько тщеславятся своим живущие в мраморных и позлащенных домах. Если кто похвалит его за такое отечество и почтет со стороны такого родства, тот и истину скажет, и составит похвалу из угодного ему. А землю, и кровь, и плоть, и богатство, и начальствование, и знатность — о всем этом пусть для друзей мира прославляют желающие. Если же недоступна для нашего слова соответствующая ему похвала, то оставим такое занятие и откажемся от искусства похвальных слов.
Как же проводить нам память его, скажет, может быть, кто–нибудь, если мы не с похвалами совершаем ее? Как исполнится закон Писания, который говорит, что «память праведных» должна быть «с похвалами» (Притч. 10:7), если наполнить слово истинными похвалами неудобоисполнимо, а обыкновенными — оскорбительно? Может быть, есть какой–нибудь способ, чтобы не оставить его совсем без почетных похвал с нашей стороны? Какой же это способ? Кто не знает, что всякое слово, не сопровождаемое делами, суетно само по себе и несостоятельно? Но свойство дел в существе и истине выражает сказанное словом. Итак, похвала, дополненная делами, была бы предпочтительнее слова. А это что значит? Чтобы чрез память о нем жизнь наша делалась лучше обыкновенной. Воск, приложенный к печати на камне перстня, на котором резьбою изображен какой–либо прекрасный образ, принимает на себя всю красоту, находящуюся в резном изображении, весь очерк его воспроизводя собственными чертами; так что словом никто не опишет изящную красоту резьбы так, как представляет ее отпечатленная на воске красота; таким же образом если один словами только прославляет добродетель учителя, а другой украшает свою жизнь чрез подражание ему, то похвала, исполняемая жизнью, будет действительнее высокого слова. Так, братья, и мы, если станем подражать целомудренному целомудрием, тем что делаем, достойно прославим добродетель. Точно так же и во всем прочем: удивление к мудрости станет полным чрез наше участие в мудрости; похвала нестяжательности, если и мы будем нестяжательны относительно вещественного богатства; презрение мира сего пусть не на словах только будет делом похвальным и славным, но самая жизнь да будет свидетелем презрения попечений мирских. Не говори только, что он посвящен Богу, но передай и ты себя Богу; не говори, что для него только приобретением было уповаемое успокоение, но и ты собирай себе в сокровище то же богатство, как он. Это возможно. Перенес он жительство свое от земли на небо, перенеси и ты. В недоступных хищению небесных сокровищах сложил он свое богатство, и ты подражай в сем учителю. «Совершен же всяк будет» ученик, «якоже и учитель его» (Лк. 6:40). Ибо и в других науках — учившийся у врача, или геометра, или ритора был бы недостойным веры хвалителем искусства учителя, если бы словами только прославлял знание своего руководителя, а в себе не обнаружил бы ничего достойного одобрения. Ибо каждый мог бы сказать ему: как ты называешь учителя врачом, оставаясь сам неуврачеванным? Как ты называешь себя учеником геометра, будучи сам неопытным в геометрии? Но если кто сам показывает знание искусства, которое он изучал, то своим знанием доставляет честь наставнику искусства. Так и мы, хвалящиеся учителем Василием, покажем учение жизнью, стремясь к тому, что сделало его славным и великим пред Богом и людьми во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Каноническое посланник к святому Литоию, епископу Мелетинскому
1. И это есть одна из принадлежностей святого праздника, чтобы мы уразумели законный и правильный образ действования относительно согрешивших, да уврачуется всякая болезнь душевная, происходящая от какого–либо греха. Сей повсеместный праздник сотворения, по учрежденному обращению годового круга, ежегодно совершаемый во всем мире, торжествуется по причине воскрешения падшего. Но падение есть грех, а воскресение есть восстание от падения греховного. Итак, благоприлично будет в сей день не только приводить к Богу обновляемых возрождением, чрез благодать купели, но и покаянием и обращением от мертвых дел на путь жизни вновь возвращающихся руководить к спасающему упованию, от которого они чрез грех отчуждены. Немалое же дело есть словеса о сем устроить по закону праведного и испытанного суда, по заповеди Пророка, повелевающей «словеса устраивати на суде», да по изречению Писания: «не подвижется во век, и в память вечную будет праведник» (Пс. 111: 5:6). Ибо как в телесном врачевании цель врачебного искусства есть одна: возвращение здравия болящему, а образ врачевания различен, ибо, по различию недугов, к каждой болезни прилагается соответствующий способ лечения, так и в душевных болезнях, по множеству и разнообразию страстей, необходимым делается многообразное целебное попечение, которое, соответственно недугу, производит врачевание. Но дабы рассмотреть предлежащий предмет с некоторою правильностью, расположим слово так. В душе нашей усматриваются, по первоначальному разделению, три силы: сила ума, сила вожделения и сила раздражения. В сих бывают и подвиги живущих добродетельно, и падения поползновенных на зло. Поэтому хотящий приложить приличное врачевство к недугующей части души должен, во–первых, рассмотреть, в которой части произошла болезнь, потом к страждущей, по приличию, прилагать врачевство так, чтобы не было, по незнанию врачевательного способа, подаваемо врачевство одной части, когда болезнь находится в другой, подобно как действительно видим многих врачей, которые, не узнав начально болезнующей части тела, врачевствами своими усиливают болезнь. Часто случается болезнь от избытка жара, но поскольку расстроенным от излишнего хлада полезно теплое и согревающее, то это же самое, естественно принесшее таковым пользу, неосмотрительно употребляющие для палимых чрезмерным жаром соделывают болезнь неизлечимою. Таким образом, как для врачей самонужнейшим признано познание свойства телесных начал, дабы из частей страждущих, или не страждущих, получала исправление та, которая не в естественном состоянии находится, так и мы, обращаясь к оному разделению усматриваемых в душе сил, началом и основанием соответственного врачевания страстей положим общее созерцание. Итак, по троякому, как мы сказали, разделению свойственных душе движений на силы ума, вожделения и раздражения, благие в душе действия силы ума есть следующие: благочестивое понятие о Божественном, искусство различения добра и зла, ясное и несмешанное суждение о свойстве предметов, что из сущих достойно избрания и что отвержения и отвращения. По противоположению, без сомнения, усмотрится также и злое направление сей способности души, когда в ней относительно к вещам Божественным будет нечестие, относительно к истинно доброму — нерассудительность, превратное и ложное понятие о естестве вещей, «так что будут почитать свет тьмою, а тьму светом», как говорит Писание (Исаии 5:20). Добродетельное направление силы вожделения есть устремление желания к существенно вожделенному и истинно прекрасному, и всей силы и расположения любви, какая только в нас есть, занятие уверенностью, что нет ничего иного по естеству своему вожделенного, кроме добродетели, и естества, добродетель источающего. Уклонение же и греховное движение сей способности бывает, когда кто вожделение обратит к мечтательному тщеславию или к цветущей красоте телесной. Отсюда происходит сребролюбие, славолюбие, сластолюбие и все, сим подобные, пороки, которые имеют началом сей род зла. Наконец, доброе действие силы раздражения есть ненавидение зла, брань против страстей и укрепление души в мужестве, дабы подвизающийся за веру и добродетель не устрашался кажущегося страшным для многих, но подвизался против греха до крови, презирал угрозу смертью, тяжкие муки и разлучение от того, что есть приятнейшего, — и словом, был выше всего, что многих держит в плену сластей, по привычке и предубеждению. Превратные же движения сей силы всем явны суть: зависть, ненависть, вражда, злословие, соумышления, сварливое и мстительное расположение, на долгое время простирающие памятозлобие и многих доводящие до убийства и кровопролития. Ибо необученный помысл, не обретая, как с пользою употребить оружие, обращает против самого себя острие железа, и оружие, данное нам от Бога на защищение, делается злоупотребляющему оным погибельным.
2. Итак, по разделению грехов вышереченным образом, грехи, касающиеся мысленной способности души, признаны от Отцов тягчайшими и требующими большего, продолжительнейшего и строжайшего покаяния. Например: если кто отрекся веры во Христа и явился предавшим себя или иудейству, или идолопоклонству, или манихейству, или иному подобному виду нечестия, таковой, если произвольно устремился на это зло, но потом раскаялся, все время жизни своей должен иметь временем покаяния. Ибо таковой не удостаивается никогда, во время совершения таинственной молитвы, вместе с народом покланяться Богу, но наедине да молится, а от приобщения Святых Тайн совершенно да будет отлучен. Но в час исхода своего от сей жизни да удостоится причастия Святых Тайн. Если же, сверх ожидаемого, случится ему остаться в живых, то вновь да живет в том же осуждении, не сподобляясь Святых Тайн до исхода своего. А те, которые муками и жестокими истязаниями вынуждены, подвергаются епитимий на определенное время. Ибо святые Отцы таковое человеколюбие оказали им потому, что не душа их подверглась падению, но немощь телесная не могла противостоять мучениям. Поэтому за насильственное и мучением вынужденное отступление, по обращении, мера епитимий определяется по примеру согрешивших любодеянием.
3. Те же, которые приходят к чародеям или прорицателям, или к обещающим чрез демонов учинить некое очищение или отвращение вреда, подробно да вопрошаются и да испытуются: оставаясь ли в вере во Христа, некою нуждою увлечены они к таковому греху, но направлению, данному им каким–либо несчастьем или несносным лишением, или совсем презрев исповедание, от нас им вверенное, прибегли к пособию демонов. Ибо если учинили это с отвержением веры, и с тем, чтобы не веровать, что Бог есть покланяемый христианами, то без сомнения подвержены будут осуждению с отступниками. Если же несносная нужда, овладев слабою их душою, довела их до того, обольстив некоею ложною надеждою, то и над сими также да будет явлено человеколюбие, по подобию тех, которые во время исповедания не возмогли противостать мучениям.
4. Грехи, бывающие от вожделения и сладострастия, разделяются следующим образом; иной называется прелюбодеянием, а иной — блудом. Некоторым же тончайшим исследователям заблагорассудилось и грех блуда именовать прелюбодеянием, поскольку один есть законный союз жены с мужем, и мужа с женою. Итак, все незаконное есть уже противозаконное, и вземлющий несобственное очевидно вземлет чужое. Ибо человеку дана от Бога одна помощница, и над женою поставлена одна глава. Итак, если кто стяжал себе, по выражению божественного Павла, свой собственный сосуд (1 Сол. 4:4), тому закон естественный предоставляет праведное употребление оного. Но если кто обратится не к собственному, таковой, без сомнения, чужой восхитит. Для всякого чужое есть то, что не есть его собственное, хотя бы и не было в виду владельца, оное присваивающего. Посему, строже исследовавшим сей предмет, блуд представлялся недалеко отстоящим от греха прелюбодеяния, ибо и Божественное Писание говорит: «не мног буди к чуждей» (Притч. 5:20). Но поскольку к немощнейшим Отцы являли некое снисхождение, то положено в сем грехе общее различие таковое: блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем–либо без обиды другому, а прелюбодеянием — навет и обида чужому союзу. К этому относят скотоложство и мужеложство, потому что и сии грехи суть прелюбодеяние против естества. Поскольку причиняется обида чужому роду, и притом, вопреки естеству. При таковом разделении видов, и сего греха общее врачевание состоит в том, да соделается человек, чрез покаяние, чистым от страстного неистовства к таковому плотоугодию. Поскольку же у осквернившихся блудодеянием не сопряжена с сим грехом обида, того ради сугубое время покаяния определено тем, кои осквернили себя прелюбодеянием или иными студодеяниями, как то: смешением со скотом или неистовством к мужскому полу. Ибо в сих случаях, как речено мною, грех становится сугубым: один состоит в непозволенном сластолюбии, а другой — в обиде другому. Да будет же некое различие образа покаяния во грехах сладострастия. Возбудивший сам себя к исповеданию грехов, как уже начавший врачевание своего недуга тем самым, что решился по собственному побуждению быть обличителем своих тайн, и как показавший знамение своего изменения к лучшему, да будет под епитимиею более снисходительною, а уловленный во зле или по некоему подозрению или обвинению невольно обличенный подвергается продолжительнейшему исправлению, дабы со строгостью быв очищен, таким образом принят был к общению Святых Тайн. Правило о сем таково: осквернившиеся блудодеянием на три года да будут совсем удалены от церковной молитвы, три года да участвуют в одном лишь слушании Писаний, в иные три года да молятся с припадающими в покаянии, — и потом да причащаются Святых Тайн. Для проходящих же покаяние ревностнее, и житием своим показующих возвращение ко благому, позволительно устрояющему полезное в церковном домостроительстве сократить время слушания и скорее приводить оных к обращению; подобно сократить время и сего, и скорее допустить до приобщения, сообразно с тем, как он собственным испытанием дознает состояние врачуемого. Ибо как воспрещено повергать бисер пред свиньями, так безместно было бы и лишать драгоценного бисера того, который чрез удаление от греха и очищение уже сделался человеком. Беззаконие же, содеваемое прелюбодеянием или другими видами нечистоты, как выше речено, по всему тем же судом да будет врачуемо, как и грех блудный, но с усугублением времени. При сем также да будет наблюдаемо расположение врачуемого, подобно как и одержимого нечистотою блуда, дабы или ранее, или позднее подавалось им причастие блага.
5. Посем остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения, когда она, уклонившись от благого употребления негодования, впадает в грех. Много бывает от раздражения греховных дел и всяких зол. Но Отцам нашим угодно было о иных из них не входить во многую подробность, и не признали они требующим многого попечения врачевание всех согрешений, от раздражения происходящих. Писание возбраняет не только легкую рану, но и всякое злоречие или хуление (Колос. 3:8; Еф. 4:31), и все подобное, от раздражения происходящее, но они только против злодеяния убийства положили предохранение в епитимиях. Разделяется же это злодеяние по различию убийства вольного и невольного. Вольное убийство, во–первых, есть то, на которое с намерением дерзнул решившийся на это самое злодеяние, да совершит оное; во–вторых, и то полагается между вольными убийствами, когда кто в сопротивоборстве, бия и будучи бием, наносит рукою удар в некое опасное место. Ибо единожды яростью объятый и стремлению гнева предавшийся во время страсти не приемлет в ум ничего, могущего пресечь зло. Итак, убийство, происшедшее от сопротивоборства, приписуется действию произвола, а не случаю. Невольные же убийства имеют известные признаки, когда кто, имея в намерении нечто другое, случайно учинит тяжкое зло. Из сих вольное убийство требует троякого протяжения времени для тех, которые обращением врачуют произвольное преступление. Для них полагается три девятилетия, с назначением по девяти лет на каждый степень покаяния. Кающийся да проведет 9–тилетнее время в совершенном отлучении, с преграждением ему входа в церковь. Столько же других лет да пребудет в степени слушающих, сподобляясь только слушания учителей и Писаний; в третьем же девятилетии да молится с припадающими в покаянии, — потом да приступает к общению Святых Тайн. Явно же есть, что и за таковым то же наблюдение иметь будет домостроительствующий в Церкви, и по усмотрению обращения сократится для него продолжение епитимий, так что вместо девяти на каждый степень покаяния положатся или восемь, или семь, или шесть, или только пять лет, если великостью покаяния упреждает он время и ревностью в исправлении себя превосходит тех, кои в продолжительное время менее деятельно очищают себя от скверн. Невольное же убийство признано достойным снисхождения, но не похвальным. Сие сказал я, дабы явным сотворить, яко аще кто, хотя невольно, будет осквернен убийством, такового, как уже соделавшегося нечистым чрез нечистое дело, правило признало недостойным священнической благодати. Какое же время назначено для очищения просто блуда, такое же заблагорассуждено положить и для невольных убийц, притом, с рассмотрена ем и здесь расположения кающегося. Таким образом, если будет истинное обращение, то да не соблюдается число лет, но с сокращением времени да ведется кающийся к возвращению в Церковь и к причастию Святых Тайн. Если же кто, не исполнив времени покаяния, определенного правилами, отходит от жизни, то человеколюбие Отцов повелевает, да причастится Святых Тайн, и да не без напутствия отпущен будет в оное последнее и дальнее странствие. Но если причастившись Святых Тайн, вновь возвратится к жизни, то да ожидает исполнения назначенного времени, находясь на том степени, на котором был прежде данного ему, по нужде, приобщения.
6. Другой же вид идолослужения, ибо так святой Апостол нарицает любостяжание (Колос. 3:5), не знаю, как опустили Отцы наши без указания врачевания. Это зло является, как думаю болезнью души в трояком отношении:, ибо разум, погрешая в суждении о добре, мечтает, словно бы добро находилось в веществе, и не взирает к красоте невещественной; вожделение стремится долу, отпадая от истинно вожделенного; и сварливое, и раздражительное расположение души многие для себя случаи принимает по этой причине. И вообще можно сказать, что таковая болезнь соответствует Апостольскому описанию любостяжания. Ибо Божественный Апостол признал оную не только идолослужением, но и корнем всех зол (1 Тим. 6:10). Но, однако, сей вид греха опущен без особого рассмотрения и врачевания, отчего недуг сей умножается в церквах, и никто не испытывает приемлемых в клир, не осквернились ли они сим видом идолослужения. Впрочем, поскольку Отцы наши не упомянули о сем, то полагаем достаточным врачевать это, сколько можно, всенародным словом учения, и недуги любостяжания, как бы некоторые болезни от избытка влаг, очищать рассуждением. Только воровство, гробокопательство и святотатство почитаем тяжкою болезнью, потому что таково у нас о сем преемственное от Отцов предание. И по Божественному Писанию к числу возбраненных дел принадлежат лихва и рост, и приобщение к своему стяжанию чужого, чрез некое преобладание, хотя бы то было под видом договора. Итак, поскольку наше мнение не настолько достойно веры, чтобы имело власть, свойственную правилам, то к реченному уже присоединим суждение, по правилам о вещах бесспорно возбраненных. Воровство разделяется на разбойничество и подкопание, цель того и другого одна — отнятие чужого, но между оными есть великое различие в расположении духа. Ибо разбойник для достижения своего намерения употребляет и человекоубийство, и к этому приуготовляется и оружием, и скопищем подобных себе, и способностью мест, почему таковой подлежит суду человекоубийц, если чрез покаяние к Церкви Божией возвратится. А присвоивший себе чужое чрез тайное похищение, и потом чрез исповедь грех свой объявивший священнику, да врачует недуг упражнением, противоположным своей страсти, то есть раздаянием имения нищим, да расточив то, что имеет, покажет себя очищенным от болезни любостяжания. Не имеющему же ничего, кроме тела, повелевает Апостол телесным трудом страсть оную врачевать. Повеление это читается так: «крадущий ктому да не крадет, но лучше да трудится, делая благое, чтобы имел средства давать требующему» (Еф. 4:28).
7. И самое гробокопательство разделяется на простительное и непростительное. Ибо если кто, щадя честь мертвых и не касаясь сокрытого во гробе тела, да не явится пред солнцем неблагообразие естества, некоторые камни, на гробе положенные, употребит на какое–либо построение, то это, хотя и не похвально, впрочем, по обыкновению сделалось простительным, когда оное вещество будет обращено на нечто лучшее и общеполезнейшее. А истязывать прах тела, разрешившегося в землю, и потревожить кости в надежде приобрести некое украшение, закопанное с умершим, это подлежит такому же суду, как и простой блуд, с соблюдением различия, показанного в предыдущем слове, то есть: да усматривает предстоятель целение врачуемого из самого жития его так, что может сократить продолжение епитимий, определенное правилами.
8. Святотатство в Ветхозаветном Писании признано достойным не меньшего осуждения, как убийство. Ибо и обличенный в убийстве, и похитивший посвященное Богу равно подлежали побиению камнями (Иис. Нав. гл. 7). В церковном же обыкновении, не ведаю как, последовало некоторое снисхождение и послабление, и очищение недуга сего принято более легкое. Ибо преданием отеческим определена таковым епитимия на меньшее время, нежели за прелюбодеяние. Во всяком же роде преступления, прежде всего смотреть должно, каково расположение врачуемого, и ко уврачеванию достаточным почитать не время (ибо какое исцеление может быть от времени?), но произволение того, который врачует себя покаянием. Это тебе, человече Божий, со многим тщанием собрав из того, что имеем в руках, со тщанием посылаем, поскольку должно послушным быть повелениям братии. Ты же не переставай приносить Богу обычные о нас молитвы, ибо ты должен, как благомыслящий сын, по Бозе родившего тебя питать в старости твоими молитвами, по заповеди, повелевающей чтить родителей, «да благо ти будет, и долголетен будеши на земли» (Исх. 20:12). Верно же то, что приимешь писание это, как знамение священное, и не презришь дара, хотя бы он был и ниже твоего высокого духа.
Точное истолкование Екклесиаста Соломонова
Беседа 1
Глаголы Екклесиаста сына Давидова, царя Израилева во Иерусалиме. Суета суетствий, всяческая суета, рече Екклесиаст. Кое изобилие человеку во всем труде его, имже трудится под солнцем! Род преходит, и род приходит, а земля во веки стоит. И восходит солнце, и заходит солнце, и в место свое влечется: сие возсиявая тамо, идет к югу, и обходит к северу: окрест идет дух, и на круги своя обращается дух. Вси потоцы идут в море, и море несть насыщаемо; на место, аможе потоцы идут, тамо тии возвращаются ити. Вся словеса трудна, не возможет муж глаголати: и не насытится око зрети, ни исполнится ухо слышания. Что; было, тожде есть, еже будет: и что было сотвореное, тожде имать сотворитися: и ничтоже ново под солнцем, иже возглаголет и речет: се сие ново есть, уже бысть в вецех бывших прежде нас. Несть память первых, и последним бывшим не будет их память с будущими напоследок (Еккл. 1:1–11).
На истолкование нам предлагается Екклесиаст, трудность воззрения на который равняется великости доставляемой им пользы. Ибо после того, как ум обучен уже приточным мыслям, в которых, по сказанному в предисловии к книге Притчей, есть и темные слова и премудрые речения, и гадания и различные обороты речи (Прит. 1:6), — только пришедшим уже в возраст, способный к слушанию совершеннейших уроков, возможно восхождение и до сего столько возвышенного и богодухновенного писания. Посему, если притча и упражнение, приуготовляющее нас к сим урокам, суть нечто столько трудное и неудобообозримое; то сколько надобно труда, чтобы самим вникнуть в сии возвышенные мысли, предлагаемые нам теперь для обозрения? Ибо как трудившиеся в телесных упражнениях в училище готовятся к пролитию бо;льшего пота и к понесению бо;льших трудов в действительных борьбах; так и приточное учение кажется мне некиим упражнением, обучающим души наши и делающим их гибкими в церковных подвигах. Посему, если сие предварительное упражнение бывает успешно при пролитии пота и при многих трудах; что; надлежит заключить о самых подвигах? Конечно, в какой бы чрезвычайно великой мере ни представлял их кто себе мысленно, он не изобразит словом, как следовало бы, тех трудов, какие на поприще, представляемом сим писанием, указуются старающимся о безопасности с подвижническою опытностью в духовном, чтобы слово не оказалось погрешительным, но, при всяком борении мысли, ум пребывал неуклонно стоящим в истине. Впрочем, поскольку и на это есть Владычняя заповедь, и до;лжно нам испытывать Писания (Иоан. 5:39), то хотя бы ум наш, не постигая величия мыслей, оказался отстающим от истины, чтобы не показаться также презрителями Господней заповеди, совершенно необходимо, по мере сил, преуспевать в рачении о слове. Поэтому, сколько можем, испытаем и предлагаемое писание. Ибо Давший заповедь испытывать, без сомнения, даст для этого и силу, как написано: Господь даст глагол благовествующим силою многою (Псал. 67:12).
И во первых воззрению нашему да будет предлежать надписание сей книги. Во всей Церкви читаются Моисей и закон, пророки, псалмопение, вся история, и если что; заключается в Ветхом и Новом Завете, все то провозвещается в церквах. Итак, почему же эта одна книга по преимуществу украшается надписанием Екклесиаста? Что; же предположить нам об этом? Не то ли, что во всех других писаниях, исторических и пророческих, цель их клонится и к чему либо другому, не вовсе полезному для Церкви. Ибо какая нужда для Церкви в точности изучать бедственные последствия войн, или кто были князьями у народов, основателями городов, кто от кого выселился, или какие царства впоследствии времени исчезнут, сколько таких браков и чадорождений, о которых тщательно упомянуто, и всему сему подобное, о чем только можно почерпнуть сведение в каждом писании, может ли столько содействовать Церкви в деле благочестия? А учение сей книги имеет в виду такой только образ жизни, какого требует Церковь, и преподает то, чем можно человеку преуспеть в добродетельной жизни. Ибо цель сказуемого здесь, поставить ум выше чувства, оставив наконец все, что; в существах есть кажущегося великим и блистательным, обратиться душею к тому, что недоступно чувственному пониманию, восприять, вожделение того, что недостижимо для чувства.
А, может быть, надписание имеет в виду и Вождя Церкви. Ибо истинный Екклесиаст, собирающий рассеянное в единую полноту и блуждающих многократно по разным обманчивым путям воцерковляющий в единый сонм, — кто иный, как не истинный Царь Израилев, Сын Божий, которому Нафанаил сказал: Ты еси Сын Божий, Ты еси царь Израилев (Иоан. 1:49)? Посему, если глаголы сии Царя Израилева, а Он же самый, как говорит Евангелие, и Сын Божий; то Он же именуется и Екклесиастом. Да и не без основания, может быть, значение надписания возводим до сего смысла, но чтобы дознать чрез это, что сила и сих глаголов возводится к Тому, Кто на Евангелии утвердил Церковь. Ибо сказано: глаголы Екклесиаста, сына Давидова (Еккл. 1:1). А так и Его именует Матфей в начале Евангелия, называя Господа сыном Давидовым.
Суета суетствий рече Екклесиаст: всяческая суета (Еккл. 1:2). Под словом: «суетное» разумеется, что; неосуществимо, имеет бытие в одном словесном произношении, вместе же с означением имени не появляется состоявшаяся вещь, но бывает какой–то праздный, ничего не содержащий в себе звук, в виде какого либо речения, случайно произносимый по слогам, без значения поражающий слух, как например иные в шутку сочиняют имена, для которых нет и означаемого. Это один вид суеты. Суетою же другого вида называется бесполезность того, что делается с какимъ–то тщанием без всякой цели; таковы например детские здания на песке, метание стрел в звезды, старание уловить ветер, состязания в скорости бега с своею тенью, когда кто усиливается наступить на вершину своей тени. И если что иное сему подобное находим в делаемом нами напрасно, все это означается словом: суета. Но в обычае называть нередко суетным и следующее: когда кто, имея в виду какую либо цель, и рачительно, как чемъ–то полезным занимаясь, предлежащим делом, все приводит в действие, а потом, при встрече чего либо противного, труд его оказывается бесполезным, тогда это самое, что рачительность осталась без всякого успеха, означается словом: суетное. Ибо о подобном сему в обычае говорить: «напрасно я трудился, напрасно надеялся, напрасно прилагал много усилий». И чтобы не перечислять в подробности всех случаев, в которых употребляется слово: суета в собственном его смысле, в немногих словах определим понятие сего речения: суета есть, или неимеющее мысли слово, или бесполезная вещь, или неосуществимый замысл, или неведущее к концу тщание, или вообще что либо не служащее ни к чему полезному.
Но если уразумели мы понятие суетного, то должно будет исследовать, что; значит: суета суетствий. И, может быть, удобнее будет для нас уразуметь искомое, если исследуем обычай Писания выражаться о представляемом в превосходной степени. Занятие чем либо необходимым и полезным именуется в Писании «деломъ», занятие же чем либо высшим, всем тем, что; относится к богослужению, как видно из истории, называется делом дел (Числ. 4:47); и выражением сим: «дело делъ», как думаю, показывается, какое занятие относительно к нам в некоторой мере предпочтительнее других. Ибо какое отношение рачительности в делах к праздности вообще, такое же отношение и деятельности в занятиях высших и предпочтительнейших к прочим делам. Так об ином говорится в Писании: «святое», а об ином опять: «святое святыхъ», потому что в равной мере, как святое по святыне выше не святого, так и святое святых представляется преизобилующим во святыне пред самым святым. Посему, что; узнали мы о сем обычае писания — в отношении к лучшему таким образом означать усиление рассматриваемого понятия, разумея тоже и о выражении: суета суетствий, не погрешим нимало. Писание сказует, что видимое в существах не просто суетно, но что ему в какомъ–то преизбытке принадлежит значение суеты; как еслибы сказал кто: «это мертвее мертвого, бездушнее бездушнаго». Хотя сие сравнительное усиление в подобных понятиях и не имеет места, однакоже выражается оно сим речением в уяснение превосходства означаемого. Посему, как есть дело дел и умопредставляемо святое святых, и сим выражается указание на превосходство в совершенстве; так и выражение: суета суетствий показывает крайнюю степень преизбытка суеты.
И никто да не подумает, будтобы сказанное служит осуждением твари. Ибо обвинение пало бы на Сотворшего все, если бы и все было суетою, и создателем сего оказался у нас Тот, Кто все привел в бытие из ничего. Но поскольку состав человека двоякий, с телом соединяется душа; то и образ жизни делится соответственно каждой из усматриваемых в нас частей. Иная жизнь души и иная тела; одна смертна и временна, другая бесстрастна и негиблюща; и первая имеет в виду одно только настоящее, цель же последней простирается в непреходящее. Посему, так как велика разность между смертным и бессмертным, между временным и вечным; то слово Екклесиаста ведет к тому, что должно иметь в виду не эту чувственную жизнь, которая, в сравнении с жизнию истинною, есть какая–то недействительная и не состоятельная.
Но тем не менее иный скажет, что и это рассуждение не освобождает от обвинения Создателя, потому что от Него и душа и тело. Если осуждается жизнь по причине плоти, а Творец плоти — Бог; то к Нему необходимо будег относиться таковая укоризна. Но сие скажет конечно тот, кто еще не вне плоти, и не вник до точности в жизнь высшую. Ибо обученный Божественным тайнам, без сомнения, не не знает, что людям свойственна и естественна жизнь, уподобляющаяся Божественному естеству, а жизнь чувственная, провождаемая в деятельности чувствилищ, дана естеству для того, чтобы знание видимого сделалось для души путеводителем к познанию невидимого, как говорит Премудрость: от величества красоты созданий сравнителъно Рододелатель всего познавается (Прем. 13:5). Но человеческое недоразумие воззрело не на то, что; достойно удивления, по причине видимого, но тому и удивилось, что; видело. Посему, так как деятельность чувствилищ временна и скорогиблюща, из сей высокой речи дознаем то, что имеющий в виду сие ничего в виду не имеет; но кто, путеводимый сим к уразумению сущего, при помощи преходящего уразумел естество постоянное, постиг то, что; всегда одинаково, тот узрел действительно сущее благо, и что; узрел, тем овладел, потому что зрение сего блага есть обладание. Ибо Екклесиаст говорит: кое изобилие человеку во всем труде его, имъже трудится под солнцем? (Еккл. 1:3) Жизнь в теле назвал трудом, домогающимся прибыли без всякого успеха. Ибо говорит: кое изобилие человеку? то есть, что; приобретается душе в житейском труде живущими только для видимого? В чем состоит самая жизнь? Какое из видимых благ пребывает всегда тем же? Солнце совершает течение свое, попеременно производя то свет, то тму, освещая над нами воздух, когда показывается над землею, и навлекая тму своим захождением, Земля же стоит (Еккл. 1:4), и в стоянии своем пребывает неподвижною, и что; стало, то не приходит в движение, и что; пришло в движение, то не останавливается. Оказывается, что все во все продолжение времени само собою ни в чем не изменяется превращением во что; либо новое. Море служит приемником отвсюду стекающихся вод, и приток их не прекращается, и море не увеличивается. Какая цель течения вод, наполняющих всегда наполняемое? Для чего море принимает в себя притоки вод, оставаясь навсегда не увеличивающимся от сего приращения? Екклесиаст говорит это, чтобы предварительно из самых стихий, в которых заключена жизнь человеческая, объяснить несостоятельность того, о чем заботимся. Ибо, если это установленное течение солнца не имеет предела, это попеременное преемство света и тмы не допускает остановки, а земля, осужденная стоять, в стоянии своем пребывает неподвижною, без пользы же трудятся реки, истощая себя в ненаполнимое естество моря, а море напрасно принимает в себя притоки вод, нисколько не прибывая от принятия непрестанно вливаемого в его недра, — если это примечаем в сих стихиях; то в каком положении следует быть человечеству, которого жизнь заключена в тех же стихиях, и что; удивительного, если род преходит, и род приходит (Еккл. 1:4), и это течение не оставляет естества, между тем как привходящий род людей гонит предшествовавший ему, и сам изгоняется вновь привходящим?
Посему, что; же слово сие возглашает этим Церкви? Следующее: «обозревая вселенную, человеки, уразумейте свое собственное естество». Что; видишь на небе и на земле, что; усматриваешь в солнце, что; примечаешь в море, то да объяснит тебе и твое естество. Ибо и у нашего естества, по подобию с солнцем, есть восток и запад. Один путь всем, один круг жизненного течения. Едва появимся на свет рождением, как снова увлекаемся в сродную нам страну. Ибо с захождением нашей жизни и наше светение бывает подземным, когда чувство наше делается способным к восприятию света: а земля, без сомнения, разрешается в сродное ей. И этот круг непрестанно вращается одинаково. Как совершается течение солнца, говорит Екклесиаст, солнце, восходя над верхнею частью земли, проходит южными странами, а под землею идет противоположною северною частью; и, таким образом всегда круговращаясь, обходит свой путь, и снова идет, возвращаясь на оный (ибо сказано: обходит окрест): так поэтому и твой идет дух (продолжает Екклесиаст, под частным именем разумея всякий человеческий духъ), круговое сие шествие совершая одинаковым образом. Ибо сказано: идет, и на круги своя обращается дух (Еккл. 1:6).
А кто уразумел это, тот немало пользы приобретет для своей жизни. Что; блистательнее света? Что явственнее лучей? Однакоже, если солнце идет под землею, светение скрывается, и лучь исчезает. Смотря на это, человек целомудреннее да проходит жизнь свою, презирая здешнюю знатность, дознав из видимого, что знаменитое не остается таким всегда. Но изменчивы преемства противоположностей, ничто не остается таким, каково оно в настоящее время, ни молодость, ни красота, ни блеск властительства. И это идет к живущим в какомъ–то благополучии. А для кого добродетельная жизнь кажется трудною, душа тех терпеливо переносить бедствия да обучается примером земли. Земля во век стоит. Что труднее сего неподвижного стояния? Однакоже стояние сие простирается до века. А для тебя время подвига коротко. Не будь бездушнее земли. Не будь несмысленнее безчувственного ты, снабженный рассудком и управляемый в жизни разумом; но пребывай, как говорит Апостол, в нихже научен еси, и яже вверена суть тебе (2 Тим. 3:14), стоя твердо и непоступно, потому что в числе божественных заповедей и следующее: тверди бывайте и не поступни (1 Кор. 15:58). Да пребывают в тебе целомудрие непоколебимо, вера тверда, любовь непоступна, стояние во всем прекрасном неподвижно, как и земля в тебе во век стоит. Еслиже кто предан любостяжательности, и подобно какому–то морю, разверзши безмерную похоть, не насыщается отвсюду стекающимися прибытками; то, смотря на действительное море, да врачует он болезнь свою. Ибо, как море при тьмочисленных притоках вод не преступает своей меры, но пребывает в одинаковой полноте, как бы не было в нем никакого прибавления вод; таким же образом человеческое естество, ограниченное особыми мерами в наслаждении тем, что; есть, не может способностй к наслаждению с жадностью разширять, смотря по множеству доходов; но как и приток богатства прекращается, так и сила наслаждения сохраняется в своих пределах. Поэтому, если наслаждение не может превзойдти меру естества; то для чего привлекаем к себе притоки доходов, а не источаем их никогда на благотворение другим даже сверх приходящего?
А поскольку, по данному нами понятию о суете, бесполезное ли слово, бесполезное ли дело есть суета; то прекрасно начинается с сего речь; чтобы мы, делается ли, говорится ли что; нами, если кто имеет при сем в виду здешнюю цель, не почитали сего чем либо состоятельным; потому что всякая человеческая рачительность, занятая чем либо житейским в подлинном смысле есть игра детей на песке, наслаждение которых сделанным прекращается вместе с тщанием это сделать. Как же скоро труд прекратился, песок рассыпался в тоже положение, в каком он был прежде, с сим вместе не остается и следа приложенных трудов. Таковаже человеческая жизнь, честолюбие — песок, властолюбие — песок, богатство — песок, песок и все то, чем со тщанием наслаждаются при посредстве плоти; осуетившияся ныне этим младенчествующия души, которые много несут трудов за каждую вещь, доставляющую такое удовольствие, но как скоро оставят эту песчаную область, разумею плотскую жизнь, познают тогда суетность здешняго препровождения жизни. Ибо с вещественною жизнию продолжается и наслаждение; с собою же ничего они не уносят, кроме одной совести.
И великий Екклесиаст, кажется мне, как ставший уже вне этого и совлекшеюся душею вступающий в невещественную жизнь, изрек то, что; вероятно скажем со временем и мы, когда будем вне этой приморской области, которая полна песков, выбрасываемых житейским морем, и удалимся от всех шумящих и оглушающих нас волн. Тогда, из мысленного моря принеся одну память о том, чего там домогались, скажем: суета суетствий, всяческая суета, и нет изобилия человеку в том, над чем трудится под солнцем. Так, по моему рассуждению, это будет слово всякой души, когда, совлекшись здешняго, преселится в уповаемую жизнь. Ибо, если в настоящей жизни преуспела в чем либо более возвышенном, то осудит то, чем была занята, по сравнению с найденным унижая прошедшее. Еслиже, до пристрастия будучи привержена к веществу, увидит неожиданное, и опытом дознает, бесполезность для нея того, о чем старалась в жизни; с плачем тогда произнесет сии слова, которыми мы люди выражаем свое раскаяние, со слезами описывая свое безрассудство: суета суетствий, и прочая.
Вся словеса, говорит Екклесиаст, трудна, и не возможет муж глаголати (Еккл. 1:8). Из всего подручного нам всего более удобным признается это — говорить. Ибо какой труд сказать, что; кому угодно? Язык гибок и поворотлив, без труда прилаживается, к какому хочешь, роду речений; беспрепятственно также переведение выдыхаемого воздуха, при помощи которого производит он звуки, неболезненны прислуживание щек и вместе содействие губ для произнесения того, что; говорится. Итак, какой же труд усматривает в слове Екклесиаст? Ибо, не землю копая, не камни ворочая, не тяжести нося на плечах, не что;-либо другое трудное делая, выговариваем слово. Но в нас состоявшаяся мысль, будучи обнаружена посредством голоса, делается словом. Поскольку же такое слово не представляет труда; то должно подумать, какие это — словеса трудна, которых не возможет муж глаголати? — Пресвитеры, сказано, сугубые чести да сподобляются, паче же труждающиися в слове (1 Тим. 5:17). Пресвитером, по обычаю, называется, [тотъ] кто вышел из неупорядоченного возраста, и находится в престарелом состоянии; так что, если кто непостоянен помыслом и жизнь ведет не в порядке, то таковый, хотя бы показывались у него и седины, не пресвитер, но еще муж. Посему словеса, словеса в подлинном смысле душе полезные, служащия ко благу людей, суть словеса, требующия пота и трудов, и они, чтобы стать словесами, приводят ко многим усилиям. Ибо труждающему делателю прежде подобает от плода вкусити (2 Тим. 2:6), говорит художник таковых словес, так что под словом разуметь должно не речение, но добродетель, предлагаемую видящим в делах, чтобы вместо слова соделались они для поучаемых уроком жизни. Посему трудны все таковые словеса тех наставников добродетели, которые сперва сами преуспевают в том, чему учат. Ибо это значит сказанное: прежде подобает вкусить от плодов, какие предварительно пред другими в себе самих возделываем добродетелию.
Или, может быть, слово сие объясняет и немощь разумной природы. Ибо когда бываем вне чувствилищ, которые названы суетою, и мысль, вторгшись какъ–то в созерцание невидимого, покусится мыслимое представить словом; тогда великий бывает труд для слова, потому что истолковательная эта речь не находит никакого средства к уяснению неизглаголанного. Смотрим на небо, приемлем в себя чувством лучи светил, ходим по земле, втягиваем в себя устами воздух, по видимому, пользуемся для естества водою, и огонь принимаем в общение жизни; но, если пожелаем размыслить о сем несколько, что; такое каждая из видимых вещей в отношении к сущности, откуда, или как составилась; то не возможет муж глаголати, хотя бы он был и выше других; потому что всякое постижимое познание не в силах выразить непостижимое. Если же слово об этом составляет труд, превосходящий человеческую способность говорить и естество человеческое; то какой труд, скажет иный, принудят потерпеть словеса о самом Слове, или об Отце Слова, где всякое высокоглаголание и велегласие есть какая–то неясность и молчание, если сравнить с истинным значением искомого; почему о Нем в собственном смысле можно сказать то только одно, что, если кто приведет в движение все помыслы, и не будет у него недостатка ни в одном из боголепных представлений, но если сравнит речь свою с самым достоинством предмета, то и тогда, что; ни сказал бы он, это еще не слово, потому что не возможет человек глаголати.
Зрение не останавливается на том обзоре видимого, какой доставляют душе глаза; напротив того, смотря непрестанно, как бы вовсе не видевшие, остаемся еще в неведении о том, что; принимаем чувством. Зрение не можеть проникнуть далее цвета; но мерою своей деятельности имеет то, что; представляется ему на поверхности вещей. Посему, говорит Екклесиаст, не насытится око зрети, ни исполнится ухо слышания (Еккл. 1:8). Способность слуха, принимая в себя слово о каждой вещи, не может наполниться в естестве своем; потому что не найдется такого слова, которое бы в точности обнимало собою искомое. Посему как слуху исполниться слышания об искомом, когда нет наполняющего?
Потом после сих слов Екклесиаст сам себя спрашивает, и сам себе отвечает. Ибо спросив: что было? говорит: тожде есть, еже будет, и еще спросив: что было сотвореное? отвечает: тожде имат сотворитися (Еккл. 1:9). Итак к чему же этот вопрос? В следствие того, что; дознано нами, возражаем и говорим ему: «если все это суета, то, очевидно, из того, что; не состоялось, ничего и не было; а суетное, без сомнения, несостоятельно, и несостоятельного никто не почтет бывшимъ». Еслиже это не так; то скажи: что; есть бывшее, или что; остается в бытии? Посему, краткий у него ответ на этот вопрос. Угодно тебе знать, что; такое бывшее? размысли, что; такое будущее, и узнаешь, что было. А это значит: размысли, прошу тебя, человек, каким сделаешься, возвысив себя добродетелию, если во всем добрыми чертами отличишь душу, если соделаешься чистым от пятен порока, если смоешь с естества своего всю нечистоту вещественных скверн; чем будешь в таковых украшениях, какой примешь на себя образ? Если вникнешь в это рассудком; то изучил ты бывшее первоначально по образу и подобию Божию. Спрашиваю при этом учащего: где теперь то, что некогда было, и о чем есть надежда, иметь это в последствии, но чего теперь неть? Без сомнения, преподающий нам высокие уроки, ответит тем же словом; потому–то настоящее и названо суетою, что оного нет в настоящем.
И что; было сотвореное, говорит Екклесиасть, тожде имат сотворитися. Никто из слушающих да не признаеть многословия и какого–то напрасного повторения слов в различении того, что; было и что; сотворено. Ибо слово каждым из сих речений показывает различие души от плоти. Душа была, а тело сотворено. Не потому, что сила сих речений выражает что; либо не одно и тоже, но чтобы дать возможность заключать о каждом из означаемых, что; следует, слово употребило сие различие речений о душе и теле. Душа первоначально была тем, чем снова окажется в последствии по очищении, и тело, созданное Божиими руками, сотворено тем, чем в надлежащия времена покажет его воскресение. Ибо каким всегда будешь видеть его по воскресении, таким, конечно, сотворено и первоначально; потому что воскресение есть не иное что, как, без сомнения, возстановление в первобытное состояние.
Почему Екклесиаст прибавляет к этому и следующее, сказуя, что кроме первобытного нет ничего. Ибо говорит: ничтоже ново под солнцем. А сим как бы сказал он: если что; не по первобытному, то вовсе этого нет, а только почитается имеющим бытие. Ибо ничтоже, говорит Екклесиаст, ново под солнцем, так что мог бы кто сказать и указать на что; либо совершающееся: «это ново, и действительно состоялось». Таков смысл сказанного, читается же сие так: и ничтоже ново под солнцем, иже возглаголет, и речет: се сие ново есть. И защищает сказанное в последующем, говоря: если что; действительно произошло, оно тоже, что; было в предшестовавшие нам века. Сию мысль показывают самые речения Писания, читаемые так: уже бысть в вецех бывших прежде нас (Еккл. 1:9).
Если же овладело нами забвение того, что; было; то не дивись сему. Ибо и то, что; ныне, предается забвению. Когда естество уклонилось в порок; тогда забыли мы доброе. Но когда настанет для нас возвращение к доброму; тогда снова покроется забвением худое. Ибо сей, думаю, смысл заключается в сказанном, когда Екклесиаст говорит: несть память первых, и последним бывшим не будет память (Еккл. 1:11). Он как бы так сказал: память о том, что; было по первоначальном благоденствии, и от чего человечество стало погруженным в зло, изгладит то, что по прошествии долгого времени произойдет на последок. Ибо не будет памяти о сем по совершившемся напоследок; то есть, всецелое уничтожение памятования зол соделано для естества последним возстановлением о Христе Иисусе. Ему слава и держава, во веки веков! аминь.
Беседа 2
Аз, сказано, Екклесиаст (Еккл. 1:12). А мы дознали, кто этот Екклесиаст, который заблудшее и рассеянное собирает во едино, все делает единым стадом, чтобы ничто не оставалось не внемлющим прекрасному все оживотворяющему гласу Пастыря; потому что говорит: глаголы, яже Аз глаголю дух суть и живот сут (Иоан. 6:63). Онъ–то именует себя Екклесиастом, как врача, и жизнь, и воскресение, и свет, и путь, и дверь, и истину, и как нарицающегося всеми именами человеколюбия. Посему, как голос врача, приветлив к больныи, как слово жизни, делается действенным на мертвых, которые, как скоро слышат глас Сына человеческого, не остаются уже в давней мертвенности, но, и пребывая во гробах, взыскуют гласа воскресения, как слово света, применяется к тем, которые во тме, как путь, гладок для блуждающих, как дверь, готов для имеющих нужду войдти; так Екклесиаст, конечно, беседует с составляющими Церковь. Поэтому к нам глаголет Екклесиаст; и слова его слушать будем мы — Церковь. Ибо как обращают взоры лик — на уставщика, пловцы — на кормчего, и военный строй — на военачальника; так и составляющие полноту Церкви — на Правителя Церкви.
Посему, что; же говорит Екклесиаст? Аз бых царь над Израилем во Иерусалиме (Еккл. 1:12). Когда же это? Не тогда ли, без сомнения, как поставлен царь от Него над Сионом горою святою Его. Возвещаяй повеление, Господне (Псал. 2:6–7). Кому рече Господь: Сын Мой еси Ты, и Аз днесь родих Тя (Евр. 1:5)? Ибо рече, что Творца вселенной и Отца веков родил днесь, чтобы слово, сим приложением означающего время речения ко времени рождения, представило не предвечное существование, но плотское для спасения человеков рождение во времени. Сие–то, думаю, изображает истинный Екклесиаст, научая великой благочестия тайне, ради которой Бог явился во плоти. Ибо говорит Екклесиаст:
Вдах сердце мое, еже взыскати и рассмотрити в мудрости о всех бывающих под небесем (Еккл. 1:13). Воть причина, по которой Господь пришел к людям во плоти, — вдать сердце Свое, еже рассмотрити в мудрости Своей о бывающих под небесем. Ибо что; выше небес, то, как неодержимое болезнию, не имело нужды в назирающем и во врачующем. Посему, так как зло на земле (пресмыкающийся и наглый зверь — змий, влачась на персях и на чреве, в пищу себе обращает землю, не питаясь ничем небесным, но влачась по тому, что; попирается, попираемое имеет всегда в виду, блюдя пяту человеческого шествия, и вливая яд в утративших власть наступати на змиев (Лук. 10:19)); то вдал посему сердце Свое взыскати и рассмотрити о всех бывающих под небесем. Ибо в том, что; превыше небес, Пророк не уничиженным видит Божественное великолепие, говоря: взятся великолепие Твое превыше небес (Псал. 8:2); потому что грехом уничижена была и небесная область. Так псалмопевец говорит: грехов своих ради смиришася (Псал. 105:43). Сие–то пришел рассмотреть Екклесиаст, а именно, что; под небом произошло такого, чего небыло прежде: как привзошла суета, почему стало преобладать неосуществившееся, какое владычество у того, чего неть? Ибо зло не самостоятельно; потому что не от сущего имеет свою особность. А что; не от сущего, то, конечно, не существует особым естеством; и однакоже уподобившимся суете преобладает суета. Поэтому пришел изыскать Своею премудростью, что произошло под солнцем? Что за смешение в том, что; делается здесь? Как сущее поработилось не сущему? Почему неосуществившееся владычествует над сущим? и увидел:
Яко попечение лукаво даде Бог сыном человеческим, еже упражднятися в нем (Еккл. 1:13). О сем же неблагочестиво думать так, как понял бы иный с первого взгляда, а именно: будто бы Сам Бог дал людям лукавое попечение. В таком случае к Нему относилась бы причина зол. Ибо Кто благ по естеству, Тот непременно готов бывает снабжать благами. Почему всяко древо доброе плоды добрые творит (Матф. 7:17); не на тернии зараждается грозд, и не на виноградной лозе — терние. По природе доброе из сокровищ своих недает ничего лукавого. И добрый человек от избытка сердца не глаголет худого, но произносит сообразное своей природе. Тем паче Источник благ изольет ли из естества Своего что либо лукавое? Напротив того более благочестивый смысл требует разуметь сие так, что Божие даяние благо. Это же есть свободное движение, которое при погрешительном употреблении людьми соделалось орудием греха. Ибо что; свободно и не порабощено, то добро по естеству; а что; сопряжено с необходимостью, того никто не причислит к благам. Напротив того самое свободное стремление мысли, без руководства уклонившееся к избранию худого, сделалось искушением для души, от высокого и досточестного увлекшейся к страстным движениям естества. Сие–то изначит слово: даде, имеющее не тот смысл, что Бог в жизнь человеческую вложил зло, но тот, что человек данные Богом блага по безрассудству употребил в услужение злу. А Святому Писанию обычно подобные сим мысли изражать такими речениями. Например: предаде их Бог в страсти безчестия (Рим. 1:26); и: предаде их в неискусен ум (Рим. 1:28); и: ожесточи сердце Фараоново (Исх. 9:19); и: что уклонил еси нас Господи от пути Твоего, ожесточив сердца наша, еже не боятися Тебе (Ис. 63:17); и: заблуждати сотвори я по непроходней, а не по пути (Псал. 106:40); и: прелстил мя еси, и прелстихся (Иер. 20:7). Таковы и все однообразные с сими изречения, точный смысл которых не то подтверждаеть, будто бы в естестве человеческом происходит что либо человеческое от Бога, а напротив того обвиняет свободу, которая есть благо, и Богом данный естеству дар, но соделалась злом от наклонности к противоположному.
Посему Екклесиаст видел всяческая сотворенная в сей жизни под солнцем, а именно, что все было суетство (Еккл. 1:14), потому что не было разумевающего, не было взыскующего Бога, когда вси уклонишася, вкупе неключими быша (Псал. 13:23). Потому, сказав: и се вся суетство, присовокупил причину, а именно, что не Бог виновник этого, а произволение человеческого вожделения, которое назвал он духом. Обвиняет же этот дух не потому, что таков был он изначала (не поддежал бы он и осуждению, если бы таким был созданъ); но потому что, развратившись, пришел в разлад с устройством целого. Ибо говорит:
Развращенное не может исправитися (Еккл. 1:15), то есть, да не будет того, чтобы благоустроенной Богом твари свойственно было превратное. Как художник, обделывающий себе что либо по замышленному чертежу, по линейке и снуру обработывает части, которые при своем художественном отношении одной к другой составляют из себя целое произведение сосуда, и если какая из частей не обработана еще по снуру, то сего безобразия не допустит, конечно, правильный склад целого, а надобно будет и эту часть, чтобы приладить ее к прямой черте, подвести под снур и выпрямить: так и Екклесиаст говоригь, что естество развращенное пороком не может находиться в твари, в которой соотношение частей устроено правильно.
И лишение, говорит он, не может исчислитися (Еккл. 1:15). Обычное писанию словоупотребление учит под лишением разуметь недостаток. И в этом можно увериться из многих мест. Ибо во всем и во всех навыкший Павел умел лишатися и избыточествовати (Флп. 4:12). И по распутству расточивший отцовское имущество, когда одолевал голод, начат лишатися (Лук. 15:4). И о святых рассуждая, Павел перечисляет и иные злострадания их телом, присовокупляет же и сие, что были лишени и скорбяще (Евр. 11:37). Посему и здесь Писание, сказав: лишение, речением сим указало на недостаток. А недостающее не можеть быть причисляемо к тому, что; есть. Ибо и учеников, пока все они были в своей полноте, числом было двенадцать; когда же погиб сын погибели: число стало не полно, потому что недостающее не сопричислялось к тому, что; оставалось. После Иуды число учеников и было и именовалось единонадесять. Посему Екклесиаст говорит: лишение не может исчислитися. Что; означает это в слове? То, что некогда и мы сопричислялись к целому; потому что и мы принадлежали к священной сотне словесных овец. Но поскольку от нагорной пажити уклонилась одна овца, — наше естество, увлекшись пороком в эту соленую и сухую страну; то уже не тоже упоминается число в стаде незаблудшихся, но именуется оно числом: девяносто девять. Ибо суетное делается чемъ–то вне числа действительно состоящих вещей. Почему лишение не может исчислитися. Посему–то прииде взыскати и спасти погибшего (Лук. 15:10), и восприяв на рамена возстановить в число сущих, что; погибало в суете несуществующего, чтобы действительно число твари Божией, когда погибшее будет спасено с непогибшими, сделалось снова полным.
Итак какое возвращение заблуждшегося, и какой способ отрешения от зол для общения во благе, научимся сему в последующеи. Ибо Искушеный по всяческим по подобию, разве греха (Евр. 4:15) беседует с нами от нашего же, Восприявший на Себя наши немощи самыми немощами естества указует путь вне порока. Представь себе теперь, что беседует премудрость Того, Кто от самого по плоти Соломона, беседует же о том, что; наипаче путеводит нас к презрению вожделенного для людей. Ибо не по подобию многих, у которых не во власти вожделеваемое, и Им изрекается слово, так что поэтому не имеет Он достоверности, обвиняя в том, чего не изведал на опыте. Ибо мы все дознаем не своим опытом, но по одним умозаключениям знаем то, услаждение приятностью чего на опыте возбраняеть нам бедность. Если кому предлагается нами совет, что не должно ему во что либо ставить ценимое людьми; то у слушающего это готово замечание: «потому не ценишь ты этого, что сам не дознал сего опытом на себе». Но в рассуждении Беседующего с нами об этом действительно уничтожается всякое подобное возражение; потому что говорит сие Соломон. А Соломон этот — третий из царей Израильских, после оного Саула и избранного Господом Давида. Он, приняв начальство от отца, и достигнув уже величия Израильтян, провозглашается царем царства; не войною и битвами покоряя себе подданных, но со всею властью живя в мире, поставлял для себя делом не приобретение того, чего у него не было, но наслаждение тем, что; было; так что ему ни в чем из желаемого никакого небыло препятствия. Ибо изобилие простиралось до той же меры, как и пожелание, и свободный был досуг для наслаждения; так как ничто неприятное не пресекало препровождения времени с тем, что; было вожделенно. Но, будучи мудр в ином и имея достаточное разумение, что бы найдти что либо для удовольствия, говорил он, что сам примыслил и то и другое из вожделеваемого для наслаждения, и сделав все, что; в последствии исчислил в слове, утверждал, что самым опытом дознал один конец всех попечений при этом, именно: суетство. Рассказу же своему об этом придал такой порядок, что сперва, в первые времена жизни, употреблял время на обучение, и не ослаблял усилия в этих трудах; воспользовался же произволением духа, то есть естественным стремлением к приращению ведения, хотя и с трудами преуспевал в желаемом. Так возрастя мудростью, не разумом только приник на это страстное и неразумное обольщение людей телесными наслаждениями, но самым опытом дознал суетность каждого из вожделений. Вот цель исследований. Но время в последующем предложить по порядку написанного и самое обозрение читаемого.
Глаголах аз в сердце своем, еже рещи: се аз возвеличихся (Еккл. 1:16); потому что увидел я внезапно совокупившимися на мне и величие владычества и пышность царства. Но прежде этого запасся приобретением во всем мудрости, которую невозможно и приобрести иначе, как с трудами и пролитием пота. Посему сказав: глаголах аз в сердце своем, еже рещи: се аз возвеличихся, присовокупил и сие: умножих мудрость; потому что пышность владычества, которая пришла ко мне сама собою, увеличил я присовокуплением мудрости, сказав сам в себе, что в этом наипаче надлежит оказаться мне имеющим верх пред царями, прежде меня бывшими, и иметь больше их мудрости. Ибо говорит: умножих мудрость паче всех, иже быша прежде мене во Иерусалиме (Еккл. 1:16). И размыслил, как возможно достичь сего. Ибо кому не известно, что мудрость состоит в ведении того, над чем прежде потрудились другие трудолюбцы.
Почему говорит: сердце мое видя многая, премудрость и разум, так как не само собою, не без усилия дано ведение о подобном сему; но потому что, говорит Екклесиаст, сердце мое вдах, еже ведети премудрость и разум (Еккл. 1:17). Не было бы возможности дознать мне сие, если бы труд и размышление не предшествовали ведению. Но и притчи и хитрость уразумех, продолжает он, то есть, приобрел понятие высшего, составляемое по сходству чрез сличение сего с окружающим нас. И сие–то изучил я, говорит он. Ибо, как свидетельствует, уразумех притчи и хитрость. Как и Господь, научая в Евангелии слушателей, представляет взору слово о Царствии, изобразив, или жемчужину, или сокровище, или брак, или горчичное зерно, или закваску, или что; либо подобное, не в том смысле, что это самое и есть Царствие; но уподоблением означаемому сими вещами применительно указует слушателям некоторые отблески и загадочные черты того, что; превышает понятие. И на это, говорит Екклесиаст, стало у меня произволения духа приобрести себе множество мудрости, чтобы, сделавшись мудрым, по сему самому не погрешить мне в ведении сущего, и не оставаться ненашедшим того, что; полезно; потому что из мудрости составляется ведение, а ведение делает для нас более доступным суд внимательного. Сие же обыкновенно не без усилия достается старательным, но приложивший себе ведение, без сомнения, до одной меры с учением простирает и труд. Посему Екклесиаст говорит: приложивый разум, приложит болезнь (Еккл. 1:18). А когда дошел до этого, тогда о приятном произносит приговор, как о суетности.
Ибо сказывает о себе: рекох аз в сердце своем: прииди убо, да тя искушу в веселии, и виждь во блазе: и се такожде сие суетство (Еккл. 2:1). Ибо не тотчас предал я себя на такое испытание, и не прежде, как вкусив строгой и благонравной жизни, поползнулся на участие в удовольствиях, но искусив себя в первом, и преуспев нравом в угрюмости и непреклонности, в чем для старательных наипаче заключаются уроки мудрости; тогда уже снисходит до того, что; почитается приятным для чувства, не страстью увлеченный в это, но с намерением рассмотреть, точно ли к ведению истинно доброго содействует сколько нибудь приводимое в услаждение чувство. Ибо тогда, то есть в начале, и смех делает своим врагом, и страсть называет погрешением (Еккл. 2:2); и это по смыслу значит тоже, что назвать скудоумием и безумием. Ибо если кто в собственном смысле назовет чем иным этот смех, это и не слово, и не дело какое либо, совершаемое с какою либо целию но непристойное разверстие уст, перерывистое дыхание, содрогание всего тела, расширение щек, обнаружение зубов, десен и нёба во рту, кривляния шеи, беспорядочное изменение в голосе, пресекаемое перерывами дыхания; то будеть ли это что другое, спрашивает Екклесиаст, а не безумие? Почему говорит: смеху рекох: погрешение (Еккл. 2:2): как бы так сказал смеху: «ты не в уме, из себя вышел, не держишься в пределах долга, добровольно себя безобразя, извращая вид свой в страстный и производя это извращение без всякой пользы».
Рекох и веселию: что; сие твориши? (Еккл. 2:2) Это тоже значит, как и сказать: «я был против удовольствия, подозревая приближение его, как бы какого татя, тайком вкрадываюшегося в таибницы души; никогда не дозволял ему овладевать мыслию. Ибо как скоро узнавал, что удовольствие, подобно какому–то зверю, подползает к моим чувствам; тотчас вступал с ним в борьбу, и встречал, говоря этому рабскому и неразумному веселию: что сие твориши? для чего расслабляешь мужество естества? для чего размягчаешь крепость мысли? для чего обессиливаешь бодрость души? для чего вредишь помыслам? для чего светлую ясность чистых мыслей приводишь в омрачение своею туманностью?» Сделав все это и подобное сему, продолжает Екклесиаст:
Рассмотрих, аще сердце мое повлечет аки вино плоть мою (Еккл. 2:3), то есть, смотрел, как попечению о духовном можно сделаться преобладающим над плотскими движениями, чтобы естеству не придти в разлад с самим собою, когда ум избирает одно, а к иному влечет плоть, но чтобы плотское наше мудрование сделать послушным и подручным разумной части души, когда меньшее будет увлечено и поглощено преизбыточествующим, как это бывает у жаждущихъ». Ибо вино, если поднесено будет к жаждущим устам, не остается в чаше, но переливается в пиющего, и тщательно втягивающий его внутрь делается светлым. Когда же исполнено это мною, тогда восхождение к познанию сущего соделалось для меня непогрешительным и беспрепятственным.
Сердце, мое, говорит Екклесиаст, настави мя в мудрости, которою превозмог я возстание сластолюбия; и обучение это соделалось для меня причиною, еже удержати веселие (Еккл. 2:3). Вот смысл содержащийся в сих словах по связи чтения: а мне наипаче вожделенно было при ведении не тратить жизнь ни на что суетное, но найдти то благо, сподобившись которого, человек не погрешает в суждении о полезном, и которое постоянно, а не временно, продолжается во всю жизнь, подавая надежду обладать благом во всяком возрасте и первом, и среднем, и последнем и во все число дней.
Дондеже увижду, говорит, кое благо сыном человеческим, еже творят под солнцем в число дней живота своего. Хотя вожделенное для плоти всего более служит приманкою чувству в настоящем, но увеселяющее в нем минутно. Ибо ни чем происходящим в теле невозможно услаждаться продолжительно. Но удовольствие пить прекращается с насыщением; и при вкушении также наполнение чрева угашает пожелание; да и всякое другое вожделение таким же образом по удовлетворении ослабевает, и если появляется снова, снова пропадает. А ничто усладительное для чувства не продолжается навсегда, и не остается таким. И сверх этого еще иное благо человеку в детстве и иное в цветущем возрасте, и иное пришедшему в зрелость, другое же в преклонном возрасте, и иное опять старцу, смотрящему в землю. Но я, говорит Екклесиаст, искал того блага, которое во всяком возрасте и во всякое время жизни равно есть благо — такое благо, что и пресыщения им не чается, и сытости в нем не находится, но и при удовлетворении продолжается вожделение, вместе с наслаждением усиливается пожелание, и не ограничивается возрастом любителя; но чем более человек наслаждается сим благом, тем паче с наслаждением возрастает пожелание, а с пожеланием возгорается наслаждение, и во все продолжение жизни всегда бывает прекрасно для обладающих, ни мало не изменяясь от непостоянства возрастов и времен; смежает ли кто очи, или подъемлет взор, благоденствует, или печален, ночь ли проводит, или день, — одним словом всякому в жизни служит таким благом, которое и для впадшего в какое либо несчастное обстоятельство не делается чем ни есть худшим, или лучшим, не умаляется, не увеличивается. Таково, по моему рассуждению, в подлинном смысле благо, которое увидеть домогался Соломон; еже и творят люди под солнцем во все число дней живота их. Не иным чем кажется оно мне, как делом веры, действительность которой есть для всех общая, равно предлагается желающим, всесильна, постоянно пребывает в жизни. Вот — то благое дело, которое да будет и в нас, о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему слава во веки веков! Аминь.
Беседа 3
Время исследовать, чему после этого научит нас Екклесиастово слово. Сперва научились мы тому, что нами дознано, именно: что сей Екклесиаст всей твари, взыскующий погибшее и заблудшее собирающий во едино, Он самый назирает земную жизнь. Ибо земное есть поднебесное, что; в Писании называется сущим под небесем, и в чем преобладают обольщение и несостоятельность. А во второй беседе дознали мы, что от лица Соломонова сделано осуждение жизни, расположенной к наслаждениям и страстям, чтобы тем более убедились мы отринуть таковую жизнь, когда имеющий всякую возможность наслаждаться удовольствием все, что; вожделенным кажется для людей, оплевал, как ничто. Итак что; же по порядку дознаем в настоящем случае из третьей беседы?
Думаю — урок более всего приличный принадлежащим к Церкви, разумею исповедание сделанного не по разуму, при котором в душе производится болезненное чувство стыда признанием в делах несообразных. Ибо великим и сильным оружием к избежанию греха служит обыкновенно хранящийся в людях стыд, для того, думаю, и вложенный в нас Богом, чтобы такое расположение души производило в нас отвращение от худшего. Ибо сродны и близки между собою и самый стыд и болезненное чувство посрамления; тем и другим воспящается грех, если только кто для сего пожелает воспользоваться таковым расположением души. Ибо стыд часто больше страха обучал избегать дел несообразных. Да и посрамление, следующее за обличениями в погрешности, само по себе достаточно может уцеломудрить согрешающего, чтобы он снова не впал в что; либо подобное. И еслибы кто захотел определить различие стыда и посрамления, то посрамление есть высшая степень стыда, а стыд наоборот нисшая степень посрамления. Различие же и общение сих болезненных чувств обнаруживаются на лице краскою. Ибо стыд означается одним румянцем, так как с душею по естественному некоему расположению состраждет несколько и тело, и жар сердечной плевы воскипает на поверхности лица; а посрамленный обнаружением проступка делается посиневшим и побагровевшим, потому что страх к румянцу примешивает желчь. Посему такого болезненного чувства для решившихся на что–либо несообразное достаточно будет, чтобы не оставаться им дольше в том, за что; обличением подверглись посрамлению. Если же это действительно так, и Писание коснулось потребного человеку болезненного чувства, потому что таковое расположение врождено естеству в предохранение от проступков; то сие исповедию прегрешений достигаемое преспеяние хорошо признать собствениым уроком Церкви. Ибо чрез это человек душу свою приводит в безопасность оружием посрамления. Как если кто по неумеренной обжорливости скопит в себе какие либо неудобоваримые соки, потом, когда произойдет жар в теле, уврачевав болезнь резанием и прижиганием, и смотря на оставшийся от прижигания на теле струп, будет иметь его как бы наставником, удерживающим от беспорядочности в последующей жизни: так выставивший себя на позор исповеданием сокровенного, памятование о болезненном чувстве посрамления поставляет себе наставником для последующей жизни.
Итак вот чему научает Церковь нынешним чтением написанного у Екклесиаста. Ибо говорит он, свободною речью обнародывая это, и пред всеми людьми, как бы некий исписанный столп, воздвигнув исповедание соделанного им; оно же таково, что незнание сего и молчание о сем славнее слова. Говорит же, действительно ли сделав это, или измыслив сие для нашей пользы, чтобы слово в последствии достигло цели, — не могу сказать сего в точности, по крайней мере, говорит то, о чем добровольно сказать не согласился бы имеющий в виду добродетель. А он, если по особенному смотрению не сделанное описывает, как сделанное, и осуждает это, как изведавший на себе опытом; то делает сие, чтобы мы прежде испытания уклонились от пожелания того, что; осуждается; а если и добровольно себя самого допустил до наслаждения подобными вещами, чтобы чувствилища своя занять тем, что одно другому противоположно; то предоставляется воле желающего сделать о сем, какую угодно, догадку. Но если кто скажет, что Соломон действительно изведал опытом приятности жизни; то примем сие, понимая следующим образом: как погружающиеся в глубину моря и ищущие чего либо на дне под водою, если найдут какую либо жемчужину, или другое что; подобное сему из родящегося во глубине, то им никакого удовольствия не доставляет бедствование под водою, заставляет же погружаться надежда на выгоду; так и Соломон, если испытал это, то, конечно, подобно какому нибудь ловцу в море пурпуровых раковин, погружался в наслаждение не для того, чтобы наполниться соленою морскою водою (а под сею водою разумею удовольствие), но чтобы в такой глубине отыскать чтб либо полезное для ума. Находимое же подобным сему образом, по моему гаданию, с пользою служит, или к ослаблению порывов тела дозволением того, что ему угодно, потому что природа всегда упорнее стремится к запрещенному, или к соделанию учителя сего достойным вероятности, чтобы не почиталась уже привлекательною для людей вещь суетная, презренная тем, кто изучил ее опытом. Ибо и о врачах сказывают, будто в том преуспевает их искуство, что касается рода недугов, узнанного ими на своем теле, и что более надежными советниками и целителями делаются в таких болезнях, о которых, будучи прежде сами от них вылечены, приобрели сведение в той именно мере, в какой научены собственным своим страданием. Посему посмотрим, что потерпевшим себя в жизни своей признает врачующий нашу жизнь?
Возвеличих, говорит он, творение мое, создах ми домы (Еккл. 2:4). Слово прямо начинается осуждением. Ибо говорить: возвеличихя, не Божие творение, которое и я сам, но мое. А мое творение не иное что есть, как то, что доставляет удовольствие чувству. Творение же это по родовому понятию одно, но, при дробном делении, необходимо разлагается на многия по потребностям наслаждения. Тому, кто однажды вступил в глубину вещественного, по всей необходимости должно всюду обращать око и смотреть, откуда может произойдти удовольствие. Как вода из одного источника по водотечам проводится во многия места, и вода, разделяемая из источника, остается тою же водою, хотя бы текла тысячами ручьев: так и удовольствие, будучи по природе одно, но иначе и иначе представляясь в различных занятиях, течет повсюду, присоединяя и себя к потребностям жизни.
Например жизнь необходимым для естества соделала жилище, потому что человечество немощно к перенесению неравностей тепла и холода. Посему в этом отношении дом полезен для жизни, но удовольствие понудило человека преступить пределы потребности. Ибо не телу только доставляя в доме потребное, но готовя приятности и услаждения глазам, едва не плачет о том, что неба не сделал верхним жильем своим, и что не имеет у себя лучей солнечеых, чтобы приделать их к потолку. Почему во все стороны распространяет ряды построек, созидая вокруг себя цепь помещений, как бы некую другую вселенную; до чрезвычайной высоты возводит стены; а внутренность жилищ разнообразит расположением; камень из Лаконии и Фессалии и Кариста делится железом на тонкие слои, отыскиваются нильские и нумидийские ископаемые. И если где с великим старанием бывает найден Фригийский камень, по белизне мрамора рассевающий по местам глубокую багряность, то делается это наслаждением для жадных глаз, живо представляя многовидный какой–то и разнообразный разлив красок по белому. Сколько о сем стараний! сколько чертежей! сколько ухищрений у распиливающих вещества водою и железом! а над распилкою других обделываемых веществ день и ночь трудятся руки человеческие. И этого недостаточно трудящимся над суетным украшением, и чистое стекло посредством составов окрашивает человек в различные цвета, чтобы и им прибавлялось нечто к примышленной роскоши. Кто же опишет изысканное устройство потолков, на которых дерева, бывшия кедрами, ухищрением искусства снова обращены в мнимые дерева, и с помощию резьбы произращают ветви, листья и плоды? Умалчиваю о золоте, вытянутом в тонкие и воздушные плевы, и повсюду на них накладываемом, чтобы обращать на себя жадность очей. Кто изобразит употребние слоленовой кости на изысканное убранство входов, покрытие золотом сделанной на них резьбы, или гвоздями прибитые к резьбе листы серебра и всему тому подобное? Или полы в домах блистающие различными цветами камней, так что и ноги их наслаждаются блеском сих камней? И величание множеством таких домов, которых построение делает необходимым, не потребность жизни, а прихотливость, простирающаяся от одного неразумия к другому, Екклесиаст находит бесполезным. Ибо одним из зданий надлежит служить для состязания в бегу, другим для прогулок, одним быть входными, другим предвходными, а иным привратными. И недостаточным для пышности почитають иметь врата и подъезды, и широкий проход, внутри ворот, если входящим не встречается чего–либо такого, что; может при входе немедленно изумить смотряшего на это. При этом купели соединяют с великолепием пользу, целыми реками орошают из обильных водотечей, и при них устроены особые помещения для телесных упражнений, убранные до излишества различными мраморами; отвсюду около здания крыльца, подпертые столпами нумидийскими, или фессалийскими, или египетскими, — медь в истуканах принимаеть на себя тысячи видов, в какие мелочная прихотливость отливает вещество; видны мраморные изваяния и живописные картины, зрители которых совершают блуд очами, потому что искусство, подражая тому, что; не бывает видимо, обнажает это на картинах, да и что; позволительно видеть, изображено на них в изумительной красоте.
Но как подробно кому перечислить все, рачение о чем служит обличением и обвинением нерадения о том, что; важнее? Ибо чем больше увеличит человек рачение о постройках множеством и дороговизною заготовляемых веществ, тем паче обличит недостаток в убранстве души. И кто внимателен к себе, и подлинно украшает свое жилище, чтобы со временем принять в него обитателем Бога, у того есть другия вещества, из которых собирает украшение для такого жилища. Знаю я золото, которое блистает в подобных делах, и искапывается из глубины мыслей писаний; знаю серебро — словеса Божии разженные, которых светлость, как молния, блещет, осиявая истиною. А под лучами различных камней, которыми украшаются стены такового храма, и под помостом здания, представив в уме различные расположения добродетелей, не погрешишь в приличном сему дому убранстве. Помост пусть будет устлан воздержанием, при котором прах земного разумения не обеспокоит живущего воздержно. Упование небесного пусть озаряет потолок, на который взирая душевным оком, не подобия красоты изображенные резцаии увидит, но самый Первообраз красоты, не золотом каким и серебром украшенный, но тем, что; гораздо выше золота и драгоценнее камня. Если же надобно словом описать убранство разных частей; то пусть здесь украшают дом нетление и бесстрастие; а там убранством жилищу служат правда и негневливость; на одной стороне сияют смиренномудрие и великодушие, и на другой опять благочестие пред Богом. Все же это прекрасный художник — любовь пусть в наилучшем порядке принаровит одно к другому. Пожелаешь ли купелей? если хочешь, имеешь у себя домашнюю купель и свои водотечи, из которых можно омыть душевные скверны; сим пользовался и великий Давид, по ночам наслаждаясь этою купелью. А столпы, поддерживающие крыльце души, делай не какие либо фригийские, или порфировые; а напротив того постоянство и неподвижность во всем добром да будут для тебя многоценнее этих вещественных прикрас. Подобий же всякого рода, или живописных, или изваянных, какие людским искусством на обман уготовляются в подражание истине вовсе не допускает такое жилище, в которои все наполнено изваяниями истины. А вожделевая состязаний в беге и прогулок, имеешь вместо сего упражнение в заповедях. Ибо так говорит Премудрость: в путех правды хожду, и посреде стезь оправдания живу (Прит. 8:20). Как прекрасно приводить душу в движение и упражнение на сих путях, и в движении прошедшему поприще заповеди снова возвращаться на оное! то–есть, у исполнившего заповедь в том, к чему прилагается им старание, пусть в другой и третий раз украсятся и преспеяние нрава и благопристойность жизни. Кто таким образом приводит в красоту свое здание, тот мало озаботит себя земным веществом, не будет беспокоиться об ископаемых, не поедет за индийские моря покупать слоновую кость, не станет нанимать для изысканной работы художников, которых искусство посвящено известному веществу; напротив того дома имеет он богатство, доставляющее вещества для таких построек.
Детьми благонравными безобразное положение признано достойным сожаления, а сыну глупому и грубому зрелище опьянения служит поводом к смеху. Великий же список страстных движений содержигь в себе признание в насаждении винограда. Ибо сколько и каких страстных действий производит вино, силу всего этого выражает слово. Кто не знает всего того, что; вино, когда оно неумеренностью преступает потребность бывает пищею к воспалению непотребства и к доставлению удовольствий, растлением юности, безобразием старости, безчестием для жен, составом приводящим в неистовство, напутием к безчинству, отравою души омертвением разума, отчуждением от добродетели. Отсюда без всякого повода смех, без всякой причины плачь, произвольно льющияся слезы, ничем неоправдываемое хвастовство, бесстыдство во лжи, пожелание неосуществимого, надежда на несбыточное, надменная угроза, неразумный страх, безчувственность к действительно страшному, неосновательное подозрение, нерассудительное человеколюбие, обещание невозможного, не будем уже говорить о прочем, о неприличной дремоте, о расслабляющей боли в голове, о неприличиях от неумеренного пресыщения, о расслаблении членов, о согбении шеи, не держащейся уже на плечах, когда винная влага расслабит связи ея составов. Что; произвело это гнусное беззаконие — кровосмешение с дочерьми? Что в такой мере похитило у Лота разумение сделанного им, что и на гнусный поступок отважился, и не знал на что; отважился? Кто, как бы загадочно, изобрел странное наименование оным детям? Как матери преступного плода соделались сестрами своих чад? Как дети одного и того же имели вместе и отцем и дедом? Кто смесил естество в беззаконии? Не вино ли преступившее меру произвело это невероятное и достоплачевное событие. Не пиянство ли привнесло в историю такое похожее на баснь сказание, которое своею необычайностью превосходит и подлинные басни? Упоиша, сказано, отца своего вином (Быт. 19:33). И таким образом, когда разумение было изгнано из него вином, как одержимый какими чарами, оставил он по себе миру плачевную эту повесть, потому что упоением на время преступления у него похищено было чувство. О, для какого вреда жены сии принесли с собою это вино из содомских запасов! О, какое недоброе приветствие из дурной чаши влили отцу! О, гораздо было бы лучше и этому вину со всем прочим погибнуть в Содоме, прежде нежели подало оно повод к такому плачевному происшествию! И при таком числе таких примеров ежедневно бывающих от вина в мире бедствий; без стыда в признании своем выставляющий на позор себя, говорит о себе, что он сделал это, не только чтобы употреблять вино самому, но чтобы позаботиться об обильнейшем снабжении других таким достоянием.
Насадих, говорит, ми винограды (Еккл. 2:4), в которых не имел я нужды; потому что сам я — виноград плодоносный, виноград духовный цветущий, многоветвистый, ветвями жизни и лобвеобильными кольцами соплетающийся с единоплеменным, красующийся вместо листьев благоприличием нравов, возращающий сладкий и зрелый грозд добродетели. Кто насаждает сие в собственной душе своей, возделывает вино веселящее сердце, делает свою землю, по слову приточному (Прит. 12:11), как требует закон такого делания, так что вызывает жизнь рассудком, из корней добродетелей исторгает что; чуждо их и приросло к ним, орошает душу уроками, серпом строго оценивающего разума обсекает порывы мысли к излишнему и бесполезному; тот весьма блажен в этом делании, в чашу премудрости выжав грозд свой.
Но не знает такого насаждения, кто обращается к земле и объемлет земное; потому что присоединяет к этому богатое украшение вертоградов и садов плодовитых. Какая потребность во многих садах тому, кто имеет в виду один сад? [11] Какая мне польза от вертограда, произращающего овощи — пищу немощных? Еслибы я был в том саду, то не развлекался бы пожеланием многих садов. Еслибы здоровою сохранял я душу, так что могла бы вкушать твердую пищу, то не заботился бы об овощах, возделывая для пищи, что; годно недугу. Но когда однажды к потребности привзошла роскошь, а пожелание ея перешло пределы, тогда, за расточительностью в домах и после расходов на суетное под домашнею кровлею, человек предается роскоши и под открытым небом, для удовлетворения желанию удовольствий пользуется и свойством воздуха. Домогается того, что при помощи возделывания, дерева всегда у него зелены и сеннолиственны, на воздухе служат вместо кровли, так что и под открытым небом наслаждается, как в доме; поверхность земли, по искусству садовника, одевается всякого рода травами, так что, куда ни обратит взор, повсюду представляется глазу все приятное, и всегда окружен доставляющим удовольствие, во всякое время года видит необычное времени, зимою траву, ранние цветы, виноградную лозу обращающуюся в дерево, и с чужими ветвями сплетающую свои ветви, нежные объятия плюща с деревами. А какие на них виды плодов, будучи смешаны друг с другом из разнородных, делают насилие природе, по виду и вкусу показывая в себе нечто среднее, так что плод, по видимому, есть то и другое, что; может произойдти из растворения разнородных, — о всем этом, и если еще что; иное изобрело в растениях искусство, насилующее природу, чего не изыскивает потребность жизни, ищет же необузданное пожелание; о всем этом говорит исповедающий дела свои, что было сие в его искусственных вертоградах и садах. Ибо, сказав: насадих древес всякого плода (Еккл. 2:5), собирательным сим выражением показал, что не было у него недостатка в подобном сему.
Потом, после снеди, произращаемой под открытым небом и под крышею, и вода не оставляется несодействующею разнообразию удовольствий, как будто должно наслаждаться всеми стихиями, землею посредством свойственного ей, воздухом посредством дерев, водою посредством сделанного человеческими руками моря. Ибо чтобы взгляд на воду услаждал обольщением глаз, помост делается озером, потому что вода вокруг обнесена стенами здания, так что и купание доставляет удовольствие прохлаждающим тело, и вытекающая вода, делясь повсюду, где потребно орошение, делает сады более цветущими. Сотворих ми, говорит Екклесиаст, купели водные, еже напаяти от них прозябение древес (Еккл. 2:6).
А у меня был источник райский, то есть, учение добродетелей, которым орошалась духовная сухость, пока презирал я земные воды, и наслаждение которыми временно, и естество которых преходить. Итак гораздо лучше из божественного источника, которым орошаются и возращаются душевные добродетели, привести для себя хотя малый поток, чтобы в душах наших зеленел сад добрых предначинаний, при помощи Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Беседа 4
Слово наше задерживает еще эта исповедь; потому что повествующий о своих делах описывает почти все, из чего познается суетность дел этой жизни. Теперь же приступает как бы к бо;льшему какому осуждению сделанного им, и к тому, что; служит к охуждению страсти гордыни. Ибо что; из изчисленного, дорогий ли дом, множество ли виноградннков, красота ли вертоградов, собрание ли вод в купелях, или орошение ими садов, показывает столько кичливости, сколько имееть ее в себе, кто, будучи человеком, почитает себя владыкою единоплеменников? А Екклесиасгь говорит:
Притяжах рабы и рабыни, и домочадцы быша ми (Еккл. 2:7). Смотри, какое надмение высокомерия! Стать наравне с Богом — вот до чего превозносится это слово! Ибо всяческая работна превысшей над всеми власти, слышали мы в пророчестве (Псал. 118:91). Посему, кто своим достоянием делает достояние Божие, роду своему уделяя власть почитаться господином мужей и жен, тот что; иное делает, как не преступает в гордыне самое естество, смотря на себя, как на нечто иное от своих подначальных?
Притяжах рабы и рабыни. На рабство осуждаешь человека, которого естество свободно и самовластно, даешь закон вопреки Богу, извращая закон данный Им естеству. Ибо созданного на то, чтобы ему быть господином земли, и кого Творец поставил в начальство, подводишь ты под иго рабства, как бы прекословя и противодействуя божественной заповеди. Разве забыл ты пределы власти, что начальство твое ограничено надзором над бессловесными. Ибо сказано: да обладает птицами, рыбами и четвероногими (Быт. 1:26). Почему же, оставив подчиненное тебе в рабство, превозносишься над самым свободным родом, соплеменного тебе причисляя к четвероногим и даже безногим? Вся покорил еси человеку, взывает в пророчестве Слово (Псал. 8:7), и перечисляет подчиненных его разуму скотов, волов, овец. Разве от скотов по твоему произошли люди? Разве волы по твоему произвели человеческий род? Одна услуга у людей — бессловесные. Прозябаяй траву скотом, и злак на службу человеком (Псал. 103:14); а ты, смешав естество рабства и господства, сделал, что оно само себе служит, и само над собою господствует.
Притяжах рабы и рабыни. За какую, скажи мне, цену? Какое из существ нашел ты равноценным этому роду. Какой монетой оценил разум? Сколько оволов поставил за образ Божий? За сколько статиров купил богозданную природу? Рече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт. 1:26). И этого по Божию подобию сущего князя всей земли, от Бога наследовавшего власть над всем, что; на земле, скажи мне, кто продает, и кто покупает? Одному Богу возможно это; лучше же сказать, и Сам Бог не может сего. Нераскаянна бо, как сказано, дарования Его (Рим. 11:29). Поэтому естества нашего не поработит и Бог, Который призвал в свободу нас, самовольно поработившихся греху. Еслиже Бог не порабощает свободного, кто владычество свое поставил выше Божия? Как будет продан князь всей земли и всего, что; на земле? Ибо совершенно необходимо, чтобы вместе было продано и достояние покупаемого. Во сколько же оценим то, что; в целой земле? А если это неоценимо; то, скажи мне, какой цены достоин тот, кто выше сего? Если наименуешь целый мир, то и тогда не найдешь достойной цены. Ибо Ведущий, как в точности оценить естество человеческое, сказал, что и целый мир — недостойный выкуп за душу человеческую (Матф. 16:26). Посему, когда продается человек, не иное что; выводится на торжище, как господин земли. А поэтому вместе с ним провозглашена будет продажною и тварь, то есть, земля, море, острова и все, что; на них. Итак чем же будет платить за это покупающий? Что; получит продающий, когда такое приобретение последует за обменом? Но неболышя книжка, письменный договор, отчисление оволов обманули тебя, будто бы ты стал владыкою образа Божия. — Какое безумие! Если договор утратится, если писание источит моль, или смоет упадшая откуда нибудь капля воды, где у тебя будут поручительства? где у тебя права на владычество?
Сверх сделавшегося тебе подручным по имени ничего больше не вижу, кроме одного имени. Ибо что к природе твоей прибавила власть? Ни времени, ни преимуществ; и рождение твое от тех же людей, и образ жизни такой же, и тобою господствующим, и им подчиненным господству, в равной мере обладают душевные и телесные страсти, страдания и радости, веселия, беспокойства, печали и удовольствия, раздражения и страхи, болезни и смерти. Никакого нет в этом различия у раба с господином. Не тот же ли воздух втягивают в себя дыханием? Не также ли смотрят на солнце? Не одинаково ли принятием новой пищи поддерживают естество? И оба по смерти не один ли прах? Не один ли суд? Не общее ли царство, не общая ли и геенна? Во всем имея равное, скажи, в чем же имеешь больше, чтобы тебе, будучи человеком, почитать себя владыкою человека?
И притяжах, говоришь, рабы и рабыни, как стадо какое козлов или свиней. Ибо сказав, что притяжал себе рабы и рабыни, присовокупил о прежде бывшем у него обилии овец и волов: и стяжание скота, и стад много ми бысть (Еккл. 2:7), говорит Екклесиасть, как будто в одном порядке те и другие подчивены его власти. Потом в след за сим исповедание грехов переходит к важнейшим. Ибо приписывает себе корень всем злым, сребролюбие (1 Тим. 6:10). Слово же в слово говорит так:
Собрах ми сребро и злато (Еккл. 2:8). Какую скорбь причиняло золото земле, будучи смешано с нею и рассыпано в тех местах, где в начале положено было Творцем? Что; сотворил Создатель приносящего пользы более, нежели плоды земные? Не одни ли древесные плоды и семена уделил Он в пищу? Для чего преступил ты пределы власти? Или докажи, что дозволено тебе Творцем и это, — рыться и углубляться в земле, огнем расплавлять, что; под землею, и собирать, чего не сеял; или, может быть, иный не вменит себе и в вину собирать таким образом деньги, вырывая из земли? Но поскольку прилагается к слову: и имения царей и стран (Еккл. 2:8); то мысль о собирании делается уже не безответственною. Ибо сколько позволительно царской власти собирать имение с стран, то есть, сколько налагать подати, сколько требовать десятины, к каким денежным вносам понуждать подданных, Екклесиаст говорит, что так он собирал тогда золото и серебро. Впрочем охотно желал бы я дознать, что; прибудет у собирающего так, или иначе, подобные вещества? Согласимся на то предложение, что не по мнасу, или драхме, или таланту прибывают они у сребролюбцев, но вдруг озолотилось у них все, земля, песок, горы, равнины, холмы; предположим, что все внезапно превратилось в это вещество; чем же в благоденствии возрастет чрез это жизнь? Если во всем увидит то, что; усматривает теперь в малом количестве, какое из душевных благ, что; из вожделенного для тела, прибудет от сего обилия? Родится ли от сего надежда, что живущий в таком обилии золота сделается мудрым, оборотливым, разумным, сведущим, боголюбивым, целомудренным, чистым, бесстрастным, не допускающим до себя и не терпящим всего того, что привлекает к пороку? Или, хотя и не в силах сего сделать, может однакоже на многия столетия продолжить жизнь телу; сделать его нестареющимся, безболезненным, невредимым, дать ему все, что; желательно для жизни плотской? Но никто не суетен так, и немалосведущ столько в общем нашем естестве, чтобы подумать, будто бы и это будеть у людей, если в неисчетном множестве ко всем потечет по желанию каждого то вещество, из которого делаются деньги. Ибо и ныне можно видеть, что многие из преимуществующих таким обилием живут в самом жалком теле, и еслибы не было при них врачующих; то без врачей не могли бы они и жить. Итак, если предположительно присвояемое нам словом обилие золота не показало никакой выгоды ни телу, ни душе; то тем паче оказывающееся в малом количестве обличается не служащим к пользе имеющих его. Или что; будет обладающему от этого вещества, когда не действует оно ни на вкус, ни на обоняние, ни на слух, да и для осязания ту же имеет цену, как и все твердое? По мне никто в прибавок к золоту не даст добываемых в обмен на него пищи, или одежды. Ибо кто на золото выменял хлеб или одежду, тот за полезное вознаградил бесполезным, и он жив, сделав для себя пищею хлеб, а не золото. А кто таким променом собрал себе это вещество, тот на что; употребляет деньги сии, каким советом пользуется от них, каким учением в делах настоящих, каким предсказанием о будущем? Какое имеет от них утешение в болезнях телесных? Считает, откладывает, налагает печать; если спрашивают, отрекается, и если не верят, клянется, — вот блаженство, вот конец старания, вот наслаждение: до этого простирается все счастие — доставить пищу клятвопреступничеству!
Но у золота, говорят, и вид доброцветный; но красивее ли оно огня, но прекраснее ли звезд, но светлее ли лучей солнечных? Кто же препятствует тебе в этом наслаждении, так что необходимо тебе доброцветностью золота доставлять удовольствие взорам? — Но огонь, говорят, гаснет; солнце заходит, и приятность этого светила не всегда ощутительна. — Да и у золота во тме, скажи мне, какое различие с свинцом? — Но, из огня или звезд, говорят, не было бы у нас кож, запястьев, пряжек, поясов, ожерельев, венков, и подобного тому; золото же и это доставляет, и если что; иное делается для украшения. Так желание защитить это вещество привело к самому главному в рачительности о суете. Ибо сие самое и скажу им: «о чем старается, кто золотом разцветил себе волосы, или примкнул украшения к устам, или кожу на шее обложил ожерельями, или показывает, что на другой какой либо части тела носит золото? Где бы ни было оно возложено на теле, сам человек нимало не преобразится от блеска золота. Кто видит златоносца, тот также смотрить на золото, как бы если оно лежало в лавке, а носящего видит таким же, каким привык его видеть. Пусть это золото хорошо будет обделано и вычеканено, пусть заключает в себе цветные и огневидные камни, тем не менее естество никакого не приобретает ощущения от возложенного на человека; но ежели есть у него какое повреждение на лице, или не достает чего либо из естественных принадлежностей, или глаз выколот, или на щеке проведен отвратительный рубец; то гнусность остается на виду, не помрачаемая блеском золота; и если кому случится иметь болезненное тело, то вещество сие не доставит никакого утешения страждущему. Поэтому для чего заботиться о том, что у заботящихся не приносит ничего полезного ни красоте, ни благосостоянию тела, и не утешает в скорбях?» И какое расположение у привязанных сердцем к сему веществу, когда, пришедши в сознание ценности такого стяжания, радуются, как будто имеющие у себя нечто большее. Если кто спросит их: «одобряете ли, чтобы естество переменено было у вас в это; и сделалось тем, что с таким расположением вами ценится; согласитесь ли на сию перемену, чтобы из людей стать вам золотом; и оказаться уже не словесными, разумными, для жизненных отправлений имеющими у себя чувствилища, но желтыми, тяжелыми, немыми, неодушевленными и безчувственными, каково естество золота»? — то не думаю, чтобы согласились на это даже сильно похотением своим привязанные к сему веществу. Посему, если для здравомыслящих желание, иметь человеку свойства неодушевленного вещества, служит проклятием; то какое безумное неистовство заботиться о приобретении того, чему концем суета, так что, приведенные в бешенство деньгами ради них осмеливаются на убийство и разбой?
И не на это только, но и на лукавое примышление ростов, которое иной, назвав новым разбоем и убийством, не погрешит против истины. Ибо какая разность иметь у себя чужое, что тайно награблено из подкопанной стены, и убив прохожого, сделаться обладателем его собственности, или вынужденным ростом приобресть себе непринадлежащее? Какое худое проименование! рост служит именем разбою [12]. Какое горькое супружество! Какое лукавое состояние, которого не признала природа, и которое недуг сребролюбцев ввел у неодушевленных! Какое тяжкое чревоношение, от которого раждается такой приплод! Из существ одушевленное только различается мужским и женским полом. Им сказал по сотворении Бог: раститеся и множитеся (Быт. 1:22), чтобы рождением друг от друга живые существа возрастали до множества. А этот приплод золота вследствие какого бывает брака? вследстие какого чревоношения происходит на свет? Но знаю болезни рождения такого приплода, научившись у Пророка: се боле нетравдою, зачат болезнь, и роди беззаконие (Псал. 7:15). Вот тот приплод, которым болела любостяжательность, который раждает беззаконие, повивает человеконенавистничество. Ибо кто скрывает всегда свой недостаток, уверяет с клятвою, что ничего не имеет, тот, как скоро увидит, что давит кого нибудь нужда, является тогда с чреватым карманом, по корыстолюбию мучится тогда рождением лукавого роста, несчастному показывает надежду на заем, чем подбавляет пищи его злосчастью, подобно тому, кто маслом тушит огонь; потому что займом не врачует, но усиливает потерю. И как в засуху нивы сами собою произращают терние, так и при несчастиях у любостяжательных готов рост для бедствующих. Потом протягивает руку с деньгами, как уда крючек, прикрытый приманкою. А бедняк, обольстившись достатком в настоящую минуту, если что; и было у него сокрыто в кладовой, выблевывает вместе с потянутым крючком. Таковы–то благодеяния роста! Если кто насильно отнимет, или тайно украдет у другого путевый запас, называют его грабителем, вором и тому подобными именами; а кто причиняет засвидетельствованную обиду и жестокость, договорами подтверждает беззаконие, того называют человеколюбивым, благодетелем, спасителем и всеми добрыми именами. Приобретенное грабежем называется кражею, а кто при такой нужде обнажает Христа, того жестокость величается человеколюбием; ибо так называют наносимый ущерб беднякам.
Собрах ми злато и сребро. Но премудрый, обучая жизни, к списку того, в чем исповедуется, причислил и сие для того, чтобы люди дознали от изведавшего опытом, что это есть одно из дел осуждаемых за неуместность, прежде изведания опытом охраняли себя от приражения этого зла, как и местами, где водятся разбойники и звери, можно проходить уже без вреда, потому что прошли наперед подвергавшиеся на них опасности. Но прекрасно Божественный Апостол, прекрасно определяет страсть сребролюбия, назвав ее корнем всем злым (1 Тим. 6:10). Если к какой либо части тела бывает прилив испорченного и гнилого сока, и делается в том месте воспаление; то всего необходимее, чтобы скопившаяся влага, по устремлении ея к наружности, прорвалась в каком либо особом месте и нарыве. Так в ком бывает прилив недуга сребролюбия, в том страсть всего чаще склоняется к невоздержанию. Поэтому Екклесиаст в след за обилием золота и серебра к предшествующей болезни присовокупляет следующее за нею несоблюдение благоприличия. Ибо говорит:
Сотворих ми поющих и поющия, услаждения пиршеств, виночерпцы и виночерпицы (Еккл. 2:8). Достаточно напоминания имен, чтобы выставить на позор эту страсть, к которой проложен путь недугом сребролюбия. Как неуместна эта утонченность в искусствах! Как внезанно покрывает эта река удовольствий, как бы двумя потоками слуха и зрения наводняя души, чтобы оне и видели и слышали худое!
Пение подчиняет себе слух, зрение препобеждает взор. Там женский голос вольною стройностью песней вводить за собою в сердце страсть; здесь взор, подобно какому–то военному орудию, поражая глаза разнеженного уже песнями поражающего, подчиняет себе душу. Вождем же этой дружины бывает вино, подобно некоему лукавому стрелку, уязвляющее человека двоякого рода стрелами, направляющее острия на слух и зрение. Ибо стрелою для слуха служит пение, а для взора — видимое. Не даром употреблено имя виночерпцев, но конечно название дается сообразно с самым делом. Посему, когда пирующим обильно разливается цельное вино, а для этой прислуги употребляется юность, цветущая красотою, или отроки убранные по женски, или самый женский пол присутствующий при пиршестве, и с благожеланиями сливающий неблагопристойный помысл; тогда чем в иной раз естественно окончиться таким усилиям? Ибо кто во всяком деле предполагает для себя цель, и преступает потребность в заботливости о том, как нарядить поющих песни, тот в какое платье оденет виночерпиц, об этом надобно лучше молчать, и не углубляться словом в описание подобных вещей, чтобы в людях страстных напоминание сие не раздражило ран самым обвинением. Вот на что золото, вот для чего серебро — приготовлять такие приманки наслаждению!
Не поэтому ди страсть сластолюбия в Писании называется змием, который имеет свойство, если голова его пройдет в паз стены, пройдти в него и всем тянущимся сзади телом? Например что; скажу? Природа делает необходимым для людей жилище; но, по этой потребности сластолюбие, вползая в паз души, превратило сию потребность в безмерную трату на дорогия убранства, и изменило предмет заботы; потом этот зверь — сластолюбие проползает к какимъ–то виноградникам, купелям, садам и украшениям вертоградов. После сего вооружается гордостью, облекается в кичливость, присваивая себе начальство над соплеменными. За сим тянется след сребролюбия, за которым по необходимости следует невоздержание — это последняя и крайняя часть уподобления в сластолюбии зверю. Но как змею не возможно втащить за край хвоста, потому что, чешуя естественным образом, упирается вопреки втаскивающим: так невозможно начинать с крайних частей души, чтобы выжить из нея вторгшееся сластолюбие, если кто не заградить этому злу первого входа. Почему Наставник добродетели повелевает блюсти его главу, главою называя начало порока, в котором, если оно не допущено, бездейственным остается прочее. Ибо кто враждебно противостал удовольствию вообще, тот не поддастся частным приражениям страсти. А кто допустил в себя начало страсти, тот с этим вместе принял в себя целого зверя. Поэтому выводящий наружу таковые страсти, описав все, повторяегь слово кратко. Ибо сказав в начале: возвеличих творение мое, присоединяегь теперь по частям изложение сделанного, а именно говорит: возвеличихся, показывая, что ведение противоположного произошло у него не от чего–либо малого, но что опыт доведен до самой крайней величины, так что в бывшем прежде него не равняется этому ни одно воспоминание о чемъ–либо подобном. Ибо говорит: возвеличихся; и даже присовокупил: паче всех бывших прежде мене во Иерусалиме (Еккл. 2:9), и открыл теперь цель, для которой снизошел до испытания таких вещей, обучившись всякой премудрости.
И мудрость моя пребысть со мною (Еккл. 2:9), говорит Екклесиасть. Дает же разуметь сказанным, что с мудростью испытывал всякое примышление наслаждения, что разумение его остановилось на самом верху найденного в этом; зрение содействовало пожеланию, произволение при удовольствии взоров преисполнилось вожделеваемым, так что ничего не оставалось из примышленного к наслаждению, но участие в удовольствиях соделалось долею приобретения. А это, кажется мне, не иное что; значит, но то, что в себе самом имел он способность примыслить всякое наслаждение, как бы с имения какого, с того, что; делалось, собирая в плод веселие.
И не возбраних сердцу моему от всякого веселия моего, и сердце мое возвеселися во всяком труде моем: и сие бысть часть моя от всего труда моего (Еккл. 2:10). Частью Екклесиаст называеть обладание. Итак, когда по частям описал наслаждения, продолжая от начала до конца, и изображая словом все, с чего наслаждающимся собираются удовольствия, красоту зданий, виноградники, вертограды, купели, сады, начальство над соплеменниками, обилие денег, приготовление увеселений на пиршествах, все, как называет он, услаждения, которыми занималась его мудрость, исследывая и примышляя подобное тому, чем, как говорит Екклесиаст, наслаждался он всяким чувством, и глазами находящими, что; служит к удовольствию, и душею не возбранно имеющею все, чего она вожделевала; тогда объясняет то выражение, которое употребил в начале слова, обо всем отозвавшись, что все суета. Ибо, смотря на сие, решительно говорит о человеческой жизни, что все суета, и что; чувство видит, и что; предначинается людьми для веселия.
И призрех на вся творения моя, яже сотвориста руце мои, и на труд, имже трудихся творити: и се вся суета, и произволение духа, и нест изобилие под солнцем (Еккл. 2:11). Ибо вся сила и действенность чувств имеет пределом жизнь под солнцем; преступить этот предел и постигнуть разумением блага превысшия естество чувственное не в состоянии. Посему, обозрев все это и подобное сему, обучаеть не смотреть в жизни ни на что; здешнее, ни на богатство, ни на любочестие, ни на начальство над подчиненными, ни на увеселения, забавы и пиршества, и если что иное признается драгоценным; но видеть, что один конец всему подобному — суета, в которой не обретается напоследок обилия. Ибо как пишущие на воде, хотя производят рукою писмена, начертывая на влаге изображения букв, но ни одно из начертаний не остается в своем виде, старание же написать ограничивается одним действием писания; потому что за пишущею рукою следует всегда поверхность воды, сглаживающая начертанное; так все старание о наслаждении и вся деятельность обнаруживаются в том, что делается это. А с прекращением действия и наслаждение изглаждается, и не сберегается ничего на последующее время, и в усладившихся не остается никакого следа веселия, или остатка в удовольствии прошедшей деятельности. Сие–то означает слово изрекшее: несть изобилие под солнцем трудящимся о чем либо таком, чему предел суета. Чуждыми сего да будем и мы по благодати Господа нашего Иисуса Христа! Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Беседа 5
Теперь великим Вождем Церкви совершается для нас тайноводство к возвышеннейшим урокам. Ибо, предочистив души в предшествовавших беседах, и устранив всякое остающееся в людях пожелание суетного, таким образом приводит он к истине ум, отрясший с себя горесть суеты, как некоторое бремя с рамен. Таковому же как бы догмату да обучится Церковь, дознавая из настоящего учения, что начало добродетельной жизни — стать вне порока. Посему и великий Давид, предлагая в псалмопениях некое предварительное руководство к чистому образу жизни, начинает в слове не с того, что; в учении о блаженствах представляется совершеннейшим. Ибо не сказал прежде всего, что блаженнее всех, кто во всем благоуспешен, уподобляется дереву, насажденеому при исходищах вод, всегда цветет, пребывая в добре, и в надлежащее время пожинает плоды жизни; но началом блаженства поставил он удаление от зла; так как невозможно и добрым сделаться, пока не омоешь с себя скверну порока. Так и великий сей Екклесиасть сперва очищает словом от суетного, чтобы, как в больном теле, возстановилось благо здравия. Почему и преследовал он словом суету, сказав, что чувство — не надежный оценщик прекрасного, представил взорам несостоятельность того, чего домогается вожделевательное наше расположение, отлучил от наслаждения телесного, и таким образом показывает, что подлинно достойно избрания и истинно вожделенно то, рачение о чем есть нечто действительное и состоятельное, всегда пребывающее для участвующих в этом, и далекое от всякой суетной мысли.
И призрех аз видети мудрость, говорит Екклесиаст. Но чтобы в точности видеть желаемое, видел я прежде лесть и безумие; потому что взгляд на желаемое делается более точным при сличении с противоположным. Мудрость же именует он советом, говоря: яко кто человек, иже пойдет в след совета, елика сотвори в нем? (Еккл. 2:12) Посему научаеть, какая это человеческая мудрость — следовать мудрости истинной, которую именует и советом, творящии истинно сущее и состоятельное, а не в суете представляющимся. Это есть верх человеческой мудрости. А истинная мудрость и совет, по моему мнению, ни иное что;, как мудрость о всем промыслительная: это — мудрость, которою все сотворил Бог, как говорит Пророк: вся премудростью сотворил еси (Псал. 103:24).Христос же — Божия сила и Божия Премудрость (1 Кор. 1:24), которою все приведено в бытие и устрояется. Посему, если человеческая мудрость состоить в том, чтобы придти в уразумение истинных дел действительной мудрости и совета, а делом оного совета; или оной мудрости, по моему мнению, нетление, блаженство души, мужество, справедливость, благоразумие и относительно к добродетели всякое умопредставляемое имя и понятие; то ею последовательно приводимся, может быть, к ведению благ. Когда, говорит Екклесиаст, увидел я это, тогда, как бы на весах, различил сущее от несущего, чтобы найдти разность между мудростью и безумием, как может быть она найдена при сравнении света с мраком. И мне кажется в рассуждении прекрасного прилично воспользоваться примером, взятым от света, потому что тма по естеству своему не состоятельна; без чего либо преграждающая солнечный лучь не будет и тмы. Свет же сам по себе умопредставляется в собственной своей сущности. Сим примером Екклесиаст показывает, что порочность не состоятельна сама по себе, но составляется лишением добра. А доброе всегда одинаково, и постоянно пребывает, и составляется без всякого предварительного лишения чего нибудь. Умопредставляемое же противоположным доброму, в сущности не существует. Ибо что; не существует само по себе, то вовсе не существует. И порочность есть лишение сущего, а не бытие. Посему равна разность, как между светомть и тмою, так между мудростью и безумием. Ибо под именем мудрости Екклесиаст объемлет отчасти всякое добро, а безумием означает все естество зла. Но какая нам польза удивляться доброму, если учителем не будет указан какой либо путь к приобретению сего? Посему послушаем учащего, как и нам соделаться причастниками прекрасного.
Мудрого, говорит, очи его во главе его (Еккл. 2:14). Что это значит? Есть ли вообще живое существо, назовем ли живущее в воде; или на суше, или в воздухе, у которого бы это чувствилище — глаза совершенно было вне головы? Ибо у всякого глаз напереди прочего тела, а у имеющих голову утвержден в голове. Почему же Екклесиаст говорит здесь, что у одного мудрого голова имеет очи? Или подразуиевает в слове то, что есть некое сходство между усматриваемым в душе и между частями тела? И как в устроении тела преимуществующее над целым называется головою, так и в душе вместо головы разумеется владычественное и первенствующее? И как подошву ноги называем пятою, так у души может быть подошва, которою соприкасается она с сродным ей телом, и тем подлежащему сообщает чувствительную силу и деятельность? Посему, когда прозрительная и зоркая сила души занята чувственным, тогда в пяты ея перемещается естество очей, которыми рассматриваеть дольнее, оставаясь невидящею высших зрелищ. Но если, познав суетность подлежащего рассмотрению, возводит взор к Главе своей, Которая, как толкуеть Павел, есть Христос (Ефес. 4:15); то да ублажается за острозрение, имея очи там, где нет помрачения злом. Великий Павел и иные, если подобно ему велики, и все, которые о Христе живут, движутся и существують, имели очи во главе. Как сущему во свете невозможно видеть тму, так невозможно и имеющему око во Христе устремлять его на что; либо суетное. Посему, кто имеет очи во главе, глава же, как уразумели мы, — начало всего, тот имеет очи во всякой добродетели (потому что всяческая добродетель есть Христосъ) — в истине, в справедливости, в нетлении и во всяком добре.
Посему мудрого очи его во главе его, а безумный во тме ходит (Еккл. 2:14). Ибо кто светильника своего не выдвигает на свещник, но ставит под помостом постели, тот свет делает для себя тмою, став творцем несостоятельного. Несостоятельное же суетно. Поэтому тма по значению равняется суете. И душа безумного, сделавшись какою–то плотолюбивою и плотскою, смотря на это, ничего не видит. Ибо острозрительность в этом подлинно есть тма. Видишь ли этих живых и оборотливых в житейском людей, называемых правоведами, как пролагают себе путь к неправде, свидетелями, защитниками, записями, услужливостью судей, чтобы и зло сделать и подвести под наказание? Кто не подивится тонкости и изворотливости таковых людей? Но однакоже слепы такие люди, если устремят пытливое око на того, кто обращает взор в горнее, поставлен во главе существ, совершенно слепы они, украшающие пяту свою, угрызаемую зубами змия; тем самым, что обращают взор к дольнему, начертывают в себе веления греха. Ибо любяй неправду, ненавидит свою душу (Псал. 10:5). И ублажаемое ими в людях бедственнее всякого злополучия.
Но сколько еще наоборот таких, которые преисполнены на высоте совершаемых подвигов, заняты созерцанием истинно сущего, почитаются же какими–то слепцами и людьми бесполезными в делах вещественных, как хвалится таковым о нем мнением и Павел, называя себя буим Христа ради потому что его благоразумие и мудрость не были заняты ничем вожделеваемым здесь? Почему и говорит: мы буи Христа ради (1 Кор. 4:10), как бы выражая сим: мы слепы для дольней жизни, так как устремляем взор в горнее и имеем очи во главе. По сей–то причине не имел он ни дома, ни стола, был нищим, скитальцем, терпел наготу, томился голодом и жаждою. Но таковым будучи до;лу, смотри, каким он был горе. Ибо возвысившийся до третьяго неба, где была его глава, там имел очи, приводимый в восхищение неизреченными тайнами рая, усматривающий незримое и наслаждающийся тем, что выше чувства и разумения. И кто не почтет его жалким, видя узником, приемлющим раны под ударами, утопающим во время кораблекрушения и вместе с узами носимого по морским волнам? Но если и терпел подобное сему среди людей, то не отрекся непрестанно иметь очи во главе, говоря: кто ны разлучит от любве Христовой во Христе Иисусе? Скорбь ли или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или мечь (Рим. 8:35)? А это значит то же, что сказать: кто вырвет у меня очи из головы, и переставит их на попираемое ногами и земное? Но сие Апостол повелевает равно делать и нам, научая горняя мудрствовать (Кол. 3:2), что; подобно тому, как если бы потребовал иметь очи во главе.
Но если дознали мы, почему мудрого очи во главе его, то будем бегать безумия, которое, для проходящих настоящую жизнь, бывает какою–то тмою. Ибо сказано: а безумный во тме ходит. Безумный же, как говорит пророчество, есть тот, который говорит в сердце своем: несть Бог, растлен и омерзился в начинаниих (Псал. 13:1). А что; по порядку речи сказано в последующем, то врачует до малодушия привязанных к настоящей жизни, по мнению которых смерть есть нечто тяжелое, и как они уверены; для проходящих высший образ жизни никакой нет пользы от жизни добродетельной, потому что для тех и других жизнь разрешается одним и тем же концем, и что, хотя преуспеем в лучшей жизни, смерти избежать не возможно. Посему Екклесиаст, как бы от собственного своего лица, делая подобные сим возражения, снова нападает на нелепость представляющих оные, как не обращающих внимания на естество существующего, и показывает разность добродетели и порока, и в чем одна пред другим преимуществует, так что надеемся от них не какой либо равной чести, по причине вообще всех постигающей смерти, но по причиве в последствии ожидающих благ или зол находим сию разность. Буквально же возражение сие читается так:
Уведех аз, яко случай един случится всем им. И рех аз в сердцы моем: якоже случай безумного, и мне случится: и вскую умудрихся аз излише? глаголах в сердце моем, понеже безумный от избытка глаголет, яко и сие суета. Яко несть памяти мудрого с безумным во век, зане уже во днех грядущих вся забвена быша: и како умрет мудрый с безумным? (Еккл. 2:15–16) К сему присовокупляет Екклесиаст, что признает достойным ненависти все то, к чему прежде был пристрастен, любя суетное, как благо. И говорит, что возненавидел все, над чем трудился, имея в виду настоящую жизнь; потому что трудился вовсе не для себя, но для того, кто будет по нем, и о ком; по неизвестности будущего, не возможно предузнать, как воспользуется трудами его. Буквально же говорит это так:
И возненавидех живот: яко лукавно мне сотворенное под солнцем: понеже всяческая суета и произволение духа. И возненавидех аз всяческая, труд мой, им же аз труждаюся под солнцем, яко оставлю его человеку будущему по мне. И кто весть, мудр ли будет, или безумен? и обладати ли имать всем трудом, им же трудихся, и мудрствовах под солнцем? и сие же суета (Еккл. 2:17–19). Сказав это, говорит, что чужда душе его и та мысль; будтобы один и тот же удел и живущего добродетельно и не прилагавшего никакого о сем старания. У одного, говорит он, труд в мудрости, в ведении, в мужестве; а у другого в раздражении, в скорбях, причиняемых житейскою рачительностью. Посему приводить их в равенство между собою, говорит он, есть дело, не только суеты; но и лукавства. Читается же сие так:
И обратихся аз отрещися сердцу моему о всем труде, им же трудихся под солнцем. Яко есть человек, егоже труд в мудрости, и в разуме, и в мужестве: и человек, иже не потрудися о нем, даст ему часть свою: и сие суета и лукавство велие. Яко бывает человеку во всем труде его, и в произволении сердца его, имже той труждается под солнцем. Яко вси дние его болезней и ярости попечение ему, и в нощи не спит сердце его: и сие же суета есть (Еккл. 2:20–23). Но все еще сам себе предлагает возражение тех, которые жизнь сластолюбивую признают предпочтительнейшею жизни возвышенной, и опровергает предлагаемое, от собственного своего лица излагая то и другое, и возражение и решение. Ибо представляемое в возражении таково: не должно почитать благим ничего иного, кроме того, что; человек в себя принял, то есть, пищи и пития. Опровержение же состоит в том, что не то благо, чем человек питается и увеселяется, но это — мудрость и ведение, так что и иметь о них рачение есть уже благо; а что; вожделенно для плоти, то для души — забота и суета. И подлинные слова сего возвышеннейшего учения имеют следующий вид:
Несть благо человеку, который яст и пиет, и покажет души своей благо в труде своем: и сие видех аз, яко от руки Божия есть. Яко кто яст и пиет кроме Его? Яко человеку благу пред лицем Его даде мудрость, и разум и веселие; согрешающему же даде попечение еже прилагати и собирати, во еже дати благому пред лицем Божиим: яко и сие суета и произволение духа (Еккл. 2:24–26). Посему, хотя смысл написанного в последствии и предварительное воззрение на связь речи приводят к тому самому, что мы кратко теперь изложили, однакоже благовременно будет снова повторить чтение и в точности согласить понятие с речениями.
И уведех и аз, яко случай един случится всем им: и рех аз, яко случай безумного и мне случится, и вскую умудрихся? (Еккл. 2:14–15) Вот возражение, которое Екклесиаст делает сам себе, говоря: если один этот случай смерти для того и другого, и добродетель пребывающего в мудрости не избавляет от вкушения смерти, то суетным для меня стало рачение о мудрости. Какое же в слове сем опровержение сказанного? Аз, говорит, излише глаголах это в сердце моем, понеже безумный от избытка глаголет: яко и сие суета. Яко нест памяти мудрого с безумным во век (Еккл. 2:15–16). Екклесиаст осуждает сие возражение, как излишне и непоследовательно сделанное, и безумным называет слово, которое не принадлежит к достойным сбережения, и износится не из нутри хранилищ мудрости, но, как некоторый излишек разумения, извергается, подобно пене; потому что безумный от избытка глаголет. Но так пользоваться словом суетно и ни к чему не служит, потому что слово сие не имеет попечения о другом чем, а только старается убедить, чтоб не обращали внимания на видимое. Возражатель же ведет спор о видимом; потому что и смерть есть нечто видимое. Посему, что; же говорит? В этом мире не совершается суда о добродетельной и лукавой жизни; потому что должно было бы одному лукавому умереть телесно, а доброму остаться не изведавшим телесной смерти. И говорит сие не зная, в чем состоит бессмертие добродетели, и какая разумеется смерть живущих порочно. Память мудрого, говорит Екклесиаст, живет всегда, и продолжается во весь век, с безумным же угасает и памятование о нем. О таковых и Пророк говорит: погибе памят их весьма гласно и очевидно (Псал. 9:7). Ибо сие показывает присовокупление: с шумом. Посему Екклесиаст говорит: несть памяти мудрого с безумным во век: напротив того жизнь мудрого увековечивается памятию; а безумного сопровождает забвение. Ибо во днех грядущих все, что; касается безумного, в забвение приходит; выражается же всегда таким речением, как будто уже грядущие дни наступили, и вся забвена быша (Еккл. 2:16).
Итак, если мудрый ищет мудрости, а безумный уничтожен смертию забвения, то како, спрашивает Екклесиаст, говоришь, что мудрый умрет с безумным? (Еккл. 2:16) Посему скорбит и стыдится того, что; было для него вожделенно в этой жизни, и сказывает, что ненавидит все, чего желал для настоящей жизни, терпя подобно тому, кто по жадности без меры насытившись смешанного с чем либо меда, потом, когда это лакомство обратится в нем в дурный сок, при изблевании подмешанного состава ощущает выплевываемое вместе с медом, и потому от воспоминания о сей неприятности ненавидит мед; потому что пресыщение примешанным составом произвело расстройство. Посему–то Екклесиаст, до пресыщения наполнив себя тем, что; вожделевается для наслаждения, при очищении себя исповедию, как бы к качеству какого яда ошутив отвращение и омерзение, к постыдно им сделанному взывает, что ненавидить оную жизнь, слово в слово говоря так: и возненавидех живот: яко лукавно мне сотворение сотворенное под солнцем (Еккл. 2:17). Не для другого кого, говорит он, но для себя самого стал я лукав в том, что сделано мною под солнцем. Ибо у меня не осталось ничего из сделанного, но все вожделеваемое было мечтою и порывом произволения. Всяческая суета и произволение духа (Еккл. 2:17), говорит он. А другий называет достойным ненависти попечение о здешнем; потому что человек трудится не для себя, но для того, кто будет по нем. Что; ни удастся с рачением сделать в этой жизни, укрытия для кораблей, пристани, величественные и многостоющие запасы для крепостей и зданий, преддверия, башни, красивые переходы и подъемы, земледельческие работы, всякого рода рощи, изящество лугов, виноградники, обширностью уподобляющиеся морям, и если потрудится над чем иным сему подобным, что; ни удастся сделать ему, пользуется этим после него вступивший в жизнь.
И неизвестно, не обратит ли он сего обилия в пищу пороку. Ибо не всякому возможно для приобретения ведения подвергать чувство испытанию подобных вещей, как сделал это я, говорит Екклесиаст, по внушению мудрости. Естественному стремлению, как молодому какому коню, дав не надолго свободу увлечься нисшими страстями, снова обуздал я броздою рассудка, и подчинил его власти. Кто же знает, говорит Екклесиаст, возмет ли верх над привязанностью к наслаждению и тот, кто после нас будет в тех же обстоятельствах, а не останется скорее в их власти, подобно какому–то невольнику, преклонившись пред владычеством сластолюбия? Посему–то говорит: возненавидех аз всяческая, труд мой, им же аз труждаюся под солнцем, яко оставляю его человеку, будущему по мне. И кто весть, мудр ли будет или безумен, и обладати ли имать всем трудом, им же трудихся, и им же мудрствовах под солнцем? (Еккл. 2:18–19) Вот, думаю, смысл сего изречения: Екклесиаст говорит о себе, что не по страсти поползнулся он вести жизнь в удовольствиях, но пришел к этому по некоему внушению мудрости, наслаждаясь сею жизнию свободно, а не подчиняя себя ея владычеству. Посему кто знает, говорит он, что будущий по мне не будет обладаем тем, над чем я трудился не по страсти, но руководясь мудростью? Ибо дает видеть, что трудом наименовал и услаждение; потому что участие в удовольствии допустил до себя принужденно, как непреодолимую какую борьбу. Посему и это, говорит Екклесиаст, пусть причислит человек к суетному. Сказывает же и кому–то иному, что от здешняго отрекся он душею своею, и готов обнаружить в слове, что; намерен сказать. Ибо оклеветан пред погрешающим против правого суждения, будто бы, видя ясное различие противоположных родов жизни, из которых в одном трудятся для добродетели, и не обращают пожелания ни к чему человеческому, а в другом поступают наоборот, он не терпит никакого труда людей добродетельных, проводит же время в одних телесных занятиях. Почему, когда произносит кто пред ним приговор о прекрасном, тогда, презирая превосходящего мудростью, дает не только суетное, но лукавое и несправедливое сие суждение. Выражает же это Екклесиаст такими словами: и обратихся аз, говорит, отрещися сердцу моему о всем труде, им же трудихся под солнцем (Еккл. 2:20). Чего же именно отрекся? яко есть человек, егоже труд в мудрости и в разуме, и в мужестве, а другой человек нимало не потрудился о подобном сему. Так почему же иный таковому предоставит долю предпочтения? Потому, говорит, что и человек тому, иже потрудися о нем, то есть, трудившемуся в жизни о добре, даст ему часть свою (Еккл. 2:21); а это значит, назовет таковую жизнь доброй долею.
Но сие, говорит Екклесиасгь, суета и лукавство велие (Еккл. 2:21). Ибо не велие ли лукавство, когда знает, какая в человеке рачительность к трудам, и сколько произволения? Сие–то и выражаеть Екклесиаст в словах: яко знает [13] человеку во всем труде его, и в произволении сердца его, им же той труждается под солнцем (Еккл. 2:22). Что же знает? Яко вси дние его болезней и ярости попечение ему, и в нощи не спит сердце его. Ибо действительно прискорбна жизнь тех, чья душа не знает покоя от сего искушения, и как бы жалами какими уязвляется сердце пожеланиями большего. Мучительна эта рачительность любостяжательного, не столько увеселяющаяся тем, что; имеет у себя, сколько огорчаемая тем, чего недостает; у таких людей труд уделяется и дню и ночи, занимая их сообразно той и другой части времени, когда день тратится на труды, а ночь гонит сон от очей. Ибо заботы о выгоде не дают места сну. Посему кто обращает на сие внимание, тому этой рачительности как не признать суетою? К сказанному прежде Екклесиаст присовокупляеть: и сие же суета есть (Еккл. 2:23).
Касается и другого еще возражения, а возражаемое таково: если что; вне нас, к суете причисляешь это, учитель; то несправедливо осуждаешь, как суетное, и то, что; приемлем в себя самих. Но пища и питие бывают в нас самих; значит подобное сему не есть что; либо отметаемое; напротив того иный благодать сию назовет Божиим благодеянием. Вот смысл возражения, самые же речения имеют такой вид. Несть благо человеку, говорит Екклесиаст, разве еже яст и пиет, и покажет души своей благо в труде своем: и сие видех аз, яко от руки Божия есть, яко кто яст и пиет кроме Его (Еккл. 2:24–25). Вот что; защитник чревоугодия возражает учителю, и наставник мудрости дает на это ответ человеку благу (Еккл. 2:26). (Прибавление слова: благий, без сомнения, указывает на отличие, так что разумеемое под именем благости делается явным из противоположного.) Посему человеку, а не скоту, не такому человеку, который смотрит себе на чрево, и вместо рассудка имеет гортань, но благу, живущему по образу единого Благого. Не то наслаждение узаконил Бог, которому радо естество скотское, но в замен пищи даде ему мудрость, разум и веселие. И дары благости увеличит ли кто яствами чрева? Не о хлебе едином жив будет человек (Матф. 4:4) — вот слово истинного Слова. Не хлебом питается добродетель, не мясами укрепляется и тучнеет сила души; другими явствами питается и приводится в мужество высокая жизнь. Пища благого есть целомудрие, хлеб — мудрость, приправа — справедливость, питие — бесстрастие, удовольствие не какое либо телесное сношение с тем, что; приятно, но то, что; и по имени и на деле есть веселие (εὐϕροσήνη). Потому Екклесиаст и наименовал сим словом происходящее в душе расположение к прекрасному, что такое состояние бываеть следствием благоразумия (ἐϰ τοῦ εὐϕρονεῖν). Посему надлежит дознать из сего то же, что; слышим и у Апостола: несть Царствие Божие брашно и питие, но правда, и бесстрастие, и блаженство (Рим. 14:17). А чего домогаются люди для телесного наслаждения, то возбуждает рачительность грешников, и есть попечение души, увлекаемой от горняго к земному, у которой все продолжение пребывания в сей жизни тратится на то, чтобы тщательно прилагати и собирати. Посему, кто пред лицем Божиим призвает сие за благо, тот сам не знает, что благое поставляет он в суетном. Это сказал я собственными своими словами, но мысль сию запечатлеет присовокупление Божиих словес. Ибо Екклесиаст продолжает: грешнику даде попечение еже прлагати и собирати, во еже дати благому пред лицем Божиим: яко и сие суета и произволение духа (Еккл. 2:26). Посему, что; в настоящем учении дознали мы при сем взаимном сличении хорошего и худого, то да будет нам пособием к избежанию того, что; осуждается, и напутием к преспеянию в лучшем.
Беседа 6
Всем время, и время всяцей вещи под небесем (Еккл. 3:1). Вот начало словес подлежащих нашему обозрению. И труд исследования не мал; и польза от него достойна труда. Ибо цель обозренного нами в первых частях книги всего более, может быть, обнаружится в этой части, как покажет по порядку следующая за сим речь. В предыдущих словах как суетное осуждено все, чего домогается человек вовсе не для какой либо душевной пользы. Ибо указано благо, к которому надлежит возводить взор по тем понятиям, какие вложены нам в ум, а предпочитающим наслаждение телесное противопоставлено услаждение сообразное с мудростью. Остается узнать, как человеку жить добродетельно, заимствовав в сем слове как бы и некое искусство и способ к преспеянию в жизни. Сие–то обещает нам исследование Екклесиастовых слов в своем начале, где утверждается, что всем время, и время всяцей вещи под небесем. Если кто приникнет во глубину смысла, то найдет великое любомудрие заключенное в сих речениях, и созерцательное и исполненное полезных советов. И чтобы нам в немногих словах открыт был путь к обозрению сего изречения, приступим к слову так:
В существующем одно вещественно и чувственно, а другое умопредставляемо и невещественно. В последнем бесплотное выше чувственного постижения, и сие лучше познаем тогда, как совлечемся чувств. Чувство же, способное к постижению естества вещественного, не имеет свойства проникать тело небесное и простираться за пределы видимого. По сей причине слово сие беседует с нами и о земном и о небесном, чтобы мы проводили сию жизнь непогрешительно. Вещественная сия жизнь есть жизнь во плоти; воззрение на прекрасное потемняется несколько видимым чувственно. Посему для суждения о прекрасном имеем нужду в некоем сведении, чтобы, как при постройках всему, что делается, направление давали какое–то правѝло или нить. Потому и нам предварительно указуется словом, чем направляется жизнь к должному.
Два, говорит Екклесиаст, отличительные в жизни признака прекрасного в каждой вещи, какая вожделенна для настоящей жизни, именно соразмерность и благовременность. И сему–то учит он теперь, говоря: всем время (ὁ χρόνος), и время всяцей вещи под небесем. А под временем (ὁ χρόνος) должно разуметь меру, потому что всему, что; приходит в бытие, спротяженно время. Поэтому не усиливаюсь утверждать, что сии отличительные признаки прекрасного совершенно применимы к всякому преспеянию в добродетели, пока не покажет сего продолжение речи; но что больше бывает успеха в жизни, проводимой при таковом соблюдении сказанного, сие можно приметить всякому. Ибо кому неизвестно, что и добродетель есть мера, измеряемая посредственностью сравниваемых? Не может она быть добродетелию, имея или недостаток, или излишек против должной меры; так например в мужестве недостаток его делается боязливостью, а излишек — дерзостью. Посему–то некоторые из питомцев внешней мудрости, став, может быть, хищниками наших писаний, и поняв мысль выраженную в сем изречении, один в кратком своем правиле советовал ни в чем не иметь недостатка, другий воспрещал чрезмерность. Один утверждал, что всего лучше мера, другий узаконил, ни в чем не допускать излишества. А тем и другим доказывается, что не достигать требуемой добродетелию меры достойно осуждения, превзойдти же соразмерность — заслуживает презрение. Но и касательно благовременности то же слово объяснит нам, что и не предварять благовременности, и не опаздывать против нея, признается делом добрым. Что; пользы земледельцу, который поручил срезывать колосья прежде, нежели созрела в пору жатва, или отложил попечение о жатве, пока семена не высыплются из стеблей. Ни в том ни в другом случае попечение о деле не послужит к добру, потому что от безвременности жатвы утратится польза времени, не тогда, как следовало, на сие употребленного. А что говорится о части, то должно разуметь и о целом. Подобное сему узнаем и в мореплавании, если кто предупредит или опустит благовременность, А что; скажет иный о врачебном искусстве? сколько причинят вреда излишек или недостаток надлежащих ко врачеванию времени и меры? Но сие надлежит оставить, потому что в продолжении речи яснее откроет сие словами самого Екклесиаста представленный пример.
Для чего же наперед предлагается это нашему рассмотрению? Для того, что в чем не соблюдается ни меры ни времени, то не есть благо; напротив того прекрасно и вожделенно, что; имеет совершенство в том и другом. Ибо если одно только в нем вожделевается, остальное же презрено, то бесполезно и преспеяние в остальном. Посему как у нас, которые совершаем движение двумя ногами, если случится что; с одною, бесполезною делается для хождения и не пострадавшая нога, по немощи содействующей: так, если при времени недостает меры, или при мере благовременности, то тем, чего недостает, непременно обращается в бесполезное и то, что есть, но во времени оказывает пользу соразмерность, и в мере благовременность. Посему время (χρόνος) понимается нами как мера, потому что каждой отдельно взятой меры мерою служит время. Что; ни бывает, без сомнения, бывает во времени, и с продолжением всего, что; бывает, продолжается вместе и протяжение времени, малое протяжение времени с малым, и большее с большим. Есть мера чревоношению, мера возрастанию колосьев, мера созреванию плодов, мера мореплаванию, мера путешествию, мера каждому возрасту, младенчеству, детству, отрочеству, прихождению в юность, юношеству, мужеству, среднему возрасту, совершеннолетию, зрелости и преклонной старости. Посему так как не одна всему мера времени, ибо по разности подлежащих не возможно, чтобы все было одно другому равномерно, общая же, как сказано, мера всему измеряемому есть время, собою все объемлющее: то посему самому не сказал Екклесиаст: всему мера, по причине великого равенства в измеряемом относительно к большему и меньшему, но говорит: всем время — эта родовая мера, которою измеряется все, что; ни бывает. Как в человечестве устаревшее изнемогает, а недозревшее безчинствует; лучшее же — средина между двумя возрастами, то, что избегает неприятностей того и другого, в чем оказываются и сила, не соединенная с безчинством юности, и благоразумие, не сопряженное с немощию старости, почему сила срастворена с благоразумием, и равно избегаегь и старческого бессилия и юношеской дерзости: так и определяющий всем время устраняеть словом порок в том и другом отношении, происходящий от несоблюдения меры, лишая чести то, что; преступило время, и отвергая то, что; не достигло совершенства во времени. Но время вам вродолжить по порядку и самое обозрение богодохновенных словес.
Время раждати, говорит Екклесиаст, и время умирати (Еккл. 3:2). Прекрасно ва первом месте сопрягь словом сию необходимую чету, с рождением сочетавая смерть (ибо за рождением необходимо следует смерть, и всякое рождение разрешается в тление), чтобы при совокупном указании на смерть и рождение, напоминанием о смерти, как бы жалом каким, пробудить погруженных в плотскую жизнь и поставить к заботливости о будущем. Тоже самое сокровенньш образом в первых надписавиях книг любомудрствуеть друг Божий; Моисей, прямо после Бытия написавший и Исход, чтобы читающие написанное самым порядком книг научены были, что; нужно им знать о себе самих. Ибо кто слышал о Бытии, тому не возможно не подумать тотчас и об Исходе. Ту же мысль имевшим оказывается здесь и великий Екклесиаст, когда воставляет смерть в такой близости с рождениеи. Ибо говорит: время раждати, и время умирати то есть, пришло время, и я родился; придет время, и я умру. Если все обратим на сие внимание, то не пойдем, оставив это сокращенное шествие, кружиться с нечестивыми, добровольно блуждая по круговратному пути жизни, увлекаясь властительством, знатностью и богатством, которыми будучи замедляемы на таком множестве путей этого мира, не находим исхода из лабиринта сей жизни, тем самым, что, повидимому, употребляем усилие, смешивая для себя признаки непогрешительного пути. Сколько блаженны, говорит Екклесиаст, те из людей, которые, оставив коловратные обольщения жизни, приводят себя на сокровенный путь добродетели. А на этом пути тот, кто не обращает души ни к чему здешнему, но со тщанием устремляется к предложенному в уповании верою.
Но исследуем сказанное снова. Время, говорит Екклесиаст, раждати, и время умирати. О, если бы и для меня соделались и рождение последовавшим во время, и смерть благовременною! Ибо никто не скажет, будто бы невольное это рождение и произвольная смерть указываются теперь Екклесиастом, как средства к преспеянию в добродетели: потому что не по воле жены муки рождения, и не в произволении кончающихся смерть. А что не зависит от нас, того не назовет никто ни добродетелию, ни пороком. Посему надлежит уразуметь сие благовременное рождение, и сию смерть, бывающую во время. Мне кажется, что то рождение зрело и не преждевременно, когда кто, как говорит Исаия, зачав от страха Божия, с душевными муками рождения породит собственное свое спасение (Ис. 26:18). Ибо делаемся некоторым образом отцами себе самим, когда образуем, порождаем и производим себя на свет добрым произволением. Совершаем же эта приятием в себя Бога, делаясь чадами Божиими, чадами силы, и сынами Вышняго. И опять раждаемся преждевременно, и делаемся недоносками и легковесными, когда не вообразился в нас, как говорит Апостол (Гал. 4:19), образ Христов. Ибо должно совершенньш быть Божию человеку (2 Тим. 3:17). Совершен же конечно тот, в ком совершенно исполнился закон естества. Посему, если кто своею добродетелию соделал себя чадом Божиим, прияв право на сие благородство, то он познал время доброго рождения, и справедливо по Евангелию радуется, яко родися человек в мир (Иоан. 16:21). Но соделавшийся чадом гнева (Ефес. 2:3), сыном погибели (2 Сол. 2:3), исчадием тмы, рождением ехидным (Матф. 3:7), порождением злым, и всем другим, что только порицается, как рождение лукавое, не познал порождающего в жизнь времени. Ибо одно, а не много, времен раждающих в жизнь. Кто погрешил в оном неблаговременностью рождения, тот родил себя на погибель, и повил душу на смерть.
Но если явно то, как можем родиться во время, то очевидно также всякому, как можно и умирать во время; например у святого Павла всякое время было благовременно для благой смерти. Ибо в собственных своих писаниях взывает о сем, подтверждая некоторого рода клятвою, когда говорит: по вся дни умираю, тако ми ваша похвала (1 Кор. 15:31)! и еще: Тебе ради умерщвляеми есмы весь день (Рим. 8:36); и: сами в себе осуждение смерти имехом (2 Кор. 1:9). Конечно же не неизвестно, как по вся дни умирает Павел, который никогда не живет греху, всегда умерщвляет плотские уды, и носит в себе мертвенность тела Христова, всегда сраспинается Христу, и никогда не живет себе самому, но имеет в себе живущего Христа. Та смерть, по нашему рассуждению, будеть благовременна, которая делается виновницею истинной жизни. Ибо сказано: аз убию, и жити сотворю (Втор. 32:39), в удостоверение, что быть умерщвленным греху и оживотворенным Духу по истине есть Божий дар: потому что сим умерщвлением Божественное Слово обещается оживотворить. Но подобно сказанному и следующее за сим:
Время, говорит Екклесиаст, садити, и время исторгати сажденое (Еккл. 3:2). Знаем, кто наш делатель, и чье мы тяжание. Ибо одно дознали мы от Христа, а другое от раба Христова Павла. Господь говорит: Отец Мой делатель есть (Иоан. 15:1); Апостол же сказует нам: Божие тяжание есте (1 Кор. 3:9). Посему великий Делатель умеет насаждать только благое (ибо насади Бог рай во Едеме на востоцех (Быт. 2:8)); исторгает же все противное благому. Ибо всяк сад, егоже не насади Отец Мой Небесный искоренится (Матф. 15:13). Посему фарисейские злоба, неверие и неблагодарность за совершаемые Господом чудеса, — вот растения исторгаемые. Ибо надлежит одержать верх спасительной проповеди; надлежит проповедану быть Евангелию в целом мире; надлежит всякому языку исповедать, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2:11). Итак, поскольку сему надлежит совершиться непременно; то преобладающее ныне неверие некоторых есть насаждение не Отца, но всеявшего плевелы, или во Владычнем винограднике насадившего содомские розги. Так чему научены мы в Евангелии Владычним словом, то же самое узнали теперь в этой загадке Екклесиаста, а именно, что одно и тоже время — и принять в себя спасительное насаждение веры, и исторгнуть вместе плевелы неверия. Но что; сказано частью о преспеянии в вере, то следует разуметь и о всякой добродетели. Время садити целомудрие и исторгати насаждение непотребства. Так, когда насаждена справедливость, искореняется прозябение неправды; насаждение смиренномудрия ниспровергает кичливость; прозябшая любовь иссушает лукавое древо ненависти, как и плодами противоположного древа, то есть, ненависти, приумноженная неправда охлаждает любовь. А таким образом (чтобы не промедлить слова, говоря о всем порознь) не погрешим, подобно сему представляя себе и все иное. Опять и следующая речь согласна с исследованным прежде. Ибо Екклесиаст говорит:
Время убивати, и время целити (Еккл. 3:3). А сие ясно истолковано наперед в пророческом слове, которое от лица Бога говорит: Аз убию, и жити сотворю. Если не убием в себе вражды, то не исцелим расположения к любви, которое страждет в нас ненавистью. А также время убить и все прочее, что; живет на зло нам, разумею это злое полчище страстей, эту междуусобную брань, воздвигаемую на нас сластолюбием и пленяющую нас законом греховным. Ибо убиение таковых врагов делается исцелением для приведенного в изнеможение грехов. Врачи говорять, что глисты и некоторые другия подобные им животные от худосочия зараждаются во внутренностях; и жизнь их делается болезнию для тела. Но если будут они умерщвлены каким либо врачебным питием; то страждущий снова возстановляется в здравии. Таковые страдания тела сходны с душевными недугами. Когда раздражительность тем, что сосет внутренности, или памятозлобием расслабляя силу и рассудок души, и худый образ жизни породят этого зверя — зависть, или другого какого, столько же злого; тогда чувствующий, что душа его внутри себя питает зверя, благовременно воспользуется врачевством истребляющим страсти. А чтобы по умерщвлении оных в сделавшем сие совершилось исцеление, к сему служит евангельское учение.
Время разрушати, и время созидати (Еккл. 3:3). Сие дознать можно и в сказанном от лица Божия Пророком Иеремием, которому дана от Бога сила сперва истребить, искоренить, расточить, а потом возобновить, создать и насадить (Иер. 1:10). Ибо прежде надобно ниспровергнуть в нас здания порока, и потом уже приискать время и место к построению храма Божия, созидаемого в наших душах, для которого веществом служит добродетель. Аще кто назидает на основании сем, злато, сребро, камение честное (1 Кор. 3:12), — всем этим именуется добродетель, а дровами, сеном, тростием, по толкованию, означается естество порока, которое не на иное что; уготовляется, а только на истребление огнем. Посему, когда построения состоят из сена и тростия, то есть, из неправды и гордыни, и прочей житейской злобы; тогда слово повелевает прежде привести их в уничтожение, и потом уже золото добродетели употребить в вещество к построению духовного дома. Ибо невозможно с тростием соединиться серебру, или с сеном войдти в один состав золоту, или с деревом — жемчужине. Если же будет это, непременно надобно уничтожиться одному из двух соединяемых веществ. Ибо кое общение свету ко тме (2 Кор. 6:14)? Посему пусть будут прежде разрушены построения тмы, и тогда воздвигнуты светлые здания жизни.
Время плакати, и время смеятися (Еккл. 3:4). Уясняется слово сие евангельским изречением, произнесенным от лица Господа, в котором сказано: блажени плачущии: яко тии утешатся (Матф. 5:4). Посему ныне время плакать; а время смеяться предоставлено в уповании; потому что настоящая печаль соделается матерью ожидаемого веселия. Да и кто не в слезах и не в скорби будет проводить всю жизнь свою, если только придет в чувство себя самого, и узнает о себе, что; он имел, и что; потерял, в каком состоянии естество его было первоначально, и в каком оно в настоящее время? Смерти тогда не было, болезнь не появлялась; мое и твое, — эти лукавые речения в начале не имели и места в жизни. Ибо как были солнце общее, и воздух общий, а прежде всего общая Божия благодать и общее Божие благословение, так право участия во всяком благе всем наравне предлежало, и незнаком был недуг любостяжательности, не было ненависти у имеющих меньше к владетелям большего, даже вовсе не было и этого бо;льшего; а сверх сего тьмочисленные качества, которых никто не возможет представить словом, величием своим во много крат превосходили сказанное, разумею: равночестие с Ангелами, дерзновение пред Богом, созерцание премирных благ, возможность и нам украситься неизреченною лепотою блаженного Естества, показывая в себе божественный образ, сияющий красотою души. На место же этого появились в нас лукавый рой страданий, злое гнездо огорчений. Что; назовет кто первым из зол житейских? Все одно с другим равноценно, все одно у другого предвосхищаеть первенство в превосходстве зол, все делается поводом к таким же слезам. Что; будет кто оплакивать паче бедствениой этой жизни? За что; более сетовать на естество? За скромность ли, или многотрудность жизни? За то ли, что слезами она начинается, и слезами оканчивается? За жалкое ли младенчество? За скудоумие ли в старости? За непостоянство ли юности? За обременение ли трудами в совершенном возрасте? За тяготу ли супружества? За одиночество ли в жизни безбрачной? За безчадие ли, не оставляющее по себе корня? За то ли, что богатство возбуждает зависть, а нищета мучительна? Умалчиваю о множестве всякого вида разностей в болезнях, о потере членов, об увечьях, о загноениях, об утрате деятельности в чувствилищах, о помешательстве ума от бесов, о всех страданиях, сколько их заключает в себе естество, и каким подвергнуть каждого из людей есть в естестве возможность. А это неистовство любовной страсти, эту зловонную тину; в которой вращается бешеная сия страсть, прохожу мимо; не говорю о сопряженной с пищею неприятности по причине извержения, чтобы не подать вида, будто бы словом сим во всем позорю жизнь, представляя естество наше каким то производителем гноя. Оставляя все это и подобное тому, скажу, что для чувствительных наиболее достойно слез известное всем, а именно, что по миновании этой тени подобной жизни ожидает нас некое чаяние суда, и огня ревность поясти хотящего сопротивные (Евр. 10:27). Посему, кто так и подобно сему рассуждает; тот не будет ли всю жизнь проводить в слезах? Итак ныне пусть будет время подумать о сем. Ибо следствием скорбей настоящей жизни, как и естественно, соделается то, что не будем погрешать в оной. А когда преуспеем в этом, предоставится нам в уповании обещанная благодать веселия, упование же, как говорит Апостол, не посрамит (Рим. 5:5).
Присовокупляемое Екклесиастом есть как бы повторение прежде сказанного. Ибо, сказав о благовременности слез и смеха, прибавил: время рыдати, и время ликовати (Еккл. 3:4). А это не иное что есть, как усиление того и другого из упомянутых состояний. Чувствительный и от сердца происходящий плачь в Писании называется рыданием. А также и ликование означает усиление веселия, как подобное сему дознаем из Евангелия, в котором сказано: пискахом вам, и не плясасте: рыдахом вам, и не плакасте (Лук. 7:32). Так история говорит, что у Израильтян было рыдание во время преставления Моисеева, и что Давид, идя с ковчегом, когда переносил его от иноплеменных, скакал, не в обыкновенном явившись виде. Ибо сказано, что он изглашал стройные песни, ударяя в мусикийское орудие, в лад производил движение ногою, и мерным движением тела обнаруживал внутреннее расположение (2 Цар. 6:14–16). Итак, поскольку человек двойствен, то есть, состоит из души и тела, а сообразно с сим двойственна также и жизнь в каждом действии в нас происходящем; то прекрасно будет рыдающим в телесной жизни, если у них много поводов к оплакиванию сей жизни, приуготовить душе стройное ликование. Ибо чем чаще омрачается жизнь печалию, тем паче для души скопляются поводы к веселию. Мрачно смотрит воздержание; потупляет взор смирение; потерпеть ущерб — повод к слезам; предлог к плачу — не иметь равенства с обладающими. Но смиряяйся вознесется (Лук. 14:11), борющийся с нищетою увенчается, покрытый струпами, и во всем показывающий жизнь свою достойною слез упокоится на лоне патриарха, где да будем и мы по милосердию спасающего нас Иисуса Христа! Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Беседа 7
Время разметати камение, и время собирати камение (Еккл. 3:5). Тем самым, что показал этот чиноначальник церковной силы, увеличил он силы слушающих, так что могут они и низлагать сопротивляющихся и приготовлять запасы к низложению. Ибо то, чему научились мы прежде, когда дознали пользу во всем соображаться с мерою, какой требует время, и признаком прекрасвого полагать во всем благовременность, приводит нас в эту возможность как бы представлять себе у души нашей какую–то мышцу, которою бросает она в цель убийственные для врага камни, и в какого неприятеля ни были бы они брошены, снова возвращает их себе, чтобы имиже всегда поражать сопротивника.
Обращающие внимание только на букву и останавливающиеся на том смысле сказанного, какой представляется с первого взгляда, к настоящим речениям применяют закон Моисеев, потому что закон повелеваеть бросать камни в тех, которые окажутся в чем либо преступниками закона. Так дознаем из самой истории о согрешивших против субботы, о похитивших священные вещи и о других прегрешениях, за которые наказанием закон определил побиение камнями. И если бы Екклесиасть признал благовременным собирать камни, хотя о сем никакой закон не дает повелений, и на подобное сему никакое историческое событие не указывает, согласился бы и я с объясняющими изречение сие законом, а именно, что тогда подлинное время бросать камни, когда кто нарушит субботу, или похитит что; либо из принесенного в дар Богу. Теперь же это прибавление, что камни снова должно собирать, чего никаким законом не определяется, приводигь нас к другому разумению. Постараемся дознать, какой это род камней, которым после того, как брошены, снова надлежит соделываться достоянием бросившего. Ибо Екклесиаст учит нас, что, когда бросим камни во время, во время опять и соберем их.
Посему, мне кажется, что и закон, если разуметь его по первому представившемуся понятию, берется не очень высоко. Ибо что; великого и боголепного оказывается в буквальном разумении написанного? Если пойман человек, собирающий дрова в субботу, должно ли за это побивать его камнями, когда в этом проступке не видно никакой неправды? Ибо какую сделал неправду, кто несколько сухих сучьев, здесь и там разбросанных по пустыне, собрал, чтобы поддержать ими огонь? Не обвиняется он за присвоение себе чужого, почему казалось бы справедливым понести ему наказание за обиду; напротив того принадлежащее всем вообще для него делается причиною, что мещут в него камни. Но он осуждается как злодей за то, что сделал это в субботу. Кому не известно, что каждое дело, худо ли оно, или не таково, оценивается по собственному его свойству; время же, в которое совершается действие, рассматривается отдельно от свойства того, что; сделано? Ибо временное продолжение что; имеет общего с совершаемым по нашему произволению? Если кто спросит нас: что; такое день? без сомнения ответим: время, когда солнце над землею, и мерою его положим утро и вечер. Такое же понятие дня приличествовать будет не одному только какому либо дню из обращающихся в седмидневном круге времени; напротив того сие же понятие принадлежит и первому, и второму дню, даже до седьмого, и день субботний, поколику он день, не отличается от прочих. А если кто станет доведываться о значении греха, о том, чего не должно делать ближнему, конечно ответим, например; так: не прелюбы сотвори: не убий: не укради (Исх. 20:13–15) и прочее. Родовый закон сих заповедей, заключающий в себе каждую из них, состоит в том, чтобы любить ближняго, как себя самого. Это равно и во всякий день, если исполняется, без сомнения, прекрасно, а если нарушается, признается противоположным прекрасному. И если что; сего дня признано худым делом, будет ли это преступление — убийство, или другое что; из запрещенного, никто на следующий день того же самого не почтет хорошим. Поэтому, если худое всегда таково, в какое бы время ни отважился кто на сие: то и неподлежащее ответственности несделается подлежащим от времени. Поэтому, если накануне субботы собирать дрова и зажигать костер не есть неправда, и не подвергается это наказанию; то почему тоже самое в следующий день делается преступлением?
Но знаю субботу — день покоя, знаю закон о неделании, который, несвязав в человеке естественной его деятельности, повелевает быть без дела, если только повелевает и невозможное, заповедуя ничего не делать нам, у которых, кроме других дел, и самый образ жизни есть дело: таковы: зрение очей, естественная деятельность слуха, обоняние ноздрей, вдыхание воздуха устами, слово слагаемое языком, приготовление пищи зубами, варение ея во внутренностях, движение с помощию ног, совершение руками всего, что; обыкновевно делают у нас сии члены. Поэтому, возможно ли пробыть непреложным закону о неделании, когда естество не допускаеть бездействия? Как убежду ничего не видеть в субботу тот глаз, у которого естественное свойство — непременно на что нибудь смотреть? Как удержу деятельность слуха? Чем убедится у меня обоняние, отлагать на субботу восприимчивое ощущение испарений? Как внутренности, порабощаясь закону, не будут действовать им особенно принадлежащею деятельностью, оставлять в теле пищу непереваренною, чтобы только показать, что естество пребывает праздным в субботу? Если же прочия части тела нашего не могут принять закона о бездействии; потому что бездейственное вовсе не будет причастно и жизни: то, без сомнения, невозможно не нарушнть субботы, хотя бы оставались рука или нога не подвижными, в том же виде и на том же месте. Посему, так как закон положен не одному члену, но целому человеку, то наверно не сохраним мы закона, не действуя членом, если будем нарушать постановленное, согласно с естеством действуя прочими чувствилищами. Но закон от Бога; а все заповеданное Богом не таково, чтобы противоречить естеству, или оказываться невходящим в закон о добродетели; несогласное же с разумом бездействие не есть добродетель; посему надлежит разыскать, чего требует заповедь о субботнем бездействии.
Итак утверждаю, что всего законоположения, как данного Богом, цель одна, принявших закон соблюсти чистыми от делания порока, и весь закон, возбраняя запрещенное, повелевает субботствовать от дел лукавых. И скрижали, и левитское соблюдение, и строгость, предписанная во Второзаконии, требуют от нас быть праздными и бездейственными в том, делание чего есть порок. Посему, если кто принимает закон в том смысле, что человеку должно быть праздным от порока, то согласен и я, что мудрый Екклесиаст определяет время, — бросать камни в собирающего себе дрова, чем возбраняется собирание сухих сучьев порока, собираемых в пищу огню. Если же останется голый буквальный смысл; то не вижу, почему закон признавать боголепным.
Посему должно уразуметь, какие это камни, бросаемые в такого человека, чтобы рачение его о собирании сучьев не достигло своего конца. Если же это дрова, которыми возжен будет огонь собирающему (а конечно не неявно сие для того, кто как либо вводит таинственный смысл; ибо Апостол дровами, тростием и сеном прекрасно называет дурное здание (1 Кор. 3:12), потому что таковые здания во время суда делаются огнем, и плевы, говорит евангельское слово, уготовляются огню (Матф. 3:12) и о бесплодной ветви дан приговор, что она пригодна только для огня (Иоан. 15:6)): то явно будет, что дрова, собираемые на уготовление огня суть суетные предначинания жизни; а во время побиваемый камнями, как поймет иный, не погрешая против надлежащего смысла, есть клонящийся к худому помысл. Без сомнения же надлежит разуметь, что убийственные для порока помыслы суть те метко бросаемые из пращи Екклесиастовой камни, которые всегда надобно и бросать и собирать. Бросать к низложению того, что; высится против нашей жизни; а собирать, чтобы лоно души всегда было полно таковых заготовлений, и иметь нам под руками, что; бросить во врага, если когда против нас иначе измыслит кознь.
Посему откуда же соберем камни, чтобы заметать ими врага? Слышал я пророчество, которое говорить: камение свято валяется на земли (Зах. 9:16). А это — словеса, сходящия к нам от богодухновенного Писания; их надлежит собирать в лоно души, чтобы вовремя воспользоваться ими против огорчающих нас; метание их так прекрасно, что и врага они убивают, и не отдаляются от руки мещущего. Ибо кто камнем целомудрия мещет в невоздержный помысл, в удовольствиях собирающий дрова в пищу огню, тот и помысл поборает сим метанием, и оружие всегда носить в руке. Так и правда делается камнем для неправды, и ее убивает, и хранится в лоне поразившего. Таким же образом все разумеемое лучшим бывает убийственно для понимаемого, как худшее, и не отдаляется от преуспевающего в добродетели.
Так по нашему рассуждению, надлежит во время бросать камни и во время собирать камни, чтобы совершались всегда добрые метания к истреблению худшего, и никогда не оскудевало у нас обилие таковых оружий. Далее же за сим в связи речи предлагаемая мысль определяет время и неблаговременность какого–то обымания, и буквально читается так:
Время обымати, и время удалятися от обымания (Еккл. 3:5). Но сии понятия не иначе сделаются для нас ясными, как по предварительном уразумении сего чтения из Писания же, когда явно нам будет, о чем богодухновенное слово обыкновенно употребляет это рачение. А сие великий Давид дает видеть в псалмах, где взывает, говоря: обыдите Сион, и обымите его (Псал. 47:13). Да и сам этот Соломон, когда с любовию расположенного к премудрости вводит в искренний с нею союз, как говорит и нечто иное, чем производится в нас сближение с добродетелию, так присовокупляет и следующее: почти ю, да тя объимет (Прит. 4:8). Посему, если Давид повелевает вам объять Сион, а Соломон сказал, что почтившие премудрость объемлются ею: то не погрешим против надлежащего разумения, дознав то самое, обымание чего благовременно. Сион есть гора возвышающаяся над иерусалимскою крепостью. Поэтому советующий тебе обнять его, повелевает быть приверженным к высокой жизни, чтобы достигнуть самой твердыни добродетелей, которую Давид загадочно означил именем Сиона. А уготовляющийся сожительствовать с премудростью возвещает тебе о том объятии, какое у них последует. Итак время объимати Сион, и время быть объятым премудростью, так как именем Сиона указуется высота жизни; а премудрость означает собою всякую в частности добродетель. Посему, если из сказанного узнали мы благовременность объятия, то из сего же самого научились, с кем разлучение полезнее союза. Ибо сказано:
Время удалятися от объимания. Кто освоился с добродетелию, тот чуждается сношения с пороком. Ибо кое общение свету ко тме, или Христови с велиаром? (2 Кор. 6:14–15) или как возможно тому, кто служит двоим противоположным между собою господам, соделаться угодным для обоих? Ибо любовь одного производит ненависть в другом. Посему, когда чувство любви имеет хорошее последствие, а это есть благовременность; тогда действительно последует отчуждение от противоположного. Если истинно возлюбил ты целомудрие, то возненавидишь противоположное. Если с любовию взираешь на чистоту; то явно, что возгнушался ты зловонием грязи. Если привязан к доброму, то непременно стал далек от привязанности к худому.
А если кто значение обымания перенесет на любовь к богатству, то Екклесиастово слово показывает, какое богатство обымать — доброе дело, и объятия каких стяжаний надлежит удаляться. Знаю вожделенное сокровище, сокровеное на селе (Матф. 13:44), не всем видимое. Знаю еще богатство презренное, не уповаемое только, но видимое уже очами. Сему научает апостольское слово, говоря: не смотряющих нам видимых, но невидимых: видимая бо, временна: невидимая же, вечна (2 Кор. 4:18). Если поняли мы это, с помощию сего поймем и продолжение слова.
Екклесиаст говорит: время искати, и время погубляти (Еккл. 3:6). Ибо кто уразумел из исследованного, от обымания чего надлежит удаляться, и с чем входить в связи, тот будет знать, чего надлежит искать, и потеря чего прибыточна. Ибо сказано: время искати, и время погубляти. Посему, чего надобно мне искать, чтобы получить приличное времени? Но чего должно искать, показывает пророчество, говоря: взыщите Господа, и утверждитеся (Псал. 104:4); и еще: взыщите Господа, и внегда обрести Того, призовите (Ис. 55:6); и: да возвеселится сердце ищущих Господа (Псал. 104:3). Посему познал я из сказанного то, что; надлежит искать, и чего нахождение само есть всегдашнее искание. Ибо не иное что; значит искать сие, и не иное — находить; но выгода обретения есть самое искание. Угодно ли дознать тебе и благовременность? Когда время искать Господа? Отвечу кратко: целую жизнь. Ибо об этом одном благовременно иметь рачение при всяком другом рачении. Не в установленные какие либо дни и не в определенное на сие время взыскать Господа благо есть; напротив того никогда не прекращать сего вовсе ищущему — вот истинная благовременность. Очи мои, говорит Пророк, выну ко Господу (Псал. 24:15). Видишь, с каким прилежанием око исследывает искомое, не давая себе никакого отдохновения, никакой перемежки в наблюдении искомого. Ибо присовокуплением слова: выну показал всегдашнее продолжение и непрерывность рачения.
Также уразумеем и время погубляти, признавая для себя выгодою губить то, присутствие чего делается вредом имеющему. Худое стяжание — сребролюбие, поэтому погубим его; худой запас — злопамятство, поэтому отбросим его; пагубное приобретение — невоздержное похотение, имъ–то более, нежели чем другим, обнищаем, чтобы такою нищетою приобрести себе Царство: ибо блажени нищии духом (Матф. 5:3), то есть, обеднявшие таким богатством. И все другия диавольские драгоценности блаженнее человеку даже и в начале не приобретать, чтобы соделаться вовсе нестяжателями оскверняющего; а не менее прекрасно и тому, кто прежде имел у себя это лукавое стяжание, губить и в ничто обращать таковые имущества. Но вовсе не иметь когда либо участия в подобном выше того, что совместно с естеством человеческим; а уничтожить получив — на сие достанет крепости и человеческих сил. Посему не иметь никаких стяжаний противника принадлежит единому Господу, приявшему на Себя одне с нами немощи, кроме греха; ибо говорит Он: грядет сего мира князь, и во Мне не находит ничего из принадлежащего ему (Иоан. 14:30). А как очищать себя тщательным покаянием, примеры сему можно видеть и на людях, отличившихся добродетелию. Погубил Павел худое стяжание неверия, при помощи Сообщившего ему благодать пророчества, и стал он исполненным сокровища, которого искал. Погубил Исаия при очищении Божественным углем всякое нечистое, и слово, и помышление: и чрез это исполнился Духа Святого. Губит всякий в приобщении лучшего все признаваемое противным тому. Так целомудренный губит непотребство, правдивый неправду; скромный — гордыню, доброжелательный — ненависть, исполненный любви — вражду. Как в Евангелии слепой нашел, чего не имел, погубив, что; имел; ибо по отъятии слепоты вошел вместо ея лучь света, — и на прокаженного, по уничтожении болезни, нисходит благодать здравия, и возставляемых от смерти в присутствии жизни оставляет мертвость: так и в предстоящем нам любомудрии невозможно приобрести что; либо высокое не погубившим рачения о земном и низком. Ибо нахождением последняго губится для нас более предпочтительное; и обратно потеря сего соделается причиною обретения драгоценного. Сему научаемся мы Господним Словом: обретый душу свою погубит ю (Матф. 10:39). Ибо то самое, что душа бывает обретена в вожделеваемом по веществу, делается причиною не обретения ея в благах истинных. И наоборот лишение и гибель первого делается приобретением уповаемого. Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит (Матф. 16:26)? Время, сказано, искати, и время погубляти. Посему, если узыали мы, какая выгода в том искомом, которое обретается потерею приобретенного худо: то первого взыщем, а последяее погубим. Взыщем прекрасного, а погубим худое. Но прекрасно и близко к рассмотренному и то, что; читается в связи с написанным.
Екклесиаст говорит: время хранити, и время отреяти (Еккл. 3:6). Что; же хранити? Очевидно найденное нами в следствие искания. Что отреяти? Без сомнения то, потеря чего признана полезною. Родилась у тебя правая мысль, пришло тебе желание видеть Бога; возжада душа твоя к Богу крепкому живому (Псал. 41:3); родилось в тебе сильное желание быть во дворах Господних; а дворы Господни, по моему рассуждению, суть добродетели, с которыми водворяется Слово, и всякий последующий Слову; храни это, чтобы не расточилось у тебя богатство чистых стяжаний ума. Вкрадывается какой противный помысл, подобно скрытному какому татю истребляющему частые помышления; изринут и изгнан быть должен он из ума. Ибо по удалении его в безопасности сохранится у нас сокровище благ. Если же вредоносный не изринут, то никакой не будет выгоды от приобретения; потому что богатство утечет по злоумышлению подкапывающих стены.
Итак, поскольку изведали мы время искания, а всякий ищущий находит: то, чтобы найденное оставалось при нас, приставим к сокровищу какую либо бдительную стражу. Сказано: всяцем хранением блюди твое сердце (Прит. 4:23), после того, как нашел, храня найденную благодать. Например, приступив с верою, обрел ты чистоту в купели. Но больше труда — сохранить, что приял, нежели найдти, чего не имел. Потому, как, по сказанному нами, благовременность искания не определяется каким либо временем, но вся жизнь есть единое время для доброго сего искания: так утверждаем, что и время хранения измеряется всею жизнию, предлагая и теперь тоже пророческое слово, которое говорит: очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои (Псал. 24:15). В том и безопасность к хранению доброго нашего стяжания, чтобы хранителем наших стяжаний соделался Бог. Ибо когда очи мои будут выну ко Господу, тогда недейственным останутся сети сопротивника, которыми он строит козни тому, что в душе драгоценного. Сказано: не даждь во смятение ноги твоея, и не воздремлет храняй тя (Псал. 120:3). Итак настоящее изречение состоит в связи с предыдущим словом; то повелевало искать, чтобы найдти; а это советует хранить, чтобы не потерять. Способ же хранить благо состоит в том, чтобы отметать все признаваемое сопротивным, как и в осажденном городе охранение делается более надежным, когда изгнаны предатели; а пока они в городе, скрытые враги сии злоумышляют более явных. Ибо сказано: время хранити, и время отреяти.
Дальнейшее последование речи возводит душу к высшему некоему любомудрию об умопредставляемом. Ибо показывает, что вселенная сама в себе крепко связана, и в стройности умопредставляемого нет никакого разрыва, а напротив того у существ имеется какое–то между собою единодушие. И ничто не отделяется от взаимной связи всего; напротив того все пребывает в бытии; содержимое силою Сущего. А действительно сущее есть или сама благость, или другое имя, если кто кроме сего примыслит какое либо в означение нетленного Естества. Да и как кто либо найдет Ему имя, еже, по выражению божественного Апостола, паче всякого имени (Флп. 2:9)? Впрочем, какое ни найдено было бы имя в означение неизглаголанного могущества и естества; означаемое непременно есть благо. — Итак сие–то благо, или что–то превысшее блага, и само действительно существует, и от себя дало и дает существам силу и придти в бытие, и пребывать в бытии. А все, представляемое вне Его, есть несущественность. Ибо что; вне сущего, то не в бытии. Посему так как зло представляется чемъ–то противоположным любви: а Бог есть всесовершенная добродетель; то вне Бога зло, которого свойство состоит не в том, что оно в бытии, но в том, что оно не в добре. По нашему положению слово: зло есть наименовавие того, что; вне понятия о добре. Зло представляется столько же противоположным добру, сколько несуществующее противоположно существующему. Итак, поскольку мы по свободному устремлешю отпали от добра, то, как о тех, которые не во свете, говорится, что видят тму (ибо ничего невидеть значит видеть тму); так и в нас, отпадших от добра, осуществилось тогда неосуществленное естество зла, и дотоле пребудет, пока мы вне добра. Если же свободное движение нашей воли прервет сношение с несущественным и сблизится с Сущим, то и сие, что; теперь во мне, не имея более бытия, вовсе не будет иметь и того, чтобы оставаться во мне; потому что зло, вне произволения взятое, само по себе не существует. А я, обратившись и прилепившись к истинно Сущему, и пребываю в Сущем, который и всегда был, и на всегда пребудет, и ныне есть.
Сии мысли, кажется мне, внушаются сказанным: время раздрати, и время сшити (Еккл. 3:7), а именно, чтобы мы, отторгшись от того, с чем на зло себе сроднились, прилепились к тому, единение с чем для нас благо. Ибо сказано: мне прилеплятися Богови благо есть, полагати на Господа упование мое (Псал. 72:28). Иный может сказать, что совет сей полезен и для многого иного; например: измите злого от вас самех (1 Кор. 5:13). Сие повелевает божественный Апостол об осужденном за беззаконное смешение, приказывая отторгнуть его от общей полноты Церкви, чтобы и мал квас, как говорит он, порока в осужденном не соделал бесполезным все смешение церковной молитвы (1 Кор. 5:6).
Отторгнутого же за грех снова сшивает Апостол покаянием, говоря: да не многою скорбию пожрен будет (2 Кор. 2:7). Так благовременно умел он и отдрать загрязненную часть церковной ризы, и снова пришить благовременно, когда стала омыта от скверны покаянием. Можно видеть и многое сему подобное, что;, как, по сказаниям, у древних, так и в наше время, совершалось и совершается в церквах домостроительственно. Ибо знаете, с кем у нас прервано единение, и с кем мы всегда как бы сшиты. Отторгшись от ереси, во всякое время привязаны мы к благочестью, и тогда видя хитон Церкви нераздранным, когда отторгся кто от общения в ересь. Но согласно ли с взглядом прежде нами исследованным любомудрствует Писание о существах, или в этом совете научает оно чему либо подобному; во всяком случае изречение сие содержит в себе полезное и ко многому прилагаемое правило, во время отрывая от того, с чем быть в связи худо, и во время привязуя опять к тому, с чем единение полезно.
Но мы перейдем к последующему в слове, чем по высшему любомудрию рассмотренное слово более, кажется мне, имеет близости с последним изречением. Ибо наперед указало время молчати, а по молчании дало время глаголати (Еккл. 3:7). Посему, когда и о чем лучше молчать? Иный скажет, что об относящемся к нраву часто молчание приличнее слова, как, например Павел различает благовременность молчания и слова, иногда узаконяя молчать, а иногда советуя говорить. Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших — вот закон молчания; но точию еже если благо к созданию веры, да даст благодать слышащим (Ефес. 4:29) — вот время говорить. Жены в церквах да молчат (1 Кор. 14:34). Апостол опять определил время молчанию. Аще же чесому, чего не знают, научитися хотят, в дому своих мужей да вопрошают (1 Кор. 14:35); опять указал благовременность слова. Не лжите друг на друга (Кол. 3:9); вот благовременность молчания. Глаголите кийждо искреннему своему истину (Ефес. 4:25), — снова дозволение говорить. Много подобного сему можно сказать и из ветхого писания. Внегда востати грешному предо мною, онемех и смирихся, и умолчах от благ (Псал. 38:2–3): яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст своих (Псал. 37:14). Безгласным делается, кто пребывает неподвижнымть к воздаянию за зло; а для чего надлежить употребить слово, отверзает уста в притчах, провещавает ганания (Псал. 77:2), исполняет уста хваления (Псал. 70:8), делает язык тростью (Псал. 44:2).
Но когда в Писании тысячи примеров, какая нужда утончаться в слове о том, что; всеми признано? А что; пришло мне на мысль прежде сего, именно же, что благовременность молчати и глаголати согласуется с предложенным умозрением о раздрати и сшити, намереваюсь это же, повторив снова, сказать в немногих словах. Ибо там слово, отторгнув душу привязанную на зло себе к противнику, привело в единение с истинно сущим, прилепив ее к тому, что; выше слова, как предварительно о сем была речь: а здесь, поэтому же, кажется мне, наперед повелено молчать, именно же, потому что, чего отторгшаяся от зла душа непрестанно ищет, и с чем, обретши это, желает быть сошвенною, то, превосходя всякое понятие и наименование, выше всякого к истолкованию служащего слова. И упорно старающийся вместить это в значение слова, сам того ее примечая, погрешает против Божества. Ибо о чем веруем, что все превышает, то, конечно, выше и слова. А кто предприемлет неопределимое объять словом, тот не соглашается ли уже, что превыше всего вводимое им вместо всепревышающего, потому что собственное слово свое почитает чемъ–то сему подобным и столько же великим, поколику и в какой мере вместило сие слово, не зная, что боголепное понятие об истинно–сущем сохраняется только при уверенности, что Божество превыше ведения? Посему все сущее в твари взирает на то, что; сродно с ним по естеству: и нет существа между тварями, которое бы пребывало в бытии, исшедши из себя самого. Нет ни огня в воде, ни в огне воды, ни суши в глубине, ни влажности в суше, ни в воздухе земляного, ни в земле также воздушного: напротив того каждое существо, оставаясь в собственных своих естественных пределах, дотоле и существует, пока пребывает внутри собственных своих пределов. Если же что; станет вне самого себя, то оно будет и вне бытия. И как сила чувствилищ, оставаясь при естественных деятельностях, не может перейдти в деятельность чего либо ближайшего; глаз не действует, как слух, слух не имеет вкуса, осязание не беседует, язык не производит того, что; делают зрение и слух: но каждое чувство имеет пределом собственной своей силы свою естественную деятельность: так и всякая тварь не может обширностью своего воззрения выдти из самой себя, но всегда в себе пребываеть, и на что; ни смотрит, видит себя, хотя и думает, будто бы видит нечто высшее себя, однакоже не имеет по естеству и способности смотреть вне себя. Так например при обозрении существ усиливается отрешиться от представления пространства, но не отрешается. Ибо со всяким вновь обретаемым представлением непременно вместе усматривает и пространство, объемлемое существенностью представляемого умом. Пространство же есть не иное что, как тварь. А то благо, которого искать, и которое сохранить научились мы, будучи выше твари, выше и постижения. Ибо наша мысль, совершая путь по пространственному протяжению, как постигнет непространственное естество, всегда чрез разложение времени изведывая, что из находимого его старше? Хотя своею любознательностью протекает она все познаваемое, однакоже не находит никакого способа перейдти представление вечности, чтобы поставить себя вне, стать выше, и существа прежде всего созерцаемого, и самой вечности. Но, как бы нашедши себя на некоей вершине горы, предположи, что это какая–то скала, гладкая и круглая, внизу по наружности красная, простирающаяся в беспредельную даль, а в верху подъемлющаяся в высоту утесом, который нависшим челом падает в какую–то обширную пропасть. Посему, что естественно терпеть касающемуся краем ноги этого клонящегося в пропасть утеса, и ненаходящему ни опоры ноге, ни поддержки руке, — это же, по моему мнению, терпит и душа, прошедшая то, что; проходимо в протяженном, когда взыскует естества предвечного и непротяженного; не находя, за что; взяться, ни места, ни времени, ни меры, ни чего либо другого сему подобного, к чему доступ возможен для нашего разумения, но повсюду скользя при соприкосновении с неудержимым, приходит она в кружение и смущение, и снова обращаетея к сродному, возлюбив такую только меру познания о Превысшем, при какой можно убедиться, что Оно есть нечто иное с естеством вещей познаваемых. Посему, когда слово приходит к тому, что; выше слова, тогда настает время молчать, и неизъяснимое чудо оной неизглаголанной силы содержать в тайне сознания, зная, что и великие мужи глаголали о делах Божиих, а не о Боге, говоря: кто возглаголет силы Господни (Псал. 105:2)? и: повем вся дела твоя (Псал. 9:1); и еще: род и род восхвалят дела Твоя (Псал. 144:4). Дела глаголют, и о делах возвещают, и убеждают гласно исповедать о том, что; сделано. Но когда слово о самом превосходящем всякое слово, тогда тем самым, что; говорят, прямо узаконяют молчание. Ибо глаголют, что великолепию, славе, святыне Его несть конца (Псал. 144:3). Подлинно чудо! Почему слово убоялось приблизиться к славе Божественного чуда, так что удивление не коснулось чудесности чего либо из усматриваемого отвне? Ибо не сказало, что сущности Божией несть конца, почитая весьма дерзновенным составить о сем понятие, но только выражает словом удивление усматриваемому в слове великолепию. Пророк не мог также видеть и сущности самой славы, но изумевал, представив мысленно славу Его святыни. Посему сколько далек был от того, чтобы любопытствовать об естестве, что; оно такое, кто не имел сил даже подивиться последнему из проявляемого? потому что не святыне Его и не славе святыни дивился, но предположив удивляться только великолепию славы святыни, чудом оной приведен в изнеможение. Ибо не объял мыслию конца в возбуждающем удивление. Почему говорит, что славе, великолепию, святыне Его несть конца. Итак, если реч о Боге, то, когда вопрос о сушности, время молчать: а когда о каком либо благом действии, ведение о котором нисходит и до нас, тогда время возглаголать силы, возвестить чудеса, поведать дела, и до сих пределов пользоваться словом; а в рассуждении того, что; вне оных, не позволять твари выступать из своих пределов, довольствоваться же, если познаёт сама себя. Ибо, по моему рассуждению, если тварь не познала сама себя, не постигла, какова сущность души и естество тела, откуда существо, откуда рождения одного от другого, как несуществующее осуществляет, как существующее разрешается в несуществующее; какая стройность в мире сем из противоположностей, — если тварь не познала сама себя; то как объяснить то, что; выше ея? Посему время молчать об этом: потому что молчание о сем лучше. Время же говорить о том, чем жизнь наша возрастает в добродетели, о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Беседа 8
Время любити, и время ненавидети (Еккл. 3:8). Кто будет иметь столько чистый слух, чтобы чисто принять слово о любви, не привнеся в себя с ним ничего из нечистой любви? И нашим, может быть, ушам потребны персты Иисусовы, чтобы Божественным прикосновением истинного Слова способность слуха у души нашей освобождена была от всякой скверны, заграждающей слух, и уразумели мы достойную похвалы любовь, вняли душею, когда время любити, и когда время ненавидети. Не думаю же, чтобы это было иное какое либо время, кроме полезного. Ибо, по моему рассуждению, польза того и другого из сих расположений показывает благовременность обнаружения каждого; так что, если открывающееся на деле не служит к пользе, то оно и неблаговременно. Прежде же всего, думаю, надлежит выразуметь значение этих двух слов, разумею, слова: любити и ненавидети, чтобы таким образом уразуметь нам в слове и благовременное их употребление.
Любовь есть внутренняя связь с тем, что приятно, производимая удовольствием и пристрастием. Ненависть есть отчуждение от неприятного и отвращение от оскорбляющего. То или другое из сих расположений можно употреблять и с пользою, и вопреки тому; и всякая добродетельная жизнь как бы отсюда ведет свое начало. Ибо к чему приклонились с любовию, с тем освоиваемся душами: а к чему расположены с ненавистью, того чуждаемся. С хорошим, или с худым будет связь души, любимое душею некоторым образом срастворяется с нею. Но что ни было бы это, как скоро войдет в среду ненависть произведет разрыв и с хорошим и с дурным. Посему должно нам смотреть, что; любезно, и что; ненавистно естеству, чтобы таковым расположением души пользуясь, благовременно соделаться по ненависти чуждыми худого, и войдти в единение с естеством добра. И о, еслибы естество человеческое прежде всего обучалось этому, разумею различение хорошего и того, что; нетаково! К нашей жизни не имели бы и доступа страсти, еслибы с самого начала распознавали мы хорошее. А теперь, ценителем хорошего на первый раз делая неразумное чувство, возрастаем с образовавшимся в начале суждением о вещах, и потому с трудом можем быть отвлечены от того; что; признало в нас хорошим чувство, и с чем своим возрастанием утвердили мы себя в добром сношении.
Хорошим представляется для людей, что; глазам в неодушевленном веществе, или в одушевленных зрелищах, доставляет некоторое удовольствие доброцветностью. Для слуха прекрасно стройное пение! а в соках и запахах определяется хорошее, одно по одобрению вкуса, а другое — обоняния. Но что; всего грубее и неразумнее, так это чувство осязания, которым в приговоре о том, что; хорошо, берет в естестве верх невоздержное сластолюбие. Итак, поскольку чувства раждаются у нас немедленно, вместе с нашим рождением, и ими пользуемся с первых дней жизни; а у чувственности великая близость с неразумною жизнию; потому что подобное сему усматривается и у бессловесных; между тем как ум, неразвертывающийся во младенчестве, встречает как бы препятствие в своей деятельности, и некиим образом утесняется преобладанием неразумного чувства; то посему самому ошибочное и погрешительное употребление исполненного любви расположения делается началом и основанием порочной жизни. И как у нас двойное некое естество, срастворенное из духовного и чувственного; то в следствие сего двойная у нас и жизнь, совершающаяся сообразно тому и другому естеству, и именно по части чувственной телесно; а по другой части бесплотно. Но тем, что; прекрасно, и тем, что; не таково, не одно и тоже равно служит для того и другого вида нашей жизни, напротив того для жизни духовной — духовное, а для чувственной и телесной части то, что; угодно признавать таковым чувству. Итак, поскольку чувство раждается вместе с началом нашего бытия, а ум, который может раскрываться в человеке только постепенно, ожидает, когда придет он в соразмерный возраст: то по немногу раскрывающийся ум находится по сей причине под владычеством чувства, и что; всеми силами непрестанно берет верх, тому привыкает повиноваться, то и признавая или хорошим или дурным, что;, или избирает, или отвергает чувство. Посему затруднительным и безуспешным для нас делается уразумение истинно доброго; потому что бываем предубеждены решением чувств, ограничивая хорошее только тем, что; веселит и услаждает. Ибо как невозможно видеть небесные красоты, когда воздух над главою наполнен туманом: так и душевное око не может усматривать добродетели, когда при зрении, как бы туманом каким, объято сластолюбием. Посему, так как чувство имеет в виду удовольствие, а удовольствие препятствует уму усматривать добродетель; то делается оно началом порока, потому что и ум, преобладаемый чувством, подтверждает неразумное суждение о хорошем; и если глаз скажет, что красота состоит в доброцветности видимого, соглашается с тем и разумение. А также и в прочем то и признается хорошимть, что; веселит чувство.
Но если бы возможно нам было как либо в начале иметь истинное суждение о хорошем, и ум сам собою оценивал доброе; то не рабствовали бы мы, поработившись неразумному чувству, и став скотоподобными. Посему, чтобы могло быть в нас различаемо такое смешение, и непогрешительно распознавалось, что; достолюбезно по естеству, и что; опять противоположно сему, Екклесиаст о том говорит теперь в следующих словах: время любити, и время ненавидети, чем различает свойство вещей, показывая; что; любимо, и что; ненавидиио, может быть с пользою. Ибо юность, кипя страстями своего возраста, говорит: что ей время любить то, что; любезно юности: но Екклесиаст противоречит юности, определяя иное время чистой любви: потому что погрешительная связь души с тем, что; ни с чем несообразно, не есть и любовь. Как при здоровом состоянии нашего естества, жажда лоявляется в теле благовременно; а в ком такое расположение произведено угрызением особого рода ехидны [14], о тех никто не скажет, что жажда действует в них благовременно; потому что жажда у них бывает не естественным побуждением, но недугом: так и нечистая любовь юности есть не любовь, но болезнь воли, производимая воспалительным угрызением возраста.
Поэтому не всякая любовь благовременна, а только ощущаемая к достойному любви. Но о сем невозможно приобрести ясного ведения, если в взгляде о сем небудет разобрано самое понятие любви. Итак из благ, какие вожделенны людям, одни действительно таковы, какими и именуются, другия же имеют ложное наименование. Все то, что невременное доставляет наслаждение, и не таково, что одному кажется хорошим, а для других бывает бесполезно, напротив же того всегда всем и во всем, у кого бы ни находилось, служит благом, — есть истинное благо, пребывающее всегда одинаковым, и недопускающее примеси чего либо худого; и оно исследывающими сие до точности усматривается в едином Божественном и вечном естестве. А все прочее, что; хорошо для чувства, хотя кажется хорошим по мнимому обольщению, но не состоит, и не состояло, таким в естестве своем, будучи же естества текучего и скоропреходящего, по некоему обольщению и суетному предположению людьми невежественными признается за действительно хорошее. Посему, если привязанные к непостоянному не желают всегда неизменного; то кажется, что Екклесиаст, когда говорит: время любити и время ненавидети, как бы стоя на высокой некоей башне, так взывает человеческому естеству: истинное благо есть нечто иное; оно же самое и прекрасно, и приобщающихся его делает таковыми. Ибо каково по природе то, чего приобщаются, в тоже самое необходимо прелагаются и причащающиеся: так например: благоухающими делаются уста того, кто приемлет в уста какие либо благоухающие ароматы, и наоборот зловонны уста ядущащего чеснок, или что; другое еще более зловонное. Итак, поскольку всякая греховная скверна зловонна, а напротив того добродетель есть Христово благоухание, исполненное же любви сношение с любимым естественно производит срастворение; то к чему привержены мы любовию, тем и делаемся, или благоуханием Христовым, или зловонием. Возлюбивший прекрасное сам будет прекрасен; потому что благость Пребывающего в нем в себя претворяет приявшего ее. Посему–то всегда Сущий предлагает нам Себя в снедь, чтобы мы, прияв Его в себя, соделались тем же, что Он. Ибо говорит: плоть Моя истинно есть брашно, и кровь Моя истинно есть пиво (Иоан. 6:55). Посему, кто любит сию Плоть, тот не бывает другом собственной своей плоти, и кто с любовию расположен к сей Крови, тот соделается чистым от крови чувственной. Ибо плоть Слова и кровь, какая в этой плоти, имеют в себе не один какой либо благодатный дар, — но сладостны для вкушающих, желательны для вожделевающих, достолюбезны для любящих.
Если же кто обратит любовь к несостоятельному; то каково оно по естеству, таковым же по всей необходимости сделается и предающийся этому. Посему, так как в существующем, иное действительно, а иное суетно, то надлежит узнать суетное, чтобы чрез противоположение уразуметь нам естество действительно сущего. Так поступают все святые, уклонившихся от прямого пути и идущих путем погрешительным возвращая на тот путь, с которого совратились, взывая им издали: «беги пути, по которому идешь; на нем разбойники и грабители и засады убийцъ», — чтобы вместе и путник предотвратил опасность пагубного пути, и уклонение с сего пути соделалось путеводством на путь спасающий. Так и великий Екклесиаст свыше взывает человеческому роду, блуждающему по непроходней, а не по пути, как говорит Пророк (Псал. 106:40), ясно в сказанном выражая следующее: «для чего, люди, блуждаете в жизни! Для чего любите суетное, привержены к непостоянному, и привязаны своим расположением к тому, что; не имеет никакой состоятельности? Есть другой путь непогрешительный и спасительный; его возлюбите, по нему шествуйте с любовию; сему имя — истина, жизнь, нетление, свет и тому подобное. А тот путь, по которому идете, достоин ненависти и отвращения; потому что лишен света и покрыгь тмою, ведет к стреининам, пропастям и местам, где живут звери, скрываются разбойники».
Посему сказавший: время любити, указал, что; действительно заслуживает дружбу и достолюбезно: и предписавший время для ненависти научил, от чего надлежит иметь отвращение. Посему дознав, что; достолюбезно по естеству, к сему и прилепимся любовию, нимало не совращаемые с пути неуменьем судить о прекрасном и не расточая любви на то, что; запрещает любить и великий Давид, говоря: сынове человечестии, доколе тяжкосердии? вскую любите суету, и ищете лжи (Псал. 4:3)? Ибо одно только достолюбезно по естеству — истинно Сущее, о чем законоположение говорит в десятословии: возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всего помышления твоего (Втор. 6:5). И одно также поистине ненавистно, это — изобретатель греха, враг нашей жизни, о котором закон говорит: возненавидиши врага твоего (Матф. 5:4–3). Любовь к Богу соделывается крепостью любящего; а расположенность к пороку приносит погибель любящему зло. Ибо так говорит пророчество: возлюблю Тя Господи крепосте моя: Господь утверждение мое, и прибежище мое, и избавитель мой (Псал. 17:2–3). О противоположном же говорит: любяй неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешники сети (Псал. 10:5–6). Посему время для любви к Богу — вся жизнь; и время для отчуждения от сопротивника — целая жизнь. Кто хотя малую какую часть жизни своей пребывает вне любви Божией, тот, без сомнения, бываеть вне Того, от любви к Кому отдалился он. А пребывающему вне Бога, необходимо быть и вне света (потому что Бог свет есть), также вне жизни и нетления и вне всякого понятия и всякой вещи представляемых лучшими, что; все есть Бог. Ибо кто не в этом, тот, без сомнения, в противном. Посему такового приемлют в себя тма, тление, всегубительство и смерть.
Различив это в кратком изречении, Екклесиастово слово показывает свойство того и другого из представляемого протовоположно, открыв сие благовременною любовию и во время обнаруживаемою ненавистью. Время, говорит он, возлюбить доброе; и время также возненавидеть противоположное; говорит же так: «той мысли держись, человек, что слово сие имеет в виду прекрасное; потому что извращенное и погрешительное расположение нашей души, к тому или другому из этого, есть корень и начало греха. Сказано: никто не может двема господинома работати, ибо или единого возненавидит, а другого возлюбит (Лук. 16:13). Это противоположение научает, кто господствует худо, и кого надлежит чуждаться по ненависти, а также кто властвует над подначальным ко благу, и к кому прилепляться прилично любви. Если же кто будет держаться ненавистного, а пренебрегать достолюбезным, то он нарушит благовременность любви и ненависти к собственному своему вреду. Ибо небрегущий о деле потерпит от него вред, а держащийся погибели, приобретет себе то, чего держался. Посему различивший словом разумеемое о добродетели и пороке, познает благовременность, как надлежит вести себя в рассуждении того и другого. Воздержание и сластолюбие, целомудрие и непотребство, скромность и кичливость, доброжелание и зломыслие, также все мысленно представляемое противоположным, ясно указуется тебе Екклесиастом, чтобы ты хорошим расположением подал о сем душе полезный совет. Посему время возлюбить воздержание, и возненавидеть сластолюбие, чтобы соделаться тебе не сластолюбцем, а паче боголюбцем, и возненавидеть также все прочее, любопрительность, корыстолюбие, славолюбие, и что только обращением любви к тому, чего недолжно любить, разрывает связь с добрым. Например дозвали мы между прочим учение, что всякое движение души к доброму уготовано Создавшим естество наше; если же погрешительное, конечно, употребление таковых движений породило поводы к пороку; то свободная наша воля, будучи сама в себе прекрасною, как скоро приводится к действию на зло, делается крайним из зол. И на оборот, сила, отталкивающая неприятное, которой имя есть ненависть, служит орудием добродетели, когда вооружается на противное; но делается оружием греха тогда, как противоборствует добру. Посему всякое создание Божие из уготованных в нас добро и ничтоже отметно, со благодарением приемлемо (1 Тим. 4:4); а неблагодарное употребление их сделало создание сие страстью, по которой прекращается близость к Богу, вводится же и поставляется на место Бога противоположное; так что таковыми людьми обоготворяются страсти. Так ненасытным бог чрево (Флп. 3:19). Так любостяжательные делают для себя идолом свою болезнь. Так по обольщению омраченные душевными очами в веке сем богом себе соделали тщеславие. Короче сказать, чему кто отдав под иго, свой помысл соделает рабом и подручным, то и обоготворяет в собственной своей страсти; но он не потерпел бы сего, если бы не освоился любовию со злом.
Поэтому, если уразумели благовременность любви и ненависти, то одно возлюбим, а с другим поведем брань. Ибо Екклесиаст говорит: время брани и время мира (Еккл. 3:8). Видишь полчище сопротивных страстей, закон плоти, противувоюющ закону ума, и пленяющ законом греховным (Рим. 7:23). Обрати внимание на разнообразное приуготовление к битве, как сопротивное воинство в тысяче местах угрожает нападением твоему городу; посылает соглядатаев, привлекает к себе изменников, устрояет заставы и засады, заключает условия о вспоможении, заготовляет боевые оружия, пращников, стрелков, рукопашных бойцов, конскую силу, и все сему подобное ополчается против тебя. Конечно же, не неизвестен тебе смысл сказанного, знаешь, кто изменник, кто соглядатай, кто подстерегающие в засаде, кто пращники, кто стрелки, кто рукопашные бойцы и дружина конников. Поэтому, все сие имея в виду, надлежит и нам вооружиться, призвать союзников, разведать о подвластных нам, не благоприятствует ли кто врагам, предусмотреть на пути засады, обезопасить себя от ударов щитами, прикрыть себя сверху от вступающих в рукопашный бой, и перекопать подступ к нам конницы. А иным прилично и стены обезопасить укреплениями, чтобы не поколебали их стенобитные орудия.
Без сомнения же никаким словом не объясним в подробности; как враг каждого того города, населенного в душе Богом, или допытывается о наших силах чрез соглядатаев, или даже между нами самими находит сделавшихся предателями наших сил. Но чтобы яснее раскрылось это понятие, скажем: таково первое приражение искушения, с чего берут начало страсти. Вот кто бывает соглядатаем наших сил! Представилось, например, глазам зрелище, которое может возобновить в нас вожделение. Симъ–то враг и изведывает в тебе силы, крепки ли оне, и готовы ли к отбою, или слабы и готовы сдаться. Ибо, если не принял ты на себя согбенной наружности, и силы разумения не растерялись у тебя при том, что увидел, но бесстрастно перенес ты встречу, то немедленно приводишь в ужас соглядатая, как бы показав ему какую копьями вооруженную дружину воинов, разумею ополчение помыслов. Если же во время зрения чувство разнежилось от удовольствия, и подобие видимого образа посредством очей вторглось внутрь сердца, то внутренний военачальник ум, как неимеющий никакого мужества, или никакой отваги, но сластолюбивый и изнеженный, подвергается тогда нападению, и вокруг соглядатая собирается множество предателей из толпы помыслов. А это — те предатели, о которых Господь говорит: врази человеку домашнии его (Матф. 10:36), которые от сердца исходят и сквернят человека, и имена которых ясно можно дознать из Евангелия (Матф. 15:18–19). После сего нетрудно тебе будет уразуметь по порядку подробности этого неприятельского распоряжения, невидимо уготовляющего засады, в которые попадают неосмотрительно идущие путем жизни. Ибо те, которые под видом дружбы и доброжелательства совлекают внимающего им в греховную пагубу, те самые суть подстерегающие в засадах при дорогах, это хвалители сластолюбия, руководящие к зрелищам, показывающие удобство делать худое, своими поступками вызывающие на подражание подобным делам, на конечную пагубу губимым именующие себя их братьями и друзьями. О них написано, что всяк брат запинанием запнет, и всяк друг льстивно наскочит (Иер. 9:4).
Если же уразумели мы засады, то в состоянии будем до ясности разведать и об этой толпе пращников, стрелков и копейщиков; потому что обидчики, люди раздражительные и злоречивые, сами предначиная обиды, вместо стрел или камней, стреляют и мещут язвительными словами, и проходящих без брони и неосторожно поражают в средину сердца. А непогрешат и те, которые страсть кичливости и гордыни сравнят с величавостью коней. Ибо подлинно это какие–то высоковыйные и высокосердые кони, надменными кичливостью речениями, как дутыми какими копытами, брыкающие людей скромных. О нихъ–то говорит Писание: да не приидет мне нога гордыни (Псал. 35:12). А под орудиями, которыми разбиваются связи стены, прекрасно сделает иный, поняв любостяжальность. Ибо нет ничего столько тяжелого и неприступного в вражеском ополчении, как орудие сребролюбия; потому что, хотя наилучшим образом оградятся души стройною связию других добродетелей, но тем не менее и чрез них нередко проникает это стенобитное орудие. Можно видеть, что и при целомудрии вторгается любостяжание, при вере, при точном хранении таинств, при воздержании и смиренномудрии и при всем тому подобном, бывает это тяжкое и непреоборимое приражение зла. Почему иные воздержные, целомудренные, пламенеющие верою, люди строгого образа жизни, скромные нравами, не в состояния бывают противостать этой только болезни.
Посему, если уразумели мы полчище неприятелей, то время вести и брань. Никто же да не осмеливается сопротивное ополчение обратить в бегство, не взяв в руки апостольского всеоружия (Ефес. 6:11). И конечно всякому известен способ божественного оного вооружения, которым Апостол стоящего пред дружиною врагов делает неуязвимым сопротивными стрелами. Ибо разделив добродетели на виды, каждый вид добродетели Апостол соделал особенным оружием, пригодным для нас в каждом обстоятельстве. С верою соплетши и соткав справедливость, из них вооружаемому уготовляет броню, прекрасно и безопасно ограждая воина тою и другою. А если вера и справедливость отделена одна от другой; то оружие не может соделаться безопасным для того, кому вручается. И вера без дел правды недостаточна ко спасению, а также праведность жизни для спасения небезопасна сама по себе, не в сопряжении с верою. Посему, как бы вещества какие, соплетши в сем оружии веру и правду, Апостол приводит у воина в безопасность вместилище сердца; ибо под бронею разумеется сердце. А голову доблестного обезопашивает надеждою, означая сим, что хорошему воину приличествует, как некое перо на шлеме, иметь в горнем упование чего либо возвышенного. И щит, оружие прикрывающее, есть несокрушимая вера, которую не может пронзить острие рожна. Под рожнами же, какие мещут в нас неприятели, будем, конечно, разуметь разнообразные приражения страстей. Но спасительное оружие, которое вооружает десную руку доблестно подвизающихся со врагами, есть Святый Дух, страшный, когда противодействует, и спасительный, когда сообщается приемлющим. И всякое евангельское учение доставляет безопасность ногам, так что ни одна часть тела не оказывается обнаженною и открытою для принятия удара.
Посему, если дознали мы, с кем надлежит вести брань, и так вступать в битву; то прилично дознать и другую сторону дела, с кем, как объявляет слово сие, быть в союзе и мире. Итак кто же тот добрый военачальник, с которым сближусь миром? Кто царь такового воинства? Не явно ли, как то и другое узнаем из богодухновенного Писания, что небесное воинство есть дружина Ангелов? Ибо сказано: бысть множество вой небесных, хвалящих Бога (Лук. 2:13). И Даниил усматривает тьмы тем предстоящих, и видит тысячи тысяч между служащими (Дан. 7:10). И Пророк, свидетельствующий о подобном сему, Господа вселенной именует Господом воинств и Господом сил (Ис. 23:10). И Навину говорит Сильный в брани: аз Архистратиг силы (Нав. 5:14). Если же уразумели мы, какое это доброе споборничество, и кто вождь сих споборников; то вступим с Ним в союз, прибегнем к Его могуществу, соделаемся друзьями Приобретшего столько силы. Какой же способ сближения с Ним, сему учит нас вводящий в сию приязнь, великий Апостол, когда говорит: оправдившеся убо верою, мир имамы к Богу (Рим. 5:1); и еще: по Христе молим, яко Богу молящу нами: молим по Христе, примиритеся с Богом (2 Кор. 5:20). Ибо мы, которые ныне бехом естеством чада гнева (Ефес. 2:3), делая то, чего не надлежало, и сопричислялись к противящимся деснице Вышняго, отложив нечестие и мирские похоти, как начавшие жить свято, и праведно, и благочестно, сим примирением вступаем в союз с истинным Миром. Ибо так говорит о Нем Апостол: яко Той есть мир наш (Ефес. 2:14). Слово это есть конец и начало всего делаемого во время. Ибо обучены мы все делать во время, чтобы самим для себя преуспеть в следующем: пребывая во враждебном расположении к сопротивнику, иметь мир с Богом. Конечно же, если воинством мира назовет кто те добродетели, с которыми надлежит быть в приязни, то не чуждым сего данного смысла будет слово; так как всякое именование и понятие добродетели относится к Господу добродетелей.
И для чего кому либо длить речь о подобном сему, когда и сказанного достаточно, чтобы открыть смысл, заключающийся в сих речениях? Но поскольку Екклесиаст возбудил сим душу наперед обученного высокими этими уроками, то возводит еще в высшее некое состояние душу, которая следует за словом, и говорит: кое изобилие творящего, в них же сам трудится? (Еккл. 3:9) А это тоже, что сказать: какое следствие всех трудов человеческих, из которых ни одного неть уже более? Человек возделывает землю, плавает по морям, злостраждет в воинских трудах, торгует, терпит убыток, приобретает выгоду, судится, борется, уходит с поприща побежденным, получает победный приговор, признается бедствующим, ублажается, покоится дома, скитается по чужим людям, терпит все иное, что; видим в различных житейских занятиях, где у каждого свое дело. И тратящему жизнь свою на подобные занятия какое приносит преимущество забота об этом? Не вместе ли и жизнь прекращается, и все покрывается забвением? Оставленный тем, чего вожделевал, уходит обнаженным, не взяв с собою ничего из здешняго, кроме одного сознания об этом, от которого после в таковых занятиях по заблуждению к проводившему жизнь бывает на небо такой как бы глас: кое изобилие было тебе от многих этих трудов, которыми трудился ты? Где великолепные домы? Где погреба с деньгами? Где медные изваяния и восклицания хвалящих? Теперь вот огонь, бичи, неподкупный суд, и непогрешительное исследование сделанного в жизни. Посему кое изобилие творящего, в них же сам трудится? И после сего Екклесиаст говорит:
Видех попечение, еже даде сыном человеческим, еже пещися в себе. Всяческая, яже сотвори, добра во время свое: и век дал есть в сердце их, яко да не обрящет человек сотворения, еже сотвори Бог от начала и даже до конца (Еккл. 3:10–11). Что; сие значит? Познал я, говорит он, отчего естество человеческое озабочено жизнию, поводы к тому заимствовав из благодеяний Божиих. Бог все сотворил на добро, и причастным существенного дал рассудок, отличающий лучшее, познанная которым благовременность употребления каждой вещи доставляет употребляющим ощущение прекрасного. Поскольку же погрешил человек в правом суждении о сущем, лукавым советом совращен у него правильно судящий рассудок, то перемена во времени, что; в каждой вещи было полезного, превратила сие в испытание противоположного. Если кто, предложив на столе все приготовленное для пиршества, положит вместе и какие либо приборы, служащие к удобному принятию пищи, какие приготовляются в подобных вещах любителями искусства, или небольшие ножи, которыми гости разрезывают себе что; либо предложенное, или серебряные остроконечные снаряды, у которых обыкновенная на другой части пустота делается для удобного черпания вареных овощей; и потом кто либо из приглашенных на пир, изменив употребление положенных на столе вещей, каждою воспользуется не надлежащим образом, ножем зарежет или себя или кого нибудь подле себя, а острием выколет глаз или у ближняго или свой: то иный скажет, что такой–то во зло употребил приготовление дающего пир. Хотя устроивший пиршество сам предуготовил причину происшедшего; но в худом лежащего на столе употреблении, доведенном до сей беды, виновен безрассудно воспользовавшийся положенным. Так, говорит Екклесиаст, познал и я, что каждая вещь приведена в бытие Богом для всего наилучшего, только бы употребление каждой вещи было в свое время, и как следует; но извращение правильного суждения о вещах и доброе обратило в повод к злу. Скажу например так: что; приятнее деятельности глаз? Но когда зрение делается страждущим служителем в таких делах, говорится, что сотворенное в благодеяние стало причиною зол. И это не иное что значит, а только то, что человек, хорошим воспользовавшись худо, употребление сделал страданием. Так и все прочее, что; дано естеству Богом, зависит от произволения пользующихся, чтобы соделаться служащим к благу, или во зло. Посему Екклесиаст говорит: всяческая, яже сотвори, добра во время свое: и век дал есть в сердце их. Век же, как понятие чего–то протяженного, означает все творение Божие в нем происшедшее. Посему слово объемлющим указует на все объемлемое. Итак все, что произошло в век, Бог дал сердцу человеческому ко благу, чтобы по величию и красоте тварей человек усматривал в них Сотворшего. Но люди, чем были облагодетельствованы, от того потерпели вред, каждою вещию воспользовавшись, не как было должно, и не на пользу. Посему сказано: яко да не обрящет человек сотворения, еже сотвори Бог с целию служить на пользу во всем сотворенном от начала творения и даже до совершения вселенной, тогда как в числе существ нет ни одного худого. Ибо и не естественно из доброго произойдти чему либо худому. И если добр Виновник всего; то, конечно, добро и все, что имеет самостоятельность свою от доброго. Потом Екклесиаст говорит:
Уразумех, яко несть благо в них, но токмо, еже веселитися, и еже творити благо в животе своем (Еккл. 3:12). В слове сем кратко повторяется уже сказанное. Ибо, если употребление Божиих созданий во время определяет, что; хорошо для человеческой жизни; то хорошим будет одно, постоянное при хорошем веселие, которое раждается от добрых дел. Ибо делание заповедей ныне отличившегося добрыми делами веселит надеждою; а потом, усладив благими надеждами, присовокупляет свойственное достойным веселие, когда изрекает Господь сделавшим доброе: приидите благословеннии, наследуйте уготованное вам Царствие (Матф. 25:34). И что; для тела — пища и питие, которыми поддерживается естество, то для души — иметь в виду добро, и, как это есть истинный дар Божий, возводить взор к Богу. Ибо вот то имя, которое объясняется в сказанном в последствии (Еккл. 7:2). Читается же сие так:
И всяк человек, иже яст и пиет, и видит благое во всем труде своем, сие даяние Божие есть (Еккл. 3:13). Как человек плотский, говорит Екклесиаст, имеет крепость от того, что ест и пьет: так, кто имеет в виду благое (а истинное благо есть тот, кто один благъ), имеет даяние Божие во всем труде своем, именно то самое, что всегда имеет в виду благое, при помощи Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и сила во веки веков! Аминь.
На слова Писания: а блудяй, во свое тело согрешает (1 Кор. 6:18)
Грозная труба апостольского наставления, возвещая воинству многие и другие правила благочестия, особенно же отгоняя от бездн студодеяния, прилагает в конце и воинское предписание: бегайте, говорит, блудодеяния; всяк грех, его же аще сотворит человек, кроме тела есть (1 Кор. 6:18). Борцы чувственных войн усовершаются в боевом искусстве, то прямо нападая на противника, то уклоняясь от него бегством. Есть и брань духовная, в которой также потребно искусство противоборства и бегства. Зная сие, Павел ведет свое воинство к тому и другому роду искусства благочестивой брани; то учит постоянству в битве: станите препоясани чресла ваши истиною (Ефес. 6:14); то советует обманывать противника бегством: бегайте блудодеяния (1 Кор. 6:18). Если случится война со стороны неверия, то полезно противостоять ему; если же враг угрожает коварством, то хороша против таких противников засада. Если напрягается лук клевет, то полезна борьба с ложью лицем к лицу; если же уязвляет образ блудный, то полезнее дать тыл и бежать от прямой встречи с ним; ибо прелюбодеяние направляет свои стрелы в глаза. Посему должно помнить приказание военачальника: бегайте блудодеяния. Ибо блуд есть такой порок, от которого должно бежать более, чем от других. Другие злые виды греха, по–видимому, щадят тело совершающих, и соделанное останавливается только на том, кого коснулось дело; например, в грабежах терпят вред только ограбленные, в пороке зависти сила страсти обрушивается только на тех, коим завидуют; в клеветах, если им верят, опять опасность только для оклеветанного, в убийствах несчастие убитому; и если кто обратит внимание на последствие всех неправых дел, тот найдет, что неправо поступающие получают прибыль, а вред терпят претерпевающие неправду. Но прелюбодеяние не знает этого разделения, не отделяет дела подвергшегося ему от дела совершившего, но наносит вред обоим вместе, соединяя блудника и блудницу общим союзом осквернения, и обезчестивший тело подвергается одинаково безчестью с обезчещенным. Убийцы, умерщвляя, случается, не умирают вместе с убитыми; осквернивший же плоть и сам сопричастен осквернению.
И посмотри со мною на эту тонкость в словах Апостола: бегайте, говорит, блудодеяния. Почему? Потому что всяк грех, его же аще сотворит человек, кроме тела есть (то есть не вредит естеству тела, а совершается вне тела человека причинившего вредъ), а блудяй во свое тело согрешает; не как убийца, который против чужого тела (грешитъ), сохраняя свое неуязвленным; не как любостяжательный, который вредит иному, остерегаясь вреда собственному телу; блудник сам себе вредит, сам себя пронзает стрелою безчестия. Вор решается на воровство, чтобы питать тело, а блудник заботится об ограблении собственной плоти. Любостяжательного побуждает к хищению мысль о приобретении корысти; блудодеяние же наносит ущерб чистоте тела. Завистливому причиняет страдание слава другого, а блудник сам содевает собственное бесславие. Ибо что безчестнее бремени блудодеяния? Всякое рабство греху бесславно, ибо безчестит благородство души; но блудодей есть самый бесславный раб греха; ибо осужденный им выгребать свои нечистоты, он собирает кучи скверн и исправляет нечистую работу. Не гнусно ли ходить около нечистот, тереться около предметов постыдных, иметь тело не отличающееся от рубища? Ибо какое различие между рубищем и блудодеем? Он отторгается оть тела Церкви, разрушается ежедневным гниением — греховными удовольствиями, отбрасывается как ненужное рубище, лежит на попрание всем демонам. На нем диавол отпечатлевает свою гнилость.
Внешнее положение блудника не менее дурно, как и внутреннее состояние. От него бегут в домах, отвращаются в собраниях; он оскорбление для сближающихся с ним, предмет презрения для враждебных ему, позор для родственников; его проклинают служители, он печаль родителям, посмешище для домашних, предмет для смеха и разговора соседям: его отвергают при попытках жениться; после брака он подозрительный супруг. Видя блудодеяние материю такого множества зол, Павел заповедает победительное бегство: бегайте блудодеяния.
Сии слова напомнили мне ныне целомудренного юношу, бегством восторжествовавшего над египетским блудодеянием. Многое склоняло юношу к увлечению: возраст, в котором сильна любовь к удовольствиям, иго рабства, любовное прельщение госпожи; ибо говорит Писание: бысть сицевый некий день, и вниде Иосиф в дом делати дела своя: и никтоже бяше от сущих в дому внутрь: и ухвати госпожа за ризы глаголющи: лязи со мною (Быт. 39:11–12). Велико достоинство целомудрия! Госпожу оно сделало рабою раба. Разжена была стрела блуда, но она не нашла в душе сгараемого вещества и угасла в одежде. Она говорила: лязи со мною, а целомудрие гласило юноше напротив: бодрствуй со мною, и он на деле показал неусыпность. Ибо бодрость духа не воздремала от прельщений, ум не заснул от очарований. Но для него горьче брани был голос госпожи, приказывавшей: лязи со мною.
Готовым стоял невестоводитель блуда, — диавол, и вместе с блудницею тянул одежды и соучаствовал в ея уловках, но не знал он, что вступил в борьбу с искусным и опытным подвижником целомудрия, хорошо ускользающим от ея уловок; ибо, говорит Писание, оставив ризы своя в руках ея, убеже и изыде вон (Быт. 39:13). О нагота, более скромная, чем прикрытая одеждою! Что же неистовство египетского беспутства? Свои пороки слагает на Иосифа, и прибежав к мужу, говорит: ты ввел к нам отрока Евреина наругатися нам; ибо он сказал мне: я лягу с тобою. Егда же возвысих глас мой и возопих, остави ризы у мене и отбеже (Быт. 39:14–15).
Опять Иосиф оклеветывается изъ–за одежды. Прежде, братья, взяв его одежду, при помощи ея злодейственно клеветали на него, что он растерзан зверями; теперь женщина, взявши одежду, оклеветывает его в блудодеянии. К Иосифу прилично применяются слова Господа: разделиша ризы моя себе (Псал. 21:19). Но, о праведное попечение Божие о Иосифе! Он не прославил Иосифа прежде искушений, но в сновидениях показал ему будущее, научая, что издалека еще благоуготовил Он праведным славу; соизволил же искушением испытать юношу, чтобы заградить уста порицателей. Ибо еслибы Иосиф не дал опыта (своей добродетели), то порицатели сказали бы, что события египетския дело слепого случая. Иосиф царствует и отрок повелевает варварами. Какую доблесть оказал он? За какую добродетель достиг сего? Предупреждая такие толки о праведнике, Бог соизволяет на искушение его, чтобы оно было для праведника свидетельством, и заградило уста порицателей. Итак будем отвращаться от стрел, которые мещет образ блудный. Закроем глаза от сластолюбия; целомудрие пусть бдит над охраною тела, чистота да вселится в члены, чтобы таким образом тело было обиталищем Духа. Припишем и самый приговор, который возглашает страшное для распутных определение: аще кто храм Божий растлит, растлит сего Бог (1 Кор. 3:17).
На псалом шестой
По пророческому благословению восходящие «от силы в силу» и прекрасные «восхождения в сердце своем» полагающие (Пс. 83:6.8), когда возьмутся за какую–нибудь добрую мысль, руководствуются ею к высшей еще мысли, при помощи которой и совершается душою восхождение на высоту. И кто таким образом простирается непрестанно «в предняя» (Фил. 3:13), тот никогда не прекратит доброго восхождения, всегда возвышенными мыслями путеводимый к уразумению того, что еще выше. Сказал я это, братья, вникая в смысл шестого псалма и обращая внимание на необходимую последовательность порядка, почему к слову о «наследствующем» (Пс. 5:1) присовокуплено для нас слово о «осмом» (Пс. 6:1)?
Конечно же, не неизвестна вам тайна «осмого». Ибо неразумно то, что мысль иных увлекается иудейскими предположениями. А иудеи, великую тайну об»осмом» низводя до неблагообразных телесных членов, утверждают, будто бы сим числом: «осмый», указуется на закон об обрезании, об очищении после родов и о подобном сему. Но мы, научившись у великого Павла, что «закон духовен есть» (Рим. 7:14), хотя число сие имеет значение в упомянутых законах при узаконении мужескому полу обрезания, а женскому — жертвы при очищении, как не отвергаем закона, так не принимаем его в унизительном смысле, зная, что истинное обрезание действительно бывает в осмый день, и совершается каменным ножом. А под сим камнем, обрезывающим нечистоту, без сомнения, уразумеешь тот Камень, который есть Христос (1 Кор. 10:4), то есть, Слово истины, и поймешь, что оскверняющее течение житейских дел тогда прекращается, когда человеческая жизнь претворена в Божественное. Но чтобы разумеемое под сим для всех стало явным, сколько можно яснее изложим то, о чем у нас речь.
Время настоящей жизни при первом создании твари измерено было одною седмицею дней; потому что с первого дня начато создание существ, и днем седьмым положен конец творению. «Бысть день един» (Быт. 1:5), сказано о дне, в который приведены в бытие первые твари; а также во второй сотворены вторые, и последовательно до дня шестого, когда сотворено все. День же седьмой, соделавшись концом творения, заключил собою время, спротяженное устройству мира. Посему, как не после этого времени приведено в бытие небо, и всякая другая часть мира не в последствии присоединена к приведенным уже в бытие в начале, а напротив того, тварь сама по себе пребывает не требующею дополнения и не умаляемою в мерах своих: так не происходило иного времени, кроме показанного устройством мира; напротив же того, естество времени определено седмицею дней. И посему–то, когда измеряем время днями, начав одним и заключив число седьмым, снова отступаем к единому, целое продолжение времени измеряя непрестанно кругом седмиц, пока, по миновании движимого и по прекращении скоротечного движения, как говорит Апостол (Евр. 12:27), не придет то, что уже непоколебимо, и к чему не касается боле превратность и изменение.
Поскольку в одном и том же состоянии и в последующие веки всегда одинаково пребывает та тварь, над которою совлечением телесной жизни совершается истинное обрезание естества человеческого и истинное очищение от действительной скверны; скверна же для человека — грех, умерщвляемый вместе с естеством человеческим (потому что»во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50:7)), которое Сотворивый «очищение грехов наших» (Евр. 1:3) очищает тогда совершенно, истребляя в естестве существ все, что есть в них кровавого, нечистого и необрезанного; то в этом смысле приемлем закон об «осмом» дне, — закон об обрезании и очищении; потому что, по прекращении седмичного времени, по седьмом дне наступить день «осмый, осмым» называемый потому, что за седьмым следует, но не допускающий по себе преемства в числе; потому что постоянно пребывает единым, не разделяемый на части ночным мраком. Ибо производит его иное солнце, которое сияет истинным светом, и как скоро однажды явилось нам, как говорит Апостол, не скрывается уже на запад, но, все объяв светоносною своею силою, в достойных производит непрерывный и непреемственный свет, самых причастников сего света соделывая новыми солнцами, как в Евангелии говорит Слово: «тогда праведницы просветятся яко солнце» (Матф. 13:43).
Итак, поскольку в предыдущем псалме шла речь о «наследствующем», а наследство сберегается для достойных ко дню осмому, в сей же день совершится и правдивый суд Божий, уделяющий каждому по достоинству; то Пророк с воспоминанием о «осмом» прекрасно соединил и слово о покаянии. Ибо кто, приведя себе на память страшный суд Христов, не смутится тотчас же в собственной своей совести, не будет объять страхом и неведением? Если и сознает в себе исправление жизни; то, взирая на строгость суда, на котором и малейшие недосмотры подвергаются исследованию, конечно, придет в ужас от ожидания страшных наказаний, не зная, чем для него заключится конец суда. Посему то, как бы имя у себя перед очами страшные мучения, эту геенну, этот темный огонь, этого неумирающего червя совести, всегда грызущего душу стыдом, и возобновляющего страдания напоминанием о сделанном в жизни худо, он обращается уже с молением к Богу, прося, «да не» оною «яростию» предаст его обличение, ниже оным гневом наложит на него наказание за все, в чем прегрешил (Пс. 6:2). Ибо для осужденных на жестокое наказание страшным оным мучением приговор суда представляется делом ярости и гнева. И потом Пророк, как бы уже страдая в муках, усвояет себе речения мучимых, для которых яростью и гневом кажется то, что на нечестивых налагается в наказание им. Посему говорит: не дожидаюсь того, чтобы ярость эта страшными бичами произвела обличение тайных моих дл; а, напротив того, необходимое следствие оного гнева предупреждаю исповеданием.
Что в бичуемых производит боль, тайны беззакония против воли их делая явными, то произволение совершает само собою, бичуя и муча себя покаянием, и обнаруживая сокрытый в тайне грех. Посему, сказав: «да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене», в след за сим Пророк прибегает к милосердию, причину в себе худого приписывая, не столько произволению, сколько немощи естества. В худом я положении; уврачуй меня по милосердию; потому что по немощи впал я в страсть. Какая же это немощь? Из мест своих вышли «кости»мои, разорвалась взаимная между ними связь. Костями же называет целомудренные помыслы, поддерживающие собою душу. «Исцели мя, Господи, яко смятошася кости моя» (3). И объясняет загадочную речь, присовокупив к сказанному: «душа моя смятеся зело» (4). Посему, что медлишь исцелением? говорит Пророк. «И Ты, Господи, доколе» не окажешь «милости?» Не видишь ли, как близка к смерти жизнь человеческая? Решительную минуту жизни нашей предупреди обращением души моей, чтобы застигшая смерть не сделала бездейственным всякого средства к уврачеванию. Ибо в смерти никому не будет уже возможности болезнь, причиненную ему грехом, уврачевать памятованием о Бог; потому что исповедь имеет силу на земле; а во аде сего нет.
Потом, как бы на чей либо вопрос: почему к уврачеванию прегрешений призываешь милосердие? чем умилосердил ты Божество? — Пророк отвечает так: «утрудихся воздыханием моим», омою от греха»постелю мою» слезною водою (7). Почему же это? Потому что, говорит Пророк, «смятеся от ярости око мое» (8), и поэтому стал я каким то ветхим и иссохшим, потому что раздражение, произведенное во мне врагами, зародило в душе гнилость. Если же одна раздражительность производит такой страх в погрешившем от оной, то кольми паче естественно будет отчаяться в спасительной надежд тем, которые сознали в жизни своей не только страсти, происходящие от раздражительности, но и все порождаемые похотью, любостяжательностию, кичливостью, честолюбием, завистью и прочим роем худых человеческих наклонностей. Почему, обратив речь к врагам всякого рода, Пророк говорит: «отступите от мене вси делающии беззакони»е (9).
Но в продолжении сего слова Пророк показывает добрую надежду, что при покаянии и мы преуспеем в добре. Ибо немедленно и в одно время обращает речь к Богу о покаянии и, пришедши в соощущение Божия о нем благоволения, возвещает милость и радуется дару, говоря: «услыша Господь глас моления моего. Господь молитву мою прият» (9:10). Посему, чтобы навсегда осталось при нем благо, приобретенное покаянием, и чтобы жизнь не возымела снова потребности во вторичном покаянии, молит отвратить врагов его, наказуя их стыдом. Ибо постыженный во время худого предприятия, употребив для себя стыд наставником, удерживающим от таких дел, в последующее время воздержится от подобных искушений.
Вот последование доброго восхождения! Псалом четвертый от блага телесного и плотского отличил невещественное, пятый такового блага испрашивал в наследие; а шестой, упомянув о «осмом», указал время наследия. «Осмый» — дал видеть страх суда. Суд подобным нам грешникам подал совет страшное решение суда предварить покаянием. Потом покаяние, разумно принесенное Богу, благовествовало нам о выгоде, какая им доставляется, сказуя: «услыша Господь глас» обращающегося к Нему со слезами. А чтобы и после сего, в последующее время, непреложным оставалось у нас благо, Пророк молит, стыдом произвести в нас уничтожение враждебных мыслей. Ибо иную враждебную и беззаконную мысль и невозможно угасить иначе, как приводя ее в уничтожение стыдом; потому что стыд от сделанного в жизни худо делается глубоко утвердившеюся пропастью и отделяет собою человека от греха. Посему скажу: «да постыдятся и посрамятся зело вси врази мои» (11), «врази же человеку», очевидно, «домашнии его» (Матф. 10:36), которые «от сердца исходят и сквернят человека» (15:18), и за которыми, если вскоре отвратятся со стыдом, последует для нас упование славы, не стыдом оканчивающееся, по благодати Господа. Ему слава во веки. Аминь
О девстве (послание, содержащее увещание к добродетельной жизни, в двадцати трех главах)
1. Цель данного слова — возбудить в читателях стремление к добродетельной жизни. Так как брачная жизнь, по словам божественного апостола, полна суеты (развлечения, в смысле то, что занимает, отвлекает человека) (ср. 1 Кор. 7:35), то не без причины это слово представляет жизнь девственную, как некую дверь и переход к образу поведения более возвышенному, потому что вступившим в жизнь брачную нелегко с (душевным) спокойствием посвящать себя жизни божественной, а тем, кто полностью удалился от бурной этой жизни, очень легко «безмолвно приступить» (1 Кор. 7:35) к занятиям высшего рода. Но поскольку совет сам по себе не имеет достаточной силы убеждения и никто никого легко не склонит к полезному одними только словами увещания, если прежде не превознесет похвалами того, к чему склоняет слушателя, то слово это начинается похвалами девству, а затем переходит к увещанию. Далее, так как хорошие качества в каждом предмете бывают лучше видны при сопоставлении его с предметами противоположными, то по необходимости здесь упоминается о невзгодах брачной жизни. Потом, как требует того добрый порядок, предложено некое начертание любомудренной жизни и доказано, что преданный мирским заботам не может ее достигнуть. Но так как в отрешившихся от мира плотское вожделение не действует, то естественно возникает вопрос: в чем состоит истинно вожделенное благо, ради которого мы и получили от Зиждителя нашей природы силу (желания)? А после того, как, по возможности, это раскрывается, оказывается, как и следует (ожидать), нужным определить, какой путь ведет к достижению этого блага.
2. Таким образом, открывается, что истинное девство, чистое от всякой греховной скверны, вполне соответствует тому, чего мы ищем, так что слово это, хотя в середине, как мы видим, касается некоторых других предметов, (тем не менее) все обращено на похвалу девству. Частные же правила, которые подвизающиеся в этой благочестивой жизни тщательно выполняют, во избежание растянутости слова опущены. Но предлагая убеждение вообще, в более общих правилах заключили мы некоторым образом и частные, так чтобы и не опустить чего–либо необходимого, и избежать излишества. А так как все обычно охотнее принимаются за какое–либо дело, когда видят, что кто–то прежде достиг в нем славного успеха, то мы по необходимости упомянули и о святых, просиявших в безбрачии. Поскольку же примеры, содержащиеся в повествованиях, не так действенны в побуждении к преспеянию в добродетели, как живой голос и настоящие примеры добрых дел, то мы в конце слова по необходимости упомянули о благочестивейшем епископе и отце нашем (Василии Великом), который один только может научить нас этому. Упомянут он не по имени, но некоторыми чертами слово наше дает понять, что это тот, на кого мы указываем, — чтобы последующим читателям этого слова не показался бесполезным совет, предписывающий юношам обращаться за наставлением к тому, кто уже миновал (течение) этой жизни, но чтобы они, взирая только на то одно, каков должен быть руководитель в этой жизни, избирали себе путеводителями всегда таких мужей, на которых благодать Божия всегда указывает как на вождей в добродетельной жизни. Таким образом, они или найдут того, кого ищут, или не останутся в неведении относительно того, каким он должен быть.
Глава 1. О том, что девство выше похвал
1. Священный образ девства, который почитают все, кто полагает совершенство в чистоте, но избирают лишь те, кому в благом этом стремлении благосклонно содействует благодать Божия, несет в самом себе подобающую ему похвалу — в соименном ему названии, потому что слово «непорочность» (το αφθορον), обычно употребляемое многими вместо (слова) «девство», указывает на чистоту его. Так из равнозначащего имени можно постигнуть исключительность этого дара, поскольку, хотя много есть подвигов добродетели, но один только он почтен названием непорочности. Если же нужно и похвальными речами почтить этот великий дар Божий, то для этого достаточно (сказал) божественный апостол, заключив в немногих словах все превосходство похвал, когда украшенную этим даром назвал «святой и непорочной» (Еф. 5:27; ср. 1 Кор. 7:34). Ибо если подвиг досточтимого этого девства состоит в том, чтобы быть «непорочным и святым» (Еф. 5:27), а эти имена собственно и преимущественно употребляются для прославления «нетленного» (αφθαρτος) «Бога» (Рим. 1:23), то какая может быть похвала девству выше той, что для тех, кто приобщился чистых его тайн, оно оказывается некоторым образом боготворящим, соделывая общниками славы Единого, истинно «святого и непорочного» Бога (Еф. 5:27) тех, кто соединился с Ним чистотой и нетлением.
Те же, кто распространяет протяженные похвалы девству в продолжительных речах, думая этим прибавить нечто к красоте девства, по–моему, обманывают сами себя и поступают вопреки собственной цели, теми самыми похвалами, которыми возвышают величие девства, делая подозрительной истинную его славу. Ибо все, что величественно по своей природе, само собой возбуждает удивление, нисколько не нуждаясь в содействии слова, как например: небо, солнце и все прочее дивное в мире; а более низким предметам слово, играя роль подмостков, искусственными похвалами придает некоторый вид мнимого величия. Потому–то часто удивление, возбуждаемое похвалами, становится подозрительно для людей, как поддельное. Одной похвалы достаточно девству: объявить его добродетелью выше всяких похвал и выражать удивление его чистотой более жизнью, чем словом. А тот, кто по ревности к прославлению делает девство предметом похвалы, тот, как кажется, думает, что может каплей своего пота увеличить беспредельное море, полагая, что человеческим словом можно возвеличить такой дар: он или не знает своих сил, или не понимает того, что хвалит.
Глава 2. О том, что девство есть совершенство, свойственное Божескому и бестелесному естеству
1. Требуется немалая проницательность, чтобы постигнуть исключительность такого дара, который сопутствует нетленному Отцу. Более же всего удивительно, что девство (сразу) обретается (συνεπινοειται) и в Отце, Который и Сына имеет, и родил Его бесстрастно; созерцается также и в «Единородном» Боге (ср. Ин. 1:18) — подателе нетления, как воссиявшее вместе с чистотой и бесстрастием Его рождения. И опять–таки удивительно, (что) Сын мыслится чрез девство. Точно так же созерцается девство и в естественной нетленной чистоте Святого Духа: ибо, наименовав Его нетленным и чистым, ты другим именем обозначил девство. Оно действует совместно со всяким премирным естеством, чрез бесстрастие сопребывая с горними силами, не отделяясь ни от чего Божественного и не сближаясь ни с чем противоположным (здесь — любое проявление зла: демонов, грешников, зло как таковое). Ибо все, что по природе и расположению склонно к добродетели, непременно украшается чистотой нетления, а все, что уклоняется в противоположную сторону, и является и именуется отпадением от чистоты. Так какая же сила красноречия сравнится с величием этого дара? И как не опасаться, чтобы чрезмерными похвалами не повредить его великому достоинству, внушив слушателям мнение о нем менее высокое, нежели то, какое они имели прежде?
2. Таким образом, в отношении девства лучше оставить хвалебные речи, затем что слово не может соответствовать высоте предмета, и тем не менее, насколько возможно, (следует) всегда помнить об этом божественном даре и иметь на устах то благо, которое особенно и преимущественно принадлежит бестелесному естеству, но, по человеколюбию Божию, даровано и тем, кто получил жизнь от плоти и крови, дабы павшее от страстного расположения естество человеческое вновь восставить и возвести к горнему созерцанию, простерши ему, словно руку, причастие чистоты. Ибо потому, я думаю, и источник нетления — Сам Господь наш Иисус Христос — не чрез брак вошел в этот мир, чтобы образом Своего вочеловечения открыть ту великую тайну, что вход и пришествие Божие может и способна воспринять одна лишь чистота, достигнуть которой в совершенстве можно не иначе, как отрешившись всецело от плотских страстей. Ибо то, что произошло с непорочной Марией телесным образом, когда «исполнение Божества» (Кол. 2:9) во Христе воссияло чрез девство (чрез Деву), то же происходит и со всякой душой, ведущей девственную жизнь по разуму. Хотя Господь не приходит более в телесном виде (ибо «не разумеем ктому по плоти Христа» (2 Кор. 5:16), говорит Писание), но духовно Он вселяется (в душу) и вводит с Собою Отца, как говорит где–то Евангелие (ср. Ин. 14:23).
3. Итак, поскольку сила девства такова, что оно и на небесах у «Отца духовом» (Евр. 12:9) пребывает, и с премирными силами торжествует, и человеческому спасению содействует, — поскольку собою вводит Бога в общение с человеческой жизнью, а человека окрыляет желанием небесного и делается как бы некоей связью содружества человека с Богом, чрез свое посредство приводя в согласие столь далеко отстоящее друг от друга по естеству, — то какая сила слова будет в состоянии объять это чудо? Но так как совершенно нелепо было бы уподобиться (существам) безгласным и бесчувственным и оказаться или не понимающим красот девства, или нечувствительным и равнодушным к ощущению этих красот, то мы готовы сказать о нем (кое–что) немногое, так как во всем должны повиноваться власти того, кто дал (нам такое) приказание (намек на Василия Великого). Впрочем, пусть никто не ждет от нас высокопарных речей: если бы мы и желали того, не могли бы, потому что к такого рода речам не приготовлены. Да если бы и могли говорить напыщенно, то предпочли бы краткую речь тому, что вообще не приносит пользы. Ибо разумный человек должен во всем искать не того, что бы возбуждало восхищение им в сравнении с другими, но того, что могло бы принести пользу как ему самому, так и прочим.
Глава 3. Воспоминание невзгод брачной (жизни) и указание на то, что автор этого слова не безбрачен
1. О, если бы возможно было и мне от этого занятия получить некую пользу! С большим усердием взялся бы я за этот труд, если бы при составлении этого слова трудился с надеждой, по слову Писания, вкусить плода от своего «орания» и «молотьбы» (ср. 1 Кор. 9:10; Втор. 25:4). Но теперь знание красот девства для меня, так сказать, напрасно и бесполезно, как плоды для вола, с заграждением идущего на «молотьбу» (1 Кор. 9:9), или как для жаждущего — вода, текущая со скал, когда она для него недостижима. Блаженны те, в чьей власти избирать лучшее и кто не отгородился стеной, вступив в брачную жизнь, подобно нам (о браке Григория Нисского), которые словно бездной (ср. Лк. 16:26), отделены от славы девства, к нему же не может возвратиться никто, кто хотя бы однажды сделал шаг в мирскую жизнь. Поэтому мы только зрители чужих совершенств и свидетели блаженства других. Если мы даже и правильно судим о девстве, то испытываем (лишь) то же, что повара и слуги, которые на трапезе богатых готовят роскошную пищу другим, но сами ни к одному из приготовленных яств не прикасаются. Какое было бы блаженство, если бы случилось не так и мы узнали это благо без запоздалых сожалений! Ныне же поистине завидна и достойна восхищения участь тех, кому не заграждена возможность наслаждаться этими благами! Мы же, подобно тем, кто, сопоставляя свою бедность с многообразием богатства, еще более тяготится своим настоящим положением и труднее его переносит, чем больше познаем богатство девственной жизни, тем больше оплакиваем иную жизнь, чрез сравнение с лучшим ясно видя, скольких и каких благ лишены мы. Не говорю о тех только благах, которые в будущем ожидают ведущих жизнь добродетельную, но и о тех, которые относятся к настоящей жизни. Ибо если кто захочет тщательно исследовать отличие этой жизни от жизни девственной, то найдет между ними почти столь же великое несходство, как между предметами земными и небесными. Истину этих слов могут познать все, кто внимательно рассмотрит сам предмет.
2. Но откуда начать повествование о скорбной этой жизни? Или как зримо изобразить обыкновенные ее бедствия, которые известны всем людям по опыту, но которые природа каким–то неведомым способом сумела скрыть от самих изведавших, так что люди, в них пребывающие, добровольно их не ведают? Хочешь, чтобы мы начали с приятнейшей стороны? Итак, главное, чего особенно ищут в браке, — это радостная совместная жизнь. Пусть будет так; и мы опишем брак, счастливейший во всех отношениях: род знатный, богатство достаточное, возраст взаимно соответствующий, самый цвет красоты, сильное (взаимное) влечение и притом такое, какое только можно представить у одного лица к другому, то приятное соревнование, в котором один старается превзойти другого в любви. Добавим ко всему этому славу, власть, знатность и все, что угодно. Но посмотри и на скорбь, которая по необходимости соединена с перечисленными удовольствиями и мало–помалу их пожирает!
Я уж не говорю о зависти, которая преследует живущих счастливо, а также о том, что видимое благополучие в жизни легко уязвимо людским коварством, и что всякий, не получивший столь же счастливой доли, питает какую–то утробную ненависть к тому, кто его превосходит; и что по этой самой причине, из–за подозрительности, жизнь доставляет более печали, нежели удовольствия тем, кто представляется нам благоденствующим. Но допустим, что и зависть не действует против них, хотя трудно найти человека, который бы достигал вместе и того, и другого: чтобы и счастлив был более других, и зависти избежал. Предположим, если угодно, что жизнь их свободна от всех неприятностей такого рода, и посмотрим, могут ли быть счастливыми живущие и в таком благополучии.
3. Какая же, скажешь, еще может быть печаль, когда даже и зависть не касается этих счастливцев? То самое, говорю я, что они всегда и во всем наслаждаются счастьем, и разжигает в них печаль. Ибо доколе они являются людьми, эти смертные и тленные создания, доколе видят гробы тех, от кого родились. С жизнью их, если они хотя бы немного способны размыслить о ней, неразрывно соединена печаль. Ибо непрестанное ожидание смерти, никакими верными признаками не определенное, но по неизвестности будущего всегда также пугающее, как если бы (смерть) уже наступала, всегда примешивается к нынешней радости, страхом ожидаемого отравляя всякое удовольствие (от жизни). Если бы можно было, еще не имея собственного опыта, научиться опыту тех, кто уже приобрел его! Если бы возможно было другим каким–нибудь способом проникнуть в эту жизнь и рассмотреть, как обстоят дела, то сколько добровольных перебежчиков переметнулось бы от брака к девству! Какая (была бы) бдительность и осторожность, чтобы не попасть как–нибудь в эти неизбежные сети, тяготы которых невозможно точно знать никому, кто сам не был в этих тенетах! Ибо ты увидал бы, если бы можно было видеть безопасно, большое смешение противоположностей: смех растворен слезами, печаль смешана с радостью; всему сопутствует ожидание смерти и отравляет любое наслаждение. Когда жених смотрит на любимое лицо, тотчас же непременно является у него и страх разлуки; когда он слышит приятнейший голос, представляет в уме, что когда–нибудь его не услышит; когда радуется, созерцая красоту, тогда особенно трепещет в ожидании скорби. Если посмотрим на то, что ценят юноши и чем увлекаются неразумные, а именно: на очи, (в окружении) ресниц сияющие, на брови, очи обрамляющие, на щеки, нежной и радостной улыбкой (озаренные), на губы, естественной алостью окрашенные, на волосы, золотистые и густые, различными плетениями главу украшающие, и вообще на всю эту временную красоту, то, если в ком есть хотя сколько–нибудь рассудка, непременно представит в душе своей и то, что эта красота некогда, разрушившись, погибнет, обратится в ничто, вместо видимого теперь сделается гнусными и безобразными костями, не оставив ни следа, ни памятника, ни остатка нынешнего цветущего вида.
4. Если кто размыслит об этом и о подобном, тот может ли жить в веселии? Неужели он будет доверять нынешним своим благам, как вечно пребывающим? Не ясно ли из этого открывается, что такой (человек) почувствует смятение, словно бы от обманчивых сновидений, и (будет) недоверчиво относиться к этой жизни, взирая на видимое как на чуждое? Конечно, понимая, если только можешь сколько–нибудь судить о существующих предметах, что ничто из являющегося нам в жизни не является таким, каково есть, но по обманчивому представлению кажется одним вместо другого, обольщая обращающихся к нему надеждами и укрываясь под ложным видом являемого, пока чрез внезапное изменение не окажется чем–то другим вопреки человеческой надежде, которая по ошибке рождается у неразумных. Итак, многого ли стоящими покажутся удовольствия жизни тому, кто подумает об этом? Будет ли на самом деле радоваться так рассуждающий и будет ли наслаждаться кажущимися ему благами? Не (правда ли, что) он, волнуемый страхом перемены, всегда будет пользоваться нынешними благами без (всякого) удовольствия?
5. Опускаю предзнаменования, сны, предчувствия и прочие подобного рода нелепости, все, что по суетному обычаю наблюдается и толкуется в худую сторону. Но вот наступает время родов для молодой женщины; и них видится не рождение ребенка, но приближение смерти; потому что в родах грозит смерть родильнице, и часто это худое предзнаменование не обманывает их; прежде, нежели отпразднуют день рождения, прежде, нежели вкусят какое–либо из ожидаемых благ, вдруг радость изменится в плач. Еще страстью пылая, еще во цвете лет пребывая, еще удовольствий этой жизни желая, они, словно в каком–то сонном видении, вдруг лишаются всего, что имели. Что же далее? Брачная опочивальня опустошается домашними, как врагами, и вместо ложа брачного красуется ложе смертное. При этом стенания бесполезные, рук удары напрасные, о прежней жизни воспоминания, тем, кто присоветовал вступить в брак — проклятия, жалобы на друзей, которые не помешали; в большой вине родители, если живы; если же нет, то сетования о жизни человеческой, обвинение всей природы, великий ропот и негодование на самоё божественное Провидение; борьба с самим собой, война с теми, кто увещевает; ничто не сдерживает глупейших речей и дел. А часто у тех, в ком страсть берет перевес и от излишней печали теряется рассудок, эта сцена завершается еще более прискорбным концом, когда несчастный не в состоянии пережить своего несчастия.
6. Но оставим это; предположим лучшее: опасность родов миновала, и у супругов родился ребенок, отображение красоты родителей. Что же? Уменьшилось ли от этого поводов для печали? Не увеличилось ли еще более? Ибо и прежний страх имеет еще силу и новый прибавился — за дитя, чтобы не случилось чего–либо худого во время его вскармливания, чтобы какой несчастный случай, какое непредвиденное обстоятельство не причинили или болезни, или уродства, или другой какой беды. Это в равной мере относится к обоим родителям: но кто исчислит принадлежащее собственно супруге? Мы опустим обыкновенное и всем известное, а именно: тяжесть беременности, опасность во время родов, труды при воспитании, и что сердце ее соединено неразрывно с рожденным дитятей, так что если она мать многих детей, то душа ее разрывается на столько (частей), сколько их у нее числом; случившиеся с ними несчастья она переживает своим сердцем. Все это и подобное, всем известное, кто может выразить? Но поскольку, по божественному определению (ср. 1 Кор. 7:4), жена не госпожа себе, но имеет «обращение» к тому, кто «обладает» ею посредством брака (Быт. 3:16), то если она хотя бы на короткое время разлучится с ним, то не выносит одиночества, словно отторгшись от главы, и малейшее удаление от мужа кажется ей каким–то приготовлением ко вдовству. Тотчас страх отчаяния заслоняет самые светлые надежды, и потому очи ее, полные смятения и опасения, прикованы к двери дома; слух наблюдает за шепотом людей; сокрушается сердце, раздираемое страхом, и прежде, нежели получено какое–либо известие, один шорох у дверей, или воображаемый, или на самом деле послышавшийся, как какой–то вестник бедствия, внезапно приводит душу в трепет. Может быть, вне дома все благополучно и не случилось ничего, достойного боязни, но замирание (сердца) предваряет известие и от ожиданий приятных обращает мысль к противоположным. Такова жизнь счастливцев — поистине достойная. Но и она в сравнение не идет со свободой девства!
7. Тем не менее многое, еще более тягостное, слово наше обошло молчанием. Ибо часто также «она», еще юная летами, еще сияющая красотой невесты, еще, может быть, краснеющая при входе жениха и стыдливо на него взирающая, когда и страсть, сдерживаемая стыдом в своем обнаружении, обыкновенно бывает пламеннее, вдруг делается вдовой, несчастной, одинокой и оправдывает на себе все эти страшные названия; и вот ее, до сих пор одевавшуюся в светлую, блестящую и нарядную одежду, внезапно случившееся несчастье облекает в черное платье и повергает в скорбь, похитив брачные украшения. Затем вместо блеска — мрак в спальной комнате, жалобные вопли и рыдания, ненависть к тем, кто хочет утишить скорбь; отказ от пищи, изнеможение тела, упадок духа, желание смерти! часто способное довести до самой смерти. Если же со временем это горе несколько утихнет, то опять другая беда: остаются ли дети или нет. Если остаются, то они, конечно, сироты и потому жалки, и чрез них скорбь снова оживает; если же их не осталось, то совершенно исчезает напоминание об умершем, и это горе недоступно никакому утешению.
8. Опускаю другие беды вдовства, ибо кто может их все подробно исчислить? (Не говорю) о врагах и домашних: одни обижают несчастную, другие радуются ее одиночеству и недобрым оком со злорадством поглядывают на разрушающийся дом; (молчу) о слугах, ни о чем не заботящихся, и обо всем прочем, чего так много можно видеть в таких обстоятельствах. От этого многие, по необходимости, решаются вторично претерпеть подобные бедствия, не вынося ядовитого смеха людей и словно бы (думая) своими бедами отомстить своим обидчикам. Тем не менее многие (о вдовах, которые предпочитают умереть вслед за мужьями, нежели второй раз выйти замуж), помня, что случилось прежде, лучше соглашаются переносить все (как есть), нежели еще раз испытать подобные несчастья. И если хочешь знать невзгоды брачной жизни, то послушай, что говорят узнавшие эту жизнь на опыте: сколь блаженной почитают они жизнь тех, кто изначально избрал девственную жизнь, а не посредством несчастий узнал, что лучше. Ибо девство всем этим бедствиям недоступно: оно не плачет о сиротстве; оно всегда вместе с нетленным Женихом; всегда радуется порождениям благочестия; в доме своем поистине оно постоянно видит изобилие всего, что ни есть самого прекрасного, потому что в нем всегда присутствует и обитает Владыка дома; смерть причиняет не разлуку, но соединение с Возлюбленным; ибо когда «разрешается», тогда бывает «со Христом», как говорит апостол (Флп. 1:23).
9. Так как мы отчасти исследовали состояние людей счастливых в брачной жизни, то время коснуться нашим словом и других сторон жизни, где обитают и бедность, и нужда, и другие виды человеческих страданий: уродства, болезни и прочее, что составляет удел человеческой жизни. Всех подобных зол живущий сам по себе или избегает, не испытав их, или равнодушно переносит, так как внимание его сосредоточено на самом себе и заботами не отвлекается ни на что другое. А у кого внимание разделено между женой и детьми, тот часто и досуга не имеет оплакать свои несчастья, потому что забота о любимых им заполняет все его сердце (разумеется, речь идет о внимании к состоянию собственной души, а не о примитивном эгоизме человека, не связанного никакими обязанностями). Но не лишнее ли дело подробно говорить о том, что само по себе ясно? Ибо если такие невзгоды и бедствия сопряжены с тем, что кажется нам благополучием, то что же заключить о противоположном? Никакое словесное описание, решившееся представить взору жизнь таких людей, не может сравниться с правдой. Можно, впрочем, в немногих словах показать многие бедствия этой жизни: ибо те, кто в жизни получил жребий, противоположный (жребию тех, кто) кажется счастливым, имеют и скорби противоположные. Счастливых тревожит ожидаемая или уже наступающая смерть, а для этих отдаление от смерти есть несчастье, и хотя жизнь тех и других расходится в противоположные стороны, но уныние ведет их к одному концу.
10. Таким образом, брак влечет за собою многобразные и различные бедствия, ибо одинаково скорбят люди, имеют ли детей или не надеются иметь их, и, опять–таки, живы ли они или умерли. Один утешается детьми, но не имеет средств к их пропитанию, у другого недостает наследника имению, над увеличением которого он много трудился, и то, что составляет благополучие для одного, есть несчастье для другого; каждый желает себе иметь то, чем, как видишь, тяготится другой. У одного умер любимый сын, у другого жив, но распутный. Жалки оба: один плачет о смерти сына, другой — о жизни. Опускаю зависть и ссоры, от истинных или мнимых причин происходящие — какими скорбями и бедствиями они кончаются! Кто все это в точности может исчислить? Если же хочешь удостовериться, что в самом деле таких зол полна жизнь человеческая, не требуй от меня древних повествований, которые дали поэтам содержание (их) трагедий. Баснями считаются они из–за (своей) крайней нелепости: в них встречаются детоубийства, пожирания чад, убийства мужей, убийства матерей заклания братьев, беззаконные смешения и всякого рода нарушения естественных законов, рассказ о которых повествователи древних (историй) начинают с бракосочетаний, а заключают такими несчастьями.
Но, оставив все это, посмотри на печальные явления, совершающиеся на сцене настоящей жизни, виновником которых для людей служит брак. Пойди в судилища, почитай законы, относящиеся к этому: в них ты найдешь неслыханные дела, совершающиеся в брачной жизни. Точно когда слушаешь врачей, рассуждающих о различных болезнях, то узнаешь о слабости человеческого тела и понимаешь, к скольким и каковым болезням оно расположено, так, когда ты читаешь законы и видишь многоразличные преступления брачной жизни, за которые они определяют наказания, тогда верно узнаешь свойства, присущие браку; ибо ни врач не лечит болезней не существующих, ни закон не наказывает преступлений не совершаемых.
Глава 4. О том, что все нестроение в этой жизни берет начало от брака; здесь же (говорится) и о том, каким должен быть тот, кто отрешился от брачной жизни
1. Впрочем, что скупиться на обличение нелепой этой жизни, ограничив исчисление бедствий одними прелюбодеяниями, раздорами и кознями? Дело в том, что мне кажется, по высшему и истинному разумению разумению, что всякое зло в жизни, усматриваемое во всех делах и занятиях, не может иметь никакой власти над человеческой жизнью, если кто сам себя не подчинит неволе брачной жизни. Истину этих слов можно объяснить следующим образом. Кто чистым оком душевным прозрел обманчивость этой жизни и встал выше того, к чему здесь стремятся, кто, как говорит апостол, «вся» презрел как зловонные «уметы» (Флп. 3:8) и чрез удаление от брака в некотором смысле отрешился от всей жизни, тот не имеет никакого общения с пороками человеческими — я имею в виду любостяжание и зависть, гнев и ненависть, желание суетной славы и все прочее в том же роде. Кто же всего этого чужд и совершенно свободен и проводит жизнь мирную, у того нет ничего, что могло бы вызвать зависть и спор с ближними, ибо он (даже) не касается ничего такого, что рождает в жизни зависть. Возвысившись своею душой над всем миром и считая одну лишь добродетель бесценным для себя стяжанием, он проводит жизнь мирную, без печалей и борьбы. Ибо клад добродетели, хотя от него каждый человек получает долю по своим силам, всегда (остается) полным для ищущих его. Не таково земное сокровище, которое, если его делят, то, сколько прибавляют к одной части, столько же отнимают у другой, и избытку у одного соответствует уменьшение доли другого; отсюда у людей начинается ненависть из–за лишения и битвы за большую часть. Что же касается того стяжания, то там стремление приобрести больше не возбуждает зависти; и захвативший больше не наносит никакого ущерба тому, кто считает себя достойным равной части, но по мере того, кто сколько вмещает, (каждый) и сам удовлетворяется в своем благом желании, и у владевших богатством добродетелей прежде оно не оскудевает.
2. Итак, кто стремится к жизни такого рода и сокровище свое полагает в добродетели, которая никаким пределом человеческим не ограничивается, тот допустит ли когда–нибудь своей душе увлечься чем–либо низким и презренным? Будет ли он с восхищением смотреть на земное богатство, или на могущество человеческое, или на что другое, к чему по неразумию стремятся люди? Если кто по низменности духа расположен еще к подобным предметам, тот вне этого сонма, и не о нем пойдет наша речь. Но кто «мудрствует горняя» (Кол. 3:2) и сопребывает (в вышних) с Богом, тот, разумеется, выше этого, и у него нет обычной падкости на такого рода соблазн — я говорю о браке. Ведь желание превосходить других, гордость, эта тяжкая страсть, которую, если кто назовет корнем всякого греховного терния, не погрешит в истине, получает начало более всего от брака.
3. Ибо по большей части причина любостяжания — дети, а в славолюбии и честолюбии причина этого порока — род, когда честолюбец хочет показаться не ниже своих предков и считаться великим у потомков, желая, чтобы его потомство рассказывало о нем детям. Точно так же и прочие, какие ни есть, недуги душевные: зависть, злопамятство, ненависть и другие того же рода — имеют ту же причину. Все подобные (пороки) неотлучны от тех, кто вовлечен в эту жизнь. Тот же, кто отрешился от них, словно с возвышенного места издали взирая на человеческие страсти, оплакивает слепоту поработивших себя такой суете и за великое почитающих плотское благополучие. Ибо когда он видит какого–нибудь человека, чем–либо знаменитого в жизни, славящегося почестями, или богатством, или властью — он (только) смеется безумию гордящихся этим и исчисляет кратковременность человеческой жизни, определяя срок ее согласно со словами псалмопевца (ср. Пс. 89:10), а потом, сравнивая эту малую протяженность жизни с бесконечными веками, сожалеет о безумии того, кто предается душой своей столь презренным, низким и скоропреходящим предметам. Ибо что из здешнего стоит названия блага? Честь ли, которой многие домогаются? Разве придает она что–либо большее удостоившимся ее лицам? Смертный остается смертным, воздают ли ему почесть или нет. Или — обладание многими десятинами земли? Приведет ли это обладателя к какому благому пределу, кроме того, что безумец этот будет считать своей собственностью нисколько ему не принадлежащее. От великой жадности он, как видно, и не знает, что поистине «Господня» есть «земля, и исполнение ея» (Пс. 23:1); ибо «Царь всея земли Бог» (Пс. 46:8). Людям же страсть к любостяжательности ложно приписывает имя господства над тем, что никак не принадлежит им. Ибо земля, как говорит мудрый Екклесиаст, «во век стоит» (Еккл. 1:4), служа всем поколениям попеременно и питая рождающихся на ней, а люди, не имеющие власти даже сами над собой, но зависящие во всем от воли Мироправителя, входящие в жизнь, когда не ведают, и вновь уходящие из нее, когда не желают, по великой суетности почитают себя обладателями земли, которая всегда пребывает, тогда как они в свой черед являются и погибают.
4. Итак, кто видит все это, и потому презирает все, что считается почетным у людей, и к одной только божественной жизни имеет влечение, тот, зная, «что всяка плоть сено и всяка слава человечески яко цвет травный» (Ис. 40:6:ср. 1 Пет. 1:24; Иак. 1:10), сочтет ли когда–нибудь достойным заботы «сено, днесь сущее» (Мф. 6:30), которого завтра не будет? Правильно понимающий божественные предметы знает, что не только дела человеческие не имеют постоянства, но даже и весь мир не останется навсегда таким же, а потому смотрит на эту жизнь, как на чуждую и временную, поскольку небо и земля, по слову Спасителя, «прейдут» (Мф. 24:35; Лк. 21:33) и все по необходимости потерпит изменение. Поэтому он, доколе находится в сей «храмине» (2 Кор. 5:1), как говорит апостол о теле, указывая на его кратковечность, тяготясь нынешней жизнью, скорбит о том, что пришествие сие для него «продолжается» (Пс. 119:5). То же утверждает и псалмопевец в своих божественных песнях; ибо поистине те, кто обитает во время жизни «с селении» (Пс. 119:5) этими, живут во тьме, поэтому пророк в скорби о продолжении этого прозябания говорит: «увы мне, яко пришелъствие мое продолжися» (Пс. 119:5). Причиной же такой скорби он считает тьму, так как мы знаем от мудрецов, что тьма на еврейском языке именуется «кидар». Ибо, поистине, люди, словно одержимые какой–то ночной неспособностью видеть, до того слепы в различении обмана, что не знают, что все, что считается в этой жизни почтенным или, напротив, презренным, существует только в одном представлении неразумных, но само по себе не имеет никакого значения: ни низкое происхождение, ни благородство рода, ни слава, ни знатность, ни подвиги предков, ни превозношение нынешним (положением), ни власть над другими, ни подчинение власти других. Богатство и роскошь, бедность и нужда, и все несоответствия жизни, — людям неопытным, которые измеряют явления чувством удовольствия, кажется, что (все это) имеет великое различие; но для человека с умом возвышенным все представляется совершенно равным и ничто не предпочтительнее другого. Ибо цель жизни одинаково достигается при противоположных состояниях, и каждый ее жребий имеет равные возможности и к добродетельной, и к порочной жизни: «оружии десными и шуими, славою и безчестием», как говорит апостол (2 Кор. 6:7.8). Посредством их человек с очищенным умом и понимающий истину сущего правильно совершает путь, проходя от рождения до конца жизни определенное ему время и, по обычаю путешественников, устремляясь все далее, мало обращает внимания на представляющиеся его (взору) предметы. Ибо у путешественников обычай — равно спешить к цели путешествия, проходят ли они лугами и густыми лесами или пустынными и дикими местами, — ни приятное их не задерживает, ни неприятное не останавливает. Так и он неуклонно будет стремиться к поставленной себе цели и, не развлекаясь ничем встречающимся на пути, но взирая только на небо, минует течение жизни, подобно искусному кормчему направляя корабль ее к высшей цели.
5. И напротив, кто имеет отяжелевший ум, и смотрит долу, и преклонился душой к телесным удовольствиям, как скотина к пастбищу, — живет только для чрева и для того, что после чрева, «отчужден от жизни Божия» (Еф. 4:18), «чужд от завет обетования» (Еф. 2:12) и ничего другого не считает благом, кроме телесных наслаждений. Он и всякий ему подобный «во тьме ходит», как говорит Писание (ср. Ин. 12:35); потому что делается в этой жизни «обретателем злых» (Рим. 1:30), в число которых входит и любостяжание, и необузданность страстей, и неумеренность в удовольствиях, всякое любоначалие и стремление к суетной славе и прочее скопище страстей, живущих вместе с человеком; потому что пороки эти как будто держатся один за другой, и в кого входит один, в того, как бы влекомые какой–то естественной взаимосвязью, входят непременно и прочие. Как в цепи7:если потянуть первое звено, прочие не могут оставаться в покое вне кругового сцепления, но звено, находящееся на другом конце цепи, движется вместе с первым, потому что движение по порядку и связи от первого звена проходит через лежащие близ него, — так переплетены и соединены между собой и страсти человеческие: когда одна из них возымеет силу, и все прочее скопище пороков входит в душу. И если нужно описать тебе порочное это сцепление, представь, что кто–нибудь побежден страстью тщеславия, (приносящей ему) некое чувство удовольствия. Но за тщеславием следует вместе желание приобрести большее: ибо невозможно быть любостяжательным, если не руководит этой страстью тщеславие. Далее желание приобретать больше и иметь преимущество пред другими влечет за собой или гнев против равных, или превозношение перед низшими, или зависть к высшим. За завистью следует притворство, за ним озлобление; конец всего этого — осуждение, оканчивающееся геенной, мраком и огнем. Видишь ли связь пороков, как от одной страсти удовольствия исходят все прочие?
6. Итак, поскольку сцепление этих страстей однажды уже вошло в эту жизнь, то мы, по совету богодухновенных Писаний, находим один способ уйти от них, а именно: удаление от этой жизни, заключающей в себе такое сочетание влекущих один другого недугов. Ибо невозможно ни тому, кому нравится жить в Содоме, избегнуть огненного дождя, ни тому, кто из Содома вышел, но вновь оглянулся на это запустение, не застыть «столпом сланым» (Быт. 19:25). Не освободится также от рабства египетского тот, кто не оставит Египта, я имею в виду погружение в эту жизнь, и не перейдет, (только) не через пресловутое (море) Чермное, но через это черное и мрачное море жизни. Если же, как говорит Господь, доколе «истина» не «свободит» нас (ср. Ин. 8:32), мы останемся в рабстве злу, то как может пребывать в истине тот, кто ищет лжи и вращается в обманчивости жизни? Как может избегнуть рабства тот, кто жизнь свою отдал в рабство природным потребностям? Но разговор об этом будет понятнее нам на примере. Как какая–нибудь разлившаяся от дождей река, которая бурным течением, соответственно своей природе, уносит в свое русло деревья, камни и все, что попадается, страшна и опасна только для тех, кто живет вблизи нее, для тех же, кто, остерегаясь ее, находится вдали, она бушует напрасно, так и сумятица этой жизни действует лишь на того, кто вовлечен в нее: он один подвергает себя страстям, в которые природа, совершающая течение своим порядком, необходимо втягивает тех, кто идет ее путем, потопляя их волнами житейских зол. Но если кто оставит этот «поток», как говорит Писание, и «воду непостоянную» (Пс. 123:4), тот непременно спасется, как говорится в псалме вслед за этим, от «ловитвы зубов» жизни, как «птица», при помощи крыльев добродетели, избавившаяся «от сети».
7. Ибо жизнь человеческая, согласно приведенному нами сравнению с рекой, полная различных смут и несообразностей, несется неустанно вперед, устремляясь по склону естества; ни над чем, что составляет в ней предмет желаний, не останавливается и не ждет, пока насытятся этим желающие, но ко всему, что встретилось, едва лишь приблизится, как, прикоснувшись, пробегает мимо, и все, что пребывает вечно, от быстроты течения ее ускользает от чувства, так как глаза увлекаются тем, что поток представляет далее. Поэтому лучше было бы держать себя вдали от этого потока, чтобы, увлекшись непостоянным, не упустить из виду вечно пребывающего. Ибо может ли пристрастившийся к чему–либо в этой жизни всецело владеть тем, чего желает? Какое из особенно вожделенных благ всегда остается таковым? Какой цвет юности? Какие счастливые дары силы и красоты? Какое богатство? Какая слава? Какое владычество? Все это, расцветши на короткое время, не исчезает ли вновь и не сменяется ли тем, что носит противоположное название? Кто всю жизнь прожил юным? У кого до старости сохранились силы? А цвет красоты не сделала ли природа кратковечнее даже тех цветов, которые появляются весной? Ибо эти растут всегда в известное время и, отцветши на короткое время, опять оживают; потом снова опадают и снова расцветают, и на другой год (вновь) являют свою красу; а цвет человеческой красоты природа, явив однажды в весну юности, затем истребляет и уничтожает зимою старости. Точно так и все прочее, на время польстив плотскому чувству, затем уходит и покрывается забвением.
8. Итак, поскольку такие перемены, случающиеся в силу естественной необходимости, непременно удручают печалью того, кто пребывает (во власти) пристрастия, единственное спасение от подобных зол — ни к чему из того, что подвержено перемене, не прилепляться душой, но, сколько возможно, удаляться общения со всею страстной и плотской жизнью, особенно же отрешаться от пристрастия к своему телу, чтоб, живя по плоти, не быть подвластным бедствиям, происходящим от плоти. А это значит — жить только душой и по возможности подражать жизни бесплотных сил, в которой они «ни женятся, ни посягают» (Мф. 22:30; Мк. 12:25), но для них и дело, и труд, и подвиг — созерцание нетленного Отца и украшение своего образа по подобию первозданной красоты чрез подражание ей, по мере возможности.
9. Итак, вот в каком образе мыслей и высоком стремлении является соработником, говорим мы согласно с Писанием, и «помощником» (Быт. 2:17) человеку девство. И как в остальных (родах) деятельности изобретены некоторые приемы для того, чтобы совершеннее выполнить то дело, о котором заботимся, так, мне кажется, и подвиг девства представляет собой некоторое искусство и науку достижения божественной жизни, помогающий живущим во плоти уподобляться естеству бесплотному.
Глава 5. О том, что бесстрастие души должно предшествовать чистоте телесной
1. Итак, вся забота настоящей жизни состоит в том, чтобы высота души не снизилась от напора удовольствий и чтобы разум наш, вместо того, чтобы воспарять к небу и созерцать горняя, не пал, низвергшись к страстям плоти и крови. Ибо как может свободным оком взирать на сродный себе и умный (νοητον) свет душа, пригвожденная к дольним плотским удовольствиям и устремившая все желание к человеческим страстям, когда по какой–то дурной и невежественной предрасположенности склоняется к предметам вещественным? Как глаза свиней, по природе обращенные вниз, не могут видеть чудных красот небесных, так душа, привязавшись к телу, не может созерцать горних красот, потому что преклонилась к тому, что грубо и скотоподобно по природе. Итак, чтобы душа наша могла свободно и беспрепятственно стремиться к божественному и блаженному наслаждению, она не должна обращаться ни к чему земному и принимать участия в тех мнимых удовольствиях, которые дозволяются брачной жизнью, но всю силу любви от плотских предметов должна обратить к созерцанию умственной и невещественной красоты. Для (достижения) такого расположения души и было изобретено (επενοηθη) телесное девство: оно достигает того, что душа совершенно забывает о естественных страстных движениях и не помнит их, не имея никакой необходимости заниматься удовлетворением низких потребностей плоти. Ибо освободившись однажды от этих обязанностей, она уже не подвергается опасности, что по привычке, мало–помалу снисходя к удовольствиям, кажущимся дозволенными законом природы, она отвратится (от цели) и останется в неведении того божественного и нетленного наслаждения, которого по природе свойственно достигнуть лишь чистому сердцу при содействии господственного начала в нас — ума.
Глава 6. О том, что Илия и Иоанн в точности соблюдали (правила) такой жизни
1. Поэтому, мне кажется, и великий между пророками Илия, и тот, кто «духом и силою Илииною» (Лк. 1:17) после него явился и жил на земле, которого «болий никтоже в рожденных женами» (Лк. 7:28) (хотя история иносказательно повествует о них и нечто другое), жизнью своей учат прежде всего тому, чтобы тот, кто упражняется в созерцании невидимого, удалялся мира, не следуя ему, дабы, увлекшись обольщениями, происходящими от чувств, не допустить какого–нибудь смешения и заблуждения в суждении об истинном благе. Ибо оба они с ранней юности стали чужды человеческой жизни и поставили себя как бы выше природы, презрев обычную и дозволенную заботливость о пище и питии и проводя жизнь в пустыне, так что и слух их был удален от шума, и зрение от (всего) отвлекающего, и вкус остался простым и неприхотливым; потому что потребность в пище и питье оба удовлетворяли, чем случится. Оттого вдали от мирского шума они и достигли великой тишины и спокойствия и вознеслись на ту высоту божественных дарований, о какой относительно их обоих упоминает Писание. Ибо Илия, будучи поставлен как бы хранителем даров Божиих, имел во власти управление небом и мог затворять (ср. 1 Цар. 17:1; 18:41—45) его для согрешающих и отверзать для кающихся. Об Иоанне же история не говорит, чтобы он сотворил какое–нибудь подобное чудо, но Видящий сокровенное засвидетельствовал, что дарований у него было «лишше», чем у любого другого «пророка» (ср. Мф. 11:9; Лк. 7:26). Может быть, потому оба они и достигли такой высоты, что любовь свою, чистую и отрешенную от всякого пристрастия к вещам, от начала и до конца жизни посвятили Господу, не отвлекаясь ни привязанностью к детям, ни заботой о жене, ни какими–то другими человеческими делами. Даже «попечение» о ежедневном необходимом пропитании (ср. Мф. 6:31) считали они для себя неподобающим и, отвергнув всякую роскошь в одежде, пользовались, чем придется, одеваясь один — в «козьи кожи» (Евр. 11:37), а другой — во «власы верблюжьи» (Мф. 3:4; Мк. 1:6). Думаю, они не достигли бы своего величия, если бы позволили себе расслабляться в страстных плотских удовольствиях брака. И написано это было не просто так, но, как говорит апостол, «в научение наше» (1 Кор. 10:11), дабы мы по их образу жизни направляли и свою жизнь. Итак, чему же учимся от них? Тому, чтобы желающий единения с Богом, по подобию святых этих мужей, ни к каким житейским предметам не привязывался мыслью: ибо тому, чей разум развлекается многим, невозможно преуспеть (ευθυπορησαι) в познании Бога и в любви к Нему.
2. Мне кажется, что (наше) мнение яснее можно представить при помощи примера. Представим, что вода, изливаясь из источника, случайно разделилась на различные потоки. Пока она течет таким образом, она не принесет никакой пользы для потребностей земледелия, потому что при разлитии воды на много потоков в каждом останется мало воды и она по слабости (напора) сделается стоячей и неподвижной. Если же кто все беспорядочно текущие потоки соединит и разливавшуюся дотоле по многим местам воду направит в единое русло, тот может собранную и сосредоточенную воду употребить с великой для жизни пользой и выгодой. Так, мне кажется, и ум человеческий, если постоянно растекается и разбрасывается на то, что нравится чувствам, никогда не будет иметь достаточной силы к достижению истинного блага. Если же, отрешившись от всего и сосредоточившись в самом себе, он будет собранно и нерассеянно стремиться к свойственной ему по природе деятельности, то не будет для него никакого препятствия к тому, чтобы возноситься к горнему и достигать истины сущего. Ибо как вода, направленная по водоводу, встретив препятствие и не имея места, куда разлиться, от сильного напора поднимается вверх, и это бывает, несмотря на то что вода по природе имеет свойство стремиться вниз, так и ум человеческий, когда воздержание, как тесный водовод, со всех сторон будет сдерживать его, не имея места, куда рассеяться, по самому свойству движения устремится вверх, вожделея высших благ, ибо не может никогда остановиться тот, кто получил от Творца естество постоянно движущееся, и если употреблению этого движения на суетные предметы положена преграда, он, конечно, не может стремиться к чему–либо, кроме истины, будучи со всех сторон огражден от того, что ему не подобает. И как мы видим, что путешественники на перекрестках (πολυοδια) дорог, как правило, тогда не отклоняются от настоящего пути, когда, узнав наперед ненадежность других дорог, избегают их. Таким образом, чем более кто во время путешествия избегает неверных путей, тем вернее сохранит себя на истинном пути. Так и разум наш познает истину сущего только тогда, когда отвратится от суетных предметов. Таким образом, я думаю, что воспоминание о тех великих пророках учит нас тому, чтобы мы не привязывались ни к чему, что составляет предмет заботы в этом мире, — а к числу таких предметов относится и брак; лучше же сказать, он есть начало и корень суетных попечений.
Глава 7. О том, что и брак не подлежит осуждению
1. Никто, впрочем, из сказанного нами не должен заключать, что мы отвергаем установление брака, ибо мы прекрасно знаем, что и он не лишен благословения Божия. Но поскольку в его защиту достаточно говорит общая природа человеческая, вложившая самопроизвольное стремление к нему во всех, кто через брак появляется на свет, а девство некоторым образом противоречит природе, то излишним был бы труд сочинять увещания и побуждения к браку, выставляя (в качестве прикрытия) его необоримого защитника — я имею в виду удовольствие. Такая речь о браке нужна разве что для тех, кто создает ложные догматы Церкви, кого апостол называет «сожженными своею совестью» (1 Тим. 4:2), и называет справедливо, потому что они, оставив водительство Святого Духа и (поддавшись) «учениям бесовским» (1 Тим. 4:1), на сердцах своих выжигают знаки и клейма, гнушаясь творениями Божьими как нечистыми, называя их и влекущими к пороку, и причиной зла, и другими подобными именами. Но что «ми внешних судити», говорит апостол (1 Кор. 5:12)? Ибо они поистине находятся вне ограды словесных таинств; не «в крове Бога» (Пс. 90:1), но в загоне лукавого обитают, «живи уловлении в свою его волю» (2 Тим. 2:26), как говорит апостол, и потому не понимают, что поскольку на всякую добродетель следует смотреть как на середину (между крайностями), то уклонение в ту или другую от нее сторону есть порок. Ибо кто во всем избирает середину между недостатком и чрезмерностью, тот отличает добродетель от порока.
2. Но смысл (сказанного) можно яснее показать на самих примерах: трусость и безрассудство — два противоположных порока, происходящие один от недостатка, другой от излишка самоуверенности; посредине же между ними находится добродетель — мужество. Еще: человек благочестивый не есть ни безбожник, ни суевер, потому что равно нечестиво и то, и другое: и не признавать никакого бога, и признавать многих богов. Хочешь ли и из других примеров узнать справедливость этого суждения? Избегнувший скупости и расточительности чрез удаление от этих противоположных страстей достиг бережливости, ибо бережливость состоит в том, чтобы без расчета не нести неумеренных и бесполезных издержек и не быть скупым на предметы необходимые. Точно так же и во всем прочем (дабы нам не исследовать все порознь) разум помещает добродетель в середине между двумя крайностями. Таким образом и целомудрие есть середина, и от него могут быть явные отклонения в ту и другую стороны, к порокам. Ибо кто по недостатку душевной твердости легко подчиняется страсти похоти, тот, не вступив на путь добродетельной и воздержной жизни, впадает в «страсти бесчестия» (Рим. 1:26). Кто же преступает границы того, что доступно целомудрию, и отдаляется от средины — добродетели, в другую сторону, тот, как в какую стремнину, впадает в учение бесовское, «сожигая свою совесть», как говорит апостол (1 Тим. 4:1–2). (356) Ибо считая брак делом гнусным, своими поношениями брака он клеймит самого себя. Если «древо зло», как говорит где–то Евангелие (Мф. 7:18), то и плод его, конечно, такой же — достойный древа; а если побег и плод брачного древа есть человек, то, конечно, поношение брака падает на того, кто его произносит.
3. Но те, кто несет на совести клейма и рубцы нелепых учений, подобными (доводами уже) изобличены. Мы же относительно брака думаем так, что ему следует предпочитать заботу и попечение о божественном, но и не презирать того, кто способен воздержно и умеренно пользоваться учреждением брака. Таков был патриарх Исаак. Он не во цвете лет, дабы брак не был делом страсти, но уже по прошествии юности, взял себе в сожительство Ревекку для благословения Божия в семени (ср. Быт. 25:20) и, послужив браку до первого деторождения, вновь всецело обратился к невидимому, заключив телесные чувства, ибо на это, как мне кажется, указывает история, когда повествует о слабости очей патриарха (Быт. 27:1; 48:10).
Глава 8. О том, что трудно достигнуть цели тому, кто душой разбрасывается на многое
1. Но об этом пусть думают как угодно сведущие в предметах такого рода, мы же продолжим нашу речь. Итак, что значит сказанное нами? То, что, если возможно и не отступать от стремления к божественному, и не уклоняться брака, ни в коем случае нельзя отвергать требований природы и осуждать «честное» (ср. Евр. 13:4) как бесчестное. Как в приведенном нами примере воды и источника, когда земледельцу, который проводит воду на поле для орошения, бывает нужно провести небольшой водоотвод к середине, он позволит воде разлиться лишь в той мере, какая требуется для удовлетворения имеющейся потребности, так, чтобы вода могла опять легко соединиться со всей водой. Если же он откроет для воды безмерно широкий проток, то возникнет опасность, что вся она, оставив прямой путь, уйдет в боковые канавы. Точно так же, поскольку для жизни необходимо и преемство рождений, если кто будет пользоваться супружеством так, что, предпочитая дела духовные, естественное вожделение ограничит умеренностью, по причине «сокращения времени» (1 Кор. 7:29), тот будет мудрым земледельцем, который, по заповеди апостола (ср. 1 Кор. 3:9) не все время занят «воздаянием» ничтожного «должного» (1 Кор. 7:3), но «по согласию» хранит чистоту души, для «пребывания в молитве» (1 Кор. 7:5), опасаясь, как бы под влиянием пристрастия не стать целиком плотью и кровью, в которых не «пребывает Дух» Божий (ср. Быт. 6:3). Если же кто так немощен, что не может мужественно устоять против влечения природы, тому лучше держаться от подобных вещей подальше, нежели решаться на подвиг, превышающий его силы. Ибо немалая угрожает опасность, что в обольщении от испытанного наслаждения он не будет ничего иного почитать благом, кроме того, что получает от плотского пристрастия, и, полностью отвратив ум свой от стремления к благам бестелесным, весь сделается плотским, охотясь постоянно за плотскими лишь наслаждениями, так что будет «сластолюбец пане, нежели боголюбец» (2 Тим. 3:4). Итак, поскольку по немощи природы не всякий может соблюсти умеренность в вещах такого рода, а вышедший из границ умеренности находится в опасности погрязнуть, по (слову) псалмопевца, «в тимении глубины» (Пс. 68:3), то весьма полезно было бы, как учит данное слово, прожить (жизнь), не испытав таких удовольствий, дабы под предлогом дозволенного страсти не получили доступа к душе.
Глава 9. О том, что во всем трудно менять привычку
1. Всегда трудно (найти способ) победить привычку, потому что она имеет великую силу увлекать и порабощать себе душу и выставлять на вид некоторую видимость блага, отчего посредством привычки каждый приобретает известное расположение и пристрастие. Но по самой природе ничего не следует так остерегаться, как того, чтобы посчитать совершаемое по привычке достойным заботы и предпочтения. Доказательством этой мысли служит жизнь человеческая. При таком множестве живущих народов не у всех проявляются одинаковые стремления, но у разных народов понятия о добром и почетном различны и зависят от обычая, который у каждого (народа) делает что–либо (предметом) заботы и стремления. И не только между народами можно заметить такое несоответствие, что те же самые занятия одни почитают, а другие уничижают, но даже в одном и том же народе, в одном и том же городе и семействе можно наблюдать большое различие, происходящее от привычки каждого. Так (бывает, что) одновременно родившиеся на свет братья образом жизни сильно отличаются друг от друга. И это еще не удивительно, даже каждый отдельный человек часто об одном и том же предмете судит не одинаково, а в каждом случае так, как бывает настроен привычкой'. И, чтобы не удаляться от нашего предмета: мы знали многих, кто уже в первой молодости был страстным поклонником целомудрия, но (вскоре) положил начало порочной жизни тем, что испробовал удовольствия, казавшиеся законными и дозволенными. После же того, как они однажды их испытали, в соответствии с приведенным нами примером потока, обратив к ним всецело желательную силу души и отвратив ее стремление от предметов божественных к предметам низким и вещественным, предоставили в себе широкое поле страстям, так что стремление к горнему в них совершенно исчезло и вожделение его иссохло, поскольку все перетекло в страсти.
2. Поэтому мы находим полезным для более немощных, чтобы они прибегали к девству, как к безопасной крепости, и не вызывали против себя искушений, снисходя к обычаю этой жизни; чтобы они не привязывались к тому, что «противовоюет закону ума» (Рим. 7:23) нашего чрез плотские страсти, и не волновались заботами о границах земель, о потере денег и о другом чем–либо, о чем пекутся в этой жизни, но чтобы лелеяли главенствующее упование. Ибо тому, кто разумом своим обратился к этому миру и занимает себя тем, чтобы «угодить» людям (ср. 1 Кор. 7:33), невозможно быть исполнителем первой и великой заповеди Господней, которая повелевает любить Бога «всем сердцем» и всею силою (Втор. 6:5; Мф. 22:37). Ибо как может любить Бога «всем сердцем» и силою тот, кто разделил свое сердце между Богом и миром, похищая любовь, одному Богу принадлежащую, и растрачивает ее на человеческие страсти? Ибо «не оженивыйся печется о Господних, а оженивыйся печется о мирских» (1 Кор. 7:32.33). Хотя и кажется трудной борьба против удовольствий, но не следует никому терять бодрости; ибо привычка имеет силу в случае постоянства доставлять некоторое удовольствие даже в делах, которые кажутся наиболее трудными, и притом удовольствие самое прекрасное и чистое, наслаждаться которым разумному существу пристало более, нежели, по мелочности увлекаясь низким, удаляться от того, что поистине велико и «всяк ум превосходит» (Флп. 4:7).
Глава 10. В чем состоит истинно вожделенное благо?
1. Какое слово может представить, сколь великая потеря — лишиться обладания истинным благом? Каким превосходством ума надо было бы (для этого) обладать? Как изъяснить и описать то, что невыразимо для слова (λογω αρρητον) и непостижимо для ума (νοηματι ακαταληπτον)? Ибо, если кто настолько очистил око сердца, что каким–то образом может созерцать обетованное нам Господом в Блаженствах (Мф. 5:8), тот презрит всякий голос человеческий, как не имеющий никакой силы для выражения умопостигаемого. Если же у кого, кто обуреваем страстями, душевное зрение залеплено, словно гноем, страстным вожделением, для того всякая сила слов напрасна. Ибо для не имеющих чувств все равно, будет ли слово умалять или превозносить чудеса. Как относительно солнечных лучей, кто не видел света от первого дня рождения, для того напрасно и бесполезно толковать на словах о свете, потому что сияние лучей нельзя ощутить посредством слуха, — так и в отношении истинного и умного света каждый должен иметь свои глаза, чтобы созерцать эту красоту. Кто узрел ее, по некоему божественному дару и вдохновению, тот хранит неизъяснимое изумление в тайне сознания; а кто ее не видел, тот не будет чувствовать и того лишения, которое терпит. Ибо кто и как может описать ему это ускользнувшее от него благо? Как представить его взорам невыразимое (αφραστον)? Собственных слов для означения красоты его мы не знаем; примера искомому благу в ряду существующих предметов нет никакого; сравнением изъяснить его невозможно. Кто станет уподоблять солнце мгновенной искре? Или малую каплю — сравнивать с беспредельным океаном? Ибо какое имеет отношение малая капля к океану или мгновенная искра к великому сиянию солнца, такое же отношение имеет и все, что считается у людей достойным восхищения как прекрасное, к той красоте, которая созерцается в первейшем благе, превысшем всякого блага.
2. Итак, какая сила ума может изъяснить тому, кто несет такую потерю, сколь она велика? Мне кажется, невозможность этого хорошо объяснил великий Давид: он, некогда силою Духа вознесшись умом и пребывая как бы вне себя, видел ту невыразимую и непостижимую красоту в блаженном исступлении, и видел, конечно, настолько, насколько возможно видеть человеку, когда он отрешится от покровов плоти и одним разумом войдет в созерцание бестелесного и умопостигаемого. Когда же он возжелал сказать нечто достойное виденного им, то возгласил (слова псалма), всеми повторяемые: «всяк человек ложь» (Пс. 115:2). Это значит то же, что и я говорю, что всякий человек, дозволяющий себе объяснять словами этот неизреченный свет, подлинно есть лжец: не потому, чтобы ненавидел истину, но потому, что не в состоянии изъяснить умопостигаемого. Ибо чувственную красоту, какая пребывает здесь в нашем мире, будь она в бездушных вещах или в телах одушевленных, изображают красивыми красками, и силы наших чувств достаточно, чтобы рассмотреть, и понять, и передать ее другому чрез словесное описание, изображая эту красоту словом, как будто на картине. Но как слово может изобразить пред нашими взорами то, первообразная красота чего недоступна постижению, что описать нет никакой возможности, ибо невозможно сказать ни о цвете, ни о форме, ни о величине, ни о внешнем благообразии, ни о каких других мелочах такого рода? Ведь то, что совершенно безвидно, не имеет образа (ασχηματιστον), чуждо всякой количественности и водружено вдали от всего, что созерцается телесно и чувственно, как можно передать (это) посредством того, что постигается одними только чувствами? Впрочем, не следует отказываться от стремления к этому благу на основании того, что оно превыше нашего разумения: напротив, чем выше представляется нам искомый предмет, тем более мы должны возвышаться умом и совозноситься вместе с величием искомого, дабы не оказаться вне приобщения к этому благу. Ибо велика опасность ввиду исключительной высоты и неизреченности предмета полностью потерять представление о нем, если в своем постижении не станем опираться на что–либо доступное нам.
Глава 11. Как объять мыслью истинную красоту?
1. Итак, вследствие этой самой немощи, возводить наш ум к невидимому должны предметы, познаваемые чувствами. Рассудим же об этом таким образом. Смотрящие на предметы поверхностно, без размышления, когда видят человека, или другое какое случится явление, ничто в нем их не занимает, кроме того, что они видят. Для них достаточно увидеть телесную оболочку, чтобы подумать, что они составили полное понятие о человеке. Человек же, одаренный умом проницательным и образованный, не вверяет рассматривание предметов одному чувству зрения, на одном только видимом не останавливается и невидимого не существующим не считает, но и природу души наблюдает, и природные качества тела, как вообще, так и каждое в отдельности рассматривает. Каждое из них он отличает от другого особым понятием и снова смотрит на общее их соединение и согласованность в составе предмета. Так и при исследовании красоты, несовершенный по уму, едва лишь увидит какой–нибудь предмет, отвечающий некоему представлению о красоте, сочтет в нем прекрасным по своей природе то, что привлекает его чувство удовольствием, и кроме этого ничего не старается исследовать. У кого же око души чисто и кто может созерцать такого рода предметы, тот, перестав восхищаться веществом, подчиненным идее красоты, пользуется видимым, как ступенью к умосозерцанию красоты разумной, по общности с которой и все прочее есть и называется прекрасным.
2. Но при такой дебелости ума, составляющей свойство большей части людей, мне кажется затруднительным, (чтобы они) могли, расчленив и отделив в своих понятиях вещество от созерцаемой при нем красоты, понять сущность прекрасного самого по себе. И если кто захочет внимательно исследовать причину превратных и ложных представлений, то он, мне кажется, не найдет никакой другой, кроме той, что «чувствия» души не «обучена к рассуждению добра» и того, что им не является (Евр. 5:14). Поэтому люди уклонились от стремления к истинному благу: одни ниспали в плотскую любовь, другие увлеклись страстью к бездушному веществу денег; иные поставили для себя благо в чести, славе и господстве; некоторые страстно предались искусствам и наукам, а более раболепные мерилом прекрасного сделали гортань и чрево. Но если бы они отрешились от грубых понятий и пристрастия к предметам видимым и взыскали простое, невещественное и не имеющее вида естество красоты, они не обманулись бы в избрании вожделенного блага и не прельстились бы предметами подобного рода настолько, чтобы, видя кратковременность заключенного в них удовольствия, не прийти к презрению их.
3. Итак, вот путь, ведущий нас к обретению истинно прекрасного: все прочее, что влечет к себе расположение людей, что считается прекрасным, а потому удостаивается заботы и внимания, презирать, как низкое и кратковременное, и ни на что такое не тратить своей желательной силы; но и не оставлять ее в праздности и неподвижности, заключив в самих себе, но, очистив ее от пристрастия к предметам низким, возводить туда, куда не досягает чувство; так чтобы ни красота неба, ни сияние светил, ни что–либо иное из видимых красот не приводило нас в восхищение, но чтобы созерцаемая во всех этих предметах красота направляла нас в стремлении к той красоте, которой «небеса поведают славу», а «твердь» и все творение «возвещают разум» (Пс. 18:2). Когда душа возвысится настолько и все воспринимаемое оставит позади себя как уступающее искомому предмету, тогда она достигнет постижения того «великолепия», которое «взятся превыше небес» (Пс. 8:2).
4. Но как может достигнуть таких высот тот, чьи заботы обращены к предметам низким? Как может возлететь на небо не окрыленный небесными крыльями, посредством высокой жизни не приобретший тяготения ввысь, не превыспренний (μετεωρος)? Кто настолько чужд таинств евангельских, что не знает, что одна есть колесница для вознесения (πορειας) души человеческой на небо: уподобиться видом слетающей голубице, крыльев которой возжелал себе пророк Давид (ср. Пс. 54:6). Этим иносказанием Писание обычно обозначает силу Духа: потому ли, что птица эта не имеет желчи, или потому, что она гнушается зловония, как говорят те, кто наблюдал. Итак, кто отдалился от всякой гневливости и зловония плотской нечистоты и возвысился над всеми низкими и земными предметами, или, точнее, при помощи этих крыльев возлетел выше всего мира, тот обретет то, что единственно достойно желания, тот сделается и сам прекрасным, приблизившись к красоте. Пребывая в ней, он станет ясным и световидным в общности с истинным светом. Так часто замечаемые по ночам вспышки света в воздухе, которые некоторые называют падающими звездами, по словам тех, кто занимается исследованием таких (вещей), суть не что иное, как воздух, силой каких–то дуновений (πνευματων) (поднятый и) разлитый (υπερχεομενος) в эфирном пространстве, ибо, говорят, эта огненная полоса отображается на небе от воспламененного в эфире воздуха. Итак, как этот земной воздух, силой дуновения поднятый в высоту, делается световидным, изменяясь в чистоту эфира, так и ум человеческий, когда он, оставив эту суровую и нечистую жизнь и очистившись силою Духа (πνευματος), соделается световидным и соединится с истинной и высочайшей чистотой, и сам каким–то образом становится в ней прозрачным (διαφαινεται), проникается лучами и становится светом, по обетованию Господа, возвестившего, что «праведницы просветятся наподобие солнца» (Мф. 13:43). И это, мы видим, бывает и на земле в зеркале, в воде и во всем, что по своей гладкости способно к отражению. Когда такое вещество принимает луч солнца, оно испускает другой луч от себя, но такого отражения не получится, если чистая и светлая поверхность будет покрыта грязью. Итак, или мы, оставив эту земную тьму, вознесемся горе и там соделаемся световидными, приблизившись к истинному свету Христову, или сей «свет истинный» (Ин. 1:9) и во «тьме» (Ин. 1:5) сияющий снизойдет и к нам — и мы будет светом, как где–то говорит Господь ученикам (ср. Ин. 12:36, 46 и Мф. 5:14), если только какая–либо нечистота порока, пристав к душе, не помрачит красоту (την χαριν) нашего света.
5. Итак, наша речь при помощи примеров, может быть, мало–помалу привела нас к мысли об изменении к лучшему (προς το κρειττον) и показала, что душа не иначе может соединиться с нетленным Богом, как соделавшись и сама, насколько возможно, чистой чрез целомудрие, чтобы подобным восприять подобное, став как бы зеркалом для чистоты Божией, так, чтобы, чрез участие в первообразной красоте и чрез отражение ее, и самой получить ее вид. Если же кто и достиг того, что сумел оставить все человеческое: тела ли, деньги ли, занятия ли науками и искусствами, и все прочее, что по обычаям и законам считается прекрасным (поскольку заблуждение в понятии о прекрасном бывает относительно тех предметов, в основу суждения о которых полагается чувство), тот будет с любовью и вожделением (ερωτικως και επιθυμητικως) стремиться к тому лишь одному, что не заимствует своей красоты откуда–то извне, что не временно и не относительно, но прекрасно само по себе и самим собою и имеет само в себе красоту не такую, которая когда–то не была красотой или не будет ею, но всегда себе равную, выше возрастания и умножения, и недоступную никакой превратности и изменению.
6. Итак, кто все свои душевные силы очистил от всякого вида зла (ср. 1 Сол. 5:22), для того, отважусь сказать, становится ясным единое по естеству прекрасное. Ибо как чистый от гноя глаз ясно видит все, что находится на небе, так и душа чрез непорочность получает способность созерцать этот свет: и истинное девство, и стремление к нетлению ведут к той цели, чтобы при помощи их можно было видеть Бога. Ибо нет такого слепца по уму, который бы сам собою не понимал, что главная, первая и единственная красота, и благо, и чистота есть Бог всего, и никто не слеп разумом настолько, чтобы не понять этого самому.
Глава 12. О том, что очистивший себя увидит в себе божественную красоту, а также о причине зла
Это, вероятно, небезызвестно каждому; но кто–нибудь, пожалуй, станет искать — если возможно найти — некий способ и путь, ведущий нас к этому. Такого рода наставлениями полны божественные книги; многие из святых являют идущим по Боге жизнь свою, как светильник. Из богодухновенного Писания обоих Заветов каждый может в обилии извлечь правила, относящиеся к настоящему предмету, ибо многое можно обильно почерпнуть из пророков и закона, многое также из Евангелий и апостольских преданий; а те мысли, которые мы, следуя словам божественным, можем добавить, состоят в следующем.
2. Разумное это и мыслящее живое существо — человек — есть творение и подобие Божеского и чистого естества, ибо в повествовании о творении о нем написано так: «по образу Божию сотвори его» (Быт. 1:27). Итак, в этом живом существе — человеке — страстность и поврежденность (существует) не от природы и не соединена с ним первоначально. Ведь невозможно было бы сказать о нем, что он создан по образу Божию, если бы отображенная красота была противоположна красоте первообразной. Но страсть привзошла в него уже после сотворения и вошла таким образом: он был образом и подобием, как сказано, Силы, царствующей над всем сущим, а потому и в своей свободной воле имел подобие со (свободно) Властвующим над всем, не подчиняясь никакой внешней необходимости, но сам по своему собственному усмотрению действуя, как кажется ему лучше и произвольно избирая, что ему угодно. И то несчастье, которое терпит теперь человечество, навлек он на себя сам по своей воле, поддавшись обману, сам стал «изобретателем» этого зла (Рим. 1:30), а не у Бога обрел его: ибо «Бог смерти не сотвори» (Прем. 1:13), но некоторым образом творцом и создателем зла соделался сам человек. Солнечный свет, хотя и доступен для всех, кто имеет способность видеть, однако ж, если кто захочет, может, зажмурив глаза, не ощущать его, не потому чтобы солнце куда–либо удалялось и таким образом наводило тьму, но потому что человек, сомкнув свои веки, преградил глазу доступ лучей. А так как, если глаза зажмурены, зрительная сила пребывает бездейственной, то бездействие зрения неизбежно будет действием, производящим в человеке тьму, вследствие его добровольного ослепления. Как тот, кто, строя себе дом, не сделал окна для проникновения в него света извне, будет, разумеется, жить во тьме, поскольку добровольно преградил доступ лучам света, так и «первый человек от земли» (1 Кор. 15:47:ср. Быт. 2:7) или, точнее, тот, кто породил зло в человеке, имел в (своей) власти повсюду окружающее его прекрасное и благое по природе, но сам собой добровольно измыслил противное природе, положив первый опыт зла самопроизвольным удалением от добродетели. Ибо зла, не зависящего от воли, имеющего свое самостоятельное бытие, во всей природе существ нет никакого: «всякое создание Божие добро и ничтоже отметно» (1 Тим. 4:4); «вся, елика сотвори Бог, добра зело» (Быт. 1:31). Но когда указанным путем вошла в жизнь человеческую растлевающая привычка ко греху, и от малого начала проистекло необъятное зло в человеке, и та боговидная красота души, созданная по подобию первообразной, покрылась, словно железо, ржавчиной греха, тогда красота принадлежащего душе по природе образа уже не могла более сохраниться в целости, но изменилась в гнусный вид греха. Таким образом «человек», эта (вещь) «великая и драгая» (Притч. 20:6; 12:27), как назван он в Писании, лишившись своего достоинства, как если кто, поскользнувшись, упадет в лужу и вымажет в грязи лицо, (так что его) не узнают даже знакомые, (так он,) упав в лужу греха, потерял образ «нетленного Бога» (ср. Рим. 1:23; 1 Тим. 1:17) и чрез грех облекся в образ тленный и перстный, который Писание советует «отложить» (Иак. 1:21; Еф. 4:22), омывшись чистой жизнью, словно водой, чтобы, по «взятии» земного «покрывала» (Исх. 34:34; 2 Кор. 3:16), опять воссияла красота души. Сложить же чуждое значит опять возвратиться к свойственному ему и естественному состоянию, чего можно достигнуть не иначе, как соделавшись опять таким, каким он был сотворен в начале. Ибо не наше дело и не силой человеческой достигается подобие Божеству, но оно есть великий дар Бога, который вместе с первым рождением тотчас же дает естеству нашему свое подобие.
3. Человеческому же труду предстоит только очистить наросшую от греха нечистоту и вывести на свет сокрытую в душе красоту. Этому, думаю, учит и Господь в Евангелии, когда тем, кто способен понимать «премудрость, глаголемую в тайне» (1 Кор. 2:7), говорит, что «царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Ибо я думаю, что это изречение показывает, что благо Божие неотделимо от нашего естества и недалече отстоит от тех, кто желает искать его, но оно всегда есть в каждом, неведомое и сокрытое всякий раз от «печали и сластьми житейскими подавляемое» (Лк. 8:14) и вновь обретаемое, если только обратим к нему свой разум. А если нужно подтвердить это учение и другими (примерами), то, я думаю, то же дает видеть нам Господь и в искании потерянной «драхмы» (Лк. 15:8–10). Так как нет никакой пользы от прочих добродетелей (которые Писание именует драхмами), хотя бы все они и были, коль скоро душа вдовствует, лишившись той одной, поэтому Он, во–первых, повелевает зажечь светильник с елеем, которым, вероятно, обозначает слово Божие, освещающее тайное (ср. 1 Кор. 4:5). Затем в собственном доме, то есть в самом себе, искать потерянную драхму. Этой искомой драхмой, конечно, означается образ царя, не совсем еще потерянный, но скрытый грязью; под грязью же, думаю, следует понимать плотскую нечистоту. Когда эта грязь будет выметена и вычищена тщательным образом жизни, искомое станет видным, и душе, нашедшей его, поистине следует радоваться и приглашать разделить эту радость соседей. Ибо подлинно, как только откроется и воссияет тот образ великого Царя, который искони запечатлел на драхме нашей Тот, «создавши на едине сердца» (Пс. 32:15) наши, все сопребывающие в душе силы, которые Писание именует соседями, обратятся к божественной этой радости и веселию, неотступно взирая на неизреченную красоту обретенного. «Радуйтеся», говорит, «со мною яко обретох драхму погибшую» (Лк. 15:9). Соседи или домочадцы души — это ее силы, радующиеся обретению божественной драхмы; способности — мыслительная, желательная — свойственное душе расположение к печали и гневу, и все другие силы, какие усматриваются в ней и по справедливости называются подругами, которым всем следует «радоваться о Господе» (Флп. 3:1), когда все они обращаются к прекрасному и благому и «вся в славу Божию» (1 Кор. 10:31) совершают, перестав быть «оружием греха». (Рим. 6:13).
4. Итак, если смысл обретения искомого есть восстановление в исконное состояние божественного образа, который теперь сокрыт в плотской нечистоте, то давайте будем тем, чем был первозданный (человек) в начале своей жизни. Чем же он был? Он был «на» г (ср. Быт. 2:25) от одеяния мертвыми кожами, он с дерзновением взирал на лик Божий, еще не поставляя судьей красоты (ср. Быт 2:9) зрение и вкус, но «наслаждаясь» только «Господом» (Пс. 36:4) и притом в согласии с данной ему на это помощницей (ср. Быт. 2:18), как дает понять Божественное Писание, потому что не прежде «познал» ее (Быт. 4:1), как был изгнан из рая (ср. Быт. 3:24), а она осуждена была на болезни деторождения (ср. Быт. 3:16) за грех, который сотворила, «прельстившись» (Быт. 3:13). Итак, каким путем мы оказались вне рая, будучи изгнаны в лице прародителя, таким же и теперь можем опять, если пойдем, возвратиться в исконное блаженство. Какой же это путь? Удовольствие, полученное обманом, было началом падения. Потом за страстью удовольствия последовали стыд (ср.Быт. 3:7; 2:25) и страх (ср. Быт. 3:10) и то, что они уже не смеют явиться пред взоры Создателя, но скрываются в «листьях» и тени (ср.Быт. 7–10); после того облекаются мертвыми «кожами» (ср. Быт. 3:21) и таким образом высылаются жить в эту юдоль, полную болезней и трудов, где брак изобретен как утешение для смертных.
Глава 13. О том, что попечение (ётцёХею:) о самом себе начинается с удаления от брака
1. Итак, если мы хотим здесь «разрешитися» (αναλυεις) и быть «со Христом» (Флп. 1:23), то должны начать свое «отрешение» (αναλυσις) с брака. Как изгнаные из своего отечества, когда (собираются) вернуться туда, откуда отправились, сперва оставляют конечную точку своего удаления, так и тем, кто возвращается ко Христу, слово это советует оставить прежде всего, словно последний ночлег, брак, поскольку он оказывается последним пределом нашего удаления от райской жизни. Потом (надо) удалиться от тяжкой заботы о земном, на которую осужден человек после грехопадения. Затем — сбросить покровы плоти, совлечься «риз кожаных» (Быт. 3:21), то есть «плотского мудрования» (Рим. 8:6), и, отрекшись от всех «тайных срама» (2 Кор. 4:2), не укрываться уже более под тенью «смоковницы» (ср. Быт. 3:7), то есть горестной жизни, но, отбросив покровы из скоропреходящих «листьев» этой жизни, вновь предстать пред очи Создателя. (Еще следует) удаляться от соблазна для вкуса и зрения и держаться советов уже не ядовитого змия, но одной только заповеди Божией. А она состоит в том, чтобы стремиться к одному «добру» и отвергать вкушение «зла» (ср. Быт. 2:9); ибо все дальнейшее зло получило у нас начало оттого, что мы не захотели оставаться в неведении зла. Потому–то и поведено было прародителям не приобретать познания ни о добре, ни о том, что противоположно ему, но, удаляясь от «познания» как «добра», так и «зла» (Быт. 2:9), наслаждаться чистым, несмешанным и непричастным злу благом. А это благо, говорю я, состоит не в чем ином, как в том, чтобы пребывать лишь с Богом, и этим наслаждаться постоянно и непрестанно, не примешивая к этому наслаждению ничего, влекущего к противному. И если позволено будет сказать дерзновенно, может быть, таким образом кто–либо будет «восхищен» от сего мира, который «во зле лежит» (1 Ин. 5:19), в рай, где оказавшись, Павел слышал и видел «неизреченное» и незримое, о чем «нелеть есть человеку глаголати» (2 Кор. 12:4).
2. Но поскольку рай есть обиталище живых и не принимает умерщвленных грехом, мы же «плотяны» и смертны и «проданы под грех» (Рим. 7:14), то как может быть «на земли живых» (Пс. 26:13;114:9) тот, кто находится под владычеством смерти? Какой путь и способ можно придумать, чтобы освободиться от этого владычества? Евангельское учение и для этого предлагает вполне достаточное руководство. Мы слышали слова Господа к Никодиму, что «рожденное от плоти плоть есть, а рожденное от духа дух есть» (Ин. 3:6); знаем также, что плоть за грех подпала (под власть) смерти, Дух же Божий нетленен, животворящ и бессмертен.
3. Итак, поскольку с рождением по плоти неизменно сопре–бывает сила, разрушающая рождаемое, так, очевидно, и Дух рожденным от Него влагает животворящую силу. Итак, какой вывод из сказанного нами? Чтобы мы, отложив плотскую жизнь, за которой неизбежно следует смерть, стремились к той жизни, которая не влечет за собою смерти. Именно такова жизнь в девстве. Правда этих (слов) будет яснее, если мы добавим немногое. Кто не знает, что дело плотского сочетания есть появление смертных тел, от духовного же союза (κοινωνια), вместо чад, рождается для сочетавшихся жизнь и бессмертие? И справедливо применить к этому апостольское изречение, что спасается «чадородия ради» (1 Тим. 2:25) мать, веселящаяся о таких чадах, как возгласил в божественных псалмах псалмопевец, говоря:» вселяя неплодовь в дом матерь о чадех веселящуся» (Пс. 112:9). Ибо поистине веселится, как мать, дева матерь, Духом породившая бессмертных чад, названная у пророка «неплодной» по причине целомудрия.
Глава 14. О том, что девство сильнее владычества смерти
1. Следовательно, именно такую жизнь, которая сильнее владычества смерти, должны предпочитать (люди) разумные; ибо плотское деторождение (никто да не оскорбится этими словами) бывает причиной не столько жизни, сколько смерти. Дело в том, что от рождения получает начало тление, а положившие ему конец чрез девство поставили в себе предел смерти, воспретив ей чрез себя идти далее и представив собой некую границу между жизнью и смертью, удержали последнюю от продвижения вперед. Итак, если смерть не может прейти чрез девство, но в нем исчезает и прекращается, то ясно видно, что девство сильнее смерти; отчего справедливо именуется непорочным тело, не подчинившееся рабству тленной жизни и не допустившее себя стать орудием к продолжению смертного потомства, так как в нем прервалась постоянная последовательность тления и смерти, которая непрерывно продолжалась от первозданного (Адама) до жизни девствующего. Ибо невозможно было смерти когда–либо прекратить свое действие, притом, что чрез брак действовало рождение людей. Но она, сопровождавшая все предшествовавшие поколения и всегда вместе с рождающимися вступавшая в жизнь, обрела в девстве предел своему действию, выйти за который ей невозможно. Ибо как в Богородице Марии, «царствовавшая от Адама даже до» Нее «смерть» (Рим. 5:14), когда приступила и к Ней, то, преткнувшись о плод девства, словно о камень, сокрушилась о него. Так и во всякой душе, ведущей девственную жизнь во плоти, «держава смерти» (Евр. 2:14) как бы сокрушается и разрушается, <307> не находя, во что вонзить свое «жало» (ср. 1 Кор. 15:55; Ос. 13:14). Ибо и огонь, если не подкладывать дров, соломы, сена или чего другого из воспламеняемых веществ, не может являть своей природной силы. Так и сила смерти не может действовать, если брак не подложит ему вещества, не приготовит существ, которые должны подвергнуться смерти, словно какие осужденные.
2. Если сомневаешься, посмотри на все виды несчастий, какие приносит людям смерть, как уже было сказано в начале слова. Откуда берут они начало? Скорбь о вдовстве, сиротстве или несчастье потери детей могли ли быть, если бы не было до того брака? Ведь желанные утехи, радости и удовольствия и все, что считается завидным в супружестве, оканчивается такими скорбями. Как у меча рукоять бывает гладка, приятна на ощупь и в руке, блестяща и удобна, все же прочее есть железо, орудие смерти, которое страшно увидать и еще страшнее на деле испытать, — нечто подобное этому есть и брак: словно художественно выточенную, красивую рукоять он представляет для чувственного ощущения поверхностную гладкость наслаждения, но как только эта рукоять окажется в руках прикоснувшегося к ней, она влечет за собой соединенные с ней скорби, и брак становится для людей виновником плача и несчастий.
3. Это он представляет столь жалостные и достойные слез зрелища: детей, в раннем возрасте осиротевших и преданных в добычу сильным, детей, которые в своем несчастье часто смеются, сами его не осознавая. А какая другая причина вдовства, как не брак? Следовательно, удаление от него разом освобождает от всех подобного рода бедствий, и это справедливо. Ибо когда осуждение, определенное древле согрешившим, уничтожается, тогда скорби матерей, более, согласно с Писанием, не «умножаются» и «болезнь» (Быт. 3:16) не предшествует человеческому рождению. Вместе с тем окончательно уничтожаются и несчастья жизни и «отъята слеза от лиц», как говорит пророк (Ис. 25:8). Ибо тогда «зачатие» происходит не «в беззакониях» и «рождение» не «во гресех» (Пс. 50:7) и «не от кровей», ни «от похоти мужеским», ни «от похоти плотския» (ср. Ин. 1:13), но от одной воли Божией происходит это рождение. А происходит оно тогда, когда кто–то живым сердцем воспринимает нетление Духа; рождает же он «премудрость, правду, освящение», а также «избавление» (1 Кор. 1:30). Ибо каждому можно быть матерью Того, Кто есть все это, как говорит где–то Господь: «творящий волю» Мою — и «брат, и сестра, и мати Ми есть» (Мф. 12:49).
4. Какое место занимает при такого рода рождениях смерть? Поистине «пожерто» в них «мертвенное животом» (2 Кор. 5:4)! И мне кажется, что девственная жизнь есть прообраз блаженной жизни в «веце грядущем» (Еф. 1:21), заключающая в себе много признаков тех благ, которые, как «уповаем, отложены» нам (Кол. 1:5). В справедливости сказанного можно убедиться, если исследуем вопрос подробнее. Во–первых, «умерший единожды греху, живет» уже лишь «Богови» (Рим. 6:10) и не «творит» более «плод» (для) «смерти» (Рим. 7:10); но, полагая, сколь возможно, конец плотской жизни, ожидает затем «блаженного упования и явления великого Бога» (Тит. 2:13), не ставя никакого средостения между собой и пришествием Божиим произведением (на свет) промежуточных поколений. Кроме того, уже в настоящей жизни он наслаждается изысканнейшим из благ по воскресении: ибо если праведным после воскресения обещана Господом жизнь «равноангельская» (Лк. 20:36), а ангельскому естеству свойственно безбрачие, то тот, кто приобщается «светлостям святых» (Пс. 109:3) и непорочной жизнью подражает чистоте бесплотных, уже получает обетованные блага. Итак, если девство доставляет нам столь великие и богатые (дары), то какое слово может достойно восхвалить такой дар? Какое из прочих душевных благ окажется столь великим и драгоценным, чтобы могло сравниться с этим совершенством?
Глава 15. О том, что истинное девство видится в любом занятии
1. Но если нам понятно, сколь изобилен этот дар, то нужно также знать и что он за собой влечет, потому что девство есть не простое дело, как, может быть, кто–нибудь думает, и не к одному только телу относится, но мысленно «достизает» (Прем. 7:24) и проникает во все признаваемые правильными действия души. Ибо душа, прилепившаяся посредством девства к истинному Жениху, не только будет удаляться от плотской скверны, но, положив отсюда начало своей чистоте, во всем поступает так же, с одинаковой непоколебимостью, боясь, как бы склонившись сердцем к чему–либо сверх должного, чрез общение с каким–либо злом, не допустить в эту часть души какой–нибудь прелюбодейной страсти. И вот что я хочу сказать — возвращаюсь опять к сказанному мною прежде: душа, «прилепившаяся» ко Господу, чтобы быть с Ним «единым духом» (1 Кор. 6:17), заключив как бы некий договор совместной жизни — Его одного «любить от всего сердца и силы» (Втор. 6:5), не будет уже «прилепляться к блуду» (ср. 1 Кор. 6:17), чтобы не быть с ним единым телом; также не допустит ничего другого, что препятствует спасению, так как все нечистые дела тесно связаны между собой и душа, осквернив себя одним из них, не может уже более хранить себя незапятнанной.
2. Эти слова можно подтвердить примерами. Так, вода в озере до тех пор остается чистой и спокойной, пока что–нибудь, брошенное извне, не возмутит и не приведет в движение ее ровную поверхность. Если же бросить в озеро камень, то всплеск от него разойдется по всему озеру, потому что камень от тяжести погружается в глубину, а волны кругами поднимаются от места его падения и разбегаются до самых краев воды, и вся поверхность озера круговидным колебанием отвечает возмутившейся глубине. Точно также тихое и спокойное состояние души от нападения одной какой–нибудь страсти все приходит в колебание и сострадает поврежденной части. Ибо те, кто исследует подобные вещи, говорят, что добродетели нераздельны между собою и что невозможно составить точное понятие об одной добродетели, не коснувшись и прочих, но в ком рождается одна добродетель, за ней непременно следуют и прочие. Также и наоборот: вкравшееся в нас зло простирается на всю добродетельную жизнь; и подлинно, как говорит апостол, целое сострадает своим частям, так что если «страждет един уд», болезнует вместе с ним все тело, и если (один) «славится, с ним радуется» и все тело (1 Кор. 12:26).
Глава 16. О том, что и малейшее уклонение от добродетели также опасно
Тем не менее в жизни нашей существует бесчисленное множество уклонений ко греху, и это множество Писание обозначает различно: ибо «мнози», говорит, «изгонящии мя и стужающии ми» (Пс. 118:157) и: «мнози борющий мя с высоты» (Пс. 55:4); много и других подобных речений. Итак, в целом можно прямо сказать, что много есть тех, кто прелюбодейственно строит козни, чтобы растлить эту поистине «честную женитву и ложе нескверно» (Евр. 13:4). Если же нужно исчислить их поименно, то это: прелюбодей гнев, прелюбодей любостяжание, прелюбодей зависть, (а также) злопамятство, вражда, злословие, ненависть — словом, все, что апостол исчисляет как «противящееся здравому учению» (1 Тим. 1:10), есть перечень прелюбодеев. Представим себе женщину благообразную, достойную любви и потому сочетавшуюся браком с царем, но которая по причине своей красоты подвергается козням со стороны неких беззаконников. Пока она воспринимает своих обольстителей как врагов и обвиняет их пред законным мужем, до тех пор она — женщина целомудренная, преданная одному только своему мужу, и козни наглецов тогда не имеют над ней никакой силы. Если же она уступит (хотя бы) одному из злоумышленников, то, (даже если она и) хранит верность в остальном, (это) не спасет ее от наказания; ибо для осуждения ее достаточно, если и одним осквернено было ложе. Так, «Богови живущая» (Рим. 6:10) душа не будет увлекаться ни одним из благ, которые представляются ей заманчивыми; если же она чрез какую–либо страсть допустит в сердце нечистоту, то сама нарушит закон духовного брака. И как говорит Писание, «в злохудожну душу не внидет премудрость» (Прем. 1:4), так поистине можно сказать, что и в душу, исполненную гнева и зависти или имеющую в себе другой какой порок, не может вселиться благой Жених.
2. Так кто же найдет способ согласовать между собой то, что по естеству чуждо и не имеет ничего общего? Послушай апостола, который учит, что нет никакого «общения свету ко тьме или правды к беззаконию» (2 Кор. 6:14), или, сказать кратко, всего того, чем мы мыслим и именуем Господа по различию созерцаемых в Нем совершенств — со всем тем, что по противоположности считается злом. Итак, если невозможна общность того, что по природе несовместимо между собой, то, конечно, чужда и неспособна к сопребыванию с добром душа, одержимая каким–либо пороком. Итак, какой мы отсюда делаем вывод? Тот, что целомудренная и разумная дева должна всячески оберегать себя от нападения какой бы то ни было душевной страсти и блюсти себя для сочетавшего ее с Собой Жениха чистой, не имеющей «скверны, или порока, или нечто от таковых» (Еф. 5:27). Один есть прямой «путь», поистине «узкий и тесный» (Мф. 7:14), который не допускает уклонений ни в ту, ни в другую сторону и от которого даже малейшее отступление равно угрожает опасностью падения.
Глава 17. О том, что несовершенно благо, если ему не хватает даже одного какого–то (свойства) добродетели
1. Если это так, то мы, насколько возможно, должны исправлять обычай многих — тех, кто решительно ополчается против удовольствий более постыдных, но охотятся за удовольствиями, заключающимися в почестях и любоначалии. Они поступают подобно рабу, который старается не от рабства освободиться, а довольствуется только сменой господ, считая за свободу перемену владельцев. Ведь рабская участь одна и та же, хотя бы и не одни и те же господа управляли, пока тяготеет чья–то власть и начальство. А бывают и такие, кто, храбро сражаясь с наслаждениями, (тем не менее) скоро сдается противоположной страсти и при строгом и правильном образе жизни с легкостью попадает в плен печали, вспышкам гнева, злопамятству и всему прочему, что противоположно страсти удовольствия, и (от чего) освобождается с трудом. Это бывает тогда, когда на пути жизни мы руководствуемся не стремлением к добродетели, но какой–либо страстью.
2. Конечно, «заповедь Господня» столь «светла», что «просвещает очи» (Пс. 18:9) даже младенцев, как говорит Писание, утверждая, что «благо есть прилеплятися» единому «Богу» (Пс. 72:28); Бог же не есть ни печаль, ни удовольствие, ни трусость, или дерзость, или страх, или гнев, или иная какая–нибудь подобного рода страсть, которая господствует над невежественной душой, но, как говорит апостол (1 Кор. 1:30), самосущая «мудрость» и «освящение» (ср. 1:30), истина, и «радость, и мир» (ср. Рим. 14:17; Гал. 5:22), и тому подобное. Итак, каким образом может «прилепиться» (1 Кор. 6:17) к имеющему такие совершенства тот, кто одержим (тем, что совершенствам) противоположно? Или разве не безрассудно, радея о том, чтобы не подчиниться одной какой–то страсти, полагать добродетель в противоположной? Например: избегая удовольствия (ηδονη), предаваться печали (λυπη), уклоняясь дерзости (το θρασυ) и безрассудства (το προπετες), ослаблять дух трусостью (δειλια) или, стараясь быть недоступным гневу (οργη), впасть в боязливость (φοβος)? Ведь какая разница: отпасть от добродетели так или по–иному, или, точнее, отдалиться от самого Бога, который есть всецелая добродетель? И в телесных болезнях никто не скажет, что есть разница: от чрезмерного ли голода или от неумеренного пресыщения пришло в расстройство тело, потому что неумеренность в обоих случаях приводит к тому же концу. Итак, кто заботится о жизни и здравии собственной души, будет держаться (золотой) середины бесстрастия, не склоняясь и не приобщаясь ни к одной из противоположных крайностей, лежащих по ту и другую сторону добродетели. Не мои это слова, но от самого божественного гласа, ибо это правило ясно следует из учения Господа, когда Он учеников своих, вращающихся в этом мире как «агнцы» посреди «волков», учит быть не «голубями» только, но иметь в своих нравах некоторые свойства «змия» (Лк. 10:3; Мф. 10:16). Это значит, чтобы они ни считающейся похвальной у людей простоты не простирали до (последнего) предела, потому что такое свойство недалеко от крайнего скудоумия (ανοητον); ни восхваляемых многими изворотливости и хитроумия, самих по себе, без примеси противоположных качеств, не почитали за добродетель, но чтобы из видимых противоположностей составили один смешанный образ действия, отсекши от одной скудоумие, а от другой — изощренности в коварстве, так чтобы из обеих противоположностей образовался один прекрасный образ поведения, состоящий из простоты души (γνωμης) и изощренности ума: ибо «будит» е, говорит, «мудри яко змия, и цели яко голубие» (Мф. 10:16).
Глава 18. О том, что следует направлять к добродетели все силы души
1. Итак, сказанное здесь Господом да будет общим правилом для жизни каждого, в особенности же для тех, кто приступает к Богу чрез девство, чтобы они, обращая внимание на одно какое–либо доброе дело, не только остерегались противоположных (ему пороков), но отовсюду извлекали для себя доброе, так чтобы жизнь их со всех сторон была в безопасности. Ибо и воин, покрывший доспехами лишь некоторые части тела, подвергает опасности все остальное обнаженное тело. И что пользы для него от защиты доспехами (одной) части тела, когда у него открыты смертельным ударам (другие) обнаженные части? Кто назовет красивым того, в ком одна из составляющих его красоты изувечена вследствие какого–то несчастного случая? Это уродство отнимает красоту и у неповрежденных частей. Если смешон тот, кто, как говорит где–то Евангелие, решившись на «созидание столпа» и употребив все свое старание на его «основание», не достиг конца (Лк. 14:28–30), то чему другому учит нас эта притча, как не тому, чтобы мы, взявшись за какое–либо возвышенное занятие, старались довести его до конца, усовершенствуя эту работу Божию различными надстройками заповедей. Как не один камень составляет все строение башни, так и не одна заповедь доводит совершенство души нашей до желаемой меры, но непременно нужно сперва положить «основание», как говорит апостол; затем поставить (на нем) «здание из злата и камения честна» (1 Кор. 3:12), ибо так называются дела заповедей, по слову пророка: «возлюбил заповеди Твоя паче злата и камене честна много» (Пс. 118:127:Пс. 18:11). Итак, ревность о девстве пусть будет положена как основание для добродетельной жизни; и на этом основании пусть зиждутся все дела добродетели. Ибо, хотя девство признается делом весьма достойным и богоугодным (оно и действительно таково, каким считается), но если и вся жизнь не будет согласоваться с этим благим делом, если будут осквернены нестроением прочие силы души, то оно будет не что иное, как «усерязь злотый в ноздрях свинии» (Притч. 11:22) или «бисер попираемый ногами свиней» (Мф. 7:6). Но довольно об этом.
2. Если же кто в ничто вменяет упорядочение (всех сторон) жизни во взаимном согласии, тот пусть научится этому правилу, посмотрев на то, что делается в его доме. Думаю, что хозяин дома не допустит видеть в своем жилище чего–либо непристойного или безобразного: или перевернутую постель, или стол заваленный всякой гадостью, или того, чтобы «сосуды честны» (ср. 2 Тим. 2:20—21) были задвинуты в какой–нибудь грязный угол, а предназначенные для низкого употребления стояли на виду входящих в дом. Но расположив все благообразно и в должном порядке и определив каждой вещи подобающее место, он смело принимает гостей, нисколько не боясь позора, если сделается известным, как у него ведутся дела по дому. Так, я думаю, должен действовать и нашей «скинии» (2 Пет. 1:13—14) хозяин и распорядитель — я имею в виду ум: все, что в нас есть, он должен расположить стройно; каждую из сил души, которые Зиждитель предусмотрел нам вместо утвари и сосудов, должен употреблять сообразно с ее природой и во благо. Если нас никто не обвинит в говорливости и многословии, то мы объясним и все по порядку, чтобы, пользуясь как примером тем, что у нас есть, каждый мог устроить жизнь свою на пользу.
3. Итак, мы говорим, что желательную (силу) следует утвердить в чистоте души, пожертвовав Богу как дар и начаток своих благ; и, посвятив ее (Ему) однажды, блюсти неприкосновенной, чистой и не запятнанной никакой жизненной скверной. Раздражение же, и гнев, и ненависть держать, как сторожевых псов, чтобы они бодрствовали для противодействия одному только греху и направляли свою естественную (злобу) против того «татя» и разбойника, который тайно проникает, чтобы лишить нас божественного сокровища и входит для того, чтобы «украсть, убить» и «погубить» (Ин. 10:10). Мужество (την ανδρειαν) и смелость (το θαρσος) следует держать в руках, словно щит, чтобы не «убояться страха нашедшего ниже устремления нечестивых находящего» (Притч. 3:25); надежду (ελπις) и терпение (υπομονη) — словно жезл, чтобы опираться, когда (подвижника) приводят в изнеможение искушения. К «печали» (λυπη) благовременно прибегать в случае «покаяния» (μετανοια) во грехах (ср 2 Кор. 7:10), так как она ни на что другое не годится, как только на одно это употребление. Правда (δικαιοσυνη) да будет верным мерилом «правости» (ευθυτης) (Пс. 44:7–8) при определении того, что непогрешительно во всяком слове и деле, как надо располагать силами душевными и как воздавать каждому свое по достоинству. А желание большего (του πλειονος εφεσις), которое в душе каждого велико и безгранично, если кто применит к вожделению божественного, тот будет блажен в своем любостяжании (πλεονεξια), усиленно «понуждая» себя к приобретению того, к чему похвально «понуждать» себя (ср. Мф. 11:12; Лк. 16:16). «Премудрость» (σοφια) же и благоразумие (φρονησις) пусть будут «советниками» (ср. Прем. 8:9) относительно того, что ему полезно, и помощниками в его жизни, чтобы никогда ему не впасть в обман от неопытности или неразумия. Если же кто вышеназванные силы душевные использует несоответственно их природе, но направляет не на то, на что нужно: желание обращает на предметы постыдные, ненависть устремляет против единоплеменников; «любяй же неправду» (Пс. 10:5) восстает на родителей, дерзает на неподобающее, надеется на суетное, удалив от себя мудрость и благоразумие, дружится с жадностью и безрассудством и так же ведет себя во всем прочем — тот до такой степени глуп и смешон, что даже и описать нельзя его глупости, насколько она того заслуживает. Представим, что кто–нибудь, надев доспехи навыворот, повернет шлем так, что закроет им лицо, а (волнующийся) гребень свесит назад; ноги поместит в панцирь, а поножи приладит к груди, и что из вооружения предназначено для левой стороны, перевернет на правую а что для правой — на левую. И что должен потерпеть в сражении вооруженный таким образом воин, то же самое неизбежно потерпит в жизни и тот, кто допускает смешение в мыслях и извращение в употреблении душевных сил.
4. Итак, мы должны заботиться о водворении во всем этом согласия (ευαρμοστια), которое обычно возникает в душах наших от истинного целомудрия. Если же нужно приискать самое совершенное определение целомудрия, то, быть может, в точном смысле целомудрием следует назвать благоустроенный порядок (ευτακτος οικονομια) всех душевных движений, соединенный с мудростью и благоразумием. При таком устроении души не будет нужды в каком–либо (особом) труде или прилежании для достижения высочайших и небесных благ; при нем душа с совершенной легкостью достигнет того, что без него кажется неудободостижимым. Самым убыванием (υπεξαιρεοις) противоположного (ее намерениям) она естественно достигает искомого блага: ибо кто не во тьме, тот по определению пребывает во свете; и кто не умер, тот жив. Следовательно, «иже не прият всуе душу свою» (Пс. 23:4), тот непременно будет на пути истины, потому что предусмотрительность и благоразумие в рассуждении того, чтобы не совратиться с истинного пути, служат вернейшим руководством на прямом пути. Как слуги, освободившиеся от рабства, когда, перестав служить господам, делаются сами себе господами, обращают все внимание на самих себя, так, я думаю, и душа, освободившись от служения телу, обращается к познанию свойственной и естественной ей деятельности. Свобода же, как мы знаем, в частности, от апостола, состоит в том, чтобы не «держаться под игом рабства» (Гал. 5:1) и, подобно беглому рабу или злодею, не быть закованным в цепи брака.
5. Но я опять возвращаю слово к самому началу — к тому, что совершенство свободы состоит не в одном только удалении от брака (да не сочтет кто–нибудь обязанность девства столь малой и незначительной, чтобы видеть всю заслугу всего лишь в хранении чистоты плоти); но поскольку «всяк, творяй грех, раб есть греха» (Ин. 8:34), то во всяком деле или занятии уклонение в сторону зла подвергает человека рабству и накладывает печать, оставляя на нем от ударов греха рубцы и клейма. Таким образом, кто поставил себе великую цель — девственную жизнь, тот во всем должен быть равен себе и являть чистоту во всей жизни. Рыболовное искусство, согласно притче Господней (Мф. 13:47–49), отделяет полезных и съедобных рыб от негодных и вредных, чтобы какая–нибудь из последних, попав в сосуд, не сделала вредным употребление и полезных. Так и дело истинного целомудрия состоит в том, чтобы из всех занятий избирая одно чистое и полезное, непристойного избегать во всем, как бесполезного, и предоставлять его обыкновенной мирской жизни, которая иносказательно в притче названа «морем» (Мф. 13:47). И псалмопевец также в одном из псалмов, излагая нам учение исповедания, именует эту непостоянную, страстями одержимую и мятежную жизнь «водами, души» коснувшимися, «бурей и глубиною морскою» (Пс. 68:2—3), в которой всякий неустойчивый ум, подобно египтянам, «яко камень во глубину погрязает» : (Исх. 15:5). Что дружественно Богу и имеет способность прозревать истину, что в истории названо Израилем, — лишь одно оно «преходит» море, «яко по суху» (ср. Исх. 14:22; Евр. 11:29), нисколько не чувствуя горечи и солености житейских волн. Так образно, под водительством закона (ибо Моисей был прообразом закона) и израильтяне перешли через море, не омочив ног, египтяне же, вслед за ними вступив в него, потонули; каждый по своей собственной природе: один переходит легко, а другой тонет в глубине. Ибо добродетель есть нечто легкое и устремленное ввысь (ανωφερες), поскольку все, по ее правилам живущие, «яко облацы летят», по словам Исайи, «и яко голуби со птенцы» (Ис. 60:8). Ибо тяжел грех, как говорит один из пророков, над «талантом оловянным седящий» (Зах. 5:6). Если же кому такое изъяснение истории представляется натянутым и неуместным и он не допускает, чтобы чудо, совершенное при переходе через море, описано было для нашей пользы, тот пусть послушает апостола, что «онем же сия вся образи прилучахуся, писана же быша в наставление наше» (1 Кор. 10:11).
Глава 19. Воспоминание о Мариам, сестре Аароновой, как положившей начало этому (виду) подвига
1. Повод думать так нам подает пророчица Мариам, которая тотчас по (прехождении) моря, взяв сухой и благозвучный «тимпан», предначала песнь в «лике жен» (ср. Исх. 15:20). Ибо я думаю, что «тимпаном» Писание иносказательно называет девство, в котором первая подвизалась Мариам, чем, полагаю, и прообразовала Богородицу Марию. Ибо как тимпан, свободный от всякой влаги и совершенно сухой, издает громкий звук, так и девство, не допуская в этой жизни никакой житейской «влаги», бывает светлым и далеко слывущим (περιβοητος). Если тимпан, который имела в руках Мариам, был мертвым телом, а девство есть умерщвление тела, то этим, очень может быть, указывается на девство пророчицы. Что касается того, что пророчица Мариам была первой в лике дев, то это мнение мы основываем на некоторых предположениях и догадках, а не на ясном указании Писания, хотя и многие исследователи прямо объявляют ее безбрачной, потому что история нигде не упоминает ни о браке ее, ни о рождении от нее детей. Притом, если бы у нее был муж, то она бы именовалась и была бы известна не по брату своему Аарону, но по мужу, потому что не брат, но «муж» называется «главою жене» (1 Кор. 11:3; Еф. 5:23). Итак, если и у тех, кто искал чадородия как благословения и закона, дар девства считался достойным уважения, тем более следует приветствовать это рвение нам, кому благословения Божий даются уже не во плоти, а духовно. Божественные Писания открывают нам, когда плодоношение и рождение бывает во благо и о каком виде многочадия заботились святые Божий. Ибо и пророк Исайя, и божественный апостол ясно и мудро указали на это, один говоря так: «страха ради Твоего, Господи, во чреве прияхом» (Ис. 26:17—18), — а другой, хвалясь, что стал родителем, более всех многочадным, потому что выносил (под сердцем) целые города и народы, не только коринфян и галатов в собственных «болезнях» рождения изведши на свет и «вообразив» (μορφωσας) о Господе (Гал. 4:19), но всю страну «от Иерусалима окрест и даже до Иллирика» (Рим. 15:19) наполнив своими чадами, которых «породил о Христе благовествованием» (1 Кор. 4:15). За «то ублажается» в Евангелии «я утроба» пресвятой Девы (Лк. 11:27), послужившая непорочному рождению; поскольку ни рождение не нарушило девства, ни девство не послужило препятствием к такому рождению, ибо где рождается «дух спасения», как говорит Исайя (Ис. 26:18), там совершенно не нужны «похоти плотские» (Ин. 1:13).
Глава 20. О том, что невозможно одновременно служить телесным удовольствиям и наслаждаться плодами божественной радости
1. Есть у апостола (2 Кор. 4:16) и такое выражение, что в каждом из нас человек двоякий: один «внешний», которому по природе свойственно «тлеть», <325> другой — понимаемый как «потаенный сердца человек» (1 Петр. 3:4), который восприемлет обновление. Если это слово истинно (а оно непременно истинно, потому что в нем говорит сама «Истина» (ср. Ин. 14:6)), то с полным правом можно и брак мыслить двояким, соответственно и сообразно каждому из находящихся в нас (двух) человек; и быть может, дерзнувший сказать, что телесное девство содействует и помогает внутреннему и духовному браку, в своем дерзновении не уклонится далеко от истины.
2. Как невозможно в одно и то же время делами рук своих служить двум каким–либо ремеслам, например: заниматься земледелием и в то же время мореплаванием или делом кузнечным и плотничным, но если кто хочет преуспеть в одном деле, то должен оставить другое; так, поскольку и нам предстоят два брака, из которых один совершается посредством плоти, а другой — посредством духа, то стремление к одному из них неизбежно отдаляет нас от другого. Ведь и глаз не может хорошо рассмотреть двух предметов сразу, если не будет обращен на каждый поочередно и в отдельности. Точно так же и язык не может в одно и то же время служить различным наречиям: например, одновременно произносить слова греческие и еврейские. И слух не может разом воспринимать повествования о деяниях и слова нравоучительные. Ибо речи разного содержания, если их слушать отдельно, производят в слушателях (определенное) представление; если же обе, смешавшись, в одно и то же время будут занимать слух, то содержание их, сливаясь вместе, произведет в уме неопределенное смешение.
3. Таким же образом и наша желательная способность не в состоянии сразу и служить телесным удовольствиям, и стремиться к духовному браку. Ибо невозможно одинаковым образом жизни достигнуть поставленной цели того и другого, затем что с духовным браком соединяется воздержание, умерщвление тела и презрение всего плотского, а с плотским супружеством — как раз наоборот. Когда надо выбирать между двумя господами, то, поскольку невозможно в одно и то же время быть послушными обоим, ибо «никтоже может двема господинома работати» (Мф. 6:24), благоразумный человек изберет более достойного из них. Так и нам, когда предложены два брака, так как невозможно вступить в тот и другой вместе, ибо «не оженивыйся печется о Господних, а оженивыйся печется о мирских» (1 Кор. 7:32—33), нельзя — я говорю о благоразумных — ошибиться в выборе достойнейшего из них. Не следует также оставаться в неведении относительно пути, ведущего к этому (браку), и который не иначе можно узнать, как при помощи сравнения.
4. Как в супружестве телесном не желающий быть отвергнутым приложит много забот о здоровье тела, о подобающем украшении, об изобилии богатства и о том, чтобы не иметь никакого пятна ни на своей жизни, ни на своем роде, ибо этим обычно достигают желанной цели, таким же образом и желающий вступить в духовное супружество пусть прежде всего покажет себя юным, отрешившимся чрез «обновление ума» (Рим. 12:2) от всякой ветхости. Затем пусть он представится в изобилии имеющим то, о чем более всего пекутся, но славится пусть не земным имуществом, а украшается сокровищами небесными. Пусть поревнует и о том, чтобы иметь знаменитость рода — не ту, которая сама собой случайно может принадлежать и дурным людям, но которая достигается трудом и старанием, собственными добрыми делами, которой величаются лишь только «сынове света» (Ин. 12:36;1 Сол. 5:5), чада Божий и те, кто именуется «благороднейшими от восток солнца» (Иов 1:3) за свои светлые дела. Крепости же и здоровья пусть достигает он не попечением о теле или утучнением плоти, но совершенно напротив — чрез «немощь» телесную «усовершая силу» духа (ср. 2 Кор. 12:9). Знаю и брачные дары, приличествующие этому браку, которые не на тленные средства приобретаются, но от собственного богатства души приносятся в дар. Хочешь знать названия этих даров? Послушай Павла, прекрасного брачного распорядителя у некоторых богачей, которые во всех отношениях (что–то) «представляют собою» (2 Кор. 6:4). Говоря о других многих и великих дарах, он прибавляет также: «и во очищении» (2 Кор. 6:6). И опять–таки, все, что он в другом месте (Гал. 5:22—23) исчисляет как «плоды духовные» (Гал. 5:22), все это — дары этого брака. И если кто хочет последовать Соломону и принять к себе подругой и помощницей жизни истинную премудрость, о которой тот говорит: «возжелей ея, и соблюдет тя, почти ю, да тя обымет» (Притч. 4:6—8), — тот сообразно с достоинством такого желания пусть приготовит себе чистую одежду для участия в этом брачном торжестве вместе с веселящимися, чтобы не изгнали его, если он явится, чтобы принять участие в празднестве, не одетым в «одеяние брачное» (Мф. 22:11—12). Очевидно, что этот способ приготовления к браку такого рода является общим как для мужей, так и для жен; поскольку, как говорит апостол, «несть мужеский пол, ни женский» (Гал. 3:28), «но всяческая и во всех Христос» (Кол. 3:11). И конечно, влюбленный в премудрость божественным предметом своего вожделения имеет истинную Премудрость; и душа, прилепившаяся к нетленному Жениху, пылает любовью к истинной Премудрости, которая есть Бог. Но что такое духовный брак и что имеет целью чистая и небесная любовь, достаточно раскрыто нами в том, что сказано.
Глава 21. О том, что избравший для себя строгий образ жизни должен удаляться от всякого телесного удовольствия
1. Поскольку оказалось, что никто не может приблизиться к божественной чистоте, не сделавшись прежде сам чистым, то нам необходимо оградить себя от удовольствий как бы великой и крепкой стеной, чтобы чистота сердца никак не могла оскверниться чрез приближение к ним. Крепкая же стена есть совершенное удаление от всего, что таит в себе страсть, ибо удовольствие по роду своему будучи единым, по словам мудрых, как вода, из одного потока разливающаяся на разные ручьи, чрез каждый из (органов) чувств проникает в нутро тех, кто предан удовольствиям. Итак, побежденный удовольствием, попавшим в него чрез одно какое–либо чувство, от него терпит поражение в самом сердце; как и слово Божье учит, что восприявший вожделение чувством зрения уязвлен «в сердце» (Мф. 5:28). Думаю, что Господь, говоря здесь об одном чувстве, подразумевал все, так что, следуя сказанному, мы с (полным) правом можем присовокупить: кто услышал «ко еже вожделети», кто коснулся и кто всю свою силу подчинил служению удовольствию, тот согрешил «в сердц» е (Мф. 5:28).
2. Итак, чтобы с нами этого не случилось, мы должны в своей жизни руководствоваться тем мудрым правилом, чтобы не прилепляться душой ни к чему, к чему примешивается приманка удовольствия, преимущественно же и более всего блюстись от наслаждения вкусом, потому что оно, по–видимому, упорнее других и есть как бы мать (всего) запрещенного. Ибо наслаждение пищей и питьем, избыточное от неумеренности в еде, неизбежно причиняет телу множество нежелательных последствий, поскольку пресыщение по большей части порождает в людях подобные страсти (παθη). Итак, чтобы тело всегда пребывало в полном спокойствии и не возмущалось никакой происходящей от пресыщения страстью, мы должны вести строжайший образ жизни и определять меру и предел наслаждения не удовольствием, но потребностью в чем–либо.
Хотя потребность и удовольствие часто соединяются между собой (поскольку голод обычно все делает приятным, ибо сильное желание утолить его делает приятным все, что ни случится употреблять в пищу), мы не должны ни отказываться от удовлетворения потребности по причине сопутствующего ему удовольствия, ни преимущественно охотиться за наслаждением, но, избирая из всего полезное, то, что тешит чувства, презирать.
3. Мы видим, что и земледельцы искусно отделяют зерно от смешанной с ним мякины, так что и то, и другое назначается для надлежащего употребления: зерно — для (поддержания) человеческой жизни, мякина — для сожжения и на корм скоту. Так и труженик целомудрия, отделяя потребность от удовольствия, как зерно от мякины, оставляет последнюю неразумным, чья «кончина в пожжение», как говорит апостол (Евр. 6:8. Ср. Мф. 3:12; Лк. 3:17), а из того, что необходимо, «снедает», сколько нужно, «с благодарением» (ср. 1 Тим. 4:3).
Глава 22. О том, что не должно сверх надлежащей меры предаваться воздержанию и что равно препятствует душе в достижении ею совершенства как утучнение плоти, так и чрезмерное ее изнурение
1. Но поскольку многие, впав в другой вид неумеренности, от излишней строгости жизни незаметно увлеклись в сторону, противоположную поставленной ими цели, и иным образом отдалив душу свою от высших и божественных предметов, низвели ее в круг мелочных забот и попечений, обратив ум свой к блюдению тела, так что не в состоянии свободно возноситься умом и созерцать горнее, будучи погружены в заботу о том, чтобы изнурять и сокрушать свою плоть, то хорошо было бы позаботиться и об этом и равно избегнуть неумеренности как в том, так и в другом случае, чтобы ни утучнением плоти не подавить ума, ни, в свою очередь, излишним ее истощением не сделать его слабым и презренным и занимающимся только телесными трудами; но всегда помнить мудрое правило которое равно воспрещает уклонение (παρατροπη) как в правую, так и в левую сторону (ср. Притч. 4:27; Чис. 20:17; Втор 5:32). Я слышал от одного врача, который говорил на основа своей науки, что тело наше состоит из четырех не одинакового свойства, но совершенно противоположных между собою стихий: в нем срастворены жар и холод, и влага удивительным образом смешана с сухостью, причем противоположное соединяется друг с другом чрез сродство посредствующих связей. И эту мысль естествоиспытатель доказывал довольно остроумно, говоря, что каждая из этих стихий, по природе будучи диаметрально противоположна другой и отдельна от нее, соединяется с противоположными чрез некоторое сродство соприкасающихся свойств. Ибо так как холод и жар одинаково могут находиться во влаге и сухости, а влага и сухость, в свою очередь равным образом могут соединяться с жаром и холодом, то тождество свойств, одинаково являющееся в противоположностях, само собой устанавливает связь между противоположными стихиями. Но для чего мне входить в исследование частностей, как одно и то же и разделяется взаимно по естественной противоположности, и опять соединяется, сближаясь друг с другом посредством родственности свойств? Мы упомянули о сказанном потому только, что излагавший такую теорию о природе тела, советовал, чтобы мы, по возможности, старались соблюдать равновесие свойств: поскольку телесное здравие состоит в том, чтобы ничто в нас не получало перевеса над другим.
2. Итак, если слова его сколько–нибудь истинны, для поддержания своего здоровья мы должны сохранять такое состояние тела, чтобы никакой части из тех, из которых мы составлены, не придавать неправильным употреблением пищи и пития ни излишнего увеличения, ни уменьшения, но подражать, сколь возможно, правящему колесницей. Ибо тот, если правит несогласным между собой (молодыми) конями, то ни резвого не побуждает ударами, ни ленивого не сдерживает вожжами, ни в свою очередь, своевольному или необузданному и рьяному не позволяет мчаться во весь опор, но одного направляет, другого сдерживает, а третьего побуждает бичом, пока не произведет между всеми стройного согласия в беге. Таким же образом и ум наш, правящий браздами тела, не вздумает ни прибавлять огня к жару, пылающему в лета юности, а охладевшего от страданий или времени не будет еще более охлаждать и иссушать и относительно прочих свойств также будет следовать словам Писания, «многого не приумножай» и «малого не умаляй» (2 Кор. 8:15; Исх. 16:18); но отсекая в том и другом случае неумеренность, он будет заботиться о приращении того, чего недостает, и в обоих случаях равно остерегаться вредного телу, чтобы ни излишним угождением плоти не сделать ее непокорной и необузданной, ни чрезмерным изнурением5 — болезненной, расстроенной и не имеющей сил для необходимой работы. Совершеннейшая цель воздержания имеет в виду не изнурение тела, но легкое его служение душевным потребностям.
Глава 23. О том, что желающий в точности изучить эту жизнь должен учиться у преуспевшего в ней
1. А как должен именно поступать решившийся жить по правилам этого любомудрия, чего остерегаться, в каких занятиях подвизаться, а также какую сохранять меру воздержания, каких правил держаться и каково вообще должно быть все течение жизни, направленной к этой цели, обо всем написано много поучений, где он найдет наставление в частностях. Но гораздо действенннее, чем наставление словесное, руководство действенным примером; и нет ничего трудного (δυσκολια) (в том, чтобы) выполнить это требование. Чтобы найти наставника, не нужно ни пускаться в дальний путь, ни подвергаться морскому плаванию, но «близ ти глагол», говорит апостол (Рим. 10:8), у твоего очага — эта благодать. Здесь училище добродетелей, в котором жизнь такого рода, доведенная до высочайшей степени строгости, является во всей чистоте. Здесь и молчащие, и говорящие великую имеют силу в научении самым делом, как вести эту небесную жизнь. Потому что и всякое слово, без дел являемое, как бы ни было красноречиво составлено, подобно бездушному изображению, которому краски и цвета придают некоторый вид живости, а кто «сотворит и научит», как говорит в одном месте Евангелие (Мф. 5:19), тот есть поистине человек живущий, «красен добротою» (Пс. 44:3), действующий и движущийся.
2. К нему–то и должен почаще обращаться тот, кто хочет, следуя разумному выбору, «держаться» девства (Мф. 6:24; Притч. 3:18). Как желающему изучить язык какого–нибудь народа недостаточно быть самому себе наставником, но он учится у людей сведущих и таким образом достигает того, что говорит так же, как иностранец, так, я думаю, и эту жизнь, так как она не путем естества следует, но отстраняется от него по необычности образа жизни, не иначе кто может в совершенстве изучить, как под руководством того, кто в ней опытен. И во всех прочих житейских занятиях лучше может преуспеть искатель, если будет изучать предмет своих занятий у учителя, нежели если он сам один примется за дело. Ибо не так прост этот образ жизни, чтобы в случае надобности можно было доверять собственному суждению, что для нас полезно, поскольку решимость на опыт в вещах неизвестных небезопасна. Точно так же люди дошли опытом до неизвестной прежде врачебной науки, посредством наблюдений мало–помалу раскрывая ее, так что признанное полезным и вредным, по свидетельству людей испытавших, вносилось в содержание науки, и наблюдение, сделанное предшественниками, неукоснительно учитывалось впоследствии. И теперь желающий изучить эту науку не имеет нужды собственным опытом исследовать силу лекарств, какое из них целительно, а какое губительно, но может сам, усвоив сведения от других, успешно заниматься врачебным искусством. То же надо сказать и о врачебной науке душ — то есть о любомудрии, — при помощи которого мы узнаем врачевство против всякой страсти, касающейся души. Нам нет надобности прибегать к предположениям или каким–либо догадкам для приобретения познаний в этой науке, но есть полная возможность научиться ей от того, кто долговременным и продолжительным опытом приобрел в ней навык. Юность же большей частью и во всяком деле ненадежный советник, и нелегко отыскать человека, который был бы сведущ в каком–нибудь достойном занятии, если не призывалась им для участия в совете старость. И чем выше всех прочих занятий поставленная нами цель, тем более мы должны соблюдать осторожность. Ибо в прочих делах юность, не управляемая рассудком, несет, конечно, ущерб в имуществе или принуждена бывает лишиться какой–либо мирской ценности или чина. В этом же великом и высоком стремлении опасности подвергаются не деньги, не слава мирская и скоропреходящая, не другое что–нибудь из того, что приходит к нам извне, что для людей понимающих маловажно, (независимо от того) по вкусу им это или нет. Здесь же нерассудительность (αβουλια) касается самой души и угрожает опасностью потерпеть ущерб такого рода, который состоит не в лишении каких–нибудь благ, которые может быть, и опять можно возвратить, но в потере самого себя и в лишении собственной души. Ибо растративший отцовское имение, пока находится в живых, не отчаивается в надежде опять каким–нибудь способом возвратить прежнее благополучие, но кто отпал от этой жизни, тот лишен всякой надежды на возвращение к лучшему.
3. Итак, поскольку многие принимают на себя подвиг девства, будучи еще юны и несовершенны разумением, то им прежде всего следует заботиться о том, чтобы найти себе на этом пути руководителя и хорошего наставника, дабы по свому невежеству не продираться сквозь какие–нибудь буреломы и не блуждать в стороне от истинного пути. «Блази два паче единого», говорит Екклесиаст (Еккл. 4:10). Один же легко побеждается врагом, который приседит при путях Божественных, и горе «единому егда падет» (Еккл. 4:10), потому что нет при нем человека, который помог бы ему встать. Так некоторые избрали надлежащее направление в стремлении к святой жизни и, уже достигнув было совершенства в избранном ими подвиге, от гордости ниспали другим видом падения, потому что, поддавшись некоему сумасбродству, сочли благом то, к чему склонял их рассудок. В их числе те, кого Премудрость называет «праздными, путие» свои «постлавшими тернием» (Притч. 15:19), кто считает вредным для души усердие в труде по заповеди; они отвергли увещания апостольские (ср. 2 Сол. 3:10; Еф. 4:28) и не вкушают «благообразно» (2 Сол. 3:12; 1 Сол. 4:12) собственный хлеб, но простирают руки на чужой, все искусство жизни полагая в праздности. Отсюда — сновидцы, которые обольщения сонные считают достовернее евангельского учения и мечты воображения называют откровениями; «от сих суть проныряющии в домы» (2 Тим. 3:6). И, опять–таки, есть и другие, кто считает добродетелью необщительность и звероподобие, не признает заповеди любви и не умеет ценить плодов «долготерпения и смиренномудрия» (ср. Кол. 3:12).
4. И кто может исчислить все подобные падения, какие случаются с теми, кто не хочет прибегнуть к руководству мужей, благоугодных Богу? Из их числа мы знали и таких, кто терпел голод «даже до смерти» (Флп. 2:8), как будто бы «таковыми жертвами благоугождается Бог» (Евр. 13:16). И, опять–таки, других, кто, совершенно уклонившись в противоположную сторону и заботясь о безбрачии только по имени, ни в чем не отличается от ведущих жизнь брачную. Они не только доставляют удовольствие своему чреву, но даже открыто живут с женщинами, именуя такое сожительство «братством» (αδελφοτης), чтобы под этим честным именем скрыть свою склонность к худому. Они причина того, что дело в высшей степени достойное уважения и чистое — жизнь девственная — хулится у внешних (ср. Рим. 2:24; Ис. 52:5).
5. Итак, было бы очень полезно, чтобы юные не были сами себе законодателями на пути этой жизни; ибо жизнь наша не оскудела на образцы совершенств, и в настоящее время, как никогда, святость процветает и обитает в наших жилищах, чрез постепенное прирастание будучи доведена до высшей степени совершенства. Следующий по стопам таких (подвижников) может приобщиться этой святости, а идущий на запах этого «благоуханного мира» (ср. Песн. 1:2) может исполниться «благоухания Христова» (2 Кор. 2:14–15). Как от одной горящей лампады пламя передается и всем прочим светильникам, которые соприкасаются с ней, и несмотря на это, первый свет не уменьшается, хотя чрез сообщение в равной мере передается и заимствующим свой свет от него, так и святость этой жизни преемственно распространяется от преуспевшего в ней на сближающихся с ним; ибо истинно пророческое слово, что общающийся «с преподобным, с неповинным» и «со избранным» и сам становится таким же (Пс. 17:26–27).
6. Если же ты ищешь примет, по которым бы нельзя было обмануться в избрании для себя доброго примера, то изобразить их легко. Если ты увидишь мужа, который, стоя посредине между жизнью и смертью, из той и другой извлекает полезные для себя уроки любомудрия, так что в усердии к заповедям ни бездеятельности смерти не принимает, ни всею стопой во (владения) жизни не становится, поскольку в отношении к тому, в чем выражается плотская жизнь, он отрешился от «мирских похотей» (ср. Тит 2:12) и остается не деятельнее мертвых, а в отношении к делам добродетели, по которым узнаются «живущие духом» (Гал. 5:25), является одушевленным, деятельным и сильным. Такого мужа поставь себе правилом в житии; такого Бог поставил образцом нашей жизни. Пусть он будет тебе образцом божественной жизни, как для кормчих — вечно сияющие звезды: подражай и старости его, и юности, или, лучше, подражай старости в (теле) юноши — и юности во время старости. Ибо ни время возраста, склонявшегося уже к старости, не ослабило в нем мужественной души, ни юность не была деятельной в деятельности того рода, какая свойственна юности, но какое–то было в нем удивительное соединение противоположностей того и другого возраста, лучше сказать — изменение свойств: в старости юношеская крепость сил к добру, а в цветущем (теле) юноши — неподвижность в отношении к злу. А если ты ищешь и желаний (τους ερωτας), свойственных этому возрасту, подражай высочайшей и пламенеющей божественной любви к премудрости, в которой он с младенчества возрастал и до старости пребывал. Если же ты не можешь взирать на нее прямо, как больные глазами на солнце, то обрати взоры на подчиненный ей лик Святых, которые, сияя своею жизнью, представляют примеры подражания для людей всякого возраста. Их поставил Бог в образец для нашей жизни.
Многие из них, будучи юны летами, состарились в чистоте воздержания, разумом предускорив старость и образом жизни упредив время; они знали одну любовь к премудрости не потому, чтобы имели иное естество, ибо «во всех плоть похотствует на дух» (Гал. 5:17), но потому, что должным образом вняли гласу того, кто сказал, что целомудрие есть «древо живота всем держащимся его» (Притч. 3:18). На этом древе, как на «корабле це», переплыв «волны» юности (ср. Прем. 14:5), они достигл пристани воли Божией; и теперь с душой, недоступной вол нам, в тишине и спокойствии, блаженствуют, счастливо окончив свое плавание. «Утвердив» себя на «благом уповании» (2 Сол. 2:16), как на «котве известне» (ср. Евр. 6:18—19), они покоятся вдали от обуревающих волн, являя свет своей жизни, словно огни с высокой сторожевой башни, тем, кто следует за ними. Итак у нас есть на кого равняться, чтобы безопасно избегнуть волн искушений.
7. Но для чего ты допытываешься у меня, не падал ли кто из тех, кто стремился к той же (цели), и на этом основании отчаиваешься в самом предприятии, как в неудобоисполнимом? Смотри на преуспевшего и смело пускайся в это благое плавание, при попутном веянии Святого Духа, имея кормчим Христа. Ибо и «сходящий в море в кораблях, творящий делания в водах многих» (Пс. 106:23) не отчаиваются от того, что с кем–то случилось кораблекрушение, но, имея пред собой «благое упование» (2 Сол. 2:16), спешат достигнуть цели предпринятого дела. Разве это не верх неразумия — считать порочным того, кто пал при строгом образе жизни, и полагать, что лучше тот, кто состарился, падая в течение всей своей жизни? Если страшно даже один раз подвергнуться близкой опасности греха, и на этом основании ты считаешь более безопасным даже и не вступать на путь, ведущий к высочайшей цели, то насколько ужаснее сделать грех занятием всей жизни и по этой причине полностью лишиться части в той, чистейшей жизни? Как станешь ты слушать Распятого, живущий, «Мертвого греху» (Рим. 6:2:10), если грех в тебе силен, повелевающего «вслед Него» (ср. Мф. 10:38) идти и как знамение победы над противником нести крест на теле, когда ты не «распялся миру» (Гал. 6:14) и не восприял «мертвости» плоти (2 Кор. 4:10)? Как сможешь ты повиноваться Павлу, который убеждает тебя представить тело твое в «жертву живу, святу, благоугодну Богови, когда сообразуешься веку сему», а не «преобразуешься обновлением ума» своего (Рим. 12:1—2) и не «ходишь во обновлении жизни» (Рим. 6:4) сей, но еще следуешь путем жизни ветхого человека? Как будешь совершать священнодействия Богу ты, помазанный2 именно для того, чтобы «приносить дар» (Евр. 8:3) Богу, и дар, конечно, не какой–нибудь чужой и незаконный, взятый от благ, привходящих извне, но поистине твой собственный, который есть «внутренний человек» (Еф. 3:16; 2 Кор. 4:16; Рим. 7:2), долженствующий быть «совершенным» и «непорочным», по закону об «агнце» (ср. Лев. 22:19; Исх. 12:5), чуждым всякого повреждения и порока? Как будешь приносить этот дар Богу, когда не повинуешься закону, который воспрещает священнодействовать нечистому? И если желаешь удостоиться явления Божия, то почему не слушаешь Моисея (ср. Исх. 19:15), который повелевает народу очиститься от дел брака, чтобы быть достойным явления Божьего? Если тебе маловажным кажется «сораспяться Христу» (Гал. 2:19) «представить себя в жертву Богу», быть «священником Бога вышнего» (Быт. 14:18), удостоиться явления великого Бога, то что мы можем предложить тебе выше этого, если ты и проистекающие сюда блага будешь считать столь же незначительными? Ибо если кто сораспинается Христу, тот чрез это самое вместе с Ним и живет, и «с Ним прославляется» (Рим. 8:17), и царствует. А кто представит себя в жертву Богу, тот чрез это может достигнуть изменения естества и достоинства человеческого в ангельское ибо и Даниил так говорит: «тмы тем предстояху Ему» (Дан. 7:10). Кто приял истинное «священство» и подчинил себя великому Архиерею, тот, несомненно, и сам «пребывает священник во веки» и смерть не возбраняет ему «пребывать» им «выну» (Евр. 7:23–24). Но кто удостоился видеть самого Бога, тот имеет плодом не что иное, как то, что он удостоился видеть Бога. Ибо верх всякой надежды, предел и главную цель всякого желания, Божия благословения, всякого обетования и «неизреченных» благ, превышающих, как веруем, «чувствия и разум» (ср. 2 Кор. 12:4; Флп. 1:9), составляет то, что возжелал видеть Моисей, чего желали многие «пророки и цари» (Лк. 10:24), но чего удостаиваются лишь «чистии сердцем» — те, кто именно потому являются и именуются подлинно «блаженными», что они «Бога узрят» (Мф. 5:8). Потому–то мы и желаем, чтобы и ты «сораспялся Христу» (Гал. 2:19), представил себя Богу «чистым» иереем (ср. 2 Кор. 11:2) и соделался чистой жертвой, чтобы уготовил себя к пришествию Божию чрез очищение во всей чистоте, дабы и тебе «узреть Бога» в «чистом сердце» (Мф. 5:8), по обетованию Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Ему же слава во веки веков. Аминь.
Послание о жизни преподобной Макрины
I. По форме это произведение, в соответствии со своим заголовком, представляется посланием, но по объему оно переходит границы, допустимые для послания, и, ради которого ты подал мне мысль взяться за перо, не вмещающееся в рамки [приближается к пространному историческому повествованию]. Однако нас оправдывает сам предмет послания. Ты, конечно, не забыл о том случае, когда, намереваясь по обету посетить Иерусалим и увидеть места, хранящие памятные знаки пребывания в них воплотившегося Господа, я встретился с тобой в городе Антиоха, и разнообразные у нас с тобой завязались беседы (невозможно ведь было проводить эту встречу в молчании, при том, что Твоя Разумность находила многочисленные темы для разговора), а затем, как это часто бывает в таких случаях, беседа плавно перешла в воспоминания о некоем достойном человеке. Жена была предметом нашего разговора, если только это была жена. Я, право, даже не знаю, подобает ли называть ее по естеству, ее, ставшую выше естества. Повествование же наше основано не на пересказе чужих слов, но на том, что преподал нам собственный опыт и что в точности воспроизвело слово, не прибегая ни к каким посторонним свидетельствам. Ибо не чужой для моей семьи была достопамятная эта дева, так, чтобы нужно было узнавать от других о связанных с нею чудесах, но произросла она от одних со мной родителей бывши начатком плодов материнского чрева. Когда же ты подтвердил, что история благих [людей и дел] приносит некую пользу, тогда, чтобы не ушла без следа, поглощенная молчанием, та, что своим любомудрием вознеслась к высшим пределам человеческой добродетели, я счел нужным послушаться тебя и изложить историю ее жизни, сколь могу, кратко, в безыскусном и простом повествовании.
II. Макрина было имя этой девы. Некогда же всеми в нашей семье почитаема была другая Макрина, бывшая матерью моего отца и прославившаяся исповеданием Христа в пору гонений, в честь которой и была названа родителями девочка. Но это было имя, вслух произносимое всеми, кто ее знал, было же и другое, нареченное ей втайне, прежде чем она в родовых муках появилась на свет, данное по некоему откровению. Ибо и мать ее была столь добродетельна, что во всем руководствовалась волей Божией, и так сильно стремилась к житию чистому и непорочному, что и брак не избрала бы по своей воле. Но поскольку была она круглой сиротой, а в пору [юности] цвела такой красотой телесной, что молва о ней многих побуждала искать ее руки, и возникла даже угроза, что если она с кем–либо сочетается [браком] по доброй воле, то претерпит какое–нибудь нежелательное оскорбление, затем что обезумевшие ее красоты уже готовы были решиться на похищение. По этой ее причине, избрав человека известного и уважаемого за безупречность поведения, она нашла в нем хранителя своей жизни и вскоре, впервые испытав родовые муки, стала матерью той, [о ком мы ведем речь]. И когда приспел срок разрешиться ей от бремени, задремав, она увидела, что будто бы уже держит на руках дитя, которое еще носила под сердцем, и некто, ростом и благообразием превосходящий человека, явившись ей, назвал лежащую у нее на руках девочку именем Феклы, той самой Феклы, житие которой хорошо известно девственницам. Произнеся это трижды, он исчез из виду и дал облегчение мукам, так что лишь только она пробудилась ото сна, так увидала, что сон сделался явью. А [прозвучавшее] имя и стало тайным именем [девочки]. Мне, однако, кажется, что не столько руководя родительницей в выборе имени произнес его явившийся [ей], сколько предрекая жизненный путь новорожденной и показывая, что будет он таким же, как у ее соименницы.
III. Тем временем дитя росло, и хотя была у него своя собственная няня, больше нянчила его мать на своих собственных руках. Переступив же порог младенчества, [девочка] стала проявлять способности во всем, чему обучают детей, и к какому бы занятию ни направляло ее родительское решение, в том она и являла искру дарования. Мать, конечно, стремилась дать девочке воспитание, но только не то внешнее всестороннее образование, основу которого составляет изучение творений поэтов уже в раннем возрасте. Она же считала неприличным и совершенно недопустимым, чтобы страстями трагедий (женскими страстями, вдохновившими поэтов и составившими содержание их произведений), или непристойностями комедий, или [изучением] причин бедствий Илиона поучалась нежная и восприимчивая душа [ребенка], затем что она некоторым образом замутняется от этих бесстыдных рассказов о женщинах. Не они, но те книги богодухновенного Писания, которые наиболее доступны пониманию в самом раннем возрасте, — вот что было для девочки предметом изучения; преимущественно же Премудрость Соломонова, а из нее более всего то, что побуждает к высоконравственной жизни. Не оставались для нее неизвестными и творения Псалмопевца, из которых она в положенное время прочитывала определенную часть: с постели она вставала или к занятиям приступала, отдыхала, за еду принималась или из–за стола выходила, в постель ложилась или на молитву становилась — повсюду сопровождала ее псаломская песнь, точно некая благая спутница, не покидавшая ее ни в какое время.
IV. Подрастая среди таких и подобных занятий, а кроме того, приучив руку к искусному прядению шерсти, достигла она двенадцатого года жизни, возраста, когда неудержимо начинает распускаться цветок юности. И здесь приходится только подивиться, что красота ее, будучи сокрыта от взоров, все–таки не утаилась от людей и что, казалось, во всем ее отечестве не находилось такого чуда красоты и изящества, которое могло бы сравниться с ней; не было и живописца, мастерство которого способно было бы изобразить нечто подобное. Но никакие ухищрения искусства, [с помощью которых художники] посягают на великое, так что и образы самих стихий способны запечатлеть, не могли бы передать всю прелесть ее наружности. По этой причине целый рой искателей ее руки одолевал родителей. Тогда отец (а он поистине был благоразумен и умел оценить подлинно прекрасное), выделив из прочих одного юношу, славного родом и отличавшегося целомудрием, только закончившего образование, решил обручить с ним дочь, как только она достигнет брачного возраста. Юноша в то время подавал большие надежды и как один из желанных свадебных даров преподносил отцу девушки свои успехи в красноречии, выступая с речами в защиту обиженных. Но зависть пресекла светлые надежды, похитив его из жизни в достойной сожаления юности.
V. Для девушки не были тайной замыслы отца. Но когда со смертью юноши виды на ее [замужество] расстроились, она, нарекши «браком» отцовский выбор, словно бы уже исполнилось назначенное ей, сама решила остаться безбрачной, приняв это решение с твердостью, неожиданной для [своего] возраста. И хотя родители часто заводили с ней разговор о браке, ибо многие, привлеченные молвой о ее красоте, желали посвататься, она отвечала, что немыслимо и преступно не чтить святости единожды благословленного отцом брака и быть вынуждаемой на новый, в то время как в природе [человека] только один брак, как рождение одно и одна смерть. Она настойчиво повторяла, что обрученный с ней по воле родителей не умер, но его, «Богови» живущего (Рим. 6:9) в надежде воскресения, должно считать отлучившимся из дома, а не мертвым, и что немыслимо было бы не хранить верности уехавшему жениху. Такими речами отражая натиск пытавшихся переубедить ее, она в конце концов поняла, что единственной защитой благому ее выбору будет решение никогда, [буквально] ни на мгновение не разлучаться со своей матерью, так что мать часто говорила, что если остальных детей она выносила в течение положенного срока, то ее, каким–то образом все еще не покинувшую материнского чрева, так постоянно и носит в себе. Однако матери не было докучным и бесполезным общество дочери. Ведь многих служанок заменила прислуживающая ей дочь, и обе они в отношении друг друга совершали некое благое [взаимное] воздаяние: одна пеклась о душе девушки, другая — о телесных [нуждах] матери, выполняя любую требуемую работу. Часто она сама занималась даже выпечкой хлеба для матери, что, впрочем, первоначально не входило в круг ее обязанностей. Но прилагая руки к послушаниям, [связанным] с таинствами, она решила, что такого рода занятия вполне соответствуют ее образу жизни, и когда у нее оставалось [время], стала снабжать мать собственноручно приготовленной пищей. Но этим не ограничивалась ее помощь [матери]: она разделяла все ее заботы. Ведь у той было четыре сына и пять дочерей, и трех областей правителям надо было платить налоги, так как владения ее были разбросаны по этим [областям]. Мать поэтому разрывалась между этими заботами, а отец уже отошел из жизни. Во всем этом она стала матери опорой, делила с ней заботы и тяжесть скорбей облегчала. Итак, с одной стороны, материнское руководство сохранило беспорочной ее жизнь, постоянно протекавшую у матери на глазах, всегда под ее надзором, с другой — и сама она незаметно направляла [мать] к той же цели, — я имею в виду [цель, преследуемую] любомудрием, — понемногу приучая ее к жизни беспопечительной и простой.
VI. Когда же мать благополучно устроила судьбу сестер в соответствии с желанием каждой, вернулся из училищ, где долгие годы обучался наукам, достославный Василий, брат нашей героини. И несмотря на то, что она столкнулась с его крайним самомнением по поводу [своей] учености, и пренебрежением ко всем принятым правилам, и надменным сознанием превосходства над всеми славными [людьми] провинции, она с такой быстротой наставила его на стези истинного любомудрия, что он, забыв мирское тщеславие и презрев [желание] вызывать восхищение ученостью, сам сделался ревнителем той же трудовой и самосозидательной жизни и в совершенном нестяжании беспрепятственно устремился на путь добродетели. Впрочем, житие его и последующие деяния, которыми он стал известен во всей [земле, простирающейся] под солнцем, и славой затмил всех просиявших добродетелью, потребовали бы пространного описания и долгого времени. Мне же лучше вернуться к предмету моего [рассказа].
VII. Итак, когда иссякло все, что вносило в их жизнь многопопечительность, [Макрина] убедила мать оставить привычный уклад и внешнюю пышность и помощь прислуги, к которой та привыкла за прошедшие годы, сравняться образом мыслей с большинством [домочадцев] и самим раствориться в среде девушек, которых имели при себе, из рабынь и служанок сделав их сестрами и ровней. Однако здесь я хотел бы добавить нечто малое к основному повествованию, чтобы не обойти вниманием то событие, в котором еще яснее проявилась сила духа этой девы.
VIII. Вторым из четверых братьев, после великого Василия, был Навкратий, счастливым сочетанием природных качеств: и телесной красотой, силой, и ловкостью, и способностями ко всему — выделявшийся среди прочих. Достигнув двадцать второго года своей жизни, он представил на суд публики опыты собственных сочинений, после чего весь театр сотрясался [от бурного восторга] слушателей. Однако велением Промысла Божия он презрел все, чем занимался, и удалился от мира для жизни уединенной и нестяжательной; [удалился] в некоем сильном порыве духа, ничего не взяв с собой, кроме самого себя. Лишь один из домочадцев по имени Хрисафий последовал за ним, движимый дружеской преданностью и желанием для себя такого же пути. А тот стал жить наедине с самим собой, поселившись в каком–то отдаленном [уголке] на берегу Ириса. Ирис — это река, пересекающая [область] Понт, которая, беря начало от самой Армении, через наши края устремляет течение к Эвксинскому Понту. Близ этой реки найдя место, заросшее густым лесом и скрытое в ущелье за нависающим обрывистым склоном горы, юноша жил там в уединении, оказавшись вдали от городского шума, [будней] военной службы и судебного красноречия. Так, освободившись от всего житейского, наполняющего шумом человеческую жизнь, он стал своим трудом служить неким старцам, угнетенным бедностью и болезнью, сочтя, что такое попечение пристало избранному им пути. Будучи хорошо знаком со всеми видами охоты и приносил старцам пищу, в то же время укрощая трудами свою юность. Также и на материнские просьбы, если когда получал от нее какое приказание, он с готовностью откликался; и так, направляя жизнь по пути двойного подвига, обуздания юности при мощи трудов и заботы о матери, он, следуя божественным заповедям, прямым путем шествовал к Богу.
IХ. И уже пятый год проводил он таким образом, живя жизнью истинного мудреца и доставляя великое утешение матери и тем, что собственную жизнь украшал целомудрием, и тем что прилагал усилия для исполнения любой просьбы родительницы. Но затем матери пришлось пережить — как мне думается по злоумышлению вражьему — тяжелое и трагическое событие, которое и всю семью повергло в скорбь и печаль. Внезапно он был исхищен из жизни, притом, что ни предшествующая болезнь не предвещала несчастья, ни какая другая подобная причина из числа обычных и известных, какие могут вызвать смерть молодого человека. Он же отправился на охоту, посредством которой доставлял пропитание своим престарелым подопечным, а обратно был доставлен к своему жилищу мертвым, и с ним — его сотоварищ по жизни, Хрисафий. Мать была вдали от [места] происшествия, находясь от него на расстоянии трех дней пути, но кто–то пришел к ней с известием о несчастье. Она же, хотя и совершенна была во всех добродетелях, но все же естество ее возобладало, и рассудок (λογιομος) уступил страданию (παθος) (или можно и как страсть малодушия, неверия в Промысел Божий), горестная весть сбила ее с ног — так благородный атлет бывает сражен неожиданным ударом.
X. Тогда–то и проявилась доблесть достославной Макрины, когда, выставив против страдания рассудок, она и сама и пала [духом], и, став опорой матери в ее немощи, воздвигла ее из пучины скорби, [примером] собственной твердости и не сгибаемости [как ребенка] обучая душу матери мужеству. Поэтому и мать не была поглощена своим горем и не отдавалась ему по–женски малодушно — так, чтобы в голос оплакивать свою беду, или рвать на себе одежду, или причитать о несчастье, или скорбными песнопениями усиливать рыдания. Она молча подавляла порывы естества, превозмогая их помощью доводов собственного рассудка, и тех, которые приводила дочь для облегчения боли. Вот когда сильнее всего раскрылась великая и возвышенная душа этой девы, потому что и ее естество испытывало те же [побуждения]. Братом ведь был ей, и из братьев любимейшим тот, кто был похищен смертью, [да еще] так [внезапно]. Однако, сама став над естеством, она и мать подняла вместе с собой своей рассудительностью и поставила выше страдания, собственным примером направляя ее к терпению и мужеству. Впрочем, само житие ее, всегда возвышавшееся добродетелью, не давало матери случая, чтобы сокрушаться о потерянном более, нежели радоваться об уцелевшем.
XI. Когда же у матери все дети выросли, кончились заботы об их воспитании и дальнейшем устройстве, и то [имущество], которое отягощало [ее] земными попечениями, в основном было распределено между детьми, тогда, как было уже сказано, жизнь девы сделалась для матери образцом, [направив и ее] к житию столь [же] любомудренному и безбытному. [И она, убелив мать] отказаться от всех своих привычек, возвела ее в собственную меру смиренномудрия и подготовила к тому, чтобы вступить на равных в сообщество дев, с тем, чтобы и пища, и постель, и все необходимое для жизни было у них поровну и всякая разница положений была в их жизни устранена. И такова была уставность их жития, и столь высоко любомудрие, и [столь] благочестивы занятия, в которых проводили они дни и ночи, что [все это] превосходит всякое словесное описание. Ибо [жили они], словно души, смертью освобожденные от тел, а также от всех земных забот — именно так жизнь их была удалена и очищена от всякой житейской суетности и строилась в подражание житию ангельскому. Не замечалось в них ни гнева, ни зависти, ни ненависти, ни презрения, и ничего другого в том же духе; само стремление к суетному: к чести и славе, [внешнему] блеску, роскоши и всему подобному — было отринуто. Негой же было воздержание, славой — безвестность, богатством — нестяжание и умение всякий вещественный избыток, словно прах, отряхнуть от тел, и не было в жизни ничего, что считалось бы за дело, а не за поделье, кроме как о божественном попечение, да молитва непрестанная, да несмолкаемое славословие, равно продолжавшееся на протяжении дня и ночи, — все это было и дело, и от дел отдохновение. Какое слово человеческое способно изобразить таковое житие, когда протекало оно на грани естества человеческого и бестелесного? Ибо степень свободы от человеческих страстей превосходила естество человека, хотя в теле пребывание, в зримом образе явление, органами чувств обладание — [все это] ангельскому бестелесному естеству уступало. Впрочем, можно было бы отважиться сказать, что различие это несущественно, затем что, живя во плоти, они, по подобию сил бестелесных, не отягощались бременем тела, но их состояние (ζωη) было вышеестественным и надмирным, сопредельным с силами небесными. Срок же такого жития был немалый, и успехи [лишь] возрастали со временем, поскольку любомудрие прирастанием чаемых благ возводило [их] к еще большей чистоте.
XII. И был ей первым помощником в стремлении к высокой этой жизненной цели один из единоутробных братьев, по имени Петр, [рождением] которого был положен предел родовым мукам матери. Ибо был он последним отпрыском родителей, одновременно сыном и сиротой нареченным. Ведь как только он появился на свет, ушел из жизни отец. И тогда старшая из сестер — о которой наш рассказ, — забрав его, малое время после самого рождения питавшегося от сосцов, у кормилицы, стала вскармливать сама и дала ему наилучшее воспитание, с младых ногтей приохотив его к священным наукам, чтобы не позволить его душе уклониться во что–либо суетное. Но, сделавшись для мальчика всем: отцом, учителем, детоводителем, матерью, советчицей во всяком добром деле, — она вырастила его таким, что он еще до того, как вышел из детского возраста, еще в цветущую пору нежного отрочества уже устремился к высокой цели любомудрия. И по природной одаренности он приобрел навык во всяком ручном ремесле, без руководителя в совершенстве осваивая любое дело, обучение которому обычно дается с трудом и со временем. Погоней же за внешним знанием он пренебрег, считая природу достаточным учителем во всякой благой науке. И так, всегда беря пример с сестры и считая ее образцом всего благого, он до такой степени преуспел в добродетели, что своими достижениями на этом поприще, казалось, не уступал великому Василию. Однако все это было в более позднее время. Тогда же он заменял матери и сестре всех [прочих], помогая им приблизиться к жизни ангельской. Когда однажды случился жестокий голод и многие, привлеченные молвой о благотворении, отовсюду стекались в их уединенный приют, он, со [своей] находчивостью, сумел так умножить кормления, что от толп посетителей пустынь казалась городом.
XIII. В это время мать, достигнув старости маститой, отошла ко Господу, испустив последний вздох на руках обоих детей. Достойны увековечения слова ее благословения, какими она напутствовала детей, ибо она не забыла и всех отсутствующих, каждого помянув в свой черед, так что никто не оказался обделен благословением, в особенности же присутствующих, препоручив их Богу в молитве. И в то время, как они с двух сторон сидели возле ее ложа, она, взяв их обоих за руки, обратила к Богу свои последние слова: «Тебе, Господи, приношу начаток и [Тебе] жертвую десятину от плодов чрева. Вот эта — перворожденная, начаток родовых мук, а этот — последний, их завершение. Тебе посвящаются оба по закону, они суть приношение Тебе. Да снизойдет благословение на сей мой начаток и на сию десятину», — с этими словами она поочередно указала на дочь и на отрока. А затем, вместе с благословением окончила и жизнь, завещав детям положить ее тело в отеческой гробнице. Они же, выполнив ее последнюю волю, устремились еще выше к цели любомудрия, соревнуясь со своей [прежней] жизнью и побивая собственные достижения все новыми и новыми.
XIV. В это время велий во святых Василий назначается предстоятелем великой Кесарийской Церкви. Он и брата вводит в освященный клир священства, посвятив его собственными священнодействиями. И в это время, благодаря священству [Петра, их] жизнь становиться еще более благочестивой и святой, а любомудрие — возвышенным. По прошествии восьми лет, на девятый год по всей вселенной славный Василий от людей преселяется к Богу, повергнув в скорбь и отечество, и всю землю. [Сестра], до которой горестную эту весть издалека донесла молва, конечно, восскорбела душой о такой потере (ибо как могло не тронуть ее горе, которому со страдали даже враги истины). Однако недаром говорят, что проба золота многократно проверяется в различных плавильных печах, и если что в нем не поддается первой закалке, отделяется во вторую, в последнюю же нечистая примесь в веществе истребляется полностью, и тогда лишь получается золото высшей пробы, когда оно пройдет все испытания и ничего нечистого в нем не останется. Примерно так же получилось и с ней, когда высокий ее разум прошел испытание различными бедами и напастями и с их помощью открылась неподдельность и несокрушимость этой души: впервые — с гибелью одного брата, потом — в расставании с матерью и в третий раз — когда гордость семьи, Василий, отошел из жизни. Она же устояла, словно непобедимый атлет, не сломленная никаким ударом судьбы.
XV. Шел уже девятый месяц со дня этого печального события — или чуть больше, — когда в городе Антиоха собрался Собор епископов, в котором принимали участие и мы. И когда мы вновь отправились каждый к себе, до завершения года мне, Григорию, захотелось повидать сестру. Ибо уже долгое время навестить ее не давали обстояния искушений, которые я претерпевал повсюду, будучи изгнан с родины сторонниками ереси. Я стал подсчитывать время, в течение которого искушения препятствовали свидеться, и перерыв оказался немалым: он исчислялся без малого восемью годами. Когда же я проделал значительную часть пути и оставалось расстояние одного дня, некий образ, представившийся во сне, внушил мне мрачные предчувствия на будущее. Увидел же я во сне, что держу в руках мученические мощи, и от них исходит свет, как от чистого зеркала, когда оно отражает солнце, так что зрение мое притуплялось от нестерпимого блеска. И когда за ночь это видение повторилось трижды, я, хоть и не мог разгадать значения сна, душой предчувствовал какую–то печаль и стал ждать последующих событий чтобы понять смысл видения. И вот, оказавшись вблизи от того уголка, где сестра столь ангельски и пренебесно проводила свою жизнь, я спросил у одного из знакомых сначала о брате, дома ли он. Когда тот ответил, что вот уже четвертый день, как он выехал нам навстречу, я понял, в чем дело: он поехал нас встречать другой дорогой. Затем я спросил о самой достославной. И когда он сказал, что она больна, я приложил все усилия к тому, чтобы как можно быстрее преодолеть остаток пути. Ибо какой–то вещий страх поверг меня в смятение.
XVI. Когда я прибыл на место, то, поскольку молва заранее возвестила братству о моем прибытии, весь строй мужей с мужской половины вышел мне навстречу — в их обычае было чествовать желанных [гостей такой встречей]. Сонм же дев с женской половины чинно ожидал нашего приближения в церкви. И когда завершились молитва и благодарение, и девы, преклонив головы под благословение, скромно удалились, возвращаясь каждая к себе, и ни одной из них не осталось возле нас, я, оценив увиденное, [а именно то], что настоятельницы среди них не было, проследовал за провожатым в дом, где находилась сама достославная. Провожатый распахнул передо мной двери, и я очутился внутри святой этой обители. Больная была уже в тяжелом состоянии, однако лежала не на ложе каком–нибудь или на мягкой постели, но на полу, на доске, покрытой мешковиной, с другой доской, положенной под голову, заменявшей подушку, — закрепленная наклонно, она поддерживала в удобном положении шею и голову.
XVII. Увидев меня в дверях, она приподнялась на локте, однако встать и подойти была не в состоянии, ибо силы ее были подточены лихорадкой. Упершись руками в пол и, насколько было можно, поднявшись на своем низком ложе, она выказала [знаки] почтения. Я бросился к ней и, поддерживая руками ее поникшую к земле голову, вернул ей привычную опору, усадив ее в прежнем полулежачем положении. Она же, воздев молитвенно руку, сказала: «И сию Ты оказал мне милость, Господи, и не отказал мне в желании моем, и подвиг служителя Твоего на посещение рабы Твоей». И, чтобы не принести душе моей никакого огорчения, она сдержала глубокий вздох, силясь утаить одышку, и, стараясь выглядеть радостной, ласковыми словами начала разговор и стала засыпать меня вопросами, побуждая и меня [к приятной беседе]. Когда же в свой черед разговор коснулся памяти великого Василия, у меня заныла душа, и голова печально опустилась, и слезы закапали из глаз. Она же настолько была далека от того, чтобы вместе с нами снизойти к нашему горю, что, соделав печальное это событие предметом возвышенного богомыслия, произнесла в память святого удивительное слово, рассуждая о человеческом естестве и Божием домостроительстве, словом [своим] открывая явления Промысла, заслоняемые мраком, и рассказывая о грядущей жизни так, словно была вдохновляема Святым Духом. И мне показалось, что и моя душа от этих слов почти что рассталась с человеческим естеством и вступила в обители небесные, возведенная к ним такой беседой.
XVIII. И подобно тому, что слышим мы в истории Иова, как этот муж, покрытый по всему телу гнойными ранами, слившимися в одну гнойную язву, рассудком не позволял своим чувствам сосредоточиваться на боли, но, хотя тело его и страдало, сам он не утрачивал силы духа и не прерывал своего рассуждения о высших предметах, нечто подобное я увидел у оной достославной: притом что лихорадка сжигала все ее силы и гнала ее к смерти, она, как если бы тело ее охлаждалось росой, беспрепятственно устремляла свой ум к созерцанию высокого, не испытывая никакого ущерба от такого недуга. И если бы [от этого] повествование не растягивалось до бесконечности, я воспроизвел бы всю ее речь по порядку: как возвышенно и мудро она говорила нам о душе и излагала причины пребывания во плоти, вследствие чего и с какой целью создан человек, и почему он смертен, и откуда смерть, и каково освобождение от нее и возвращение к жизни. Обо всем этом, словно вдохновляемая силой Святого Духа, она говорила ясно, последовательно, речью, текущей в совершенной легкости, подобно воде, беспрепятственно изливающейся из источника и стекающей по склону.
XIX. Когда же она окончила свою речь: «Пора тебе, — сказала, — брат, утомленному трудным путешествием, немного отдохнуть телом». И хотя для меня прекрасным и истинным отдыхом было видеть ее и слушать дивные ее слова, но поскольку ей это было приятно и угодно, я, чтобы во всем выказать послушание наставнице, удалился отдохнуть в один из близлежащих садов и нашел там желанное пристанище в тени деревьев, обвитых виноградными лозами. Однако все это не могло доставить радости моим чувствам, ибо душа была полна тревожных ожиданий. Мне казалось, что то сонное видение приоткрыло [свою] тайну. Ведь в самом деле то, что я увидел, и были мощи святого мученика, для греха умершие, живущей же в них благодатью Духа сияющие. Об этом я рассказал одному из ранее слышавших от меня о сновидении. И так как мы, конечно, опечалились в предчувствии надвигающейся беды, она, каким–то образом догадавшись о наших мыслях, послала нам некое ободряющее извещение, в котором убеждала нас не падать духом и в отношении нее надеяться на лучшее, ибо она почувствовала поворот к выздоровлению. В самом деле, как бегун на ристалище, обогнавший соперника, приближаясь к мете, стремясь к награде и чая победного венка, сам ликует в душе и тем из зрителей, кто к нему благосклонен, сообщает радость победы — с теми же чувствами и она убеждала нас надеяться на лучшее, уже устремляясь к «почести вышнего звания» (Флп. 3:14) и повторяя про себя слова апостола: «Прочее убо соблюдается мне венец правды, егоже воздаст ми… праведный Судия» (2 Тим. 4:8), ибо «подвигом добрым подвизался, течение скончал, веру соблюдол» (2 Тим. 4:7). Мы же, воспрянув духом от доброго известия, согласились отведать приготовленного угощения, оно было разнообразно и изобиловало всем, что радует душу, — та, достославная, и такой заботой не погнушалась.
XX. Когда же снова мы предстали пред ее очами — ибо она не оставила нас проводить досуг в одиночестве, — воскресив в памяти всех, кого знала с юности, она, как по писанному, стала рассказывать по порядку все, что хранила в памяти: и из жизни родителей, и что было еще до моего рождения, и что было потом. Целью же рассказа было благодарение Богу. Так, говоря о родителях, она показывала, что богатство их казалось современникам славным и примечательным не столько изобилием, сколько [тем, что оно было явным знаком] человеколюбия Божия. Ведь у родителей отца имущество было отнято за исповедание Христа, а дед наш по материнской линии был казнен вследствие императорского гнева, а все, что он имел, перешло к другим владельцам. И, несмотря на это, по вере их благосостояние выросло настолько, что, пожалуй, и не было в те времена никого, кто бы их превосходил. И когда имущество, по числу детей, было поделено на девять частей, по благословению Божию у каждого из них оно умножилось настолько, что достаток детей стал еще выше родительского. Сама же она из причитающегося ей наравне с прочими братьями и сестрами для себя не оставила ничего, но все по заповеди предала в руки священника. Сама же она под водительством Божиим стала жить так, что никогда не покладала рук в делании заповедей и не угождала людям, так что не от человеческих благодеяний являлись у нее средства для достойной жизни, а она не отказывала просящим и не искала дающих, в то время как Бог тайно, как бы из неких семян, из скудных ее средств [Своим] благословением взращивал обильные плоды.
XXI. Потом я стал рассказывать о своих бедах, которые претерпел: как вначале преследовал меня император Валент, а после этого церковное нестроение принесло нам труды и невзгоды. «Отчего не оставишь ты, — воскликнула она, — своего безрассудного пренебрежения к Божественным благам? Отчего не уврачуешь неблагодарную свою душу? Отчего не сравнишь свою [участь] с родительской? Хотя, конечно, по обычаю этого мира именно этим мы более всего гордимся: славным своим родом и рождением от благородных [родителей]. Великим, — сказала она, — в прежние времена считался наш отец по своей учености. Однако слава его не выходила за пределы местных судилищ. И впоследствии, когда он обучал риторскому искусству других, молва о нем не перешла границ Понта, но он довольствовался известностью в своем отечестве. Ты же, — продолжала она, — известен городам, и народам, и племенам, тебя Церкви призывают в союзники и Церкви посылают на защиту истинной веры — и ты не видишь явной милости Божией? И ты не понимаешь причины всех этих благ: ведь это молитвы родительские возносят тебя на высоту, в то время как сам ты нисколько к этому не готов!»
XXII. Слушая такие ее рассуждения, я желал, чтобы протяженность дня увеличилась и [рассказчица] так и не прекращала бы услаждать мой слух. Но голоса поющих призывали начать светильничные молитвы, и, отпустив меня в церковь она, достославная, устремилась в молитве к Богу. И так прошла ночь. Когда же настал день, по тому, что я увидел, мне стало ясно, что наступивший день положит последний предел ее жизни во плоти, ибо лихорадка истощила все отпущенные ей природой силы. Она же, видя слабость, проявившуюся в наших мыслях, пыталась отвлечь нас от грустных предчувствий, вновь изливая столь же прекрасные слова на опечаленную душу, меж тем как дыхание ее стало слабым и стесненным. Я тогда испытывал самые противоречивые чувства: естество, как и следовало [ожидать], отягощалось тоской, что больше никогда не услышу я звуков ее голоса, [ибо я видел], что похвала нашего века вот–вот расстанется с жизнью. Тем не менее душа словно бы приходила в [священное] исступление от этого зрелища и, казалось, незаметно выходила за пределы обычного естественного [состояния]. Она даже при последнем издыхании не допустила ни одной чуждой мысли относительно надежды на переселение [в мир иной] и нисколько не испугалась расставания с жизнью, но до последнего вздоха упражнялась в любомудрии, сохраняя высокий [строй] мысли в отношении всего, что было ей суждено от начала. Мне казалось, что это свойство уже не человеческое, но как если бы некий ангел, которому чужда и непривычна жизнь во плоти, домостроительно принял человеческий вид: лишь для него нет ничего необычного в том, чтобы блюсти мысли в бесстрастии, ибо плоть не увлекает его в свои страсти. Потому, казалось мне, в этот час она соделала явной для всех присутствующих ту божественную и чистую любовь, которую прежде хранила в тайне и питала в глубинных уголках души, и открыла стремление сердца поспешить к желанному, что [уже] должна была вскоре встретиться с Ним, освободившись от оков тела. Ведь, в самом деле, это был словно бы побег к возлюбленному, и никакая другая из радостей этой жизни не привлекала к себе ее взора.
ХХШ. И вот уже большая часть дня миновала, и солнце стало клониться к закату. Ее же вдохновение не убывало, но, напротив, чем ближе виделся исход, тем нетерпеливее, созерцая красу Жениха, в возрастающем влечении она устремлялась к желанному, обращая слова [свои] уже более не к нам, присутствующим, но к Самому Тому, Кого беспрепятственно лицезрела очами. Будучи на ложе своем обращена лицом к востоку, она прекратила разговор с нами и оставшееся время беседовала в молитве с Богом, воздевая руки и шепча слабеющим голосом, так что мы с трудом разбирали слова. Молитва же ее была такова, что, без сомнения, достигала Бога и была Им услышана.
XXIV. «Ты, — сказала она, — Господи, упразднил в нас «страх смерти» (Евр. 2:15).
Ты жизни истинной началом соделал нам конец здешней жизни.
Ты в [положенный] нам срок упокоеваешь сном тела и вновь пробуждаешь их «в последней трубе» (1 Кор. 15:52).
Ты на время вверяешь земле землю нашу, ей же дал образ Своими руками и вновь взимаешь то, что вложил, нетлением и благодатью преображая смертное наше и безобразное.
Ты избавил нас от клятвы и греха, став тем и этим нас ради.
Ты «сокрушил еси главу змиеву» (Пс. 73:14), зияющей пастью поглотившего человека чрез преслушание.
Ты указал нам путь к воскресению, разрушив врата ада и «упразднив имущего державу смерти» (Евр. 2:14).
Ты «дал еси боящимся Тебе знамение» (Пс. 59:6), образ святого Твоего креста на низвержение сопротивного и во утверждение жизни нашей.
О Боже вечный,
Ему же «привержена есмь от чрева матери» (Пс. 21:11),
«Его же возлюби душа моя» (Песн. 1:6) всею крепостью,
Ему же посвятила я плоть и душу от юности моей и доныне,
Ты мне посли светлого ангела, да отведет он меня к месту прохладному, где «вода покойная» (Пс. 22:2) у лона святых отец.
Пресекший пламя огненного меча и возведший в рай человека, сораспявшегося Тебе и улучившего милость Твою,
И меня помяни во Царствии Твоем, ибо и я сораспялась Тебе пригвоздив страхом плоть мою и убоявшись судов Твоих.
Да не отлучит меня страшная пропасть от избранных Твоих
Да не противостанет завистник на пути моем,
И да не обрящется пред очами Твоими грех мой, ежели, побежденная немощью естества нашего, словом, делом или помышлением я согрешила.
«Имый власть на земли отпущати грехи» (Мф. 9:6; Мк. 2:10),
Остави ми, «да почию» (Пс. 38:14) и обретусь пред очами Твоими «в совлечении тела» (Кол. 2:11) моего, «не имущи скверны или порока» (Еф. 5:27) на душе моей, но да предастся душа моя безупречной и незапятнанной в руце Твои, « яко кадило пред Тобою» (Пс. 140:2)».
XXV. И одновременно с произнесением этих слов она положила печать крестного знамения на очи, уста и на сердце. Вскоре же и язык, иссушенный горячкой, перестал ясно выговаривать слова, и голос ослабел, и по одному только шевелению губ и движению рук мы могли понять, что она пребывает в молитве. Так наступил вечер, и когда внесли светильник, она обвела глазами помещение и явственно устремила взгляд на источник света, желая прочитать светильничные молитвы. Поскольку же голоса не было, она исполнила свое желание (προθεσις) в сердце, сопровождая молитву движением рук и шевелением губами в такт внутреннему голосу. И, завершив благодарение, она поднесла руку ко лбу, чтобы перекреститься, ознаменовала тем самым окончание молитвы и, сделав глубокий вздох, вместе с молитвой завершила и жизнь. И так как более она не дышала и не двигалась, я вспомнил о поручении, которое она дала нам при первом же свидании, сказав, что хочет, чтобы мои руки закрыли ей глаза и мною были проведены все надлежащие приготовления тела, и поднес к святому лику обессилевшую от горя руку, чтобы не показалось, что я пренебрег поручением. Глаза ее не нуждались в том, чтобы к ним прикасались, поскольку были, как при естественном сне, благообразно прикрыты веками. Так же и губы ее были естественно сомкнуты, и руки благопристойно сложены на груди, и все тело само собой хранило подобающее положение и не нуждалось в руке, наводящей порядок.
XXVI. Тоска моей души нагнеталась с двух сторон: и тем зрелищем, которое я видел, и тем, что в ушах моих звучали скорбные стенания дев. Ибо некоторое время они сдерживались и молчали, заключив муку в душе, как будто боясь упрека даже и безмолвных уст: как бы не опечалилась их поступком наставница, если они нарушат правило и издадут какой–либо звук. Но как если бы огонь прожигал их души изнутри, когда они более не могли сдерживаться и молчать, стали в изобилии прорываться горькие и неутешные рыдания, так что и мой рассудок уже не мог удержать меня в спокойствии, и я, словно увлеченный излившимся потоком, был потоплен им и, забыв о присутствующих, всецело предался плачу. И мне все–таки кажется, что девушки имели достаточные и серьезные основания для такого выражения скорби. Ведь они оплакивали не просто утрату чего–то привычного, какого–то земного покровительства, из–за чего обычно скорбят в несчастьях люди. Эти же как будто разлучались с самой надеждой на Бога и спасение душ, так они рыдали и причитали в горе, говоря: «Погас светоч очей наших! Померк свет путеводительства душ! Поколебалось основание жизни нашей! Не стало печати нетления! Распалась связь единомыслия! Сокрушилась пора ослабевающих! Отнято врачевство изнемогающих! С тобой и ночь как день чистотою жизни просвещалась, ныне же и день во мрак претворится». Еще сильнее, в сравнении с прочими, разжигали скорбь называвшие ее матерью и кормилицей. Ибо были и такие, кого она, подобрав во время голода брошенными на улице, сама вскормила и воспитала и наставила к жизни чистой и непорочной.
XXVII. Когда же я с трудом, точно из некоей пучины, восставил душу мою и устремил свой взгляд на священную сию главу, тогда, словно почувствовав [со стороны покойной] упрек за беспорядок, создаваемый скорбными возгласами рыдающих, сказал громким голосом, взывая к девам: «На нее посмотрите и ее наставления вспомните, которыми она учила вас во всем сохранять порядок и приличие. Одно лишь время для слез Божия эта душа вам назначила, заповедав вам проливать их во время молитвы. К чему ныне и следует обратиться, преложив стенания и плач в единодушное псалмопение». Последнее я сказал особенно громко, стараясь перекрыть голосом звуки рыданий. Затем я велел им ненадолго перейти в соседний дом, оставив [при ней] некоторых из них, услугами которых она охотно пользовалась при жизни.
XXVIII. Среди них была одна женщина благородного [сословия] (по состоятельности и родовитости), которая в юности отличалась и телесной красотой, и прочими выдающимися качествами. Сочетавшись браком с одним из [мужей] высшего достоинства и прожив с ним малое время, она в молодом возрасте была выпряжена из супружеского ярма и, соделав достославную Макрину хранительницей и детоводительницей своего вдовства, большую часть [жизни] провела среди дев, учась у них добродетельному житию. Имя этой женщины было Ветиана, а ее отец, Араксий, был одним из членов высшего совета. Именно ей я и сказал, что не будет предосудительно, по крайней мере, сейчас покрыть тело более пышным одеянием и богатыми пеленами украсить эту чистую и непорочную плоть. Она же сказала, что следует узнать, что именно решила на этот счет сама святая. Ведь было бы неудобно нам сделать что бы то ни было против ее желания. В любом случае, то, что угодно и приятно Богу, было по душе и ей.
XXIX. И была [еще] одна, руководившая хором дев и посвященная в диаконисы; имя ее было Лампадион. Она сказала, что достоверно знает, как распорядилась покойная относительно погребения. И когда я спросил у нее об этом (ибо она по случаю присутствовала при [нашем] совещании), она со слезами стала рассказывать следующее: «Взамен украшения чистоту своей жизни приготовила святая. Она была ее нарядом при жизни, она стала ее погребальным убранством. Того же, что служит для приукрашивания тела, ни при жизни она не собирала, ни для настоящей надобности не приберегла, так что даже если мы захотим, не найдем ничего кроме того, что есть здесь». «Так, значит, и в кладовых ничего нельзя найти, — спросил я, — такого, что могло бы украсить погребальный одр?» «В каких, — спросила она, — кладовых? У тебя перед глазами все, что припасено. Вот плащ, вот покрывало на голову, вот стоптанные сандалии на ноги. Таково все богатство, таков весь прибыток! Ничего кроме того, что ты видишь, не скрыто в сундуках каких–нибудь или потайных комнатах. Одно хранилище знала она для богатства: сокровищницу небесную. Вложив туда все, ничего не оставила на земле». «Но что же, — обратился я к ней [с вопросом], — если бы я пожертвовал что–нибудь из того, что у меня самого приготовлено для погребения, не будет ли ей это неприятно?» Она сказала, что не думает, чтобы это было против ее правил. «Ведь она и при жизни приняла бы от тебя такого рода дары по двум причинам: из уважения к твоему сану и помня о вашем близком родстве. Она не посчитала бы чужим для себя то, что принадлежит брату. Потому–то она и распорядилась, чтобы ты приготовил ее к погребению собственными руками».
XXX. Когда было принято такое решение и надлежало обвить пеленами святое это тело, мы, разделив обязанности, взялись за работу и хлопотали каждый о своем. И я, со своей стороны, велел кому–то из моих принести облачение, упомянутая же Ветиана, убиравшая своими руками священную эту главу, коснувшись шеи, вдруг сказала, обратившись ко мне: «Смотри, какое украшение надето на шею святой!» Сказав это и тотчас же развязав сзади узел, она протянула руку и показала мне железный крест и какой–то перстень из того же металла, которые, связанные между собой тонкой леской, всегда находились у сердца [усопшей]. И я сказал: «Пусть эта находка будет общей. Ты возьми себе ограждающий крест, с меня же будет довольно получить в наследство перстень. Ибо и на его печатке вырезан крест». Внимательно рассмотрев его, женщина вновь обратилась ко мне: «Не напрасно ты выбрал себе именно эту вещь. Ведь оправа перстня полая, и в нее вставлена частичка древа жизни! А эта печать сверху своим изображением указывает на то, что внутри».
XXXI. Когда же настало время обернуть одеждой чистое сие тело, и завещание достославной обязало меня сослужить ей эту службу, присутствовавшая при этом и получившая наравне со мной часть дивного этого наследства сказала: «Не останься в неведении о неописуемом и величайшем из совершенных святою сей чудес». — «Каком?» — спросил я. Она же, обнажив участок ее груди, сказала: «Видишь ли ты эту тонкую отметину под кожей? Она похожа на след, оставленный тонкой иглой». И, говоря это, она поднесла светильник поближе к месту, которое она мне показывала. «Что же, — спросил я, — удивительного в какой–то незаметной отметине, запечатлевшейся в этой части тела?» «Это, — ответила она, — памятный знак великой помощи Божией, который остался на теле. Ибо некогда зародилась в этой части тела некая неизлечимая болезнь, и возникла угроза, что либо опухоль нужно будет вырезать, либо пагуба распространится повсюду, если соприкоснется с областью сердца. Тогда, — продолжала она, — мать просила и умоляла ее прибегнуть к помощи врача, затем что и это искусство дано Богом во спасение людей. Она же, сочтя, что обнажить хотя бы часть тела перед посторонними взорами невыносимее самой болезни, с наступлением вечера, собственноручно оказав матери привычные услуги, вошла внутрь святилища и всю ночь провела, взывая к Богу с мольбой об исцелении и изливая на землю истекшую из очей влагу, а потом воспользовалась, как лекарством, размоченной слезами глиной. Мать, однако, была недовольна и вновь стала убеждать ее обратиться к врачу. Тогда она сказала, что для избавления от недуга ей достаточно, чтобы мать своей рукой осенила больное место крестным знамением. Когда же мать просунула руку под одежду, чтобы перекрестить это место, крестная печать возымела силу и болезни как не бывало. Но лишь этот, — закончила она, — малый знак и тогда [уже] виднелся на месте страшной опухоли, и остался до конца для того, думаю, чтобы напоминать о Божием попечении и давать повод и вдохновение для непрестанного к Богу благодарения».
XXXII. Когда же труд наш был завершен и тело было посильными средствами приготовлено к погребению, диакониса сказала, что не подобает, чтобы покойная, одетая, как невеста, была выставлена на обозрение девам. «Но есть у меня, — говорила она, — темный плащ, оставшийся после вашей матери, который, я думаю, хорошо будет набросить сверху, чтобы этот привнесенный одеждой блеск не затмевал ее собственной святой красоты». Это мнение одержало верх, и плащ был наброшен. Она же сияла и в темном, ибо, как я думаю, божественная сила придала телу столь благодатную красоту, что, как в том моем сне, явственно видилось источаемое этой красотой сияние».
XXXIII. В то время, как мы были заняты этими приготовлениями, а песнопения дев, смешанные с плачем, оглашали окрестность, молва о случившемся, не знаю, каким образом, распространилась повсюду, и все местные жители стали стекаться к месту происшествия, так что передний двор не мог вместить всех собравшихся. Когда, наконец, панихида о ней окончилась песнопениями, какие поются в похвалу мученикам, и настало утро, толпа народу, стекшегося со всей округи, мужчин и женщин, стенаниями заглушила псалмопение. Я же, хотя и скорбел душой о горестном событии и, наблюдая происходящее, заботился о том, чтобы, насколько возможно, ничего не упустить из того, что следовало сделать, все же, разделив по признаку пола стекшийся народ и толпу женщин соединив с хором дев, а мужчин — со строем монашествующих, устроил так, что полилось благозвучное и согласное пение, словно от настоящего хора, в котором отдельные голоса, сливаясь, составляют единство. Когда же занялся день и уже вся окрестность вокруг обители заполнилась толпами собравшихся, прибыл со всем сонмом священства предстоятель этой местности, епископ, имя которому Араксий; он и приказал понемногу начинать двигаться похоронной процессии, поскольку путь предстоял неблизкий, а скопление народа препятствовало более быстрому движению; одновременно с этим он предложил всему сопутствующему ему духовенству участвовать в перенесении носилок с телом.
XXXIV. Когда это повеление было отдано и мы приступили к его выполнению, я, подойдя к носилкам спереди с одной стороны, предложил ему стать с другой, а двое других почитаемых клириков взялись за заднюю часть носилок, и мы, державшиеся спереди, мало–помалу тронулись с места, а за нами началось движение. Поскольку же народ теснился вокруг носилок и все жадно стремились наблюдать это священное зрелище, нелегко и отнюдь не без препятствий совершали мы свой путь. Впереди шло множество диаконов и прислужников, выстроившихся рядами по обе стороны от носилок и возглавивших процессию; все они держали в руках восковые свечи, и все происходящее напоминало таинственное шествие с созвучным пением псалмов, разносившимся от края до края, подобно пению трех отроков. Притом, что только пять или восемь стадиев отделяло окраину от храма святых мучеников, где покоились и тела наших родителей, почти за целый день мы едва одолели этот путь. Ибо множество людей, собравшихся и постоянно прибывавших, как и следовало ожидать, не позволяло двигаться быстрее. Когда наконец мы остановились в преддверии дома мертвых и поставили носилки на землю, то прежде всего начали молитву. А молитва подвигла народ к плачу. Ибо звуки псалмопения стали тише, и когда девы устремили взоры на святой лик усопшей и была открыта гробница родителей, куда решено было положить ее, тогда одна из них, нарушив благочиние, воскликнула, что с этого часа больше никогда не увидим мы боговидного этого лика, и сразу все остальные девы вслед за ней тоже заголосили, и бесчинные эти вопли заглушили стройное и благолепное псалмопение, и все присутствовавшие присоединились к плачу дев. И лишь с трудом, после того, как и мы неоднократно призывали к тишине, и глашатай побуждал всех к молитве и возглашал привычные церковные возгласы, народ вернулся к уставному образу молитвы.
XXXV. И когда молитва подошла к положенному концу, меня охватил какой–то трепет перед божественной заповедью, воспрещавшей открывать наготу отца или матери. «И как, — подумал я, — не подпасть мне под это осуждение, если я увижу общую человеческую неприглядную наготу на родительских телах, уже разложившихся и распавшихся и представляющих собой безобразное и отвратительное месиво». Когда я размышлял так и меня приводила в трепет память о негодовании Ноя, обратившемся на его сына, сама история Ноя подсказала, что надо делать. А именно: прежде, чем тела предстали нашим взорам, мы прикрыли их чистым полотном, открыв дверцу гробницы и с обеих сторон натянув полотно. И таким образом скрыв тела за полотном, подняв с носилок святое тело [усопшей], я и названный епископ этого края положили ее рядом с матерью, выполняя их обоюдное желание. Ибо обе всю жизнь единодушно молили Бога после смерти срастворить их тела, чтобы единение, бывшее при жизни, не расторгалось и по смерти.
XXXVI. Когда мы выполнили все положенные обязанности и нужно было совершить обратный путь, я припал к могиле и поцеловал прах, а на обратном пути молился, подавленный и в слезах, помышляя, какого блага лишился в своей жизни. На пути домой некий человек, высокопоставленный военный, начальствовавший над войском в одном городке области Понт, который назывался Севастополь, живший там вместе со своими подчиненными, радушно встретил меня, когда я оказался в этом городе, и, услышав о моем несчастье и восприняв его близко к сердцу (ибо происходил из семьи родственной нам и знакомой), поведал мне историю одного совершенного покойной чуда. Присовокупив [эту историю] к сказанному, я завершу свое повествование. Когда мы осушили слезы и перешли к беседе, он сказал, обращаясь ко мне: «Узнай, сколь великое и небывалое благо ушло из земной жизни!» И, произнеся это, так начал свой рассказ.
XXXVII. «Возникло некогда у нас, у жены и у меня, стремление посетить, по усердию, пристанище добродетели. Ибо, думается мне, именно так следует называть место, в котором проводила дни блаженная эта душа. С нами была и дочурка, у которой заразная болезнь поразила глаз. Это было зрелище, внушавшее содрогание и жалость: роговица вокруг зрачка покрылась от болезни беловатым наростом. Когда мы прибыли в эту божественную обитель, мы — я и моя супруга — расстались на время посещения соответственно полу подвизавшихся в этом месте, и я остановился на мужской половине, где начальствовал Петр, твой брат, а она, оказавшись на женской, сопребывала со святой. Проведя в обители довольно времени, мы решили, что настала пора покинуть этот уголок, и уже совсем собрались уезжать, как они оба решили выказать нам свое расположение. Меня брат твой уговаривал остаться и участвовать в монашеской трапезе, а блаженная не отпускала мою жену. Взяв на руки нашу дочурку, она сказала, что отдаст ее не прежде, чем мы примем участие в трапезе и вкусим от изобилия любомудрия. Она, как это принято, целовала ребенка и, когда приблизила уста к его глазам, заметив пораженный зрачок, сказала: «Если вы окажете мне честь и станете участниками нашей трапезы, я вам отплачу платой, не уступающей такой милости». «Какой же?» — спросила мать ребенка, а достославная ответила: «Есть у меня лекарство, способное исцелить эту болезнь». После этого мне с женской половины пришла весточка о таком обещании, и мы с радостью остались, [уже] не помышляя о необходимости отправляться в путь.
XXXVIII. Когда прием закончился и души наши были полны (ведь достославный Петр собственноручно подавал нам угощения и воду для омовения, а святая Макрина со всей подобающей обходительностью занимала мою супругу), веселые и довольные мы пустились в путь и дорогой обменивались впечатлениями. Я рассказал о том, что видел и слышал на мужской половине, а она описывала все в подробностях, словно боясь упустить хотя бы малость. Докладывала же она все последовательно и как по писаному, и когда настал черед рассказать о том, как было обещано глазное лекарство, она, прервав рассказ, воскликнула: «Что же мы наделали?! Как же мы пренебрегли таким обещанием, целебной мазью, для нас приготовленной!» Я тоже расстроился из–за такого нерадения и приказал одному из слуг срочно отправиться за лекарством, и тогда дитя, находившееся на руках у кормилицы, случайно взглянуло на мать, и та, увидев его глаза, воскликнула громким голосом, одновременно с радостью и испугом: «Не печалься о нашем нерадении! Смотри, нам уже не нужно ничего обещанного, затем что истинное лекарство, исцеляющее болезни — молитвенное врачевание, она нам дала, и оно уже подействовало, и на глазу не осталось и следа от болезни, все очистило это божественное лекарство!» И говоря это, она взяла ребенка на руки и передала мне. И тогда я, мысленно вспоминая невероятные чудеса Евангелия, сказал: «Что ж удивительного в том, что рукою Бога отверзались очи слепых, если Его раба, совершая такие исцеления по вере в Него, соделала деяние, не намного уступающее Его чудесам!» Когда он говорил это, у него от рыданий пресекся голос и посреди рассказа полились слезы. Вот и все, что поведал этот военный.
XXXIX. Многое и другое подобное мы слышали от живших с ней рядом и в подробностях знающих о ней все, но считаем неуместным включать это в свое повествование. Ибо большинство людей считает в рассказах достоверным лишь то, что доступно их разумению, то же, что не вмещает ум слушателя, презирает, подозревая во лжи. Поэтому я умолчу о том чудесном умножении хлеба во время голода, когда совершенно не чувствовалось убывание раздаваемого нуждающимся зерна: оно лежало горой и до раздачи просящим, и после нее; и другое, еще более удивительное, чем это: болезней исцеления, и бесов изгнания, и грядущего нелживые прорицания. Все это считают истиной те, кто был тому свидетелем, даже если оно и превыше способности верить; те же, кто слишком оплотянел, считают это невозможным — они не знают, что «по мере веры» (Рим. 12:4) совершается и распределение дарований: маловерным дается малое, а тем, кто имеет пространное вместилище веры, — великое. И чтобы не потерпели вреда маловерные, не доверяя дарам Божиим, ради этого я воздерживаюсь от дальнейшего последовательного рассказа о чудесах еще более возвышенных и думаю, что на этом могу окончить свое повествование.
О цели жизни по Боге и об истинном подвижничестве
(I, 1) Если кто, хотя бы немного отрешив свой разум от тела и соделавшись чуждым рабства страстям и нерассудительности, бесхитростной и чистой мыслью взглянет на свою душу, тот ясно увидит в самом естестве ее любовь Божию к нам и творческий Его замысел. Ибо, рассматривая ее таким образом, он найдет, что в самой сущности и природе человека [исконно] присутствует устремление, вожделеющее к прекрасному и наилучшему, и что бесстрастная и блаженная любовь к тому умопостигаемому и блаженному Образу, Которого человек есть подобие (ср. Быт. 1:26), сопряжена с самым естеством его. Но некое обольщение вещей видимых и вечно текущих, страстью неразумной и горьким наслаждением соблазняющее и околдовывающее небрежную и нерадивую от беспечности душу, к тяжкому влечет ее пороку, рождающемуся от наслаждений жизни и рождающему смерть для возлюбивших его. А потому познание истины — спасительное врачевство душам — даровано жаждущим его благодатью Спасителя нашего. Ею разрушается околдовывающее человека обольщение, угашается плоти бесчестное мудрование, а душе, приявшей знание, свет истины указует путь к Божеству и собственному ее спасению.
(I, 2) Поскольку же и вы, достойно воспринимая это знание и любовь, данную душе по природе ее, совершенствуя, с решимостью сошлись вместе, на деле исполняя апостольское начертание и от нас желая получить наставление как некоего провожатого в жизненном странствии, который выведет на прямую дорогу, точно указав, какова цель у вступивших в эту жизнь, каково «благое, угодное и совершенное произволение Божие» (Рим. 12:2), какая дорога ведет к этой цели, как следует идущим по ней сосуществовать друг с другом, как настоятели должны править этим хором любомудрия и какие труды надлежит понести тем, кто желает взойти на вершину добродетели и достойно приготовить души свои к приятию Духа, — поскольку же вы требуете от нас этого наставления, и не просто устно сказанного, но письменно запечатленного, дабы, имея его в запасе, вы могли в случае надобности извлекать его как бы из сокровищницы памяти, мы, исполнившись решимости, постараемся произнести его в согласии с направляющей нас благодатью Духа.
(I, 3) Мы знаем точно, что правило благочестия в вас зиждется на правом догмате веры, [что вы] признаете единое Божество блаженной и вечной Троицы, никоим образом и никак не изменяемое, но в одной сущности, в одной славе и в одной воле умосозерцаемое и в трех ипостасях поклоняемое. Некогда восприняв это исповедание пред многими свидетелями (ср. 1 Тим. 6:12), мы принесли его Духу, омывшему нас во источнике таинства. Зная это благочестивое и непогрешимое исповедание, неколебимо утвержденное во глубине ваших душ, и ваше ввысь ко благу и блаженству устремление и по пути деяний восхождение, мы на письме даем вам сжатые семена поучения, выбирая их из дарованных нам ранее богодухновенных книг. И во многих местах приводим мы слова Писания, чтобы сказанное нами подтвердить и наше понимание Писаний прояснить, дабы не показалось, что мы, оставив вышнюю благодать, сами негодным и низменным размышлением порождаем незаконных отпрысков и, внешними помыслами вылепляя образы благочестия, невежественно присовокупляем их к Писаниям, суетной надмеваясь гордостью (ср. 2 Пет. 2:18).
(II, 1) Итак, кто намерен душу и тело по закону благочестия вручить Богу и воздать Ему служение (ср. Рим. 12:1) непорочное и чистое, тот, соделав руководительницей жизни благочестивую веру, которую уста святых по всему возглашают Писанию, должен предать ристалищам добродетели душу доверчивую и податливую, отрешив себя от оков этой жизни, удалившись от всякого рабства вещам низменным и суетным и всего себя, верой и жизнью, вручив единому Богу, ясно сознавая, что, где вера благочестивая и жизнь непорочная, там и сила Христова, а где сила Христова, там бегство всякого зла и похищающей нашу жизнь смерти. Ведь [зло] не имеет в себе силы, чтобы противостоять силе Господней, но само привзошло [в душу и тело] вследствие преступления заповедей. Это испытал некогда первозданный человек, а ныне — все, кто по собственному произволу подражает его преслушанию.
(II, 2) Если же кто приступает к Духу с бесхитростной мыслью, без единого пятна на совести, имея веру во всей достоверности, тех сила самого Духа очищает, согласно сказавшему, что «благовествование наше не бысть к вам в слове точию, но в силе, и в Дусе Святе, и во извещении мнозе, якоже и весте» (1 Сол. 1:5), — и другому: «всесовершен ваш дух и душа и тело непорочно да сохранится в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Сол. 5:23).
(II, 3) Он же чрез купель крещения дал достойным залог бессмертия, чтобы вверенный каждому талант, пущенный в дело, незримое принес богатство. Велико, братия, истинно велико в деле стяжания умопостигаемых благ святое крещение для приемлющих его со страхом. Ибо Дух, богатый и щедрый, присно текущий для всех приявших благодать, ею же исполненные святые апостолы явили Церквам Христовым плоды полноты, сей Дух, для всех в чистоте приявших дар, по мере веры (ср. Рим. 12:3) каждого из приемлющих, пребывает помощником и обитает в них, созидая в каждом благо, чтобы душа была усердной в делах веры, по слову Господа, гласящему, что получивший оную мину (ср. Лк. 19:13) [берет ее], чтобы пустить в дело, то есть благодать Святого Духа каждому дается ради преуспеяния и возрастания приемлющего ее. Необходимо, чтобы душа, заново рожденная силой Божией, возрастала в меру духовного возраста, обильно орошаемая потом добродетели, под водительством благодати.
(II, 4) Ибо как телесное естество новорожденного младенца не коснеет в нежном возрасте, но, питаемое пищей телесной, по закону природы возрастает до отпущенной ему меры, так и душа новорожденная, в которой причастие Духа, истребляя древний недуг, вошедший через преслушание, обновляет красоту естества, не должна оставаться в младенческом [неразумии], не должна лениться без движения в праздности, но должна саму себя питать подобающей пищей и взращивать в трудах и добродетели до той меры, какую обещают ее задатки, чтобы чрез подобающую добродетель в силе Духа выставить себя неуязвимой для невидимого разбойника, многие скрытые западни душам уготовляющего. А потому должно доводить себя до меры возраста мужа совершенного, по слову апостола: «дондеже достигнем ecu в соединение веры и познания Сына Божия, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова, да не бываем ктому младенцы, влающеся и скитающеся всяким ветром учения… в коварстве козней лыцения. Истинствующе же… да возрастим в него всяческая, иже есть глава Христос» (Еф. 4:13—15). И в другом месте он же говорит: «Не сообразуйтеся веку сему, но преобразуйтеся обновлением ума вашего, во еже искушати вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная» (Рим. 12:2), — «волей Божией совершенной» именуя преображение души под воздействием благодати Духа, которая возводит душу к высшему цветению, трудам преображаемого содействуя.
(II, 5) Приращение тела в его возрастании нисколько не зависит от нас; ибо природа соразмеряет величину тела не с мнением и пожеланием человека, но со своим стремлением и необходимостью. Зато в новом рождении мера и красота души, даруемые благодатью Духа по мере усердия ее восприемлющих, зависят от нашего мнения. Ибо до какой меры простираем мы подвиги благочестивой жизни, до такой меры вместе с ними простирается и возрастание души, посредством подвигов и трудов, к которым и Господь наш призывает, говоря: «Подвизайтеся внити сквозе тесныя врата» (Лк. 13:24; Мф. 7:13), и еще: Понуждайте себя! Ибо «нуждници восхищают» Царство Небесное (Мф. 11:13), и: «В терпении вашем стяжите души ваша» (Лк. 21:19). И апостол [говорит]: «терпением течем на предлежащий нам подвиг» (Евр. 12:1). И: «Тако тецыте, да постигнете» (1 Кор. 9:24). И еще: «Якоже Божий слуги, в терпении мнозе» и прочее (2 Кор. 6:4). Потому призывает он стремиться и увещевает не ослабевать в подвигах, что дар благодати отмеряется трудами приемлющих [его].
(III, 1) Ведь благодать Духа дает вечную жизнь и неизреченную радость на небесах; а любовь (ερως) по вере трудами удостоивает принять дар и вкусить благодать. Сойдясь вместе, труд праведности и благодать Духа совместно исполняют блаженной жизни душу, в которой сошлись. Находясь же в разъединении друг с другом, они не доставляют душе никакой пользы. Ибо как благодать Божия по природе [своей] не может посещать души, бегущие спасения, так и сила человеческой добродетели сама по себе недостаточна, чтобы души, непричастные благодати, возвести к совершенному виду жизни: «Аще не Господь» — гласит [Писание] — «созиждет дом и сохранит град, всуе бде стрегий» и трудится «зиждущий» (Пс. 126:1). И еще: «Не бо мечем своим наследиша землю, и мышца их не спасе их» (Пс. 43:4), хотя и «мечами» своими, и «мышцами» совершали подвиги, «но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего» (Пс. 43:4). О чем это говорит? — О том, что «делателям» Господним (Мф. 9:37) помощь подается свыше, и вместе с тем полагающимся на свои труды не следует думать, будто венец всецело зависит от человеческих стараний, но надежду достигнуть его должно возлагать на волю Божию.
(III, 2) Итак, следует знать, «что есть воля Божия» (Рим. 12:2), с которой должен сообразоваться устремляющийся к жизни (ζωη) блаженной и в нее желающий претворить свое житие (βιος). А воля Божия состоит в том, чтобы благодатью очистить душу от всякой скверны, поставив [ее] выше телесных наслаждений, и чистой привести ее к Богу; ибо таких называет блаженными Господь, говоря: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5:8). И в другом месте Он говорит: «Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш небесный совершен есть» (Мф. 5:48). Стремиться к этому совершенству призывает и апостол, говоря: «Да представлю всякого человека совершенна во Христе, в немже труждаюся и подвизаюся» (Кол. 1:28—29). И Давид, Духом глаголя, желающих право любомудрствовать учит [следовать] путем истинного любомудрия, которым надлежит идти к цели совершенной, прося у Дающего того, о чем [устами] Давида поучает Дух: «Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся» (Пс. 118:80). Он повелевает бояться [дел] постыдных и отбрасывать [их], как оскверненную одежду, [которая] бесчестит тех, кто пороками в нее облачился. Еще говорит: «Тогда не постыжуся, внегда призрети ми на вся заповеди Твоя» (ст. 4); ибо в исполнении заповедей Дух полагает дерзновение. И еще: «сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», и: «духом владычним утверди мя» (Пс. 50:12, 14). А в другом месте спрашивает: Кто взыдет на гору Господню? Затем отвечает: «Неповинен рукама и чист сердцем» (Пс. 23:3—4). И того он возводит «на гору» Божию, кто чист во всем, кто в конечном итоге ни помышлением, ни познанием, ни делами не осквернил души своей, закоснев во зле, но кто благими делами и <мыслями> стяжал «дух владычный» (Пс. 50:14) и сердце свое, поврежденное пороком, воссоздал вновь.
(III, 3) Говоря же о девстве, святой апостол дает предписание тем, кто избрал этот [путь], что жизнь их должна быть такова: «Дева печется о Господних, како угодити Господеви, да будет свята и телом и духом» (1 Кор. 7:24), имея в виду, что [следует] быть чистыми душой и плотью. И советует как можно дальше бежать всякого греха, явного или тайного, то есть Полностью воздерживаться от прегрешений как деятельных, так и в уме совершаемых. Ибо цель души, соблюдающей девство, — приблизиться к Богу и стать невестой Христовой. А желающему с кем–либо сблизиться следует подражанием усвоить нрав того, с кем он сближается. Так и [душе], стремящейся стать невестой Христовой, необходимо по возможности уподобляться красоте Христа. Ведь невозможно сочетаться со светом, не воссияв наподобие света. Слышал я и что говорит апостол Иоанн: «Всяк имеяй надежду свою нань, очищает себе, якоже Он чист есть» (1 Ин. 3:3). А апостол Павел [говорит]: «Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу» (1 Кор. 11:1). Душа, намеревающаяся возлететь к Божеству и прилепиться Христу, должна изгнать из себя всякий грех, какой явно отображается деянием, — я имею в виду как все виды прегрешений явных: воровство и хищничество, прелюбодеяние и любостя–жательность, и блуд, и болезнь языка, — так и те, которые, прячась в тайниках души и укрываясь от внешнего [взора], горько разъедают человека, злейшими [пользуясь] уловками. Таковы, например: зависть, неверие, злонравие, коварство, стремление к недозволенному, ненависть, бахвальство, тщеславие и весь потаенный рой пороков, которые, как и явный род грехов, Писание равно ненавидит и которыми гнушается. Все они друг другу сродни и от одного произрастают порока. Чьи кости «разсыпа» Господь? Не «человекоугодников» ли (Пс. 52:6)? Кем гнушается Господь как преступником и убийцей? Не мужем ли лживым и коварным? Ибо «мужа кровей и лстива гнушается Господь» (Пс. 5:7). Не явно ли Давид предает проклятию «глаголющих мир с ближними своими, злая же в сердцах своих» (Пс. 27:3), вопия к Богу: «Даждь им, Господи, по делом их» (Пс. 27:4)? «И в сердце беззаконие делаете на земли» (Пс. 57:3). Тайное движение греха Господь называет [греховным] деянием. Потому и заповедует Он не гоняться за похвалами от людей и не стыдиться бесчестья от них: ибо милующих бедного, но требующих воздаяния на земле Писание лишает награды на небесах (ср. Мф. 6:1). Ведь если ты ищешь угодить людям (ср. Гал. 1:10) и ради того даешь [милостыню], чтобы тебя хвалили, то мзда за благодеяние твое уже выплачена тебе похвалами от людей, чрез которых ты явил милость. Так не ищи же награды на небесах, оставив деяния на земле, и не жди чести от Бога, ведь ты уже получил ее от людей. Жаждешь бессмертной славы? Открой втайне жизнь свою Могущему дать то, чего ты жаждешь. Боишься вечного стыда? Бойся Того, Кто обнажит [дела постыдные] в день Судный. (III, 4) Но как же Господь говорит: «тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, иже на небесех» (Мф. 5:16)? Ибо Он повелевает последующему заповедям Божьим все, что бы он ни делал, делать, имея в виду Его одного и Ему единому угождать, не домогаясь никакой славы от людей, но бегая их похвал и тщеславия, показывая же всего себя жизнью и делами, чтобы зрители их, как сказал Господь, не «подивились старающемуся проявить себя», но — «прославили Отца вашего, иже на небесех». Ибо к Тому повелевает Он относить всякую славу и по воле Того совершать всякое дело, у Кого припасена и награда за добрые дела. Тебе же Он велит отвращаться от всякой молвы и земной известности. Кто ее ищет и к ней направляет [течение] жизни, не только лишается вечной славы, но пусть ожидает и наказания. Ибо Он говорит: «Горе, егда добре рекут вам ecu человеци» (Лк. 6:26). Беги же всякой человеческой почести, предел которой — вечный позор и бесчестие. Стремись к вышним похвалам, о чем говорит Давид: «от Тебе похвала моя» (Пс. 21:26), и: «о Господе похвалится душа моя» (Пс. 33:3). Блаженный же апостол даже тому, кто ест, велит вкушать предложенную пищу не с небрежением, но прежде воздавать хвалу Давшему средства к жизни. Так, навек повелевает он ни во что считать славу от людей, искать же только [славы] от Бога. И того, кто поступает так, Господь именует верным, желающего же чести здесь — причисляет к неверным: «како», — говорит Он, — «вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще, и славы, яже от единого Бога, не ищете?» (Ин. 5:44)
(III, 5) К неявным грехам принадлежит и ненависть. Послушай Иоанна, который говорит: «ненавидяй брата своего человекоубийца есть» ; и: «весте, яко всяк человекоубийца не иматъ живота вечного» (1 Ин. 3:15). Итак, того, кто ненавидит брата, извергает он из жизни, как человекоубийцу, точнее, вместо [слова] «убийство» он употребляет [слово] «ненависть». Тот же, кто любовь к ближнему утратил и загубил и вместо друга сделался врагом, с [полным] основанием может быть причтен [к убийцам], затем что [подобно] им против ближнего злоумышляет и вражду затаенную питает. А что нет никакого различия между сокрытыми внутри и явными, видимыми пороками, ясно показывает апостол, сводя их вместе и расценивая одинаково: «якоже не искусиша имети Бога в разуме, предаде их Бог в неискусен ум, творити неподобная, исполненных всякия неправды, блужения, лукавства, лихоимания, злобы, исполненных зависти, убийства, рвения, лети, злонравия: шепотники, клеветники, богомерзки, досадители, величавы, горды, обретатели злых, родителем непокоривы, неразумны, непримирительны, нелюбовны, неклятвохранительны, немилостивы. Нецыи же и оправдание Божие разумевше, яко таковая творящий достойни смерти суть» (Рим. 1:28–32).
Видишь, что апостол поставил злонравие, и гордость, и коварство, и прочие тайные пороки наряду с убийством и любостяжательностью и тому подобным? А что же восклицает Сам Господь, говоря: «еже есть в человецех высоко, мерзость есть пред Господом» (Лк. 16:15) и «всяк возносяйся, смирится и смиряйся, вознесется» (Лк. 14:21). Также и Премудрость гласит: «Нечист пред Богом всяк высокосердый» (Притч. 16:6). Многое и в других [книгах] Писаний можно найти во обличение тайных страстей души. (III, 6) Столь злы и неудобоисцелимы и такую силу имеют сокрытые в душе пороки, что одним человеческим старанием и добродетелью уничтожить и изгнать их невозможно, разве если кто, молитвой призвав в союзники силу Духа, не свергнет внутреннего тирана — порок, как тому научает Дух, устами Давида глаголя: «от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего» (Пс. 18:13—14).
Ибо из двух [частей] состоит единый человек, из души и тела; тело вне его, а жизнь души есть внутренняя. Возле одного следует, как возле храма Божьего, бодрствовать, чтобы какое–либо из явных прегрешений напав, не сокрушило и не осквернило его. Насчет этого высказывает угрозу и апостол, говоря: «Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог» (1 Кор. 13:17). Другую же, внутреннюю, должно охранять всею стражей, чтобы какой–нибудь отряд порока, возникнув откуда–то из глубины и растлив помысл (λογισμον) благочестия, не поработил душу, наполнив страстями, тайно ее разрушающими.
Итак, надо неколебимо стоять на страже, находясь при душе неотлучно, подобно полководцу, распоряжающемуся и призывающему: «Человече! «Всяцем хранением блюди твое сердце! От сих бо исходища живота» (Притч. 4:23)». (III, 7) Стража души — помысл (λογισμον) благочестия, страхом Божиим, и благодатью Духа, и делами добродетели укрепленный. Вооруживший этим свою душу, легко отразит нападения тирана — я имею в виду коварство, и похоть, и кичение, гнев и зависть, и сколько есть внутри лукавых движений порока. (III, 8) Ибо возделывателю добродетели нужно быть простым и твердым, умеющим взращивать только плоды благочестия, не отклоняться на жизненном [пути] на тропы порока и не отвращать от веры помысл благочестия, но быть, как бы [сказать], единообразным (μονοτροπον), прямым и неискушенным в страстях, лежащих вне его пути. Ведь невозможно, чтобы [жена], прожившая жизнь с одним мужем, и та, что прелюбодействовала в браке, ожидали одной жизненной мзды.
Не сопрягай, говорит блаженный Моисей, на гумне твоем животных разноплеменных вместе, как–то вола и осла, но единоплеменных запрягши, молоти жатву твою, и не соединяй в ткани одежды шерсти со льном (Втор. 22:10–11); не возделывай на поле земли твоей двух родов хлеба вместе и дважды в тот же год (Лев. 19:19); не совокупляй животное иного племени с другим для приплода (Втор. 22:9), но единоплеменных с единоплеменными сочетай.
(III, 9) Что значат для святого эти иносказания? Что не следует ни взращивать вместе в единой душе порок и добродетель, ни, разграничив жизнь на противоположности, одновременно собирать с одной и той же души урожай терний и хлеба, [и что] невесте Христовой [не следует] блудить с врагами и, свет выносив во чреве, родить тьму. По естеству не может это совмещаться, как и добродетели виды с видами порока. Ибо какая дружба может быть между целомудрием и невоздержанием? Какое между правдой и неправдой единомыслие? «Кое общение свету ко тьме» (2 Кор. 6:14)? Не всегда ли чуждое сторонится чуждого и не желает сопребывать с враждебным? И так мудрый земледелец должен как бы из годного для питья и благого источника направлять чистые струи жизни, в которых нет никакой грязи, зная одно земледелание Божье и над ним трудясь всю жизнь, дабы, если и прорастет в тайнике добродетели какой–либо чуждый помысл, Всевидящий, видя твои труды, Своею силою в скорости истребил коварный тот и сокрытый корень помыслов (λογισμων) прежде, нежели [они начнут] произрастать. Ибо тому, кто усердствует в трудах добродетели, вскоре приходит на помощь благодать Духа, уничтожающая семена порока. Ведь не может обмануться в надежде или остаться без отмщения тот, кто постоянно обращается к Богу.
(III, 10) Ты помнишь евангельскую вдовицу, которую привела к нечеловеколюбивому судье, конечно, великая обида, но она, победив нрав судьи многими трудами и постоянством в прошении, добилась отмщения своему обидчику (Лк. 18:2–9)? Так и ты, молясь, не получишь отказа. Если ее неотступность в прошении склонила немилостивого начальника, то как можем мы отказываться от усердия по Боге, чья милость нередко может предварять прошение? Ведь и Сам Господь, одобряя наше прилежание к молитве и побуждая быть усердными: «Смотрите, — говорит, — что говорит неправедный судья. Насколько же больше сделает Отец ваш небесный во «отмщение вопиющих к Нему день и нощь!» Истинно «глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре» (Лк. 18:6—8)».
(III, 11) И апостол, пекущийся и радеющий о том, чтобы ученики благочестия достигли совершенного преуспеяния, говорит, утверждая, что цель истины ясна всем: «наказующе всякого человека, и учаще всякой премудрости, да представим всякого человека совершенна о Христе, в Немже и труждаюся и подвизаюся» (Кол. 1:28–29). И еще, удостоившимся [восприять] печать Духа чрез крещение [молитвенно] желает «поданием Духа» (Флп. 1:19) получить приращение в мысленном возрасте, говоря: «Сего ради и аз, слышав вашу веру и любовь», какую вы имеете «ко всем святым, не престаю» молиться «о вас» и просить, «да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, да даст вам Духа премудрости и откровения в познание Его, просвещенна очеса сердца вашего, яко уведети вам кое есть упование звания Его и кое богатство славы достояния Его во святых и кое преспеющее величество силы Его в нас верующих» (Еф. 1:15—19). (III, 12) И затем говорит, [каким] образом причаститься Духа. «По действу» силы «Его, юже содея о Христе, воскресив Его от мертвых» (Еф. 1:19—20). Он ясно говорит о приобщении Духа и действии Его в тех, кто Его причастился, «чтобы и вы таким же образом приняли Его извещение». Затем, чуть ниже в том же письме он [молитвенно] призывает на них нечто большее, желая, чтобы на них снизошла совершеннейшая сила Духа: «Сего ради преклоняю колена моя ко Отцу Господа нашего Иисуса Христа, из Негоже всяко отечество на небеси и на земли именуется. Да даст вам по богатству славы Своея, силою утвердитися Духом Его во внутреннем человеце. Вселитися Христу верою в сердца ваша, в любви вкоренени и основани. Да возможете разумети со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота. Разумети же преспеющую разум любовь Христову, да исполнитеся во всяко исполнение Божие» (Еф. 3:14—19).
(III, 13) О том же он говорит ученикам и в другом письме, открывая им сокровище Духа и призывая приобщиться: Ревнуйте, — говорит он, — «дарований» духовных; «и еще по превосхождению путь вам показую. Аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых яко медь звенящи, или кимвал звяцаяй. И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, любве оке не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя и аще предам тело мое во еже сжещи е, любве же не имам, никая польза мне есть» (1 Кор. 12:31; 13:1). А в чем состоит польза любви, и в чем ее плоды, от чего она удаляет имеющего ее и что [ему] дает, он ясно показывает в таких словах: «любы не завидит; любы не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине; вся покрывает, всему веру емлет, всяуповает, вся терпит;любы николиже отпадает» (1 Кор. 13:4—9). Совершенно ясно и точно: «николиже», — говорит он — «любы отпадает». Что же это значит? Если кто, хотя бы и получил другие дарования, какие сообщает Дух (я имею в виду языки ангельские, пророчество, знание и дарования исцелений), но начисто любовью Духа еще не освободился от страстей, изнутри досаждающих, и не принял совершенного врачевства спасения — тот находится еще в опасности падения, не имея любви, укрепляющей и утверждающей в постоянстве добродетели.
(III, 14) Так не довольствуйся же [перечисленными] дарованиями Духа, думая, что по богатой и щедрой Его благодати ты уже не в чем не нуждаешься для совершенства. Но когда низойдет к тебе оное богатство дара, тогда будь нищ мыслью, всегда преклоняясь [пред величием Божиим], и ожидая для души любви — как бы какого основания для сокровищницы благодати, (IV, 1) и подвизаясь против всякой страсти, пока не достигнешь цели благочестия, — в чем преуспел сам апостол и [к чему] учеников побуждает, молитвой и научением показывая любящим Господа и благодать, и пременение к лучшему, под действием любви [совершаемое], говоря: «ни обрезание что может, ни необрезание, но нова тварь. И елицы правилом сим жительствуют, мир на них и милость, и на Исраили Божии» (Гал. 6:15—16). И опять: «аще кто во Христе нова тварь: древняя мимоидоша» (2 Кор. 5:17). «Новая тварь» есть апостольское правило. А в чем оно состоит, он сам ясно показал в другом месте, сказав: Да представлю сам себе «Церковь славну, не имущу скверны или порока, или нечто от таковых, но да будет свята и непорочна» (Еф. 5:27). «Новою тварью» он назвал вселение Святого Духа в душе чистой и непорочной, свободной от всякого зла, лукавства и всего постыдного. Ибо когда душа возненавидит грех, станет близка Богу по силе, ведя себя добродетельно, и примет в себя благодать Духа, претворив ее в жизнь, тогда она станет всецело новой и воссозданной. И [слова апостола]: «очистите ветхий квас, да будете ново смешение» ; и: «да празднуем не в квасе ветсе, но в безквасиих чистоты и истины» (1 Кор. 5:7:8) показывают это. (IV, 2) Много сетей ставит душе искуситель, всеми путями навязывая ей свое зло, человеческая же сила сама по себе недостаточна для победы над ним. Поэтому апостол и повелевает нам вооружиться небесным оружием, бронею правды, говоря: «облецытеся», и «обуйте нозе во уготование мира», и препояшьте «чресла истиною; над всеми оке восприимше щит веры», — при помощи которого, говорит, — «возможете вся стрелы лукавагоразженныя угасити» (Еф. 6:14—16). «Стрелы же разжженные» суть необузданные страсти. Повелевает также восприять и «шлем спасения», и святой «меч Духа» (Еф. 6:17). Мечом же именует слово в силе Божией, коим вооружив десницу души, должно сокрушать козни врага.
(IV, 3) А как нам восприять оружие это, узнай от того же апостола, который говорит: «всякою молитвою и молением молящеся на всяко время духом, и в сие истое бдяще во всяком терпении и молитве» (Еф. 6:18). Отчего и желает всем так: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога, и общение Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13). И еще: «всесовершен ваш дух и душа и тело непорочно да сохранится» в день «Господа нашего Иисуса Христа» (1 Сол. 5:23). Видишь, сколько способов спасения, выводящих на один путь и направленных к одной цели — быть совершенным христианином, — указал он тебе. Это рубеж, которого ревнители истины должны достичь при помощи крепкой веры и незыблемой надежды, продвигаясь посреди наслаждений с готовностью подвизаться. С верой и надеждой легко совершается жизненное восхождение к вершине заповедей Божиих, на которых зиждутся закон и все пророки. Какие заповеди я имею в виду? «Возлюбиши Господа Бога Твоего от всего сердца твоего и от всея души твоея и от всего помышления твоего… и ближняго своего яко сам себе» (Мк. 12:30; Мф. 22:37—40).
(V, 1) Такова цель благочестия, которую и Сам Господь, и апостолы, от Него восприявшие знание о ней, передали нам. Но если мы распространили [наше] слово более подробным изложением, заботясь скорее о том, чтобы [в полноте] представить истину, чем о том, чтобы сделать свою речь сжатой, никто да не ропщет. Ибо научившимся истинно любомудрствовать и освобождающим свои души от скверны порока следует точно знать цель любомудрия, чтобы, познав труд путешествия и предел поприща, (V, 2) отринуть самонадеянность и не мнить высоко о своих успехах, но, отрекшись от своей души вместе с жизнью, согласно заповеди Писания, взирать на единое богатство, которое как награду за любовь во Христе даровал Бог любящим [Его], призывая [добиваться] ее всех, кто с решимостью вступил в состязание. В качестве же дорожной сумы [пустившимся в это] жизненное путешествие дается крест Христов. Неся его с радостью и надеждой на лучшее, они должны следовать за Спасителем Богом, соделав Его домостроительство законом и путем жизни, как говорит тот же апостол: «Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу» (1 Кор. 11:1), и еще: «терпением да течем на предлежащий нам подвиг: взирающе на начальника веры и совершителя Иисуса» (Евр. 12:1), Который вместо предназначенной Ему радости претерпел крест и, презрев позор, воссел одесную престола Божия. (V, 3) Ибо опасно прежде достижения чаемой цели, дарованиями Духа превознесшись, какие–либо заслуги добродетели сделать поводом к самомнению и гордости и выбиться из колеи, самонадеянностью сведя на нет проделанный ранее труд и оказавшись недостойными того совершенства, к которому влекла нас благодать Духа.
Итак, никоим образом не следует ни ослаблять напряжение труда и ни оставлять ранее начатых подвигов, ни оглядываться на прошлые [заслуги], если что–то было совершено ревностно, но обо всем этом забыть и только вперед простираться, следуя апостолу (ср. Флп. 3:13–14), и «сокрушать сердце» (Пс. 50:19) мыслями о трудах, имея ненасыщаемое вожделение правды. Ее одной алкать и жаждать пристало ищущим совершенства, [а еще — быть] смиренными и страшиться, что окажемся вдали от обетованных [благ] и в удалении от совершенной любви Христовой. (V, 4) Ее жаждущий (ερων) и к вышнему устремляющийся призванию, ни постясь, ни бодрствуя, ни иное какое [деяние] добродетели ревностно исполняя, не станет довольствоваться прежними заслугами. Но он полон божественного рвения и неослабно устремлен к Зовущему; а все, что уже совершил, считает малым и недостойным награды. Он [пребывает] в готовности к битве вплоть до окончания этой жизни, присовокупляя к трудам труды и к добродетелям — добродетели, пока делами [своими] не заслужит у Бога чести, притом что сам своею совестью не считает, что соделал себя достойным Бога. (V, 5) Ведь в том и состоит главнейшая заслуга (κατορθωμα) любомудрия, чтобы [подвижник], будучи велик, смирялся сердцем и осуждал свою жизнь, страхом Божиим отринув помышление, что вкусит обетования в той мере, в какой, уверовав, возжелал его, а не в той, в какой заслужил трудами. Ведь притом, сколь велики дары, невозможно найти трудов, им соответствующих. Но нужны великая вера и надежда, чтобы ими, а не трудами измерялось воздаяние. Основание (υποστασις) же веры — «нищета» духовная (ср. Мф. 5:3) и к Богу неизмеримая любовь.
(VI, 1) Думаю, что для решившихся жить по правилам любомудрия в надежде достижения цели сказано достаточно. К сказанному же, наконец, должно прибавить наставление и о том, как им следует соблюдать [правила] общежития, какие труды предпочитать, как сообща подвизаться, пока не достигнут горнего града. (VI, 2) Итак, искренно презревший все ценимое в этой жизни, отрекшийся от сродников (ср. Лк. 14:26), отрекшийся и от всякой дольней славы, жаждущий небесной почести и духовно соединяющийся с братьями по Богу должен вместе с жизнью отречься и от собственной души. (VI, 3) Отречение же от души состоит в том, чтобы никак не искать угождения своей воле, но в собственную волю претворять стоящее над ней слово Божие и ему подчиняться как благому кормчему, который совокупный сонм братии единодушно устремляет к пристани божественной воли. Собственности же не следует иметь никакой и ничего не считать своим, а только общим, исключая одежды, прикрывающей тело. Ведь если [подвижник] ничего этого не будет иметь, то он совлечет с себя и попечение о собственной жизни, но будет служить общей потребности, исполняя приказания предстоятелей усердно, с удовольствием и надеждой, как простой и разумный раб Христов, купленный для служения всей братии. (VI, 4) Этого хочет и [к этому] призывает и Господь, говоря: кто хочет быть между вами первым и великим, «да будет всем меньший и всем раб» (Мк. 9:34).
Служение же это должно быть безмездным у людей и не приносящим никакой чести или славы состоящему в должности слуги, чтобы он, вопреки заповеди, не сделался «человекоугодником» (Еф. 6:6), изображая [лишь] видимую услужливость, и [чтобы он] угождал не людям, но служил словно бы Самому Господу, идя «тесным путем» (Мф. 7:14), на котором он с готовностью подставил выю Его «игу» (Мф. 11:30) и несет [это иго] постоянно, до конца, с удовольствием и благим упованием. Итак, должно подчиняться всем и служить братии, как [служит] заложивший себя должник, возложив на [свою] душу заботы о всех и оказывая должную любовь (ср. Рим. 13:8). (VI, 5) А предстоятели духовного этого лика, осознавая великость лежащей на них заботы и силу зла, замышляющего ковы против веры, должны достойно нести подвиг настоятельства и не надмеваться властью. Ибо здесь [велика] опасность, что некоторые, возомнив, что [их дело] — направлять других к жизни небесной, мыслью [этой] незаметно погубят самих себя. Ибо в настоятельстве предстоятели должны больше других труда прилагать, начальники — смиреннее других о себе помышлять и жизнь свою как образец служения братии представлять, почитая залогом Божиим тех, кто им вверен.
(VI, 6) Если так будут поступать правящие этим сонмом священного служения, пред людьми — для каждого находя поучение согласно его потребности, дабы каждого соблюсти в подобающем чине, пред собой же, в помышлениях, храня смиренномудрие в вере, подобно благоразумным рабам, — такой жизнью они уготовляют себе великую награду. Итак, пекитесь о них, как умелые пестуны — о нежных детях, вверенных их отцами. (VI, 7) Те, наблюдая нравы детей, на одного воздействуют [телесным] наказанием, на другого внушением, на кого похвалой, на кого — чем–нибудь еще в том же роде, не делая ничего ни в угоду, ни назло им, но [лишь то], что нужно по делу и чего требует нрав [каждого] ребенка, чтобы стать им благочестивыми <ревнителями> этого [образа] жизни. [Так] и вам следует, отложив всякое раздражение против братии и всякую самонадеянность, приспосабливать слово [поучения] к силе и умонастроению каждого. Одному «запрети», другого «умоли» (ср. 2 Тим. 4:2), третьего вразуми, подобно опытному врачу находя каждому нужное лекарство. Ведь тот, наблюдая недуг, одному назначает легкое, другому — более действенное средство, ни на кого из требующих лечения не сердясь, но приспосабливая [свое] искусство к <душам> и телам. Так и ты следуй надобности дела, чтобы, дав прекрасное воспитание душе доверившегося тебе ученика, вручить ее, сияющую добродетелью, Отцу, как достойную наследницу Его дара.
(VI, 8) Если так будете относиться друг к другу, настоятели и те, кто смотрит на них, как на наставников, те с радостью доверяя приказаниям, а эти с удовольствием руководствуя братьев к совершенству, и если в почтительности станете предупреждать друг друга (Рим. 12:10), то на земле будете жить жизнью ангельской. И пусть никто из вас не надмевается, но да правят [всем] сонмом простота, единодушие и бесхитростное расположение. Пусть каждый убедит себя, что он ничтожнее не только брата, живущего с ним, но и всякого человека; ибо сознавая это, он будет подлинно учеником Христовым. «Яко всяк возносяйся смирится», — как говорит Спаситель, — «и смиряйся вознесется» (Мф. 23:12; Лк. 14:11). И еще: «Аще кто хощет старей быти, да будет всех меньший и всем слуга» (Мк. 9:35). «Якоже Сын человеческий не прииде, да послужат Ему, но послужити, и дати душу Свою избавление за многих» (Мф. 20:28:Мк. 9:35). И апостол: «Не себе бо проповедаем, но Господа Иисуса Христа, себе же самех рабов вам Иисуса ради» (2 Кор. 4:5). (VII, 1) Итак, зная смирения плоды и вред гордости, подражайте Владыке, любя друг друга, друг с другом и ради блага не страшась ни смерти, ни какого другого наказания. Но какой дорогой шествовал среди нас Бог, той и Вы, к Нему устремляясь, единым телом и душой единой теките к «вышнему званию» (Флп. 3:14), любя Бога и друг друга. (VII, 2) Ибо любовь и страх Господень есть первое исполнение закона.
Итак, каждый из вас должен утвердить в своей душе, как твердое некое и незыблемое основание, страх [Божий] и любовь, и его орошать благими делами и непрестанной молитвой. Ведь, как правило, не просто и не самопроизвольно зарождается в нас любовь к Богу, но многими трудами и великими заботами, и при содействии Христовом, как говорит Премудрость: «аще взыщеши ея яко сребра и якоже сокровища испытавши ю: тогда уразумееши страх Господень и познание Божие обрящеши» (Притч. 2:4–5). А обретши «познание Божие», с ним вместе легко постигнешь и страх и преуспеешь в том, что за ним следует — я имею в виду любовь к ближнему. (VII, 3) Ибо когда трудом приобретено первое и великое, второе, как меньшее, следует за первым. Если же нет главного, то и другое не возникнет в чистоте. Ведь не возлюбивший Бога «всем сердцем и всем помышлением» (Мк. 12:30:Мф. 22:37–40:Втор. 6:5) как может искренно и без обмана печься о том, чтобы любить братьев, не исполнив той любви, чрез которую возникает попечение и об этом? (VII, 4) А изобретатель зла, нашедши кого–либо не всецело предавшим душу Богу и не вполне отверзшим ее для любви к Нему, овладевает им, с легкостью обольщая лукавыми помыслами (λογισμοις), то трудными представляя заповеди Писания и тягостным — служение братьям, то надмевая высокомерием и гордостью по причине самого служения соработникам и убеждая [подвижника], что он уже исполнил заповеди Господни и будет велик на небесах. А это немалый проступок. Ибо раб благоразумный и ревностный должен предоставить владыке судить о [своем] благоразумии, а не самому вместо владыки становиться благосклонным судьей собственного жития. (VII, 5) Ведь если он сам сделается судьей, истинного [Судию] отвергнув, то не получит от Него и мзды, взамен Его решения удовольствовавшись похвалами самому себе и [собственным] мнением. Ведь, по слову апостола Павла, нужно, чтобы Дух «спослушествовал духови нашему» (Рим. 8:16), а не чтобы наш суд наши [же деяния] одобрял. «Не хваляй бо себе», — говорит он, — «сей есть искусен, но егоже Бог восхваляет» (2 Кор. 10:18). Не ожидающий решения от Господа, но упреждающий суд Его, попадает [во власть] человеческих мнений, выторговывая себе похвалы от братии и творя [дела, свойственные] неверным. Ибо кто гонится за человеческими почестями, вместо небесных, тот есть неверный, как говорит где–то Сам Господь: «како вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще, и славы, яже от единаго Бога, не ищуще» (Ин. 5:44)? Кому они, как мне представляется, подобны? Не тем ли, кто очищает «внешнее сткляницы и блюда» (Мф. 23:25), внутри же полны всяческого зла? Смотрите, как бы и вам не услышать о себе нечто подобное, но, возводя души горе и одну имея заботу: дабы угодить Господу, дабы никогда не терять памятования о небесном (VII, 6) и не принимать почестей этой жизни — так и вы шествуйте, разумно сокрывая подвиги добродетели, чтобы не дать лазейки тому, кто подбрасывает [вам] земные почести и, так завладев вашим умом, уводит его от истинного делания к вещам пустым и полным прельщения. Ведь, если он не найдет удобного случая и лазейки, [чтобы проникнуть] в души, горняя взыскующие, — он, [считайте], погиб и лежит мертвый. Ибо бездейственность зла и [его] упразднение есть смерть дьявола. Итак, если вам присуща любовь Божия, то необходимо, чтобы за нею следовало и прочее: и братолюбие, кротость, нелицемерие, постоянство и тщание в молитвах, и, вообще, все добродетели.
(VII, 7) Поскольку же сокровище велико, то велики должны быть и труды для приобретения его, предпринимаемые не напоказ людям, но для угождения Господу, ведающему тайное. На Него всегда должно взирать, а тайники души — испытывать и укреплять благочестивыми помыслами, чтобы противник не нашел ни лазейки, ни простора для кознодейства, [а также и] ослабевшие сочленения души [надо] упражнять и вводить в познание добра и зла (ср. Быт. 2:9). [А как] их упражнять, знает Богу <последующий> ум, сплачивающий и направляющий к Нему вместе с собою всю душу, при помощи любви к Богу, тайных помышлений добродетели и деяний по заповеди врачуя пораженные [части] и соединяя [их] со здоровыми. (VII, 8) Поскольку же одна есть стража и одно врачевство души: ревностно памятовать о Боге и держаться благих мыслей — да не ослабеем мы в этом усердии. Едим ли мы или пьем, отдыхаем, делаем ли что или говорим — пусть все, что в нас, сливается во единую славу Богу, а не в нашу собственную, и пусть жизнь наша не имеет ни пятна, ни порока от злоумышлении лукавого.
Для любящих же Бога труд исполнения заповедей легок и приятен, затем что любовь к Нему делает для нас подвиг нетрудным и любезным. (VII, 9) Поэтому и лукавый всеми способами старается изгнать из наших душ страх Господень и разрушить любовь к Нему, орудуя при помощи недозволенных удовольствий и соблазнительной наживки, чтобы, захватив душу совлекшей [с себя] духовную броню и незащищенной, погубить наши труды и подменить небесную славу — земной, а истинные блага — теми, какие представляются воображению обольщаемых. Он ведь ловко умеет, если найдет стражей беспечными, улучить время, вторгнуться в труды добродетели и всеять в пшеницу свои плевелы: я имею в виду злословие, и гордость, и тщеславие, и желание почести, и раздор, и прочие порождения зла. Итак, нужно бодрствовать и отовсюду наблюдать за врагом, чтобы, если он по своему бесстыдству и устроит какой–либо ков, сокрушить его, прежде чем он коснется души.
(VII, 10) Помните также постоянно и то, что Авель принес Богу жертву от первородных овец и от тука, а Каин — от плодов земных, но не от первых плодов: «и призре Бог» на жертвы Авеля, на дары же Каина «не внят» (Быт. 4:3–5). В чем [поучительный] смысл этого повествования? Из него можно узнать, что Богу благоугодно все совершаемое со страхом и верою, а не то, что хотя и многоценно, но без любви. Ибо и Авраам не иначе приял благословение от Мелхиседека, как принесши священнику Божию начатки и лучшее (Быт. 14:19–20; Евр. 7:4). (VII, 11) Под лучшей же и избранной частью он подразумевает самую душу и ум, повелевая нам, не скупясь, приносить Богу в жертву хвалы и молитвы и не предлагать Владыке что ни попадя, но посвящать Ему все, что есть лучшего в душе, или, точнее, всю ее всецело принести [Богу] со всею любовью и готовностью, чтобы, всегда питаемые благодатью Духа и силой Христовой укрепляемые, легко проходили мы спасительное поприще, совершая праведные подвиги без натуги и с удовольствием, чтобы Сам Бог содействовал нам в прилежании к трудам и [Сам] чрез нас вершил деяния правды.
(VIII, 1) Но об этом довольно. А какую из частных добродетелей почитать совершеннейшей и достойной заботы прежде прочих, какую второй и какие далее по порядку, сказать нельзя. Ведь они равночестны между собой и сообща возводят обладающих ими на высоту совершенства. Ибо простота отсылает к послушанию, послушание — к вере, вера — к надежде, а надежда — к правде; последняя — к служению, а оно — к смирению; смирением объемлется кротость, которая ведет к радости; радость же — к любви, а любовь — к молитве; и так они, завися друг от друга и поставляя в зависимость от себя обладающего ими, возводят его на самую вершину желаемого. (VIII, 2) Так же, в свою очередь, и зло свойственными ему средствами низводит своих друзей до крайней порочности. (VIII, 3) Но более всего должно нам прилежать к молитве, ибо она есть как бы некая предводительница хора добродетелей. Чрез нее мы испрашиваем и все остальные добродетели у Бога, с Которым прилежный к молитве входит в общение и соединяется посредством таинственной святости, и духовного действия, и неизреченного расположения. А с этих пор приявший Духа в качестве вожатого и союзника возгорается любовью (αγαπη) ко Господу и пламенеет желанием (ποθω), не находя насыщения в молитве, но всегда распаляется рвением (tov ершта) ко благу и укрепляет душу решимостью, как «сказано: ядущии мя еще взалчут, и пиющии мя еще вжаждутся» (Сир. 24:23); и в другом месте: «дал ecu веселие в сердце моем» (Пс. 4:8); и Господь говорит: «царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). (VIII. 4) Что же Он имеет в виду, [говоря], что царствие Божие внутри нас? Что, как не веселие (ευφροσυνη) свыше, рождающееся в душах от Духа? Оно есть как бы образ, и залог, и знамение вышней радости (της χαρας), которой вкусят души в чаемом [нами] веке. Итак, чрез действие Духа Господь утешает нас во всякой скорби нашей, чтобы спасти [нас] и сообщить нам духовные блага и Свои дары. «Утешаяй нас во всякой скорби нашей, яко возмощи нам утешити сущия во всякой скорби» (2 Кор. 1:4). И: «сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе» (Пс. 83:3). И: «яко от тука и масти да исполнится душа моя» (Пс. 62:6). Все это прикровенно обозначает веселие духовное и утешение.
(IX, 1) Итак, поскольку показано, в чем состоит цель благочестия, которую должны иметь пред [очами своими] избравшие боголюбивую жизнь, что она есть очищение души и вселение Духа чрез преуспеяние в добрых делах, то каждый из вас, настроив душу названным образом и исполнив ее божественной любви (ερωτος), (IX, 2) пусть по доброй воле посвятит себя молитвам и постам, помня увещание: «непрестанно молитесь» (1 Сол. 5:17) и «в молитве пребывающе» (Рим. 12:12; Кол. 4:2) и во обетовании Господнем, где Он говорит: тем более несомненно, что Бог «сотворит отмщение вопиющих к нему день и нощь» (Лк. 18:6–7). «Глаголаше же и притчу», — говорит Он, — «како подобает всегда мрлитися и не стужати си» (Лк. 18:1). А что тщательность в молитве много нам дарует и [что] даже Сам Дух поселяется в душах, ясно показывает апостол в словах, которыми побуждает нас: «всякою молитвою и молением молящеся на всяко время духом, и в сие истое бдяще во всяком терпении и молитве» (Еф. 6:18). Так что если кто из братьев отдает себя этому виду добродетелей, я имею в виду молитве, [то] он лелеет доброе сокровище и стремится к великому стяжанию. (IX, 3) Только каждый пусть делает это внимательной и правой совестью, никак не блуждая мыслью по произволу и воздавая молитву не как необходимый, подневольный долг, но насыщая ею любовь (ερωτα) и желание души и являя всем добрые плоды терпения. Следует и всем остальным уделять время этому [виду подвига] и радоваться общему усердию (παραμονη) к молитве, чтобы и они получили часть добрых плодов, затем что в совместной радости они становятся общниками такой жизни. (IX, 4) Но и Сам Господь внушит просящим, как молиться, по сказанному: «даяй молитву молящемуся» (1 Цар. 2:8). Итак, прилежный к молитве должен просить и знать, что в столь важном деле он с большим рвением и усилием должен выдержать тяжкую борьбу. (IX, 5) Ибо великие награды и трудов требуют великих, поскольку с особенной силой строит козни против таких [подвижников] злоба, отовсюду стараясь сокрушить [их] рвение. Отсюда сонливость и отяжеление в теле и души расслабление, уныние, небрежение и нетерпение, и все прочие <страсти и> внушения злобы, какие губят душу, терзаемую на части и [добровольно] переходящую на сторону своего врага. Итак, должно, чтобы душою, как мудрый кормчий, управлял разум (λογισμος), никоим образом не позволяя мысли (διανοια) [откликаться] на волнения, [навеваемые] лукавым духом, и не носясь по [всем] его волнам, но прямо устремляясь к горней пристани и возвращая душу неповрежденной вверившему и требующему ее Богу. (IX, 6) Ведь прилежание в Писании и угождение [Богу] не в том, чтобы падать на колени и повергаться ниц по образу тех, кто молится, распростершись, в то время как мысль блуждает вдали от Бога, а в том, чтобы изгнать всяческое кружение помыслов и все неправедные мысли и вместе с телом и душу предать молитвам.
(IX, 7) Также и предстоятели должны приходить на помощь молящемуся, со всякой ревностью и увещанием взращивая в нем любовь к предлежащему ему делу и старательно очищая его душу. (IX, 8) Ибо у молящихся так плод добродетелей, явный для пребывающих с ними в общении, приносит пользу не только [самому] преуспевающему, но [тем, кто еще как бы] младенцы и нуждаются в наставлении, призывая и побуждая их к подражанию тому, что видят. Плод же искренней молитвы: простота, любовь, смиренномудрие, терпение, незлобие и тому подобное; все это и прежде принесения вечных плодов здесь произращивает труд ревностного в молитве. (IX, 9). Таковыми плодами украшается молитва; если их нет, то напрасен ее труд.
И не одна только молитва, но и всякий путь любомудрия, ведущий к такому возрастанию, есть подлинно путь правды и ведет к прямой цели. (IX, 10) Лишенный же этого остается при одном пустом имени и подобен «юродивым девам» брачного чертога, у которых в решающий миг не оказалось елея (Мф. 25:1). Ибо в душах у них не было света, плода добродетели, а в мыслях — светильника Духа. Отчего Писание правильно называет их «юродивыми», ибо добродетель в них угасла прежде, нежели пришел Жених, и поэтому затворились перед несчастными [двери] горнего чертога. Оттого же, что не обрелось в них действия Духа, не зачлась им и ревность о девстве, и совершенно справедливо. (IX, 11) Ибо какая польза от трудом взращенной виноградной лозы, если нет на ней плодов, ради которых земледелец понес труд? Какая выгода от поста, и молитвы, и бдения, если нет мира, и радости, и любви, и прочих плодов благодати Духа (ср. Гал. 5:22), какие перечисляет святой апостол? Ведь ревнитель вышней радости труждается ради них, ими он привлекает на себя Дух, и, приобщившись горней благодати, получает плод, и в веселии наслаждается [дарами] земледелания, которые возделала в нем благодать Духа чрез смиренномудрие и радение о трудах.
(IX, 12) Итак, должно, чтобы труды молитвы, и поста, и прочих дел совершались большим удовольствием, любовью и надеждой; цветы же и плоды трудов прозрастают, как должно веровать, от действия Духа. Если же кто усвоит их самому себе и припишет все своим трудам, то у такого, вместо нетленных тех плодов произрастут бахвальство и гордыня, а эти страсти, будто какая зараза, вкореняясь в душах нестойких, губят и сводят на нет [сами] труды.
Так что же делать живущему для Бога и надеющемуся на Него? Подвиги ради добродетели — нести с удовольствием, а избавление души от страстей, и восхождение к вершине добродетелей, и чаяние совершенства — предоставлять Ему и вверять Его человеколюбию. Так приготовившись и вкусив той благодати, на которую он уповал, [подвижник] шествует легко, презирая козни врага, которому он чужд, и от страстей, им [насылаемых], избавлен благодатью Христовой. (IX, 13) Ведь как те, кто чрез пренебрежение благом прививает своему естеству злые страсти и, срастаясь с ними, радостно и легко приносит плод любостяжания, зависти, блуда и прочих видов богопротивного зла — как будто они прирождены нашему естеству, — так и служители Христа и истины за веру и труды добродетели от благодати Духа получая блага, естество превосходящие, с неизреченной радостью и легкостью приносят плод искренней и непреложной любви, неизменной веры, незыблемого мира, истинной благости и всего остального, благодаря чему душа, став превыше самой себя и сильнее злобы врага, уготовляет себя чистым жилищем поклоняемому и Святому Духу, от Него же прияв бессмертный мир Христов, им соединяется с Господом и прилепляется Ему. Прияв же благодать Духа и прилепившись Господу, став с Ним единым духом (ср. 1 Кор. 6:17), (IX, 14) [душа] не только легко совершает дела добродетели, совсем не тратя сил на борьбу с врагом, — затем, что стала сильнее его злого умысла, но и, что всего важнее, сама восприемлет Страсти Спасителя и радуется им более, нежели охотники до [удовольствий] здешней жизни — почестям от людей, славе и могуществу. Ибо христианину, чрез благое житие и дарование Духа пришедшему в меру мысленного возраста (ср. Еф. 4:13) данной ему благодати, слава и нега и лучший вид наслаждения — быть ненавидимым Христа ради, быть гонимым, сносить всяческое поношение и оскорбление ради веры в Бога. Ведь если все упование его — на Воскресение и чаемые блага, то всякое поношение, и язвы, и гонения, и прочие страдания вплоть до креста — это нега, и упокоение, и залог небесных сокровищ. (IX, 15) Ибо «блаженны есте», — говорит [Господь], — «егда поносят вас и ижденут» все люди, «и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех» (Мф. 5:11—12). А апостол: «не точию же, но и хвалимся в скорбех» (Рим. 5:3). И в другом месте: «сладце убо похвалюся паче в немощех моих, да вселится в мя сила Христова. Темже благоволю в немощех, в досаждениях, в бедах, в поношениях, в заключениях. Егда бо немощствую, тогда силен есмь» (2 Кор. 12:9—10). И еще: «якоже Божии слуги, в терпении мнозе» (2 Кор. 6:4). (IX, 16) Ведь это благодать Святого Духа, объемля всю душу и наполнив жилище [свое] веселием и силой, делает сладостными для души Страсти Господни, упованием будущих [благ] истребляя чувствительность к претерпеваемой муке.
Так и вы, готовясь при содействии Духа взойти к вышней силе и славе, подвизайтесь, совершая всякий труд и подвиг с радостью, дабы показать себя достойными пребывания в вас Духа и наследования со Христом, (IX, 17) не ослабевая и не расслабляясь в небрежении, чтобы ни самим не упасть, ни других не ввести во грех. (X, 1) Если же некоторые, еще не имея ни напряженности совершенной молитвы, ни необходимой для [ее] делания старательности и силы, лишены этой добродетели, то пусть исполняют послушание в ином роде, по силам: служа другим усердно, работая тщательно, помогая с удовольствием, не за награждение почестями и не ради славы человеческой, не оставляя трудов от расслабления и небрежения, служа другим не как чужим телам и душам, но как рабам Христовым, как кровным нашим, чтобы чистым и без обмана явилось пред Господом дело ваше. (X, 2) И никто пусть не извиняет себя бессилием для подвига добродетели; ибо Господь не повелевает ничего невозможного рабам [Своим], но Сам выказал столь щедрую и богатую ко всем любовь и благость Своей божественности, что каждому по желанию [его] предоставил возможность сделать нечто благое, так что никто из имеющих усердие ко спасению [этой] возможностью не обделен. (X, 3) «Иже аще», — говорит Он, — «напоит чашею студены воды токмо во имя ученика, аминь глаголю вам, не погубит мзды своея» (Мф. 10:42).
Что сильнее этой заповеди? За «чашу студены [воды]» небесная полагается награда. Помысли только, какова безмерность человеколюбия! «Понеже единому сих сотвористе», — говорит, — «Мне сотвористе» (Мф. 25:40). Заповедь мала, а польза от послушания велика и от Бога щедро подается. Так что ничего не требует Он сверх силы, но малое ли, великое ли соделаешь, последует тебе награда (ср. Мф. 10:42), согласно твоему произволению. (X, 4) Ибо если станешь творить добрые дела во имя Божие и по страху Божию, получишь дар неотъемлемый и блистательный; а если напоказ и ради <славы человеческой>, то послушай Господа, с клятвою утверждающего: «аминь, глаголю вам, восприемлет мзду свою» (Мф. 6:2). А чтобы кто не испытал этого, заповедует ученикам, а чрез них — нам: «внемлите», не творите милостыни вашей, или молитвы, или поста «пред человеки; аще ли же ни, мзды не имате от Отца вашего, иже есть на небесех» (Мф. 6:1—9). Так повелевает Он отвращаться от <смертных этих>, и смертными воздаваемых похвал, и преходящей и от нас ускользающей славы, стремиться же только к той, чьей ни красы не описать, ни предела не сыскать. Ею же и мы возможем прославить Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
К Армонию о том, что значит звание «христианин»
Что делают в отношении начальствующих те, кто облагается ежедневной податью, если у них остается задолженность за многие дни? Они, как только представится удобный случай, сразу выплачивают то, что были должны по частям, соединив долг в одну сумму. Так поступлю и я в отношении твоей святости. Задолжав тебе в постоянной переписке (поскольку у христиан обещание есть долг) недостачу писем за прошедшее время, в которой я невольно оказался виновен, хочу восполнить теперь, распространив меру послания настолько, что если разделить его на письма обыкновенной меры, оно могло бы считаться вместо многих. Но, чтобы не в пустоту вещал я на протяжении этого письма, думаю, что хорошо будет в этой письменной речи подражать личному нашему собеседованию. Конечно, ты помнишь, что отправной точкой всегдашних наших бесед друг с другом были выучка в добродетели и упражнения в богопочтении, причем ты всегда настойчиво предлагал [встречные] вопросы касательно того, о чем шла речь, и ничего из сказанного не принимал без исследования; а я, как старший возрастом, каждый возникающий по ходу речи вопрос разрешал. Если бы возможно было и теперь быть этому, так чтобы твоя восприимчивость давала направление слову, то это было бы лучше всего. Ибо для обоих нас была бы двойная польза как от лицезрения друг друга (а что мне приятнее этого в жизни?), так и от того, что твое понимание, наподобие музыкальной палочки, заставило бы зазвучать нашу ветхую цитру. Поскольку же обстоятельства жизни делают то, что мы разъединены по телу, хотя и соединены душами, то необходимо будет говорить и от твоего лица, коль скоро по ходу речи возникнет у нас возражение против сказанного. Хорошо также будет предложить сперва какой–либо душеполезный предмет [исследования] как цель письма, а затем уже предаться размышлению над тем, что предложено. Итак, предметом наших изысканий да будет вопрос: что значит звание «христианин»? Может быть, исследование этого [вопроса] будет небесполезно. Ибо, если бы мы в точности открыли, что значит это имя, то получили бы большое содействие к жизни добродетельной, стараясь, посредством высокого образа поведения, поистине и быть тем, чем именуемся. Ведь если кто пожелает назваться врачом, или ритором, или геометром, тот не допустит, чтобы его невежеством обличилась лживость названия, если [вдруг] на деле он окажется не тем, кем именуется. Напротив, желающий истинно назваться кем–либо в этом роде, постарается оправдать название знанием самого дела, чтобы звание его не оказалось лжеименным. Таким же точно образом и мы, если, исследуя, найдем истинную цель звания «христианин», не решимся не быть тем, что возвещает о нас это имя, чтобы и к нам не мог быть применен известный у язычников рассказ об обезьяне. Говорят, что в городе Александрии один искусник выучил обезьяну с известной ловкостью изображать танцовщицу, надевал на нее маску, соответствующую танцу, и одежду, подобающую роли. Народ, собиравшийся [поглазеть], восхищался обезьяной, плясавшей в такт музыки, и во всем, что она ни делала и ни представляла, скрывавшей свою природу. Когда же театр был забит [народом, собравшимся] на небывалое представление, один присутствовавший там остроумец шутки ради показал тем, кто [смотрел] представление, разинув рот, что обезьяна есть [всего лишь] обезьяна. Когда все [восторженно] шумели и рукоплескали ловкости обезьяны, плясавшей точно в такт пения и музыки, он, говорят, бросил на орхестру, где [проходило] действие, те лакомства, которые привлекают жадность этих животных. Обезьяна, увидев рассыпавшийся по площадке миндаль, немедленно, забыв и пляску, и рукоплескания, и нарядную одежду, бросилась к нему и горстями стала сгребать то, что находила. А чтобы маска не закрывала [ей] рот, она одним махом сорвала своими когтями обманчиво принятый образ, так что, вместо похвал и удивления, возбудила между зрителями дружный смех, когда из–за обрывков маски показалась ее безобразная и смешная наружность. И как обезьяне недостаточно было обманчиво принятого обличья, чтобы сочли ее за человека, поскольку жадность к лакомствам изобличила ее природу, так и тех, кто истинно не образовал само естество свое верою, лакомства, [подброшенные] дьяволом, легко изобличат в том, что они суть нечто иное, отличное от того, за что себя выдают. Ибо, вместо смокв, миндаля и тому подобного, тщеславие, честолюбие, любостяжание, страсть к удовольствиям и другие такого же рода злые припасы диавольские, предложенные жадности людей в качестве лакомств, легко изобличают обезьянообразные души, которые путем подражания принимают на себя лицемерный вид христианства, а при нашествии страстей срывают с себя личину целомудрия, кротости или другой какой добродетели. Итак, необходимо рассудить о значении названия «христианство». Может быть, мы тогда сделаемся тем, чего требует это имя, чтобы, не оказаться чем–либо иным, а не тем, чем кажемся, пред «Видящим тайное» (Мф. 6:6) <приняв вид> христиан по одному только исповеданию и покрову имени.
Итак, во–первых, рассмотрим, какой смысл заключается в самом названии «христианство». Те, кто мудрее, конечно, могут найти какой–либо более высокий и величественный смысл, соответствующий высоте этого имени. Что же доступно нашему разумению об этом имени, таково — имя «Христос», которое, если заменить его более ясным и понятным речением, значит «царь», так как Священное Писание преимущественно употребляет это имя для обозначения царского достоинства. Но поскольку, как говорит Писание, Божество неизреченно и непостижимо и превыше всякого уразумения мыслью, то по необходимости движимые Святым Духом пророки и апостолы руководят нас к уразумению нетленного Естества при помощи многих имен и понятий. Каждое из боголепных понятий направляет нас к какой–либо мысли, так что «власть над всем» означается именем «царства», а «чистота и свобода от всякой страсти и всякого зла» именуется именами добродетелей, из которых каждая мыслится и изрекается применительно к совершенному. Таким образом одно и то же есть и Правда, и Премудрость, и Сила (1 Кор. 1:24), и Истина (Ин. 14:6), Благость и Жизнь (Ин. 14:7), и Спасение (Деян. 4:12), и Нетление, и Непрелагаемость, и Неизменяемость. А все, что мыслится высокого чрез обозначение такими именами, все это и есть Христос и изрекается о Нем. Итак, если в имени «Христос» разумеется совокупность всего высокого (ибо в высочайшем из значений содержатся и прочие, так что каждое из них созерцается в понятии царства), то, выводя отсюда следствие, мы, может быть, поймем, что значит христианство. Ведь если именем, превосходящим все имена, которые служат для изъяснения нетленного естества, именуемся также и мы, соединившиеся с Ним чрез веру в Него, то совершенно необходимо, чтобы вследствие этого мы имели общность имен и относительно тех понятий, которые вместе с этим именем усматриваются в оном нетленном естестве. И если по причастию ко Христу мы получили название «христиане», то по этой самой причине необходимо, чтобы имя это влекло за собою нашу общность со всеми высокими именами. И как взявшийся за крайнюю петлю [рыболовной] сети, за нее одну потянул бы и все прочие, соединенные друг с другом, так, поскольку с именем «Христос» соединяются и прочие имена, изъясняющие оное неизреченное и многовидное блаженство, то необходимо, восприяв одно имя, вместе с одним привлечь и прочие.
Итак, если кто принимает на себя имя Христово, а того, что усматривается вместе с этим именем не являет в жизни, тот ложно носит это имя в соответствии с представленным нами примером, оно есть бездушная маска с чертами человеческого образа, наложенная на обезьяну. Ибо как Христос не может быть Христом, если Он не есть Правда, и Чистота, и Истина, и Отчуждение от всякого зла, так не может быть и христианином (во всяком случае, истинным христианином) тот, кто не обнаруживает в себе общности с этими именами. Итак, если бы нужно было кому–либо истолковать смысл слова «христианство» при помощи определения, то мы скажем так: христианство есть подражание божескому естеству. И никто пусть не порицает этого определения, как чрезмерного и превышающего низменность нашего естества; ибо за пределы естества определение это не выходит. Если кто поразмыслит о первом состоянии человека, тот из учения Писаний найдет, что определение не вышло из меры нашего естества. Ибо первое устроение человека было по подражанию подобия Божьего (так любомудрствует о человеке Моисей, когда говорит, что «сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его» (Быт. 1:27), а название «христианство» выражает возведение человека в древнее благополучие.
Если исконно человек был подобием Божиим, то, может быть, мы нашли верное определение, сказав, что христианство есть подражание божескому естеству. Название это, таким образом, многообещающее. Теперь время рассмотреть, безопасно ли тому, кто носит это имя, жить ему несоответственно? Поясним то, что имеется в виду, примером. Предположим, что кто–нибудь объявляет себя искусным в живописи и что от начальника ему дается приказание изобразить для далеко живущих лик царя. Если же он, начертав на доске какое–то уродливое и несоразмерное изображение, назовет эту непристойную мазню образом царя, то не приведет ли он начальство в справедливое негодование тем, что эта скверная мазня будет причиной оскорбительного мнения о красоте первообраза у не знающих его? Ибо каким представляется изображение на картине, таким неизбежно будет считаться и первоначальный образ. Итак, если определение говорит, что христианство — подражание Богу, то не приявший еще слова таинства (του μυστηριου τον λογον), какой увидит у нас жизнь, проводимую, как он уверен, по подражанию Богу, таким будет считать и наше Божество. Так что если он увидит примеры всего благого, то уверует, что Божество, нами чтимое, — благо. Если же кто будет предан страстям и зверообразен, и в своих нравах будет преображаться соответственно различным страстям и принимать многообразные обличья различных зверей (ибо в извращениях нашего естества должно видеть именно отображения зверей), и затем станет именовать себя христианином, тот, поскольку имя его обещает и возвещает подражание Богу, жизнью своей подает неверующим повод порицать Божество, в которое мы веруем. Потому и Писание возвещает им страшнейшую угрозу, говоря: горе тем, ради кого «имя Мое хулится во языцех» (Ис. 32:5). И мне кажется, что преимущественно к этой мысли руководя нас, Господь сказал тем, кто мог слышать: «будите совершени, якоже Отец ваш небесный совершен есть» (Мф. 5:48). Ибо, наименовав истинного Отца отцом верующих, Он хочет, чтобы и рожденные от Него имели подобие с созерцаемым в Нем совершенством благ.
Но ты скажешь мне: как возможно человеческой приниженности простирать стремление к блаженству, созерцаемому в Боге, когда в самом этом повелении как будто выказывается неудобоисполнимость его? В самом деле, как возможно [существу] земному уподобиться Тому, Кто на небесах, когда само различие естества показывает, что подражание немыслимо? Ибо как невозможно [невооруженным] глазом измерить величие небес и содержащиеся в них красоты, точно так и земному человеку невозможно уподобиться небесному Богу. Но сказано об этом ясно: Евангелие повелевает не приравнивать естество к естеству — в смысле человеческое к Божескому, — но, сколько возможно, подражать в жизни благим Его действиям (ενεργειαι). Так что же это за действия наши, которые могут быть подобны действиям Божьим? — Отчуждаться от всякого зла, стараясь быть чистыми от осквернения им, сколько возможно, делом, словом и помышлением. В этом состоит истинное подражание Божескому и окружающему Бога небесного совершенству.
Я не думаю, конечно, чтобы Евангелие в словах, которыми повелевает нам быть совершенными, как Отец небесный (Мф. 5:48), имело в виду стихию неба как некое отдельное жилище Божества, потому что Божество равно находится во всем и одинаково проницает все творение, и нет ничего, что пребывало бы в бытии отдельно от Сущего, но Божеское естество равночестно соприкасается каждому существу, все содержа в себе всеобъемлющей силой. Этому же поучает и пророк, говоря, что «перенесусь ли мыслью на небо, исследую ли, нисходя мысленно, то, что под землею, простру ли разумную силу души к пределам существующего — во всем увижу всевластвующую Твою десницу». Подлинное же изречение его таково: «аще взыду на небо, Ты тамо ecu: аще сниду во ад, тамо ecu; аще возму криле мои рано, и вселюся в последних моря, и тамо бо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя» (Пс. 137:8—10). Итак, из этого можно видеть, что не отгорожено для Бога, отдельно [от всех], небесное жилище. Но поскольку горний удел признается чистым от зла (на это во многих местах иносказательно указывает нам Писание), а в этой дольней, более вещественной жизни действуют злые страсти, так как здесь, в жизни земной, извивается и ползает изобретатель зла — змий, о котором притчей говорит Писание, что он «на персех и чреве ходит и землею снедает» всегда (Быт. 3:14). Такой способ передвижения и вид пищи указывают нам на то, что именно земная и дольняя жизнь допускает в себя поползновения многообразного зла и делаеся пищею ползающего по ней зверя. Итак, повелевающий подражать небесному Отцу быть чистыми от земных страстей повелевает, отдаление же от них совершается не частным перехождением, но единым движением воли. Таким образом, если отчуждение от зла естественно совершается единым устремлением разума (διανοια), то евангельское слово не требует от нас ничего сверхтрудного. Ибо с устремлением разума не соединено даже и труда, но возможно для нас без усилия, посредством желаний быть там, где мы пожелаем. Так что и на земле легко вести небесный образ жизни тому, кто [этого] желает, коль скоро, по руководству Евангелия, будем мудрствовать небесная и слагать в тамошних сокровищницах богатство добродетели; ибо «не скрывайте», — говорит, — «сокровищ на земли, но скрывайте сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит и идеже татие не подкапывают, ни крадут» (Мф. 6:19). Слова эти показывают, что в горней жизни нет никакой тлетворной для блаженства силы. Ведь тот, кто многоразлично действует разнообразной своею злобой жизни этой на гибель, проникает в разум, наподобие моли, силою поядающей и истребляющей, делая непригодной ту часть души, в которую внедрится. Если же вскорости не будет изгнан из одной части, то, переползая к частям близлежащим, оставляет след повреждения, как знак своего движения, везде, куда ни приближится. Если же внутреннее непоколебимо, он строит козни посредством внешних обстоятельств. Ведь или при помощи удовольствия к сокровищнице сердца стену проламывает, или другой страстью хранилище души опустошает, гневом или печалью, или иною подобною страстью рассудок (λογισμος) окрадывая. Итак, поскольку в горних сокровищницах, как говорит Господь, нет ни моли, ни тли, ни хищнической злобы, научающей тому, о чем мы упомянули, то [именно] туда должно переносить наше делание, где собранные сокровища, недоступные хищению и умалению, не только навсегда остаются, но и наподобие семян производят многоразличное приращение. Ибо, конечно, необходимо, чтобы воздаяние было велико, сообразно естеству Того, кто принял сокровище на хранение. И как мы, действуя в меру своего естества, приносим [нищенски] мало, потому что такова наша природа; также естественно, чтобы Тот, Кто во всем богат, за вверенное Ему малое воздал тем, что по естеству имеет. Итак, никто да не унывает, внося в божественные сокровищницы по своим силам, как если бы он получил по мере того, что он дал, но пусть пребывает в надежде на исполнение обетования Сказавшим, что Он взамен за малое даст великое, воздав небесным за земное, вечным за временное. Однако эти блага такого рода, что их ни мыслью нельзя постичь, ни словом изъяснить; о них учит богодухновенное Писание: «ниже око виде, ниже ухо слыша, ниже на сердце человеку взыдоша, яже уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Написав тебе это, о честная глава, мы не только возместили причитающиеся с нас письма, но и заранее оплатили возможные последующие недоимки. Ты же, [дорогой] мой, трудись о Господе, по сердцу. И пусть по сердцу будет тебе всегда то, что и Богу угодно, и нам по сердцу.
К Олимпию о совершенстве
Приличествует образу жизни, тобою избранному, старание узнать, как путем добродетели достигнуть совершенства, дабы во всех отношениях жизнь твоя была безупречною. Дорого бы я дал, чтобы в собственной жизни найти примеры того, к чему ты стремишься, так чтобы вместо слов на деле представить тебе то поучение, которого ты ищешь! Ведь наставление в добродетели тогда заслуживало бы доверия, когда бы и жизнь словам была созвучна. Я, однако, хоть и молюсь, чтобы когда–нибудь это осуществилось, ныне все еще не нахожу себя таковым, чтобы вместо слова жизнью свидетельствовать, поэтому, дабы не показаться тебе совершенно бесполезным и для твоей цели непригодным, рассудил я показать, на что должна быть направлена строгая жизнь, отсюда положив начало слову.
Благой Владыка наш Иисус Христос даровал нам быть общниками поклоняемого Своего имени, так чтоб нам не именоваться ни по чему иному, что принадлежит нам: богатым ли кому выпадет родиться и благородным или неблагородным быть и бедным, или по каким занятиям и достоинствам иметь известность, но при отстранении всех подобных имен, одно есть главное звание уверовавших в Него: христианами именоваться. Если же такая дарована нам свыше благодать, то необходимо, во–первых, размыслить о величии дара, чтобы по достоинству возблагодарить столькое даровавшего Бога; а затем самих себя такими показать в жизни, какими требует быть значение великого сего имени. Величие дара, коего удостоились мы чрез именование одним со Владыкою жизни нашей именем, будет нам ясно, если постигнем сам смысл имени Христова, так чтобы понимать, какое возникает в душах наших представление, когда этим речением призываем в молитвах Господа всяческих, или что под именем этим подразумеваем, когда благоговейно, как веруем, Его призываем. А когда это уразумеем, тогда, какими и мы должны стараться быть в жизни, ясно поймем, пользуясь именем этим как учителем и руководителем жизни. Соделав же путеводителем в двух этих исследованиях святого Павла, будем иметь самое верное руководство к уяснению искомого. Ибо он и уразумел гораздо точнее всех, что есть Христос, и делами своими указал, каковым должен быть Его именем именующийся. Он столь действенно Ему подражал, что в себе самом показал своего Владыку отобразившимся, поскольку вид души его от точнейшего подражания переменился наподобие Первообразу, так что уже не Павел, казалось, жил и говорил, но жил в нем Сам Христос, как сам он говорит, хорошо зная собственные совершенства: «если искушения ищете глаголющаго во мне Христа» (2 Кор. 13:3), и: «живу же не ктому аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).
Он же и указал нам значение имени «Христос», сказав, что Христос есть «Божья сила» и «Божья премудрость» (1 Кор. 1:24); он также назвал Его и «миром» (Еф. 2:14) и «светом неприступным» (1 Тим. 6:16), в коем обитает Бог, «освящением и избавлением» (1 Кор. 1:30), «великим Архиереем» (Евр. 4:14) и «пасхою» (1 Кор. 5:7), «очищением» душ (Рим. 3:25), «сиянием славы, образом Ипостаси» (Евр. 1:3) и творцом веков (Евр. 1:3), «духовною пищею» (1 Кор. 10:3) и «питием, камнем» (1 Кор. 10:4), «водою» (Ин. 4:13), «основанием» веры (1 Кор. 4:13), «главою угла» (Мф. 21:42; Мк. 12:10; Лк. 20:17; Пс. 118:22), «образом невидимого Бога» (Кол. 1:15), «великим Богом» (Тит. 2:13), «главою тела Церкви» (Кол. 1:18), «перворожденным» новой «твари» (Кол. 1:15), «начатком умерших» (1 Кор. 15:20), «перворожденным из мертвых» (Кол. 1:18), «первородным во многих братъях» (Рим. 8:29), «посредником Бога и людей» (1 Тим. 2:5), «Единородным Сыном» (Ин. 3:17–18), «венчанным славою и честью» (Евр. 2:9), «Господом славы» (1 Кор. 2:10) и «начатком» сущего (Кол. 1:18), так говоря о Нем: «иже есть начаток» (Кол. 1:18). Сверх того [он называет Его]: «царем правды, царем мира» (Евр. 7:2) и царем всяческих, имеющим безграничную державу царства, и многими другими такими же именами, какие по множеству их нелегко и исчислить. Взаимное сопоставление всех этих наименований, смысл каждого из которых привносит что–то свое для прояснения обозначаемого, дает нам некое представление о значении имени «Христос», открывая нам неизреченное величие настолько, насколько душа наша в состоянии уразуметь. Поскольку же достоинство царское превышает всякое [иное] достоинство, и власть, и властительство, а слово «Христос» собственно и первоначально означает «державу царскую» (ибо, как знаем из [Священной] истории, помазание предшествовало царству), в «царстве» же заключается весь смысл прочих наименований, поэтому кто уразумел [значения] составляющие, тот уразумеет и общий смысл имени, объемлющего прочие. А это — «царство», на него и указывает имя «Христос». Итак, поскольку благим Владыкою дано нам быть общниками величайшего, божественнейшего и первого из имен, так что, будучи почтены именем Христовым, мы называемся христианами, то необходимо, чтобы усматривались в нас и все прочие, изъясняющие это имя, значения, чтобы это звание не было у нас лжеименным, но свидетельствовалось жизнью. Ибо не от названия вещь получает бытие, но через соответствующее имя распознается естество самой вещи, каково оно есть. Например, если кто дереву или камню придаст название «человек», станет ли от этого названия дерево или камень человеком? Конечно, нет; нужно прежде быть человеком, а затем уже называться именем, принадлежащим этому естеству. Точно так же и в отношении подобий названия не имеют главного [своего] значения: если, например, кто статую человека назовет человеком, или изображение [лошади] — лошадью. Если же что–либо называется в главном и истинном значении, то, конечно, самому естеству предмета следует показать, что название Истинно. А вещество, служащее для подражательных изображений, именуется тем, чем является по природе — медью, камнем и тому подобным, и [только] искусство придало ему вид согласно замыслу.
Итак, тому, кто именует себя именем Христовым, прежде необходимо стать тем, чего имя требует, а потом уже усваивать себе это звание. И как, если кто захочет отличить собственно «человека» от называемого тем же словом изображения его, тот проведет границу на основании свойства того и другого (ибо первым назовет он живое существо, разумное и мыслящее, а вторым — вещество бездушное, принявшее вид человека при помощи подражания). Точно так и христианина — кто подлинный, а кто [только] кажущийся — распознаем из открывающихся в каждом характерных особенностей. Свойства подлинного христианина — все те, какие мы нашли во Христе; из них доступным для нас подражаем, а те, подражание которым недоступно нашему естеству, чтим и поклоняемся им. Стало быть, все значения, изъясняющие [смысл] имени Христова, должны высвечиваться в жизни христианина, одни чрез подражание, другие чрез поклонение, если «человек Божий» хочет быть «совершенным», по слову апостола (2 Тим. 2:17), никак не искажая совершенства пороком. И как те, кто словесным или живописным искусством создает мифических чудовищ, людей с бычьими головами, иппокентавров или змееногих [гигантов], или составляет иное что подобное из различных животных, — [все они] подражают не какому–либо природному образцу, но, посредством столь безрассудного вымысла выходя за пределы' естества, создают нечто иное, а не человека, изображая по своему произволу то, чего нет. И как никто не назовет человеком изображение, созданное с помощью этого противоестественного сочленения, хотя бы часть его и была подобна какой–либо части человеческого тела, так не может быть назван христианином в точном смысле слова ни тот, кто имеет главу без разума (αλογον), то есть во главу всего, которая есть Слово [Разум] (Λογος), не верует, ни тот, кто, имея главу веры, не являет соответственного ей тела, образа жизни, когда или отличаясь раздражительностью, свойственной змеям, беснуется наподобие этих пресмыкающихся, или к свойствам человеческим присоединяет женонеистовство коней и становится каким–то иппокентавром, составленным из двух природ: разумной и неразумной. Много можно видеть таких людей: одни, имея голову тельца, то есть признавая учение идолопоклонства, проводят благовидную жизнь (они изображают как бы Минотавра); другие, имея лицо христианина, своею жизнью звероподобное присоединяют к нему тело (они представляют собою как бы кентавров и чудовищ со змеевидными ногами). Итак, чтобы христианин узнавался по телу целиком человеческому, нужно, чтобы верующий в своей жизни являл черты всех совершенств, разумеемых во Христе. Ибо в одном быть тем, чего требует это имя, а в другом скатываться к противоположному, значит не что иное, как внутри самого себя выстраивать враждебную рать и, возбуждая брань между добродетелью и пороком, в отношении самого себя являть вероломство и не заслуживать доверия. «Ибо кое общение свету ко тме?» — говорит апостол (2 Кор. 6:14).
Итак, поскольку мрак противоположен свету, не смешивается с ним и не допускает посредства, то держащийся того и другого и не удаляющийся от одного из них по необходимости и сам разделяется при взаимной борьбе этих противоположных начал, становясь в то же время и светом, и тьмою в своей смешанной жизни; вера привносит озарение, а темная жизнь помрачает сияние Слова. Поскольку же немыслима и недопустима общность между светом и тьмою, то держащийся той и другой из противоположностей делается врагом самому себе, разделившись надвое и противопоставив в себе, подобно враждебным войскам, добродетель и порок. И как при борьбе двух врагов невозможно, чтобы оба были победителями друг друга (так как победа одного неизбежно означает смерть другого), так и в этой междоусобной борьбе, происходящей в смешанной жизни, невозможно победить сильнейший строй иначе, как наголову разбив и уничтожив другой. Ибо каким образом войско благочестия одолеет порок, когда выступает против него фаланга лукавых его противников? Если сильнейшее хочет победить, то, безусловно, противостоящее будет истреблено. Добродетель, таким образом, тогда [лишь] будет торжествовать победу над пороком, когда все враждебное ей, при союзническом содействии разума, обратится в ничто. И тогда исполнится сказанное пророком от лица Божьего: «Аз убию и жити сотворю» (Втор. 32:39); ибо благое во мне не иначе может жить, как будучи оживотворено смертью противника. А до тех пор, пока мы будем держаться обоих, одной рукой придерживаясь одного, Другой другого противника, невозможно будет в то же время быть на стороне того и другого; ибо кто объемлет порок у того из рук ускользает добродетель.
Итак, возвратимся опять к сказанному сначала, что для любящих добродетель один есть путь к чистой и божественной жизни: знать, что значит имя Христос, с коим должно сообразовать и нашу жизнь, стройно направляя ее к добродетели в соответствии со значением прочих имен. Итак, предложив в предстоящем нам исследовании те собранные нами в предисловии речения и имена, посредством которых святые уста Павла изъясняют значение слова «Христос», мы дадим самое незыблемое руководство для добродетельной жизни, подражая, как сказано выше, одним, поклоняясь и почитая другие. Будем говорить о них по тому порядку, как они исчислены нами. Итак, начнем с первых.
Христос, говорит [апостол], есть «Божия сила и Божия премудрость» (1 Кор. 1:24). Эти слова указывают нам, во–первых, на означаемые именем «Христос» боголепные понятия, которые внушают нам благоговение перед этим именем. Поскольку вся тварь, как познаваемая чувственно, так и превышающая чувственное уразумение, чрез Него произошла и в Нем получила бытие, то необходимо для определения значения [имени] Христа, как «сотворившего вся» (Деян. 17:24), чтобы с силою сочеталась и премудрость. Сопряжение двух этих названий, премудрости и силы, дает нам разуметь, что великие и неизреченные чудеса творения не могли бы явиться, если бы премудрость не изобрела их бытия, а сила, которая осуществляет мысли в деле, не сопутствовала бы премудрости в совершении изобретенного ею.
Таким образом, [общий] смысл имени «Христос» делится на два различные значения: премудрости и силы, — дабы мы, обратив взор на величие устроения всего сущего, уразумели, при помощи созерцаемого нами, неизреченную Его силу, а размыслив о том, что в бытие явилось [нечто], не существовавшее прежде, что многообразное естество существ осуществлено божеским мановением — то поклонились бы непостижимой премудрости помыслившего сие, чьи помышления суть деяния. Отнюдь не праздной и не бесполезной для стяжания нами блага оказывается вера в то, что Христос является Силой и Премудростью. Ибо, что молящийся призывает и к чему обращает око души, то и привлекает к себе молитвою. И, таким образом, обращающий взор к Силе (а Сила есть Христос) «силою» утверждается «во внутреннем человеце», как говорит апостол (Еф. 3:16), а призывающий Премудрость (под которою опять–таки разумеется Господь) соделывается премудрым, как говорит книга Притчей (Притч. 2:3.5). Итак, соименник Христа, Он же есть Сила и Премудрость, должен также быть соименным силе, осилив грех, и являть в самом себе премудрость, избирая лучшее. А через проявление в нас премудрости и силы: первой — в выборе добра, а второй — в усилии, [с которым сохраняется] разумно [избраннное], достигается совершенство жизни, из обеих [составляющих] слагаемое.
Точно так и помыслив, что Христос «есть мир» (Еф. 2:14), мы покажем, что истинно называемся именем Христовым, когда чрез наше внутреннее умиротворение жизнью своей явим Христа. Он «вражду» убил, как говорит апостол (Еф. 2:16). Следовательно, и мы не станем оживлять в себе эту вражду, но жизнью нашей покажем, что она мертва, дабы нам ее, во благо и во спасение наше умерщвленную Богом, уже не воскрешать в себе, на гибель душ наших, гневом и памятозлобием, совершая пагубное воскрешение того, что, к счастью, умерло. Но если имеем Христа, который есть мир, то и мы будем умерщвлять в себе вражду, дабы то, что, как веруем, пребывает в Нем, хранить и в своей жизни. Ибо как Он, разорив «средостение ограды, обоя» создал «собою во единого новаго человека, творя мир» (Еф. 2:15), так и мы будем примирять с собою не только внешних врагов наших, но и тех, которые восстают в нас самих, так чтобы плоть уже не желала противного духу, а дух — противного плоти, но чтобы, подчинив плотяный образ мыслей божественному закону, мы имели мир сами с собою, восстановив себя «во единого новаго» и мирного «человека» (Еф. 2:15) и из двух став единым. Ибо «мир» можно определить как «согласие враждующих». Итак, когда уничтожится междоусобная брань в нашем естестве, тогда мы, примирившись с собой, станем «миром» и покажем, что истинно и действительно носим на себе сие имя Христово.
Помыслив же, что Христос есть «свет истинный» (Ин. 1:9) и для лжи «неприступный» (1 Тим. 6:16), мы учимся тому, что и наша жизнь должна быть озаряема лучами истинного света. Лучи же «солнца правды» (Мал. 3:20), истекающие для просвещения нашего, суть добродетели, посредством которых мы «отлагаем дела тьмы и яко во дни, благообразно ходим» (Рим. 13:12—13) и отвергаем «потаенные студные дела» (2 Кор. 4:2) и все совершаем во свете и сами становимся «светом», так что и другим делами светим (Мф. 5:15—16), как свойственно свету.
Если же помыслим, что Христос есть «освящение» (1 Кор. 1:30), то, отстранившись помышлением от всякого нечистого и скверного дела и мысли, выкажем себя истинными общниками имени [Его] и будем исповедовать силу освящения не на словах, а на деле, в жизни.
Зная же, что Христос есть «избавление» (1 Кор. 1:30), что Он отдал Себя для искупления нашего, поучаемся этим названием тому, что Он, даровав нам бессмертие, как некую цену за каждую душу, тем самым всех искупленных Им от смерти чрез жизнь соделал собственным стяжанием. Итак, если мы стали рабами Искупившего, то, конечно, обращаем взоры2 к Господствующему, чтобы нам жить уже не для себя самих, но для стяжавшего нас ценою жизни. Ибо уже не мы себе господа, но Купивший есть господин своих стяжаний (1 Кор. 6:20), мы же Его стяжание. Стало быть, законом для нашей жизни будет воля Господствующего. Ибо, как при владычестве над нами смерти действовал в нашей жизни закон греха, так, когда мы стали стяжанием жизни, необходимо согласоваться с господствующим над нами законом, дабы, уклонившись от подчинения воле жизни, через грех снова добровольно не перейти нам под власть злого тирана душ наших (я имею в виду смерть).
То же самое размышление приблизит нас ко Христу, если мы послушаем Павла, [говорящего], что Он есть «пасха» (1 Кор. 5:6) и «Архиерей» (Евр. 7:11). Ибо поистине «за ны пожрен бысть пасха Христос» ; священник же, приносящий Богу жертву, кто есть, как не тот же Христос? Ибо «себе», говорит, принес «приношение и жертву» за нас (Еф. 5:2). Итак, отсюда научаемся, что последующий Ему, принесшему Себя в приношение и жертву, соделавшемуся пасхою, должен и сам представить себя Богу в «жертву живу, святу, богоугодну, став словесным служением» (Рим. 12:1). Образ же служения — «не сообразоваться веку сему», но «преобразоваться обновлением ума своего, во еже искушати, что есть воля Божия, благая иугодная и совершенная» (Рим. 12:2). Ибо во плоти, пока она живет, не может проявляться благая воля Божия, если она не освятится по закону духовному. Потому что «мудрование плотское — вражда на Бога и закону Божию не покоряется, ниже бо может» (Рим. 8:7), пока жива плоть. Но когда животворной жертвой она освятится, «умертвив уды яже на земли» (Кол. 3:5), чрез которые действуют страсти, тогда благоугодная и совершенная воля Божия беспрепятственно будет действовать в жизни верных Ему.
Точно так же и мысля о Христе, что Он есть «очищение в» собственной «крови» (Рим. 3:25), научаемся тому, что каждый должен сам быть себе очищением, чрез умерщвление членов освящая душу.
Когда же Христос называется «сиянием славы и образом ипостаси» (Евр. 1:3), то эти слова внушают нам мысль о достопоклоняемом Его величии. Ибо поистине богодухновенный и Богом наученный Павел, во «глубине богатства премудрости и разума Божьего» (Рим. 11:33) испытуя недоступные и сокровенные божественные тайны, представил как бы отблесками бывшие ему от Бога озарения в уразумении недоступного испытанию и исследованию. Поскольку язык у него был бессильнее мысли, то, сообразуясь с тем, что вмещал слух внемлющих таинственному его разумению, он говорил столько, сколько могло выразить слово, служащее мысли. Ибо, уразумев о божественной природе все, сколько по силам вместить человеку, он утверждает, что разумение превысшей Сущности недоступно и непостижимо для человеческой мысли.
Поэтому, хотя и он говорит о созерцаемых в ней свойствах: мире, силе, жизни, свете, истине и тому подобных, — разумение о ней самой почитает он совершенно превосходящим восприятие, утверждая, что Бога никто никогда и не видел (Ин. 1:18), и не увидит; ибо «Егоже, — говорит, — никтоже видел есть, ниже видети может» (1 Тим. 6:16). Пытаясь же словесно определить то, что не может быть понято мыслью, он не нашел ясного имени для истолкования непостижимого, а потому Славой и Ипостасью наименовал то, что превышает всякое благо, что в достойной мере не мыслимо и не выражаемо.
Итак, превышающую все сущее сущность он оставил без наименования; а изъясняя родственность и нераздельность Сына со Отцом и то, что Он вместе с беспредельным и вечным Отцом беспредельно и вечно созерцается, называет Его «сиянием славы» и «образом ипостаси» (Евр. 1:3), «сиянием» указывая на родственность, а «образом» — на равенство. Ибо мысль не допускает никакого посредства между лучом и естеством излучающим, ни какого–либо умаления образа в сравнении с ипостасью, им отображаемою. Но кто разумеет естество излучающее, конечно, разумеет при нем и луч его и, представляя в уме величие ипостаси, конечно, соразмеряет ипостась с являющим оную образом. Потому и называет Господа «образом Божиим» (Флп. 2:6) — не с тем, чтобы понятием «образа» умалить Господа, но чтобы показать величие Божие в образе, в котором созерцается величие Отца, нигде за пределы собственного образа не выходящее и вне своего образа не обретаемое. Ибо нет в Отце ничего, [что было бы] лишено образа и красоты [и] что не отражалось бы в красоте Единородного. Потому говорит Господь: «видевый Мене, виде и Отца» (Ин. 14:9), означая тем самым, что нет ни уменьшения какого–либо, ни превосходства.
Говоря же, что Он «носит всяческая глаголом силы» (Евр. 1:3), [апостол] разрешает тем самым недоумение тех многозаботливых исследователей непостижимого, которые, стараясь решить вопрос о веществе, нигде не полагают предела своему любопытству. Откуда, говорят они, у невещественного вещественность? Как из неколичественного — количество, от не имеющего образа — образ, от невидимого — цвет и от беспредельного — ограничиваемое своими мерами? И если нет никакого качества в простом и несоставном, то откуда вторгается вещество со своими качествами? Все эти и подобные вопросы разрешает [апостол], говоря, что Слово «всяческая носит глаголом силы своея» (Евр. 1:3), [приводя] из небытия в бытие. Слова эти научают нас обращать взор к Тому, от Кого происходит все сущее. Ибо если из Него все мы приведены в бытие и в Нем существуем, то совершенно необходимо веровать, что ничто не сокрыто от знания Того, в Ком мы существуем, от Кого произошли и к Кому отходим. А эта мысль естественно требует, чтобы жизнь наша была безгрешною. Ибо, кто веруя, что живет «из Того и Тем и в Нем» (Рим. 11:36), осмелится сделать свидетелем непристойной жизни Того, Кто содержит жизнь каждого в Себе самом?
«Брашном же и питием духовным» (1 Кор. 10:3—4) именуя Господа, божественный апостол под этими словами подразумевает, что не единовидно человеческое естество, но поскольку разумность соединена в нас со [способностью] чувствовать, то для каждой из усматриваемых в нас сторон есть особенная пища: чувственным брашном поддерживается тело, а духовная пища дает нам душевное здравие. Но как в теле твердая и жидкая пища, будучи смешаны друг с другом, поддерживают наше естество, когда та и другая, растворяясь, сливается с соответствующими элементами нашего тела, точно так же, по этому образцу, разделяет Павел и разумную пищу, «брашном» именуя и «питием» одно и то же явление, изменяющееся соответственно потребности приемлющих. Ибо немощным и слабым оно бывает «хлебом, укрепляющим сердце человека» ; а истомленным бедствиями сей жизни и оттого соделавшимся жаждущими бывает «вином, веселящим сердце» (Пс. 103:15).
Под сказанным нужно понимать силу слова, которым питается душа соответственно потребности, приемля [проистекающую] от Него благодать, согласно загадочному изречению пророка, который «местом злачным и водою покойною» (Пс. 22:2) называет утешение, словом подаваемое труждающимся. Если же кто, имея в виду таинство [Евхаристии], скажет, что брашном и питием, собственно, называется Господь, то и это не чуждо подлинного значения, ибо «плоть Его истинно есть брашно и кровь Его истинно есть пиво» (Ин. 6:55). Но согласно высказанной ранее мысли, приобщение слову [Божию] всем доступно. Оно, будучи приемлемо ищущими его, бывает «брашном и питием», предлагаемыми всем без различия. А при другом понимании, приобщение этой пище и питию бывает не без испытания и различения, поскольку апостол определил: «да искушает» каждый «себе, и тако от хлеба да яст, и от чаши да пиет; ядый же пияй недостойне, суд себе яст и пиет» (1 Кор. 11:28—29). Мне кажется, что это именно имеет в виду евангелист, когда особенно подчеркивает то, что в дни таинственной Страсти оный благообразный советник, обвив тело Господа нескверною и «чистою плащаницею», положил оное в «новом» и чистом «гробе» (Мф. 27:59).
Таким образом, и апостола повеление, и евангелиста наблюдение служат для всех нас законом: принимать Святое Тело чистою совестью, если же на нас есть какое–либо пятно греха, то его должно смыть водою слез.
Также и «камнем» Христос именуется (1 Кор. 10:4); сие имя даст нам твердость и неуклонность в добродетельной жизни чтобы мы неколебимо переносили страдания и являли дух крепкий и недоступный всякому приражению греха. Чрез это и подобное и мы станем «камнем», неизменяемости и непрелагаемости Владыки подражая, сколько возможно в изменчивом естестве.
Если же «премудрый архитектон» (1 Кор. 3:10) именует Его «основанием веры и главою угла» (1 Кор. 3:10; Еф. 2:20; Лк. 20:17), то и это окажется не бесцельным для содействия нашей добродетельной жизни. Отсюда научаемся, что и начало, и конец всякого благого рода жизни, всякой благой науки и занятия есть Господь. Ибо Он есть так же, как и именует его Павел, «упование» (Кол. 1:7), понимаемое нами как вершина, к которой направляются все усилия добродетельной жизни. И началом высокого сего жизненного столпостроения бывает вера в Него; на ней полагаем начала жизни нашей как некое основание и, ежедневно упражняясь в добре, вменяем себе в закон чистые мысли и действия. Таким образом глава всего соделывается и нашею главою, соединяющею в себе благообразно и в чистоте возведенные две стены нашей жизни, телесную и духовную, составляя из них как бы угол. Если же в какой–либо части здания окажется недостаток: если, например, с чистотою души благообразие видимых дел не будет сочетаться или за видимым душевная добродетель не будет являться, то такой главой нецелостной жизни Христос быть не может. Он становится главой только той постройки, у которой две стены [образуют] угол, ибо невозможно быть углу без соединения двух стен. Ведь тогда лишь наше здание украсится красотою углового свода, когда наша раздвоенная жизнь, с обеих сторон выравниваясь по жизненному отвесу при помощи вервия добродетелей, будет стройно воздвигаться по прямой линии, правильно и неуклонно, не имея в себе ничего косого или искривленного.
«Образом Бога невидимого» (Кол. 1:15) именует также Павел Христа, «Богом над всеми» (Рим. 9:5) и «великим Богом» (ибо и такими названиями возвещает величие истинного Владыки, говоря: «великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13) и: «от них Христос по плоти, сый над всеми Бог благословен во веки» (Рим. 9:5)). Говоря эти слова, он научает нас, что Сущий всегда остается тем, что Он есть (а что есть Сущий, Он один и знает, человеческому же разумению навсегда в той же степени останется недоступен, хотя бы мудрствующий горняя и приближался к Нему постоянно посредством преуспеяния). Итак, Сей, превысший всякого познания и понимания, неизреченный, неизглаголанный и невыразимый, чтобы снова сделать тебя образом Божиим, и сам по человеколюбию соделывается образом Бога невидимого. Своим образом, который принял, Он воображается в тебе, чтобы чрез себя и тебя снова облечь красотою, свойственною Первообразу, дабы тебе быть тем, чем ты был от начала. Так и мы, если желаем быть образом Бога невидимого, должны вид своей жизни сообразовать с предложенным нам образцом жизни. Что же это значит? Живя «во плоти», не жить «по плоти» (Рим. 8:12). Ибо и оный первообразный образ невидимого Бога, соделавшийся близким к нам чрез рождение от Девы, хотя искушен был всяческим, по подобию человеческого естества, но не приял одного только искушения — греха (Евр. 4:15); «иже греха не сотвори, ни обретеся лесть во устех Его» (1 Пет. 2:22). Так, если бы мы учились искусству живописи и учитель предложил нам на картине какой–либо прекрасно начертанный образ, то каждому следовало бы свое живописание уподоблять этому прекрасному изображению, чтобы картины всех украсились по предлежащему образцу красоты. Таким же точно образом, поскольку каждый есть живописец собственной жизни, а художник дела жизни есть свободная воля, краски же для воспроизведения образа — добродетели, то немалая опасность вместо подражания исказить первообразную красоту, начертав какое–либо уродливое и безобразное лицо [и] вместо вида Владычнего грязными красками изобразив образ порока. Но для изображения красоты мы должны брать, сколько возможно, чистые краски добродетелей, смешанные между собою по правилу искусства, так, чтобы быть нам образом Образа, передавая, по возможности, чрез деятельное подражание красоту Первообраза, как делал Павел, в добродетельной жизни подражавший Христу (1 Кор. 11:1). А если нужно по отдельности определить словесно какими средствами мы должны воспроизводить Образ, то первая краска — смиренномудрие; ибо «научитеся», говорит, «от Мене яко кроток есмъ и смирен сердцем» (Мф. 11:29). Вторая краска — долготерпение, в некоторой степени и она в образе невидимого Бога видится. Нож и древо [крестное], узы и бичевание, ланит заушение и лица оплевание, спина, ударам предаваемая, суд нечестивый, приговор неумолимый, воины, приговор мрачный торжествующие, оскорбляя, насмехаясь и издеваясь, и тростью [Его] ударяя; гвозди, желчь и оцет и все тяжкие [страдания], без вины Ему причиняемые или, лучше [сказать], за многоразличные благодеяния воздаваемые. Какое же творящим [все] это отмщение? «Отче, отпусти им: не ведят бо что творят» (Лк. 23:34)! Неужто невозможно было Ему самое небо на них низринуть, или в бездну земли разверзшейся оскорбителей низвергнуть, или море из пределов его изринуть и пучиною землю потопить, или содомский огненный дождь на них наслать, или иное что жестокое совершить Своим повелением? Но все это кротко и долготерпеливо перенес Тот, кто Своим примером [и] для твоей жизни законом соделал долготерпение. Так и все прочее можно видеть в первообразном образе Бога, на него же взирая и по нему явственно свой образ украшая, [человек] и сам соделывается Бога невидимого образом, при помощи терпения живописуемым.
А кто постиг, что Христос есть «глава Церкви» (Еф. 5:23), тот прежде всего пусть размыслит о том, что всякая глава имеет одно естество и сущность с подчиненным ей телом и что как бы сродство какое соединяет частные члены в одно целое, единым дыханием приводя в согласие части и целое. Следовательно, если нечто находится вне тела, то оно, конечно, чуждо и главе. Итак, этими словами Писание учит нас, что чем является по естеству глава, тем должны быть и отдельные части тела, чтобы быть родственными главе. Мы же части, составляющие тело Христово; итак, если кто, подъяв, словно меч, неистовое беснование, отделит часть тела у Христа и соделает ее частью тела блудницы (1 Кор. 6:15), тот виною этой злой страсти навсегда отсечет часть тела от Главы. Так и прочие орудия порока бывают мечами, которыми отсекаются части от единого Тела, и от Главы отделяются все, над которыми страсти совершают как бы отсечение. Итак, чтобы тело пребывало целым по своему естеству, необходимо, чтобы и отдельные части тела были соединены с главою, будучи по существу своему вполне тем же, что и глава. Как, например, если мы разумно полагаем, что Глава по своей сущности есть чистота, то чистыми должны быть и части тела, подчиненные этой Главе. Если Главу мыслим как бессмертие и нетление, то, конечно, и части тела должны сохраняться в нетлении. Так и другие понятия, которые мыслим [присущими] Главе: мир, освящение, истина и [тому] подобные, — как и следует, должны быть усматриваемы и в частях тела. Ибо тем, что все эти и подобные [свойства] являются в частях тела, свидетельствуется, что они имеют естественную связь с Главою, по слову апостола: Он «есть глава: из него же все тело составляемо и счиневаемо прилично, всяцем осязанием, по действу в мере единыя коеяждо части, возращение тела творит» (Еф. 4:15—16). Наименование «главы» должно научить нас и тому, что как у живых существ голова управляет деятельностью тела, ибо и ног движение, и рук действование каждый раз направляется чрез глаз и слух. Ведь если глаз не будет надзирать за действиями или слух не будет принимать руководства, то не может быть как следует исполнено никакое надлежащее дело, так и в нас, теле [Церкви], всякое устремление и действие должно направляться соответственно указанию истинной Главы, туда, куда укажет «Создавый око и Насаждей ухо» (Пс. 93:9). Стало быть, если Глава зрит горе, то и части тела, соединенные с Главою, конечно, должны следовать путеводительству Главы и устремляться к горнему.
Когда же услышим, что Христос есть «перворожден твари» (Кол. 1:16), «перворожден из мертвых» (Кол. 1:18) и «первородный во многих братьях» (Рим. 8:29), то, во–первых, мы должны опровергнуть мнения еретиков, так как в вышеприведенных речениях нет ничего, что бы говорило в пользу их превратного учения. Затем обратим внимание и на то, что дают нам эти слова полезного для нравственной жизни. Поскольку Единородного Бога, Зиждителя всего, «из Него же и Им же и в Нем же всяческая» (Рим. 11:36), богоборцы считают делом творением и созданием Божиим и на этом основании полагают, что Он и называется «перворожденным всея твари» (Кол. 1:15) как бы собратом твари, имеющим первенство пред нею только по времени, как, например, Рувим не по естеству имеет предпочтение пред своими братьями, но первенствует пред ними старейшинством по времени. Но, во–первых, на это должно ответить им, что одного и того же нельзя признавать и единородным, и перворожденным. Ибо ни единородного нельзя представлять с братьями, ни первородного без братьев; но если единородный, то братьев не имеет, если же из братьев первородный, то единородным не является и не называется им. Итак, эти понятия несоединимы и между собой несовместимы в одном и том же лице, так что невозможно одному и тому же именоваться двояко: и единородным, и первородным. Но Писание говорит о Слове, которое «было в начале» (Ин. 1:1), а Павел, опять–таки, что Единородный Бог «перворожден всея твари» (Кол. 1:15). Итак, следует на основании истины точно определить каждое из этих имен. Таким образом, предвечное Слово есть «Единородный», а когда после этого во Христе совершилось все творение, [тогда] Слово, ставшее плотью, стало «Первородным». И какое представление сложится у нас, когда мы постигнем, что Он «перворожденный из мертвых» (Кол. 1:18) и «первородный во многих братьях» (Рим. 8:29), то же самое, соответственно, будем мыслить мы и о «перворожденном твари» (Кол. 1:15). Господь становится «перворожденным из мертвых», соделавшись «начатком умерших» (1 Кор. 15:20), чтобы всякой плоти открыть путь к воскресению (1 Сол. 4:14). И намереваясь нас, прежде бывших «по естеству чадами гнева» (Еф. 2:3), чрез рождение свыше водою и духом (Ин. 3:3—5) соделать «сынами дня и сынами света» (1 Сол. 5:5), Сам предшествует нам в таковом рождении, привлекая в реке Иордане на начаток нашего естества благодать Духа, так чтобы всех родившихся в жизнь чрез духовное возрождение соделать братьями Перворожденного водою и Духом. Таким же точно образом и разумея Христа перворожденным совершившегося в Нем творения, не будем далеки от благочестивого понимания. Поскольку древняя «тварь прешла» (2 Кор. 6:17), сделавшись непригодной чрез грех, то, по прешествии того, что уничтожено, необходимо явилась «новая» живая тварь (2 Кор. 6:16), образующаяся чрез возрождение и воскресение из мертвых. Началовождь ее, положивший начало жизни, соделывается и именуется «перворожденным твари» (Кол. 1:15). В немногом сказанном нами внимательные [читатели] легко найдут все, что нужно для опровержения противников и для защиты истины. А насколько эти слова содействуют добродетельной жизни, об этом немного порассуждаем.
Рувим был первородным между родившимися после него (Быт. 29:32). О родстве с ним родившихся после него свидетельствовали внешние их черты и сходство с первородным, так что братство их, о котором свидетельствовало подобие по виду, не могло быть не признанным. Итак, если и мы, чрез однородное возрождение водою и духом, соделались братьями Господа, ради нас ставшего «Перворожденным во многих братьях» (Рим. 8:29), то следует и нам в чертах своей жизни показывать родство с Ним, затем что «Перворожденный твари» (Кол. 1:15) приял на себя образ нашей жизни. Какие же черты этого образа указывает Писание? Они состоят, как многократно говорили мы, в том, что Он «греха не сотвори, ниже обретеся лесть во устех его» (1 Пет. 2:22).
Итак, если мы намерены принять на себя звание братьев Предшественника нашего в рождении, то должны свидетельствовать о своем родстве с Ним безгрешностью нашей жизни, так, чтобы никакая скверна не отделяла нас от единения с чистотою. Но Перворожденный есть и Правда, и Освящение, и Любовь, и Избавление, и тому подобное. Итак, если черты всего этого будут просматриваться и в нашей жизни, то мы явим в себе признаки нашего высокого рода, так что [каждый], видя эти черты в нашей жизни, засвидетельствует наше братство со Христом. Ибо Он отверз нам дверь воскресения и тем самым соделался «начатком умерших» (1 Кор. 15:20). А что все мы восстанем «вскоре, во мгновении ока, в последней трубе» (1 Кор. 15:52), это Он доказал тем, что соделал как с Самим Собою, так и с прочими, над кем владычествовала смерть.
Тем не менее не одинаковое состояние ожидает в будущей жизни всех восставших из праха земного, но пойдут, говорит Писание, «сотворшии благая в воскрешение живота: а сотворшии злая в воскрешение суда» (Ин. 5:29). Таким образом, чья жизнь ведет к оному страшному осуждению, тот, хотя бы ему и случилось быть причисленным чрез рождение свыше к братьям Господа, ложно носит это имя, чрез отображение в себе зла отрицаясь родства с Перворожденным. Ибо «Посредник между Богом и людьми» (1 Тим. 2:5), Собою соединивший человечество с Богом, только то соединяет, что достойно соединения с Богом. Подобно тому, как Он в Себе силою Божества соединил с Собою человека, хотя и принадлежащего как часть к естеству общему всем, но не подпавшего свойственным естеству страстям, влекущим ко греху (ибо «греха», говорит Писание, «не сотвори, ниже обретеся лесть во устех его» (1 Пет. 2:22)), точно так приведет Он в единение с Божеством и каждого, кто только не привнесет ничего недостойного соприродности с Божеством. Но если кто будет истинно «храмом Божьим» (1 Кор. 3:16), в котором нет никакого идола и изваяния порока, тот будет принят Посредником в общение с Божеством, будучи чистым для восприятия Его чистоты. Ибо ни «в злохудожную душу не внидет премудрость», как говорит слово Божие (Прем. 1:4), ни «чистый сердцем» не увидит в себе чего–либо иного, кроме Бога (Мф. 5:8). Он, прилепившись к Богу нетлением, восприял внутрь себя все благое царство. Наши слова будут яснее, если мы для объяснения сказанного будем также иметь в виду слова Господа, обращенные к апостолам чрез Марию: «восхожду», — говорит Он, — «ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17). Так говорит Посредник между Отцом и отверженными Им, примиривший Собою врагов Божиих с истинным и единым Божеством. Поскольку же, по слову пророческому, люди чрез грех «отчуждишася от ложесн и заблудиша от чрева», в котором образовались, и вместо истины «глаголаша лжу» (Пс. 57:4), то Господь, восприяв начаток общего нам естества по душе и телу, соделал его святым, сохранив в себе чистым и недоступным всякому злу, дабы чрез нетление вознести его ко Отцу нетления, чрез него привлечь вместе и все сродное и родственное ему по естеству, отверженных приять в усыновление и врагов Божиих — в общение с Его Божеством. Поэтому как «начаток примешения» (Рим. 11:16) чистотою и бесстрастием соединился с истинным Отцом и Богом, так и мы, «примешение», подобными же путями прилепимся к Отцу нетления, подражая, сколько возможно, бесстрастию и неизменяемости Посредника. Так мы будем для Единородного Бога венцом из драгоценных камней, чрез нашу жизнь став Его честью и славою. Ибо Павел говорит: «умалив» Себя Самого «малым чим от ангел» (Евр. 2:7) (по причине смертного страдания), Он соделал Себя венцом тех, кто древле грехопадением изменил свое естество в терн, по домостроительству смерти, чрез страдание претворив терн в «честь и славу». Итак, притом что Господь единожды взял грех мира и восприял на главу венец из терний, дабы соделать его венцом, сплетенным «из чести и славы», — немалая опасность для того, кто по худой жизни будет признан «волчцем» и «тернием» (Быт. 3:18; Ос. 10:8; Евр. 6:8), в средину венца Владыки вставленным, по причине общности с Ним по телу. Тот, конечно, услышит справедливый глас: «како вшел еси семо не имый одеяния брачна?» (Мф. 22:12). Как, будучи тернием, вплелся ты в среду тех, кто из «славы и чести» сплетают Мой венец? «Кое согласие Христови с Велиаром? Кая часть верну с неверным? Кое общение свету ко тме?» (2 Кор. 6:14—16).
Итак, чтобы наша жизнь не призвала когда–нибудь на нас таких слов, следует в течение всей жизни нашей стараться отвергать всякое терноподобное дело, слово и мысль, дабы, по чистоте и бесстрастности жизни став «честью и славой» (Евр. 2:7), увенчать собою Главу всего, будучи для Владыки как бы некою драгоценностью и сокровищем. Ибо «Господь славы» (1 Кор. 2:8) не может быть и именоваться Господом чего–либо бесславного. Стало быть, [только] тот, кто чужд всякого уродства и скверны, как по сокровенному, так и по внешнему человеку, соделает своим Владыкою Того, кто есть и называется «Господом славы», а не бесславия.
Христос есть также «начаток» (Кол. 1:18). Начаток же всякого дела не отличается от того, что следует за ним. Если кто стал бы утверждать, что начаток есть жизнь, то, конечно, жизнью будет и то, что мыслится следующим за начатком; и если начало свет, то светом будет признаваемо и то, что за ним. Итак, чему полезному научает нас вера в то, что Он есть «начаток» ? Быть такими, каков, как [неколебимо] веруем, есть наш Начаток. Ибо свет не именуется начатком тьмы и, когда в начале стоит «жизнь», то, что соседствует с началом, нельзя представлять «смертью». Поэтому, если кто не имеет соприродности с тем, что в начале, связывая себя с Начатком посредством бесстрастия и добродетели, для того не бывает началом Начаток сущего. Темной жизни начаток — «миродержитель тьмы» (Еф. 6:12), смертоносного греха — «имый державу смерти» (Евр. 2:14). Тот, кто порочной жизнью подчинил себя началу тьмы, не может называть своим начатком Начало всякого блага.
Ту же самую мысль [читатели], исследующие божественные глаголы ради собственного блага, найдут и в именовании Христа «Царем правды и мира» (Евр. 7:2). Ибо молящийся по учению молитвы: «да придет» на него «царствие» Божие (Мф. 6:10), зная, что истинный царь есть «Царь правды и мира», конечно, [и] в собственной жизни явит правду и мир, чтобы правил им, как просит он, «Царь правды и мира». Следовательно, всякая добродетель мыслится как войско Царя; ибо под именем «правды и мира», думаю, должно разуметь все добродетели. Итак, если кто, оставив строй царского воинства, поступит в войско иноплеменников, став ратником изобретателя зла, совлекши с себя «панцирь правды» (Еф. 6:14) и [полное] вооружение мира, то как будет принят в рядах Царя мира тот, кто стал [презренным] беглецом от истины? Очевидно, знак на его вооружении покажет, кто царствует над ним. [В нашем случае] вместо изображения, начертанного на оружии, вождь отобразится в свойствах жизни [человека]. Сколь «блажен» тот, кто стоит в рядах божественного воинства и находится в строе исчисляемых тысячами и вооружился против зла добродетелями, которые знаменуют образ Царя на том, кто облекся ими.
Стоит ли простирать слово наше далее, по порядку предлагая для исследования все речения, какими изъясняется имя «Христос» и какие могут быть нашими вожатаями к добродетельной жизни? Ведь каждое имя свойственным ему значением, конечно, содействует жизненному совершенствованию! Думаю, однако, что хорошо будет припомнить и подытожить в памяти все сказанное нами, чтобы иметь в нем некоторое руководство к той цели [нашего] слова, которую мы поставили вначале, спрашивая: как можно достигнуть своего совершенства? Полагаю, если кто всегда будет иметь в мысли, что он есть общник достопоклоняемого имени, нося, согласно решению апостолов (Деян. 11:26), название «христианин», тот неизбежно выразит в себе силу и всех других имен, под которыми подразумевается Христос, своею жизнью сделавшись общником каждого наименования.
Скажу так: есть три характерных принадлежности жизни христианина: действие, слово, образ мыслей. Из них главенствующая роль принадлежит образу мыслей, ибо мысль служит началом всякого слова. Второе место после образа мыслей занимает слово, выражающее мысль, звуком напечатленную в душе. Третье же место после ума и слова принадлежит деятельности, которая мыслимое переводит в действие. Итак, поскольку жизнь наша последовательно выражается в том или ином из них, то хорошо будет, если во всем: и в слове, и в деле, и в мысли — мы неукоснительно будем иметь в виду эти божественные понятия, под которыми разумеется и которыми именуется Господь, дабы ничто в нас: ни дело, ни слово, ни образ мыслей — не было чуждо силы этих высоких имен. Ведь, как говорит Павел, все, «еже не от веры, грех есть» (Рим. 14:23). Выводя отсюда следствие, можем прямо сказать, что всякое Дело, слово, всякая мысль, не направленные ко Христу, непременно направлены к тому, что Христу противостоит. Ибо кто вне света и жизни, тот, конечно, во тьме и смерти. Все, что совершается, говорится и мыслится не по Христу, имеет сношение с тем, что противостоит благу. Что отсюда открывается очевидно для каждого: оставляет Христа тот, кто бывает вне Его — тем ли, что мыслит, тем ли, что делает, или тем, что говорит. Таким образом, истинно божественное слово пророка, которое гласит: «преступающим непщевах вся грешныя земли» (Пс. 118:119). И как отрекшийся от Христа во время гонений есть преступник в отношении поклоняемого имени, так и тот, кто отречется от Истины, или Правды, или Освящения, или иного чего, мыслимого как добродетель, и в пору господства страстей отречется от [своей] жизни, тот, по слову пророка, именуется преступником, в каждом из преступлений этих изменяя своею жизнью Тому, Кто заключает в Себе все эти совершенства. Итак, что должно делать тому, кто удостоен именоваться великим именем Христовым? Что иное, как не тщательно различать в себе мысли, и слова, и дела, направлено ли каждое из них ко Христу или чуждо Христа? А различить очень легко. Ибо что совершается, или мыслится, или говорится под влиянием какой–либо страсти, то не имеет никакого согласия со Христом и носит на себе черты противостоящего, который страстями, словно грязью, пачкая жемчужину души, гасит блеск драгоценного камня. А то, что чисто от всякого страстного расположения, направлено к Началовождю бесстрастия, который есть Христос. Кто черпает для себя мысли из Него, как из чистого и нетленного источника, у того окажется такое же сходство с Первообразом, как у воды, струящейся в источнике, с водою, которая оттуда налита в сосуд. Ибо одинакова по естеству чистота, усматривается ли она во Христе или в том, кто приобщается Ему. Христос источает, а приобщающийся черпает, претворяя в жизнь красоту, заключенную в мыслях; так что происходит согласие внутреннего человека со внешним, коль скоро благовидность жизни совпадает с направлением мыслей по Христу.
Итак, в том состоит, по моему суждению, совершенство христианской жизни, чтобы со всеми именами, выражающими значение имени «Христос», иметь общение душою, и словом, и образом жизни, так, чтобы, по благословению Павла, на нас постоянно сохранялось во всей полноте, без всякой примеси зла, освящение «во всецелом теле и душе и духе» (1 Сол. 5:23). Если же кто скажет, что благо труднодоступно, ибо один Господин творения неизменяем, а человеческое естество изменчиво и склонно к переменам, и как можно в изменчивом естестве достичь твердости и неизменности в добре? — на эти слова мы возразим, что никто не может быть «увенчан», если «не законно будет подвизаться» (2 Тим. 2:5); а не может быть законного подвига, если нет противоборствующего. Следовательно, если бы не было противника, не было бы и венца; победа сама собою не существует, если нет побеждаемого. Итак, мы подвизаемся против самой изменчивости нашего естества, мысленно борясь с нею, словно с неким противником, достигая победы не тем, что ее ниспровергаем, но тем, что не попускаем ей пасть. Ибо не к одному только злу направлена изменяемость человека (невозможно было бы ему пребывать в добре, если бы по природе он имел склонность к одному только тому, что противно добру); но изменяемость производит и прекраснейшее дело — возрастание в добре, когда изменяющегося к лучшему изменяемость в сторону добра постоянно приближает к Божеству. Таким образом то, что кажется страшным (я имею в виду изменчивость нашего естества), есть словно бы некое крыло для воспарения к большему — [в этом] убеждает [наше] рассуждение. Так что было бы даже вредом для нас, если бы наша природа не допускала изменяемости к лучшему. Итак, пусть не скорбит тот, кто видит в своей природе склонность к изменению; но, непременно изменяясь к лучшему и «преобразуясь от славы в славу» (2 Кор. 3:18), переменяется так, чтобы чрез ежедневное возрастание постоянно становиться лучше, всегда совершенствоваться и никогда не доходить до предела в совершенстве. Ибо истинное совершенство в том и состоит, чтобы никогда не останавливаться в возрастании к лучшему и никаким пределом не ограничивать совершенства.
На слова Писания: «а блудяй, во свое тело согрешает» (1 Кор. 6:18.)
Грозная труба апостольскаго наставления, возвещая воинству многия и другия правила благочестия, особенно же отгоняя от бездн студодеяния, прилагает в конце и воинское предписание: «бегайте», говорит, «блудодеяния; всяк грех, его же аще сотворит человек, кроме тела есть» (1 Кор. 6:18.). Борцы чувственных войн усовершаются в боевом искусстве, то прямо нападая на противника, то уклоняясь от него бегством. Есть и брань духовная, в которой также потребно искусство противоборства и бегства. Зная сие, Павел ведет свое воинство к тому и другому роду искусства благочестивой брани; то учит постоянству в битве: «станите препоясани чресла ваши истиною» (Ефес. 6:14.); то советует обманывать противника бегством: «бегайте блудодеяния» (1 Кор. 6:18.). Если случится война со стороны неверия, то полезно противостоять ему; если же враг угрожает коварством, то хороша против таких противников засада. Если напрягается лук клевет, то полезна борьба с ложью лицем к лицу; если же уязвляет образ блудный, то полезнее дать тыл и бежать от прямой встречи с ним; ибо прелюбодеяние направляет свои стрелы в глаза. Посему должно помнить приказание военачальника: «бегайте блудодеяния». Ибо блуд есть такой порок, от котораго должно бежать более, чем от других. Другие злые виды греха, по–видимому, щадят тело совершающих, и соделанное останавливается только на том, кого коснулось дело; например, в грабежах терпят вред только ограбленные, в пороке зависти сила страсти обрушивается только на тех, коим завидуют; в клеветах, если им верят, опять опасность только для оклеветаннаго, в убийствах несчастие убитому; и если кто обратит внимание на последствие всех неправых дел, тот найдет, что неправо поступающие получают прибыль, а вред терпят претерпевающие неправду. Но прелюбодеяние не знает этого разделения, не отделяет дела подвергшагося ему от дела совершившаго, но наносит вред обоим вместе, соединяя блудника и блудницу общим союзом осквернения, и обезчестивший тело подвергается одинаково безчестию с обезчещенным. Убийцы, умерщвляя, случается, не умирают вместе с убитыми; осквернивший же плоть и сам сопричастен осквернению.
И посмотри со мною на эту тонкость в словах Апостола: «бегайте», говорит, «блудодеяния». Почему? Потому что «всяк грех, его же аще сотворит человек, кроме тела есть» (то есть не вредит естеству тела, а совершается вне тела человека причинившаго вред), «а блудяй во свое тело согрешает» ; не как убийца, который против чужаго тела (грешит), сохраняя свое неуязвленным; не как любостяжательный, который вредит иному, остерегаясь вреда собственному телу; блудник сам себе вредит, сам себя пронзает стрелою безчестия. Вор решается на воровство, чтобы питать тело, а блудник заботится об ограблении собственной плоти. Любостяжательнаго побуждает к хищению мысль о приобретении корысти; блудодеяние же наносит ущерб чистоте тела. Завистливому причиняет страдание слава другаго, а блудник сам содевает собственное безславие. Ибо что безчестнее бремени блудодеяния? Всякое рабство греху безславно, ибо безчестит благородство души; но блудодей есть самый безславный раб греха; ибо осужденный им выгребать свои нечистоты, он собирает кучи скверн и исправляет нечистую работу. Не гнусно ли ходить около нечистот, тереться около предметов постыдных, иметь тело не отличающееся от рубища? Ибо какое различие между рубищем и блудодеем? Он отторгается оть тела Церкви, разрушается ежедневным гниением — греховными удовольствиями, отбрасывается как ненужное рубище, лежит на попрание всем демонам. На нем диавол отпечатлевает свою гнилость.
Внешнее положение блудника не менее дурно, как и внутреннее состояние. От него бегут в домах, отвращаются в собраниях; он оскорбление для сближающихся с ним, предмет презрения для враждебных ему, позор для родственников; его проклинают служители, он печаль родителям, посмешище для домашних, предмет для смеха и разговора соседям: его отвергают при попытках жениться; после брака он подозрительный супруг. Видя блудодеяние материю такого множества зол, Павел заповедает победительное бегство: «бегайте блудодеяния».
Сии слова напомнили мне ныне целомудреннаго юношу, бегством восторжествовавшаго над египетским блудодеянием. Многое склоняло юношу к увлечению: возраст, в котором сильна любовь к удовольствиям, иго рабства, любовное прельщение госпожи; ибо говорит Писание: «бысть сицевый некий день, и вниде Иосиф в дом делати дела своя: и никтоже бяше от сущих в дому внутрь: и ухвати» госпожа «за ризы глаголющи: лязи со мною» (Быт. 39:11–12). Велико достоинство целомудрия! Госпожу оно сделало рабою раба. Разжена была стрела блуда, но она не нашла в душе сгараемаго вещества и угасла в одежде. Она говорила: «лязи со мною», а целомудрие гласило юноше напротив: бодрствуй со мною, и он на деле показал неусыпность. Ибо бодрость духа не воздремала от прельщений, ум не заснул от очарований. Но для него горьче брани был голос госпожи, приказывавшей: «лязи со мною».
Готовым стоял невестоводитель блуда, — диавол, и вместе с блудницею тянул одежды и соучаствовал в ея уловках, но не знал он, что вступил в борьбу с искусным и опытным подвижником целомудрия, хорошо ускользающим от ея уловок; ибо, говорит Писание, «оставив ризы своя в руках ея, убеже и изыде вон» (Быт. 39:13.). О нагота, более скромная, чем прикрытая одеждою! Что же неистовство египетскаго безпутства? Свои пороки слагает на Иосифа, и прибежав к мужу, говорит: ты ввел к «нам отрока Евреина наругатися нам» ; ибо он сказал мне: я лягу с тобою. «Егда» же «возвысих глас мой и возопих», остави «ризы у мене и отбеже» (Быт. 39:14–15.).
Опять Иосиф оклеветывается из–за одежды. Прежде, братья, взяв его одежду, при помощи ея злодейственно клеветали на него, что он растерзан зверями; теперь женщина, взявши одежду, оклеветывает его в блудодеянии. К Иосифу прилично применяются слова Господа: «разделиша ризы моя себе» (Псал. 21:19.). Но, о праведное попечение Божие о Иосифе! Он не прославил Иосифа прежде искушений, но в сновидениях показал ему будущее, научая, что издалека еще благоуготовил Он праведным славу; соизволил же искушением испытать юношу, чтобы заградить уста порицателей. Ибо еслибы Иосиф не дал опыта (своей добродетели), то порицатели сказали бы, что события египетския дело слепаго случая. Иосиф царствует и отрок повелевает варварами. Какую доблесть оказал он? За какую добродетель достиг сего? Предупреждая такие толки о праведнике, Бог соизволяет на искушение его, чтобы оно было для праведника свидетельством, и заградило уста порицателей. Итак будем отвращаться от стрел, которыя мещет образ блудный. Закроем глаза от сластолюбия; целомудрие пусть бдит над охраною тела, чистота да вселится в члены, чтобы таким образом тело было обиталищем Духа. Припишем и самый приговор, который возглашает страшное для распутных определение: «аще кто храм Божий растлит, растлит сего Бог» (1 Кор. 3:17.).
Против тяготящихся церковными наказаниями
Разум есть по истине божественное и священное дело Божие, превосходное стяжание, не отинуды привзошедшее, но с самою природою человека соединенное, драгоценнейший дар, нисшедший в него от Зиждителя. Посему и говорится, что человек создан по подобию Божию (Быт. 1:26). Им он и отличается от прочих животных, и этим особенно богоподобным преимуществом запечатлевается, в прочем имея очень много общего с животными. Ибо форма глаз и состав всего тела, как наружный вид его, так и то, что скрыто в желудке, не дают особого преимущества человеку; поелику мы видим, что и обитающие на земле и в воде, и летающие по воздуху и вообще все животные имеют тоже самое. Но разум делает человека владыкою всего, и служит признаком его счастья. Чтó Бог имеет изобильно, то даровал нам в малой мере, чтобы мы прежде всего устремляли взор свой к Нему, познавали Разум, подающий разум, и служили бы Тому, кто так прекрасно украсил нас собственным совершенством. Посредством разума мы, будучи слабы телом, делаемся сильнее сильных, все порабощаем себе и заставляем служить нашим нуждам. Так мы укрощаем волов, налагаем на них ярмо и заставляем плугами рассекать землю, и быстрого коня сдерживая уздою делаем послушным, и ленивого осла, побуждая палкою, делаем более проворным, и упорных мулов принуждаем тащить колесницы и перевозить тяжести, громадных телом слонов и высоких верблюдов удобно приспособляем к тому, что нужно нам. Так мы переплываем и глубину водную, и на малом дереве при помощи мореходного искусства пробегаем неизмеримые моря, и когда не имеем указаний для этого пути, потеряв из виду землю, безопасно направляем путь свой по знакам на небе, и плавателя, как и волхвов, путеводит звезда. Открыты (разуму) и широта и очертание неба, и множество звезд, и то, какую каждая имеет величину, и расстояние и фазы луны, и что бывает с солнцем, когда оно на некоторое время скрывает лучи свои. Мы рассуждаем даже и о причинах колебания земли, и отчего она потеряв естественную устойчивость, и сама волнуется и потрясает живущих со всем, что находится на ней. Наблюдая признаки погоды, мы предусматриваем засухи и предсказываем дожди. Вникая разумом в произведения земли, мы исследуем свойства растений, и находим одно полезным для целения ран, другое способствующим сну для страдающих бессонницею, иное целительным для печени, а иное уничтожающим воспаление селезенки. Не говорю о знаниях, умалчиваю об искусствах, одних необходимых, других служащих ко всякому удовольствию, о разнообразной области занятий.
Но такое животное, мудрое, способное к деятельности, к труду, одаренное памятью, видящее и около себя и вдали, увлекаясь разнообразными удовольствиями и различными страстями, одно оставляет без внимания, — истинную жизнь и собственное спасение! Наблюдая изменения ветров, ты не обращаешь взора к воскресению; зная годовые перемены, не обращаешь внимания на перемену жизни; требуя от собственнаго раба отчета в его делах, пренебрегаешь властью своего Судии и Господа. Это свойственно не разумному существу, но извратившему разумность в безумие. Правды не сохраняешь, добродетели не научаешься, о молитве не радишь; это обнаружил вчерашний день. Какими глазами ты смотришь на воскресный день, обесчестив субботний? Разве ты не знаешь, что эти дни как бы братья? Если ты обидел один, не оскорбляешь ли тем другого? Имея ум и рассудок, ты не предусматриваешь приличного и полезного, не прилагаешь заботы, соответственной бессмертию твоего естества и не рассуждаешь о своей природе, — кто ты таков и чем можешь быть. Но ты предал дар Божий чреву, сладострастию, праздности и сну, так что он стал для тебя ненужным, бесполезным и тщетным. Это весьма постыдно, детски неразумно и достойно тяжкого осуждения. Менее было бы зла, если бы не умея рассудить собственным умом и сами собою, что для нас полезно, поверили другому, когда тот указывает нам полезное. Но на деле не так; мы очень не любим учителей, с неприятностью сносим их наставления и тяготимся советами; чувствуем тошноту от учения хорошему, как больные расстройством желудка от питательной пищи, предлагаемой им врачами. Если сделают упрек, сердимся; если услышим строгое слово, негодуем; если отлучением затворятся для нас церковные двери, богохульствуем. Это не есть поведение, свойственное учащимся: это — не послушание учеников, но прения возмутителей и бунтовщиков. Ученик, который хочет приобресть знание какого–либо мирского искусства или науки, должен стоять на ряду с дитятею; а кто желает достигнуть совершенства в благочестии, тому тем более полезно быть младенцем, что и Господь сей возраст почтил Своими похвалами, как особенно способный к повиновению. Но отрок не посягает на черты и линии, которые учитель делает на навощенной доске и не чертит новых букв по глупому своему своеволию, делая нововведения в письменах; он сперва грифелем упражняет руку по чертам проведенным учителем и не дает иных именований буквам, но те, которые слышал; всячески словом и делом он подражает передаваемому руководителем. А если за нерадение и наказывается плеткою, то не становится дерзким от наказания, не уходит от учителя, разбив доски, но пролив немного горьких слез, принимается за учение и делается внимательнее, а не нерадивее. Если же в другой раз опять по молодости окажется небрежным, ему приказывают оставаться без пищи, и нерадение наказывают голодом; остается также в училище один, когда другие дети уходят обедать, исполняя приказание с большим уважением. Но не так ведет себя христианин, который слышал: «аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство небесное» (Матф. 18:3). Если он увидит священника, строгим видом и голосом обличающего согрешение, открыто противоречит, ворчит сквозь зубы, и обходя площадь и улицы ругается. А если он отлучен от церкви, презирает молитву, явно отдаляясь от народа и от таинств. Случается, что даже и не подвергшийся такому наказанию, сам себя удаляет от церкви по гневу на епископа, отвращаясь от Бога и Господа. Такому можно сказать тоже, что сказано было Павлу, когда он был еще Савлом: «жестоко есть ти противу рожна прати» (Деян. 9:5). Если ты сам удалил себя от Бога, то размысли, что удаляющийся от солнца проводит жизнь во мраке и тме. Если ты отстранен от молитв как недостойный, покаянием возврати себе прежнее состояние.
В евангелиях не писано ничего ложного, и предреченное Христом несомненно исполняется. Чрез Петра Он дал епископам ключи небесных почестей; знай же, что разрешенный ты будешь разрешен, и связанный духовными узами, ты будешь связан. Если бы ты мог видеть существо души, я показал бы в тебе отлученном образ осужденного, по шее скованного тяжкими оковами, не имеющего свободным или разрешенным ни одного члена. О, если бы еще этою жизнью ограничивалось наказание! Но теперь, если что человеческое случится, и вдруг предстанет кончина, как тать в нощи, знай, что для тебя заключено и там. Внимательны и не шутят стражи врат царствия; они видят душу, имеющую знаки отлучения; как бы узника, который имеет на себе следы зловония и нечистоты темничной, они гонят ее с пути ведущего к блаженству, не дозволяют видеть лики праведных и ангельское веселие. Жалкая же душа много обвиняя тогда себя в неразумии, плача, скорбя и стеня, будучи заключена в мрачное некое место, как бы в затвор, останется там, казнясь нескончаемым и во веки непрекращающимся плачем. «Не будите», сказано, «яко конь и меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши» (Псал. 31:9). Сие говорит псалом, смягчая упорного и как бы елеем умащая наставлениями. Итак склони выю, и как ярму подчинись приказаниям. Упорное сокрушается, а гибкое и склоняющееся выпрямляется; тебя научает этому и опыт над деревьями. Закусив узду не ввергнись в стремнину или пропасть, но подчинив выю руке всадника, направляйся по спасительному пути. Когда примешь наказание, скажи с покорным духом слова Давида: «благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправдапием Твоим» (Псал. 118:71). Не считай отлучение самовольством епископа; это отеческий закон, древнее церковное правило, начавшееся во времена закона и утвержденное во времена благодати. Посмотри на святого Павла, чрез послания посылающего приговор отлучения против виновных и врачующего этим врачевством коринфскаго юношу, грехом с мачехою по наваждению сатаны заразившегося. «Его же бо любит Господь наказует, биет же сына, его же приемлет» (Евр. 12:6). Ибо не сладки корни учения, но горьки; в последствии же произращают плод сладчайший сота. Посему занимающемуся учением нужно трудиться, а учащему употреблять наказания и строгость. В законе Моисеевом доселе остаются четыре десятерицы законных ударов, но не так в евангельском законе. Здесь говорится обо всем: здесь и милость и жезл и утешение и наказание. Ибо мы не как раба бьем тебя, но учим как свободного, потому что твой род от свободной Сарры, а не от рабыни Агари. Мы уважаем тебя как сына свободной, а не бесчестим как родившегося от служанки. Посему когда ты согрешаешь, мы подвергаем тебя свободным эпитимиям, не тело бичуя, но душу сокрушая. Если мы не будем и этого делать, то как тебя научим? Не легко передается слово учения и руководство к добродетели; оно требует различных способов наставничества, принаровляемых к существующим нравам. Послушен ли кто и удобопреклонен к назиданию? Для него прилично простое и кроткое слово. Упорен ли и необуздан? Для него нужны розги. Что же нам делать, когда розог мы не употребляем? Неужели оставить такого без вразумления? Нет! Но мы при помощи слова дадим ему иной вид, соответственный тому, какой будет нужен. И как кушанье чрез малую прибавку приправ получает противоположный вкус, из горького делаясь сладким, и из сладкого переменяясь в горькое; так и наше слово чрез приложение новых форм, приспособляется к различным нуждам, дабы соответствовать воспитанию каждого.
И так, не порицай меня по углам, называя мой способ учения грубым, и соучастников преступлений твоих делая соучастниками своих ругательств на меня; не седи судя епископа на совете суетном. А я не буду возмущаться душею, как бы новое что терпя, если упорнейшие из учеников негодуют на меня; ибо таково свойство человека, неразлучное с ним от начала до конца жизни, что начальник вообще тяжел для всех подчиненных, а для преступных и беззаконных даже ненавистен. Ибо запрещающий грех огорчает; меня научает в этом достаточно, кроме посторонних свидетельств, и священная история. Какой пастырь был лучше Моисея? Какой начальник был так снисходителен и кроток? Всем он был для народа, питателем, вождем, священником, истинным отцем, спасителем на войне, в пустыни доставлявшим то, чего не сеяли и не пахали, судьею снисходительным, путеводителем верным; но и при всем том против него возмущались как против несправедливого, оскорбляли как вредного, роптали как на татей и обманщиков, злословили как неискусного вождя и не добраго начальника; он был в опасности лишиться и самого священства, когда Дафан, Авирон и сыны Корея, увлекши с собою мятежный народ, непризванные, усиливались быть священниками святилища, устроили себе кадильницы, едва не прикоснулись к святыне и возжгли таинственный огнь, который прежде фимиама сжег куривших. Так много поводов подает к негодованию начальство над народом и должность учителя, что даже братья не пощадили Моисея; но и Мариам противоречила, и Аарон порицал, и бремя власти извратило чувство родственной любви и восстановило против много потрудившегося мужа самых близких ему. Но это ничто было для Моисея; ибо он был все тот же Моисей, и не сделался хуже себя, а они вызвали и понесли от Бога наказания за свои вины против вождя. Что было с преемниками Моисея? Исаия учитель благочестия не был ли перепилен? Иеремию за то, что не переставал вопиять обличая идолослужение, разве не приняли в наказание рвы и водотечи? Захария не подвергся ли нападению, и не был ли убит между церковью и алтарем? Сам Господь наш не был ли заклан как пастырь за овец? Не по ненависти ли к наставлениям распят был? Что было причиною отсечения главы Павла? Что вознесло Петра на крест? Что предало различным мукам одного за другим Апостолов? Не то ли, что они воспрещали грех, учили правде? Всегда друзья истины и учители кажутся врагами для учеников ими обличаемых. А мы за истину еще не терпели заушений, еще не было опасности для нашего тела. И что много сетовать нам служителям Распятого? Как отец или мать, я принимаю твои грубости и дерзости.
О молитве
Слово 1
Божие слово преподает нам учение о молитве, в котором достойным ученикам своим, тщательно ищущим ведения о молитве, излагает оно, какими молитвенными речениями надлежит преклонять к себе Божий слух. А я осмеливаюсь предпоставить написанному, что настоящему собранию надлежит сперва учиться не тому, как должно молиться, но тому, что непременно должно молиться, о чем, может быть, и не слыхали еще многие. Священное и божественное это дело — молитва — многими во время жизни оставляется в нерадении и небрежении. Поэтому, кажется мне, прилично будет сперва, сколько возможно, подтвердить словом, что непременно должно, как говорит апостол, «пребывать в молитве» (Рим. 12:12), и потом уже выслушать Божественное слово, излагающее нам способ, как надлежит возносить моление ко Господу.
Вижу, что в настоящей жизни о всем другом прилагается более тщания, один к одному, другой к другому устремлен душой, но благо молитвы не с усердием взыскуется людьми. Мелочный торгаш с раннего утра сидит с товарами, стараясь прежде промышляющих тем же показать покупщикам свое, чтобы, предварив других, удовлетворить потребности нуждающегося и продать свое. А также и покупщик, имея в виду не остаться без потребного ему, если прежде захватит это другой, спешит не в дом молитвы, а на рынок. И у всякого, кто имеет равное пожелание получить выгоду и старается предупредить ближнего, тем, о чем он заботится, похищается час молитвы, будучи перенесен на торжище. Так занимающийся рукоделием, так и упражняющийся в пауках, так подсудимый, так получивший право судить — каждый, всецело увлекаясь заботой о том, что у него под руками, предает забвению упражнение в молитве, признавая богомыслие утратой для предлежащего ему дела, потому что, кто занимается искусством, тот Божие в предлежащем ему деле содействие почитает чем–то бесполезным и ни к чему не служащим, почему, оставив молитву, возлагает надежду на свои руки, не памятуя о Том, Кто дал ему эти руки. А также, кто прилагает попечение об образовании в себе дара слова, тот не помышляет о Том, от Кого имеет сей дар, но как будто сам себя возвел в естество, обращает внимание только на себя и предается изучению уроков в той мысли, что от Божия содействия не будет для него ничего доброго, своей тщательности отдает предпочтение перед молитвой. Подобно этому, и прочие занятия заботой о телесном и земном не дают душе досуга на попечение о важнейшем и небесном.
Поэтому–то великий это в жизни грех, непрестанно от разных приращений более и более увеличивающийся, соединенный со всеми человеческими заботами, отчего и забвение о Боге преобладает всеми, и благо молитвы не включается людьми в число заслуживающего их заботы. С торговлей привходит любостяжательность, а любостяжательность есть идолослужение. Так земледелец не с необходимыми потребностями соразмеряет труды земледелия, но, простирая всегда тщательность до большей меры, доставляет греху свободный вход в занятие тем, что вносит его в чуждые пределы. Отсюда происходят нескончаемые споры, когда одержимые подобным недугом любостяжательности входят между собой в состязание о границах земли. От этого раздражения, побуждения к злым делам и взаимные нападения друг на друга часто оканчиваются кровопролитием и убийством. А также усильные хождения по судам, изобретая тысячи извинений неправде, служат множеству разных грехов. Судья или произвольно за взятку кривит весами правосудия, или, против воли введенный в обман старающимися затемнить истину, подтверждает неправду. И что если пересказать подробно это множество видов и способов, какими грех примешивается к человеческой жизни?
Причина же греха не иное что, а единственно то, что люди к тем средствам достигнуть желаемого, какие у них под руками, не хотят присовокупить и Божию помощь. Если усиленному старанию предшествовать будет молитва, то грех не найдет доступа к душе. Пока в сердце твердо памятование о Боге, недействительными остаются примышления сопротивника, потому что в делах сомнительных везде за нас ходатайствует правда. Молитва и земледельца удерживает от греха, на малом пространстве земли умножая плоды, так что грех не входит уже с пожеланием большего. Так путешественник, так вступающие в воинские ряды или в супружество, так всякий, к чему бы ни было направлено его стремление, если каждое дело будет делать с молитвой, благоуспешностью в том, чем он занят, будет отвращен от греха, так как ничто противное не увлечет душу его в страсть. Если же кто отступит от Бога, всецело предастся собственному усилию, то, став вне Бога, по всей необходимости непременно перейдет он во власть противника. Отлучается же от Бога тот, кто не в единении с Богом посредством молитвы.
Поэтому надлежит нам тому сперва научиться в этом слове, что «подобает всегда молитися, и не стужати» (Лк. 18:1). Ибо следствие молитвы — то, что бываем мы с Богом, а кто с Богом, тот далек от сопротивника. Молитва есть охранная стража целомудрия, доброе направление раздражительности, обуздание кичливости, очистительное средство от памятозлобия, истребление зависти, уничтожение неправды, исправление нечестия. Молитва есть крепость тела, обилие в дому, благоустройство в городе, могущество царства, победный памятник на брани, безопасность во время мира, собрание разъединенных, постоянная совокупность соединившихся. Молитва есть печать девства, верность супружества, оружие путешественников, страж спящих, смелость бодрствующих, плодоносие земледельцев, спасение плавающих. Молитва — защитник подсудимых, освобождение узников, успокоение утружденных, ободрение скорбящих, удовлетворение радующихся, утешение плачущих, венец вступающих в супружество, торжество в день рождения, погребальная пелена умирающим. Молитва — собеседование с Богом, созерцание невидимого, несомненная уверенность в вожделеваемом, равночестие с ангелами, преспеяние в добре, низложение зла, исправление согрешающих, наслаждение настоящим, осуществление будущего. Молитва Ионе кита сделала жилищем, Езекию из врат смерти возвратила к жизни, а трем отрокам пламень обратила в «дух росный» (Дан. 3:50), израильтянам воздвигла памятник победы над амаликитянами, сто восемьдесят пять тысяч ассириян поразила в одну ночь невидимым мечом; и, кроме сего, можно найти в том, что было уже прежде, тысячи примеров, из которых делается явным, что из всего ценимого в жизни ничто не выше молитвы.
Но, хотя время уже заняться самой молитвой, однако же, присовокупим еще нечто к слову, потому что по Божией благодати благ всякого рода у нас много, для воздаяния же за полученное имеем у себя это одно: возможность платить долг Благодетелю молитвою и благодарением. Поэтому рассуждаю, что если и целую жизнь продолжим свое собеседование с Богом, пребывая в благодарении и молитве, то воздаяние наше будет так же малоценно, как если бы мы не позаботились еще положить и начала исполнению этой обязанности — чем–либо воздать Благодетелю. Продолжение времени делится на три отдела: прошедшее, настоящее и будущее. Этими тремя отделами объемлется благодеяние к нам Господне. Помыслишь ли о настоящем? Ты о Господе живешь. Или о будущем? Он для тебя — упование ожидаемого. Или о прошедшем? Тебя и не было бы, если бы не от Него получил бытие, — тем самым ты облагодетельствован Им, что получил от Него бытие, облагодетельствован и тем, что пользуешься бытием, потому что о Нем живешь и движешься, как говорит апостол (Деян. 17:28). Да и надежды на будущее зависят от этого же благодеяния. Сам ты властен только в настоящем, так что если бы и во всякое время не переставал ты благодарить Бога, то едва мог бы возблагодарить за настоящее, не находя никакого способа воздать должное и за будущее и за прошедшее. А мы настолько скудны в должной благодарности, что и по мере возможности не бываем признательны, не говорю — целого дня, даже большей части дня не уделяя на богомыслие. Кто распростер для меня землю? Кто промыслом Своим и влажное естество сделал проходимым? Кто устроил мне «небо яко камару» (Ис. 40:22)? Кто носит передо мною светильник солнца? Кто посылает источники в долину? Кто уготовил русла рекам? Кто отдал мне в услужение бессловесных животных? Кто меня, неодушевленный прах, сделал причастником жизни и разумения? Кто сие бренное образовал по подобию образа Божия? Кто омраченный во мне грехом Божий образ снова привел в первоначальную красоту? Кто меня, изгнанного из рая, удаленного от древа жизни, скрытого в бездне вещественной жизни, влечет к первоначальному блаженству? «Несть разумеваяй» (Рим. 3:11), говорит Писание. Взирая на это, должны мы были бы во все продолжение времени жизни бесконечное и непрерывное воздавать благодарение.
Но теперь все почти человеческое естество бдительно для одного вещественного, об этом вся его тщательность, к этому все усердие, это составляет предмет и памятования, и надежды. Неусыпно и неудержимо во всяком деле естество человеческое к вожделению большего, где только может еще быть найдено что–либо большее, в чести ли это и славе, в избытке ли имущества или недуга раздражительности, — везде естество наше имеет в виду достигнуть в этом большего, об истинных же благах Божиих или известных по обетованию нет и помышления.
Но время исследовать по возможности смысл речений, употребленных в молитве, ибо явно, что получить желаемое нами делается для нас возможным только когда узнаем, как надлежит сего испрашивать. Поэтому какое же преподано об этом учение? «Молящеся», сказано, «не лишне глаголите яко же язычницы: мнят бо яко в многоглаголании своем услышани будут» (Мф. 6:7–8). Хотя содержание этого учения, будучи изложено нам просто, само по себе может быть ясно и не требует никакого более тонкого изыскания, однако же достойно для нас исследования, что значит речение «лишшеглаголание», чтобы, дознав смысл этого слова, не делать нам запрещенного.
Мне кажется, что Господь уцеломудривает суетность ума, обуздывает погружающихся в суетные пожелания и потому изобрел это не употребительное до сих пор и новосоставленное речение в обличение неразумия тех, которые развлекаются пожеланиями бесполезного и суетного. Ибо слово благоразумное, осмысленное и направленное к полезному в собственном смысле называется словом, а произносимое неисполненными пожеланиями ради неосуществимого удовольствия есть не слово, но лишшеглаголание, или, как иной, выражая мысль более употребительными словами, сказал бы, пустословие, бессмыслица, вздор и что–либо другое подобное этому значению. Поэтому что же внушает нам слово это? Во время молитвы не подвергаться тому же, что, например, происходит в детском уме. Ибо несовершенные умом не о том думают, что могло бы действительно быть исполнено по их мысли, но самовластно строят себе какую–то счастливую судьбу, предполагая сокровища, супружество, царства, большие города, называемые их именами, представляют себя обладателями того, что изобразила им суетность помыслов, а иные еще смелее предаются такой суетности и, преступив меру естества, или делаются мысленно птицами, или сияют подобно звездам, или носят в руке горы, или небо представляют для себя удобопроходимым, или предполагают прожить тысячи лет, из стариков делаясь молодыми, или иные подобные им похожие на пузыри и пустые представления порождает сердце в юных умом; поэтому, как и в делах обыкновенных не рассуждающий о том, чем достигается какое–либо из благих желаний, но осуетившийся неисполнимыми пожеланиями, как человек неразумный и жалкий, в этих грезах тратит время, в которое мог бы подумать, как сделать для себя что–либо полезное, так и тот, кто во время молитвы устремлен не к тому, что полезно душе, но просит Бога оказать благоволение страстным движениям его ума, как человек нелепый, есть действительно лишшеглаголивый, молящийся о том, чтобы Бог стал содейственником и служителем его суетностей. Скажу для примера: приступает кто–либо с молитвой к Богу и, не уразумев умом высоты того могущества, к какому приступает, сам того не понимая, оскорбляет сие величие срамными и низкими прошениями. Как если кто по чрезвычайной бедности или грубости, глиняные сосуды почитая для себя многоценными, а потом, пришедши к царю, готовому раздавать богатства и чины, отложив в сторону прошения, какие прилично предлагать царю, станет у почтенного таким саном просить, чтобы из глины лепил, что для него желательно, — так и невежественно пользующиеся молитвой не возносятся сами до высоты Дающего, а, напротив того, желают Божественное могущество низвести до собственного своего низкого и земного пожелания и поэтому страстные стремления простирают к Тому, Кто видит сердца, и простирают не для того, чтобы уврачевать неуместные движения сердца, но чтобы соделалось оно еще худшим, когда лукавое сие стремление при содействии Божием увенчается делом. Поскольку такой–то оскорбляет и сердце к оскорбляющему расположено неприязненно, то говорит Богу: «Порази его», как бы так вопия: «Моя страсть да соделается и Твоей, моя злоба да перейдет и в Тебя». Как в человеческих битвах невозможно стоять за кого–либо с одной стороны, не чувствуя вместе с гневающимся раздражения на противоборствующего, так, очевидно, и возбуждающий Бога против своего врага просит Его, чтобы вместе с ним прогневался и стал участником в раздражении. А сие значит Божеству прийти в страсть, уподобиться человеку и благое естество претворить в зверскую жестокость. Так славолюбец, так по гордости желающий себе больше и больше, так усиливающийся одержать победу в судопроизводстве, так поспешающий получить венец в телесной борьбе, домогающийся ободрения на зрелищах, а часто и истощенный неистовой страстью юности, — все они возносят моления к Богу не о том, чтобы освободиться от преобладающего в них недуга, но о том, чтобы болезнь в них достигла своего предела, а поскольку каждый из них не успеет в этом признать для себя несчастье, то подлинно они лишнее глаголют, умоляя Бога, чтобы стал Он содейственником умственного их недуга; а что всего хуже, им желательно, чтобы Божество принимало противоположные стремления, деля Божию действенность на жестокость и человеколюбие, потому что о Ком желают, чтобы милостив и кроток был к ним, Того же просят показать себя жестокими и немилостивым к их крагам. Какое неразумие лишшеглаголющих! Если Бог жесток к ним, то, без сомнения, не благосклонен и к тебе. А если по надежде твоей к тебе преклоняется на милость, то почему придет в противоположное расположение, переменив милость на жестокость?
Но у любителей споров под руками на это возражение. Ибо в защиту своей жестокости немедленно представляют пророческие слова, а именно: Давида, желающего «да погибнут» грешные (Пс. 9:4) и молящегося о постыжении и посрамлении врагов (Пс. 82:18); Иеремию, изъявляющего желание видеть «мщение» Божие на сопротивных (Иер. 11:20); Осию, испрашивающего дать врагам «утробу неплодящую и сосцы сухи» (Ос. 9:14), собирают и многое другое, рассеянное в разных местах Священных Писаний, доказывая, что должно молиться об отмщении противникам и благость Божию делать содейственницей своей жестокости. Но, чтобы как бы мимоходом прекратить лишшеглаголание по сему поводу уклоняющихся в противное, о каждом из упомянутых мест предложим мы следующее.
Ни один из действительно святых, вдохновенных Духом Святым, которых речения по Божественному смотрению написаны в назидание последующим родам, не окажется прилагающим речения о чем–либо худом. Но одна цель в их словах: она клонится к исправлению естества от вселившегося в него порока. Поэтому, как молящиеся, чтобы не было больных, не было нищенствующих, желают не смерти людей, а истребления болезни и нищеты, так и каждый из святых, молясь о том, чтобы пришло в уничтожение все враждебное и неприязненное естеству, только людям наиболее невежественным подает повод к такой мысли, будто бы святые ожесточены и раздражены против людей. Ибо Псалмопевец, сказав: «Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже не быти им» (Пс. 103:35), молится о том, чтобы исчезли грех и беззаконие, потому что не человек человеку враждебен, но порочным движением воли соединенное с ним по естеству делается ему врагом. Поэтому Давид молится, чтобы исчезло зло, но человек — не зло. Ибо как быть злым подобию Благого? Так, если молится о постыжении и посрамлении врагов, то этим указует тебе на полчище сопротивников, от невидимого врага нападающих на жизнь человеческую, о которых откровеннее выражается Павел, говоря, что у нас «брань к началом, ко властем и к миродержителям тмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф. 6:12), к демонским козням, по которым представляются людям дурные случаи ко греху, приводящие в раздражение встречи, поводы к вожделениям, предлоги к зависти, ненависти, гордости и подобным порокам. Видя, что все это злокозненно окружает душу каждого, великий Пророк, молящийся об отмщении этим врагам, молится, чтобы они были постыжены, т. е. чтобы спастись ему самому, потому что естественно побежденному в борьбе стыдиться своего падения, как и победившему радоваться своей победе. А что это действительно так, дает разуметь вид молитвы. «Да постыдятся», сказано, «и посрамятся ищущие душу мою» (Пс. 34:4). Пророк молится об отмщении не тем, которые злоумышляют причинить ущерб имуществу, или спорят о пределах владения, или указывают какой–либо порок в его теле, но которые злоумышляют на душу. Злоумышление же на душу в чем ином состоит, как не в отчуждении ее от Бога? А душа человеческая не иначе отчуждается от Бога, как страстным расположением. Поскольку Божество всегда бесстрастно, то постоянно пребывающий в страсти отлучается от общения с Божеством? Потому, чтобы не потерпеть этого, Давид молится о постыжении противоборствующих. А это не иное что значит, как испрашивать себе победы над сопротивниками. Сопротивники же эти суть страсти. Так и Иеремия, имея ревность о богочестии, поскольку тогдашний царь до безумия предан был идолам, а с ним вместе увлеклись и подданные, не собственную какую–либо врачует беду, но вообще о людях приносит моление, желая, чтобы ударом, какой наносится нечествующим, уцеломудрен был весь человеческий род. Так и Пророк, который видел тогда порок у израильтян многоплодным, справедливо осуждает его на бесчадие и желает, чтобы и иссохли горькие сосцы греха, и чтобы зло не рождалось и не воспитывалось больше у людей. Поэтому и говорит Пророк: «Даждь им, Господи, утробу неплодящую и сосцы сухи» (Ос. 9:14). И если у святых найдется другое какое подобное слово, которым выражается и означается некое раздражение, то, конечно, скрывается в нем та мысль, чтобы изгнано было зло, а не истреблен человек. «Бог смерти не сотвори» (Прем. 1:13). Слышишь этот решительный приговор! Поэтому как же Пророк стал бы вымаливать смерть сперва собственным врагам своим у Бога, Которому чужда деятельность смерти? Не «веселится» Он «о погибели живых». Только лишшеглаголющий и желающий от собственных своих врагов отвратить Божие человеколюбие побуждает веселиться о человеческих бедствиях.
Но говорят: иные удостоились уже начальства, почестей, богатства, употребив к этому молитву, и такой благоуспешностью подали о себе мысль, что они боголобивы. Поэтому скажет кто–нибудь: «Как же запрещаешь нам возносить Богу моления о чем–либо подобном?» Всякому, правда, известно, что все зависит от Божией воли, и настоящая жизнь устрояется свыше, никто не станет и противоречить этому учению, однако же узнаем и другие причины таковой успешности молитвы, и, без сомнения, не как благое уделяет сие Богу просящим, но чтобы в людях поверхностных утверждалась этим вера в Бога и чтобы, узнавая на опыте, как Бог внемлет нашим молениям, испрашиванием мало–помалу возвысились мы со временем до пожелания даров высших и боголепных, как усматриваем это на детях своих. Пока они при матерних сосцах, сколько может вместить их природа, столько и требуют от родившей. Если же младенец возмужает и получит при этом некоторую способность говорить, то не глядит уже на сосцы, а смотрит у матери на что–либо такое, как, например, или на волосы на голове, или на одежду, или на иное подобное, чем увеселяется детский глаз. Когда же придет в возраст, вместе с телом получит приращение и ум; тогда, оставив все детские пожелания, будет просить у родителей служащего к жизни совершенной. Так и Бог, всеми мерами приручая человека, обращает взоры в Нему, для этого самого бывает нередко внимателен и к маловажным прошениям, чтобы благодеянием в малом получивший эту милость вызван был на пожелание высшего. Поэтому и ты, если такой–то человек по Божию Промыслу из невидных сделался известным и знаменитым или приобрел что–либо другое, чего домогаются люди в этой жизни, — начальство, или богатство, или блистательное положение, — представляй себе цель этого, а именно что Божие в этом человеколюбие служит для тебя доказательством великого Божия могущества, чтобы ты, получив детские игрушки, посылал к Отцу прошения о важнейшем и совершеннейшем. А таково все, что приносит пользу душе! Ибо всего неразумнее будет, если приступающий к Богу станет просить Вечного о временном, Небесного о земном, Всевышнего о пресмыкающемся по земле, дарующего Небесное Царство об этом земном и низком благополучии, наделяющего неотъемлемым о кратковременном пользовании чужим достоянием, и отнятие которого необходимо, и наслаждение которым кратковременно, и распоряжение опасно.
Прекрасно изображает Господь эту несообразность присовокуплением, сказав, якоже язычницы. Ибо иметь попечение о видимом свойственно не предоставляющим для себя никакой надежды в будущем веке: ни страха суда, ни угрозы геенной, ни ожидания благ, ни чего–либо уповаемого по воскресении свойственно людям, которые наподобие скотов видят только настоящую жизнь, признают за благо одно то, что могут дать в удовлетворение гортани, чрева и прочих сладострастных требований тела. Или первенствовать между иными и заставить о себе думать, что ты выше прочих, или почивать на множестве талантов, или обладать чем иным, что только служит к житейскому обольщению, свойственно таким людям, которым, кто скажет об уповании в будущем, тот кажется пустословом, как скоро начинает описывать рай, и царство, и небесную жизнь, и подобное тому. Итак, поскольку не имеющим надежды свойственно прилепляться к жизни настоящей, то излишества и суеты пожелания, которых сластолюбцы надеются успешно достигнуть молитвой, прекрасно называет Писание свойственными язычникам, думающим неотступностью нелепых прошений довести Божество до содействия, в чем не должно. «Мнят бо», сказано, «яко в многоглаголании своем услышани будут».
Но как из того, что нами исследовано, научились мы, чего не должно просить, так о том, какое моление надлежит приносить Богу, услышим в последующем, но благодати Господа Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Слово 2: на «Отче наш, Иже еси на небесех» (Мф. 6:9)
Когда великий Моисей приготовлял израильский народ к тайноводству на горе, тогда не прежде удостоил их богоявления, как предписав народу закон об очищении соблюдением плотской чистоты и омовением. Да и после сего не осмелились израильтяне видеть явление Божия могущества, но в ужас приводило их все видимое: огонь, мрак, дым, трубы; и снова, обратившись к себе самим, просили законодателя стать их посредником перед божественным изволением, так как у них не было достаточной силы приблизиться к Богу и перенести Божие присутствие. А наш Законоположник, Господь наш Иисус Христос, намереваясь привести нас к Божественной благодати, указует нам словом не гору Синайскую, покрытую мраком и дымящуюся огнем, не гласы труб, звучащих что–то невнятное и страшное, и не соблюдением тридневной плотской чистоты, не водой, омывающей скверны, очистив душу, и всю Церковь оставив при подошве горы, одному только позволяет взойти на вершину, покрытую мраком, скрывающим в себе Божественную славу; а, напротив того, сперва вместо горы возводит на само небо, сделав его для людей удобопроходимым посредством добродетели; потом делает не зрителями только, но и причастниками Божественной силы и приступающих к Нему вводит некоторым образом в родство с превысшим естеством и не мраком покрывает все превосходящую славу, чтобы неудобозримой была для ищущих, но, озарив мрак ясным светом учения, сделал, что чистые сердцем в полной ясности созерцают неизреченную славу. Дает же и воду для окропления, не из чуждых потопов почерпаемую, но текущую в нас самих, будет ли кто разуметь под ней источники очей, или чистую совесть сердца, узаконив не допускать никакой тины порока; да и плотскую чистоту поставляет в воздержании, не от законного только общения супругов, но и от всякого вещественного и страстного расположения и, таким образом посредством молитвы возводит к Богу. Ибо такова сила речений, из которых не какие–либо звуки, произносимые в слогах, узнаем из Божия слова, но предначертав восхождение к Богу, успешно приводимое в исподней высокою жизнью.
Но из самых слов молитвы можно уразуметь Божественное тайноводство. «Егда молитеся» (Лк. 11:2), говорит Господь. Не сказал: «Егда изрекаете обет» (ευχεσθε), но говорит: «Егда молитеся» (προσεύχεσθε), потому что надлежащее по обету должно быть уже исполнено прежде, нежели приступаешь к Богу с молитвой. Какое же различие в значении этих именований? То, что обет (ευχή) есть объявление о чем–либо, по благочестию посвящаемое в дар Богу, а молитва (προσευχή) есть прошение благ, уничижение обращенное к Богу. Итак, поскольку потребно нам дерзновение, когда приступаем к Богу, обращаясь с уничиженными прошениями о полезном для нас, то необходимо предшествовать исполнению того, что объявлено по обету, чтобы, совершив зависящее от нас, потом уже смелее изъявлять желание о получении воздаяния от Бога. Поэтому Пророк говорит: «Воздам Тебя молитвы» (τας ευχάς — обеты) «моя, яже изрекасте устне мои» (Пс. 65:13–14), и еще: «Помолитеся» (ευχεσθε — дайте обет) «и воздадите Господеви Богу нашему» (Пс. 75:12). И во многих местах Писания можно видеть подобное значение слова ευχή (обет) и поэтому знать, что обет, как сказано, есть благодарственное возвещение о принесении дара, а молитва означает приближение к Богу по исполнении обещанного Ему. Поэтому Господне слово научает нас не просить чего–либо у Бога прежде, нежели что–либо угодное Ему принесем Ему в дар. Ибо прежде надлежит совершить обет и потом молиться — как иной скажет, что это должно предшествовать собиранию плодов. Поэтому надлежит сперва посеять семена обета и, когда этот залог семян возрастет, собирать плоды, молитвой принимая благодать. Поэтому так как не будет дерзновения просить, если приступим без предварительного какого–либо обета или дара, то молитве по необходимости да предшествует обет.
Поэтому, так как обет уже выполнен, Господь говорит ученикам: «Егда молитеся, глаголите: Отче наш, Иже на небесех» (Лк. 11:2). «Кто даст ми криле яко голубине?» (Пс. 54:7) — говорит в одном месте псалмопений великий Давид. Осмелюсь и я сказать то же слово: кто даст мне оные «криле», чтобы мог я воспарить умом на высоту величия этих речений и оставить всю землю, перейти весь разлитый в середине воздух, коснуться эфирной красоты, достигнуть звезд, увидеть все их украшение, да и на них не остановиться, но миновать и это, стать вне всего движимого и изменяемого, объять естество постоянное, силу неподвижную, в себе самой водруженную и направляющую и поддерживающую все, что имеет бытие, все, что зависит от неизреченной воли Божией премудрости, чтобы, став мыслью вдали от всего изменяемого и превратного, в непреложном и неуклонном состоянии души мог я сперва сродниться мыслью с Непреложным и Неизменяемым, потом призывать самым родственным наименованием и говорить: «Отче»? Ибо произносящему это какая потребна душа? Сколько нужно дерзновения? Какую надобно иметь совесть, чтобы, сколько возможно, познать Бога, примышленными Ему наименованиями руководствуясь к уразумению неизреченной славы, и узнать, что естество Божие, представляемое в себе самом, есть благость, святыня, радование, сила, слава, чистота, вечность, то, что всегда то же и таково же, и все, что подобного этому представляется мыслью о Божием естестве, и уразумев при помощи божественного Писания и собственного рассудка, потом уже осмелиться выговорить это слово и такое Существо наименовать своим Отцом? Явно, что если имеет кто сколько–нибудь разума, то, не усматривая в себе того же, что в Боге, не осмелится произнести к Нему слова этого и сказать: «Отче». Ибо не естественно Благому по сущности стать отцом лукавого поступка, и Святому — отцом оскверненного по жизни, а также Неизменяемому — отцом превратного, Отцу жизни — отцом умерщвленного грехом; Чистому и безпримесному — отцом опозоривших себя страстями бесчестия, Благодетелю — отцом любостяжателя, вообще Тому, Кого представляем во всяком добре — отцом пребывающих в каком–либо зле. Если кто, видя себя имеющим еще нужду в очищении и порочную совесть свою признавая исполненной скверн и дурных отметок, прежде, нежели очистился от таких и столь многих худых свойств, включит себя в родство с Богом и неправедный Праведному, нечистый Чистому скажет: «Отче», — то речение прямо будет оскорблением и злословием, если только именует он Бога Отцом собственной своей порочности. Ибо слово «отец» означает причину от него происшедшего. Поэтому если порочный совестью назовет Бога Отцом своим, то не иное что этим выскажет, а то, что Бог есть начало и виновник собственных его худых свойств. «Но никое общение света ко тьме» (2 Кор. 6:14), говорит апостол — напротив того, свет осваивается со светом, справедливое — со справедливым, прекрасное — с прекрасным, нетленное — с нетленным. А противоположное, без сомнения, имеет сродство с однородным. Ибо не может «древо добро плоды злы творити» (Мф. 7:18). Поэтому если кто, как говорит Писание, будучи жестокосерд, и «ищай лжи» (Пс. 4:3), осмеливается произносить слова молитвы, то пусть такой знает, что призывает он отца, не Небесного, а преисподнего, который сам есть лжец и делается отцом лжи, возникающей в каждом, который есть грех и отец греха. Поэтому–то апостол имеющих страстную душу называет чадами гнева (Еф. 2:3). И отступивший от жизни именуется сыном погибели (2 Фес. 2:3), а человек сластолюбивый и изнеженный назван сыном девок, блудниц (1 Цар. 20:30), равно как, напротив этого, имеющие чистую совесть называются сынами света (Лк. 16:8) и дня (1 Фес. 5:5), а другие, укрепившие себя до Божественной силы — и сынами силы (Суд. 21:10).
Поэтому, когда Господь учит нас в молитве называть Бога Отцом, не иное что, кажется мне, делает, как узаконивает возвышенный и годний образ жизни, потому что истина учит нас не лгать, не говорить о себе того, чего в нас нет, не именовать себя тем, чем мы не были, но, называя Отцом своим Нетленного, Праведного и Благого, родство это оправдывать жизнью. Поэтому, видишь ли, сколько потребно нам приготовления, какая нужна жизнь, сколько и какой требуется тщательности, чтобы с возвышением нашей совести достигнуть такой меры дерзновения и осмелиться сказать Богу: Отче? Ибо, если в виду у тебя деньги, если озабочен ты житейской прелестью, если домогаешься людской славы, если служишь наиболее страстным пожеланиям и потом приемлешь в уста такую молитву, — что, думаешь, скажет Тот, Кто видит твою жизнь, и слышит молитву? Такие, кажется мне, слышу слова, как бы Самим Богом изрекаемые подобному человеку: «И ты, растленный по жизни, называешь своим отцом Отца нетления? Для чего нечистым своим голосом оскверняешь чистое имя? Для чего речение это употребляешь лживо? Для чего оскорбляешь нескверное естество? Если ты чадо Мое, то, без сомнения, и жизнь твоя должна носить на себе черты Моих благ. Не признаю в тебе образа Моего естества, черты твои противоположны. «Кое общение свету ко тме?» Какое сродство у жизни и смерти? Какая близость у чистого по естеству с нечистым? Велико расстояние между благодетелем и любостяжательным, непримиримо противление милостивого с неумолимым. Иной отец злых в тебе свойств. Мои порождения украшаются добрыми отеческими качествами: сын милостивого милостив, чистого чист, нетленного чужд растления и вообще благого благ, правдивого правдив. А вас не знаю, откуда вы». Поэтому, пока не стали мы чистыми по жизни, опасно отваживаться на эту молитву и Бога именовать Отцом своим.
Но вслушаемся еще в слова молитвы, при частом их повторении не уразумеем ли сколько–нибудь сокровенного в них смысла? «Отче наш, Иже еси на небесех». Что добродетельной жизнью надлежит усвоять себя Богу, достаточно исследовано это в предыдущих словах. Но кажется мне, что слово Писания указует и на некий более глубокий смысл, ибо им напоминается нам, из какого отечества мы ниспали и какого благородства лишились. Повествованием о юноше, оставившем отеческий дом и предавшемся свинообразной жизни, Писание, исторически описывая его удаление и распутную жизнь, показывает бедственное состояние человечества и не прежде возвращает этого юношу в первоначальное состояние, как по восчувствовании им настоящего бедствия, когда пришел в себя и привел себе на мысль слова покаяния. А они согласны несколько со словами молитвы. Ибо там сказал юноша: «Отче, согреших на небо и пред тобою» (Лк. 15:21) но не упомянул бы в исповедании о грехе на небо, если бы не был уверен, что небо — его отечество, оставив которое, он впал в согрешение. Поэтому–то помышление о таком исповедании делает ему доступным отца, почему спешит он к сыну, приветствует лобзанием шеи, что означает словесное иго, посредством евангельского предания устами возлагаемое на человека, свергшего с себя прежнее ярмо заповеди и отринувшего охранительный закон; потом возлагает на него «одежду», не иную, но «первую», от которой обнажен был преслушанием, вместе с вкушением запрещенного увидев себя обнаженным. А «перстень на руку» изображением, сделанным на обводе, означает возвращение образа; и ноги обезопашивает отец «сапогами», чтобы, обнаженной пятой приближаясь к голове змия, не подверглись укусу. Поэтому, как там причиной оказанного юноше отцом человеколюбия послужило возвращение его в отеческий дом (а это есть «небо», согрешившим против которого признает себя перед отцом), так, кажется мне, и здесь Господь, научая призывать Отца, «Иже на небесех», делает тебе напоминание о благом отечестве, чтобы, возбудив сильнейшее пожелание прекрасного, поставить тебя на путь, снова ведущий в отечество.
Путь же, возводящий человеческое естество на небо, — не иное что, как отступление и бегство от земных зол; а средством к изображению зол не иное что, думаю, служит, как уподобление Богу; и уподобиться Богу — значит сделаться праведным, святым, благим, и всем этому подобным. Если кто, сколько возможно, ясно напечатлеет в себе черты этих совершенств, то как бы по естественному порядку, без труда из земной жизни переселится в страну небесную, потому что не местное какое расстояние у Божества с человечеством, так что была бы нам потребность в каком–нибудь орудии или примышлении, чтобы эту тяжелую, обременительную и земную плоть ввести в образ жизни нетелесной и духовной. Но по разумном отлучении добродетели от порока от одного человеческого произволения зависит быть человеку там, куда преклонен пожеланием. Поэтому, так как никакого нет труда избрать доброе, а за избранием следует и приобретение того, что кем избрано, то возможно немедленно быть на небе и тебе, объявшему умом своим Бога. Если, как говорит Екклезиаст, «Бог на небеси горе» (Еккл. 5:1), а ты, по слову Пророка, прилепился «Богови» (Пс. 72:28), то по всей необходимости должно тому, кто в единении с Богом, быть там, где Бог.
Поэтому, предписав в молитве говорить, что Бог — Отец наш, не иное что повелевает, как боголепной жизнью уподобляться Отцу Небесному, так как и в другом месте яснее заповедует это же самое, говоря: «Будите совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5:48). Итак, если уразумели мы смысл таковой молитвы, то время уже уготовать души свои к тому, чтобы со временем осмелиться восприять устами эти речения и с дерзновением сказать: «Отче наш, Иже еси на небесех».
Как явны признаки уподобления Богу, по которым каждому можно сделаться чадом Божиим, ибо сказано: «Елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим быти» (Ин. 1:12), приемлет же в себя Бога, кто восприемлет совершенство в добре, — так и у лукавого нрава есть некие особые признаки, и кто имеет их, тому невозможно быть сыном Божиим, нося в себе образ противоположного естества. Угодно ли знать отличительные свойства лукавого нрава? Это — зависть, ненависть, клевета, кичливость, любостяжательность, страстное пожелание, недуг славобесия; подобными этому чертами отличается образ сопротивника. Поэтому если подобными сквернами очернивший душу будет призывать отца, то какой отец услышит его? Очевидно, состоящий в родстве с призвавшим, а этот отец — не Небесный, но преисподний. Признаки близости с кем носит на себе человек, тот и признает несомненно родство свое с ним. Итак, молитва человека порочного, пока он в пороке бывает, является призыванием диавола, а кто оставил порок и живет в благости, того глас призывает благого Отца.
Поэтому, когда приступаем к Богу, будем сперва обращать внимание на жизнь свою, имеем ли в себе что–либо достойное Божественного родства, и потом уже осмеливаться на произнесение такового слова. Повелевший сказать: «Отец» — не дозволил говорить ложь. Поэтому, кто жил достойно божеского благородства, тот прекрасно возводит взор к небесному граду, Небесного Царя именуя Отцом и небесное блаженство — отечеством. К чему же клонится цель этого совета? К тому, чтобы мудрствовать нам горняя; где Бог, там полагать основание своего жилища, там собирать сокровища, туда переселиться сердцем своим, «идеже бо есть сокровище, ту и сердце» (Мф. 6:21), и непрестанно иметь в виду отеческую красоту и сообразно с нею украшать собственную душу. «Несть на лица зрения у Бога» (Рим. 2:11), говорит Писание. И от твоего образа да будет удалена такая нечистота. Божество непричастно зависти и всякой скверны, и на тебя да не кладут пятна подобные страсти: ни зависть, ни кичливость, ни что–либо другое, оскверняющее богоподобную красоту. Если сделаешься таковым, то смело гласом своим призывай Бога и Владыку Вселенной именуй Отцом своим. Он воззрит на тебя отеческими очами, облечет тебя в божественную одежду, украсит перстнем и ноги твои для шествия горе снабдит евангельскими сапогами, восстановит тебя в небесное отечество, о Христе Иисусе Господе нашем. Ему подобает слава и держава во веки веков! Аминь.
Слово 3: на «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое» (Мф. 6:9–10)
Закон, «сень имый грядущих благ» (Евр. 10:1), и некиими прообразовательными гаданиями провозвещающий истину, когда во святилище вводит священника для принесения молитвы Богу, сперва очистительными некими жертвами и окроплениями очищает входящего, потом, украсив священнической одеждой, благолепно испещренной золотом, багряницей и красками других цветов, возложив па него наперсник и увясло, прицепив к краям одежды звонки с пуговицами, а на раменах застегнув верхнюю одежду и голову прикрасив диадемой, обильно излив миро на волосы, вводит его наконец в святилище совершать таинственные священнодействия.
Духовный же законоположник — Господь наш Иисус Христос, обнажая закон от телесных покрывал и приводя в ясность гадательный смысл прообразов, во–первых, не одного только избирает из целого народа, вводит в собеседование с Богом, но всякому равно дарует достоинство, предложив желающим общую благодать священства, а потом незаимствованным убранством, найденным в какой–либо краске и ткацком ухищрении, придает искусственную красоту священнику, но возлагает свойственное и сродное ему украшение вместо разнообразно испещренной одежды, делая цветоносным приятностями добродетелей; и грудь украшает не земным золотом, но непорочной и чистой совестью придавая красоту сердцу. К увяслу же этому приноровляет и блеск драгоценных камней, а это, по мнению апостола, соответствует светлости святых заповедей. Да и надрагами обезопашивает ту часть, которой украшением служит такой вид одеяния; конечно же не знаешь, что украшение такой части — покров целомудрия. Привесил к «ряснам» жизни духовные «звонки», и «пуговицы», и «цветы» (Исх. 28:34), а под ними иной справедливо может разуметь видимое в добродетельной жизни, чтобы прохождение этой жизни сделалось славным, а поэтому ряснам этим вместо звонка придал благозвучное слово веры, а вместо пуговицы — сокровенную готовность к надежде на будущее, прикрытую суровой жизнью, и вместо цветов — доброцветную красоту рая; таким вводит его во святилище и внутренность храма. Святилище же это не неодушевленное и нерукотворенное, но сокровенная храмина нашего сердца, если действительно она непроницаема для порока и недоступна лукавым помыслам. Главу украшает небесным мудрованием, не изображение букв начертав на золотой дощечке, но самого Бога изобразив во владычественном рассудке. А на волосы разливает миро, душой внутри себя самой составленное из добродетелей, и готовит его к принесению Богу в таинственном священнодействии, в благоухание и жертву не чего–либо иного, но себя самого. Так возведенный Господом в священство, умертвив плотское мудрование мечом духовным, «иже есть глагол Божий» (Еф. 6:17), потом, пребывая во святилище, умилостивляет Бога, таковой жертвой посвятив себя самого и представив «тело» свое «жертву живу, святу, благоугодну Богови» (Рим. 12:1).
Но, может быть, скажет кто–либо, что смысл молитвы, предложенной нами для истолкования, по первому взгляду не имеет этого значения, а нами придуманы подобны понятия, не соответствующие понятиям, заключающимся в собственных словах молитвы. Поэтому пусть такой снова приведет себе на память первые уроки молитвы. Ибо, кто приготовил себя к тому, чтобы с дерзновением осмелиться наименовать Бога отцом своим, тот в точности облечен той одеждой, какая описана в слове, звучит звонцами, цветет пуговицами, блистает на персях лучами заповедей, на раменах носит патриархов и пророков, вместо имен обратив добродетели их в собственное свое украшение и голову украшает венцом правды, волосы имеет умащенные небесным миром и пребывает внутри пренебесного святилища, которое поистине непроницаемо и недоступно для всякого нечистого помысла. Но как надлежит приготовлять себя посвящаемому, достаточно показано это словом в исследованном до этого, остается же рассмотреть само прошение, какое пребывающему внутри святилища Господь повелел возносить к Богу.
Ибо кажется мне, что излагающий просто слова молитвы по первому взгляду не доставляет нам удобопонятного смысла. Сказано: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое». Как относится это к моей потребности? — скажет иной человек, или покаянием наказывая себя за грехи, или, чтобы бежать от преобладающего греха, призывая на помощь Бога, потому что всегда перед очами у него поборающий искушениями. Здесь раздражительность выводит рассудок из упорядоченного состояния; там пожелания неуместного ослабляют силу души; в другой раз наводят слепоту на зоркость сердца любостяжательность, кичливость, гордыня, ненависть и остальная толпа противоборствующего нам, подобно какому–то полчищу вокруг обступивших врагов, при самой крайности ввергают душу в опасность. После этого старающемуся при благом содействии избавиться от этих зол какие всего удобнее употребить слова? Не те ли, которые употребил великий Давид, сказав: «Да избавлюся от ненавидящих мя» (Пс. 68:15), и еще: «Да возвратятся враги мои вспять» (Пс. 34:4), и еще: «Даждь нам помощь от скорби» (Пс. 59:13), — и другие этому подобные, которыми можно восставить Божие против врагов содействие? Теперь же что говорит закон молитвы? «Да святится имя Твое». Если и не будет это мною сказано, неужели возможно имени Божию не быть святым?! «Да приидет Царствие Твое». Что же изъято из под власти Бога, Который, как говорит Исаия, объемлет дланью все небо, горстью всю землю, рукой содержит влажное естество, в объятиях носит всю тварь и этого мира, и премирную (Ис. 40:12). Поэтому если имя Божие всегда свято, ничто не избегло державы владычества Божия, но всеми обладает, в святыне не требует прибавлений, во всем нескудный и совершенный — что выражает молитва словами: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое»?
Писание под видом молитвы не учит ли, может быть, чему–либо такому: природа человеческая для приобретения чего–либо доброго немощна, и потому о каком бы добре ни заботились, не достигали бы мы его, если бы не совершало это в нас Божие содействие. А главное для меня из всех благ — то, чтобы жизнью моей прославлялось имя Божие.
Вразумительнее же сделается для нас этот смысл через предположение противного. Слышу, что Священное Писание осуждает где–то тех, которые делаются виновниками хулы на Бога. Ибо сказано: горе тем, «ихже ради имя Мое хулится во языцех» (Ис. 52:5). А это значит: не уверовавшие еще слову истины взирают на жизнь принявших веру в таинство, а поэтому, когда иные носят на себе имя веры, а жизнь их противоречит имени или идолослужительствуя любостяжательностью, или бесчинствуя в пьянстве и на пиршествах, или наподобие свиней валяясь в тине распутства; тогда у неверных тотчас готов отзыв, осуждающий не произвол худо пользующихся жизнью, но таинство, как будто оно учит поступать таким образом, и будто бы такой–то человек, посвященный в божественные таинства, не сделался бы или злоречивым, или любостяжательным, или хищником, или подверженным иному какому пороку, если бы грешить не было для них законно. Поэтому–то Писание обращается к таковым со строгой угрозой, говоря: горе тем, «ихже ради имя Мое хулится во языцех».
Если это понятно нам, то благовременно будет обратить внимание на то, что говорится с противной стороны. Ибо прежде всего, думаю, надлежит молиться и главным предметом молитвы поставлять то, чтобы жизнью моей имя Божие не хулилось, но прославлялось, и чтобы святилась вера в таинство. Поэтому во мне, говорит молящийся, да святится призываемое мною «имя» Твоего владычества, да видят человеки «добрыя дела, и прославят Отца, Иже на небесех» (Мф. 5:16). А кто столько звероподобен и неразумен, что, в верующих в Бога видя жизнь чистую, преуспевающую в добродетели, свободную от всех скверн греха, чуждую всякого подозрения в худом, сияющую целомудрием, достойную уважения за благоразумие, мужественно отражающую приражения страстей, нимало не расслабляемую телесным сладострастием, всего более удаляющуюся от забав, неги и кичливой суетности, столько пользующуюся житейским, сколько это необходимо, только концами пальцев ног касающуюся земли, во время пребывания на земле не утопающую в наслаждениях удовольствиями сей земной жизни, но стоящую выше всякого чувственного обольщения и в жизни плотской соревнующую жизни бесплотных, признающую единственным богатством приобретение добродетели, единственным благородством — усвоение себя Богу, единственным достоинством и единственным владычеством — обладание самим собой и нераболепство человеческим страстям, обременяющуюся продолжительностью жизни в вещественном веке и, подобно бедствующим на море, поспешающую в пристань встретить там успокоение, — кто, видя все этому подобное, не прославит имени, призываемого такой жизнью?!
Поэтому, кто говорит в молитве: «Да святится имя Твое», — по мне тот по силе произносимых им слов молится о следующем: «При содействии Твоей помощи да сделаюсь неукоризненным, справедливым, богочестивым, буду воздерживаться от всякого лукавого дела, говорить истину, делать правду, ходить по правоте, отличаться целомудрием, украшаться нерастлением, мудрствовать горнее, презирать земное, просиявать ангельским житием». Это и подобное ему содержит в себе это краткое прошение, в молитве взывающее Богу: «Да святится имя Твое». Ибо не иначе возможно Богу прославляться в человеке, как разве когда добродетель его свидетельствует, что причина благ в Божием могуществе.
В последующих словах заключается молитва о том, чтобы пришло Царствие Божие. Неужели теперь только желательно, чтобы сделался царем Царь Вселенной, всегда Тот же, каков Он есть, для всякого изменения непреложный. Кому невозможно и найти что–либо лучше, во что мог бы измениться? Поэтому что же значит молитва, призывающая Царствие Божие? Но истинное об этом понятие ведомо тем, кому Дух истины открывает сокровенные тайны, а мы имеем такое разумение этого изречения: выше всего одна истинная власть и сила, которая державствует и царствует во Вселенной не насилием каким–то, не самоуправным властительством, не страхом, не принуждениями приводящая в подчинение, что покорно ей, потому что добродетели надлежит быть свободной от всякого страха, не по жестокому над собой владычеству, но по добровольному рассуждению избирать доброе, а главное во всяком добре — состоять под животворной властью. Поэтому так как природа человеческая в суждении о добре обманом введена в заблуждение, то в произволении нашем произошла наклонность к противному, жизнь человеческая обладает всем худым, потому что смерть тысячами путей вмешалась в природу; всякий вид греха делается как бы путем к нам смерти. Поэтому, так как под таким самоуправством мы являемся как бы некими исполнителями казней или врагами, приражениями страстей порабощенными смерти, то хорошо молимся, чтобы пришло к нам Царствие Божие. Ибо невозможно иначе свергнуть с себя лукавое владычество тления, пока не восприимет над нами снова владычества животворящая сила.
Поэтому если просим, чтобы пришло к нам Царство Божие, то в действительности умоляем Бога о следующем: «Да избавлюсь я от тления, да освобожусь от смерти, да буду разрешен от уз греха, да не царствует более надо мной смерть, да не будет более действительным над нами самоуправство порока, да не обладает мной враг, да не водит меня пленником, порабощая грехом; но да «приидет» на меня «Царствие Твое», чтобы отступили от меня или, лучше сказать, обратились в ничто преобладающие и царствующие ныне страсти. «Яко исчезает дым, да исчезнут: и яко тает воск от лица огня, тако да погибнут» (Пс. 67:3). И дым, разлившись в воздухе не оставляет по себе никакого признака собственного своего естества, и воска, пребывающего в огне, уже не найдешь. Но воск, напитав собой пламя, претворился в пар и в воздух; и дым пришел в совершенное уничтожение. Так, когда придет на нас Царствие Божие, тогда все обладающее нами теперь обратится в ничто, потому что тьма не терпит присутствия света, не остается болезни по возвращении здоровья, не действуют и страсти при появлении бесстрастия, бездейственна смерть, исчезает тление, когда воцаряется в нас жизнь и начинает преобладать нетление.
«Да приидет Царствие Твое». Какое сладостное изречение! Им ясно приносим Богу следующее моление: «Да рассыплется сопротивная сила, да уничтожится дружина иноплеменников, да прекратится борьба плоти с духом, да не служит тело прибежищем неприятелю души, да явятся на мне царственное владычество, ангельская рука, тысячи исправляющих, тьма помогающих с правой руки, чтобы с противной стороны пала тьма враждующих. Сопротивник силен, но страшен и непреоборим для лишенных Твоей помощи, пока побораемый им один. А как скоро откроется Твое Царствие, «отбеже и печаль и воздыхание» (Ис. 35:10), на место же их входят жизнь, и мир, и радование. Или, как яснее истолкована нам та же мысль Лукой, кто просит, чтобы пришло Царствие, тот взывает о содействии Святого Духа. Так, в Евангелии от Луки, вместо слов: «Да приидет Царствие Твое» — сказано: «Да приидет Святой Дух Твой на нас и очистит нас».
Что скажут на это дерзко отверзающие уста свои на Духа Святого? По какому разумению царственное достоинство превращают они в рабское уничижение? Лука называет Духом Святым то, что Матфей наименовал Царством; почему естество Духа низводят в подчиненную тварь, естество царственное причисляя к естеству, подвластному царской власти? Тварь рабствует, а рабство — не царская власть. Дух же Святой есть Царствие. А если Царствие, то, без сомнения, царствует, а не под царской властью, а что не под царской властью, то не тварь, потому что твари только свойственно быть в рабстве. Поэтому если Дух есть Царствие, то почему причисляют Его к естеству рабственному не научившиеся еще молиться, не знающие, кто очищает оскверненное? Кому принадлежит держава Царства?
Сказано: «Да приидет Святой Дух Твой и очистит нас». Посему особая и преимущественная сила и действенность Святого Духа — очищать от греха. Ибо чистое и неоскверненное, конечно, не имеет нужды в очищающем. Но это же самое свидетельствует апостол и о Единородном, когда говорит: «Очищение сотворив грехов, седе одесную величестия» (Евр. 1:3) Отцова. Поэтому одно дело у Того и Другого: у Духа, очищающего грех, и у Христа, сделавшегося очищением. А кого одно действие, у тех, конечно, и сила одна и та же, потому что всякое действие есть следствие силы. Поэтому если и действие одно и сила одна, то как можно представлять себе инаковость естества у тех, у кого не находим никакой разности ни в силе, ни в действии? Как по свойствам огня, когда два эти действия светить и сжигать — равны и подобны, нельзя заключать о видоизменении предмета, так и никто из целомудренных, наученный Божественным Писанием, что одно действие Сына и Духа, не дойдет до того, чтобы предполагать какое–либо различие в естестве.
Но ныне мнениями благочестивых предварительно уже доказано, что естество Отца и Сына — одно и то же, ибо инородному невозможно называться именем Божиим, как скамья не называется сыном плотника и никто из здравомыслящих не скажет, что домоздатель построил сына — напротив того, наименованиями отец и сын означается единение их по естеству. Когда два существа состоят во взаимном свойстве с третьим, по всей необходимости надлежит не иметь им различия и одному с другим. Поэтому если Сын по естеству в единении с Отцом, а тождеством действий доказано, что Дух Святой не чужд естества сыновнего, то вследствие этого оказывается, что естество Святой Троицы едино, между тем как в каждой ипостаси личное свойство, по преимуществу в ней усматриваемое, не сливается, и отличительные признаки между собой не перемешиваются, так что признак Отчей ипостаси не переносится на Сына или Духа, или также признак Сына не применяется к Отцу и к Духу, или личное свойство Духа не обнаруживается в Отце и в Сыне. Но в общности естества усматривается несообщимое различие особенностей. Отцу свойственно бытие без причины. Этого нельзя видеть в Сыне и в Духе, потому что Сын от Отца изшел (Ин. 16:28), как говорит Писание, и Дух от Бога (1 Кор. 2:12) и «от Отца исходит» (Ин. 15:26). Но, как это — иметь безвиновное бытие, будучи свойством одного Отца, не может прилагаемо быть к Сыну и к Духу, так наоборот и этому — иметь бытие от причины, что свойственно Сыну и Духу, неестественно быть усматриваемым в Отце. А как общее свойство Сына и Духа — не быть нерожденным, то, чтобы не усматривалось в Них какой–либо слитности, можно опять найти несмешиваемое различие в их личных свойствах, так что и общее сохраняется, и особенные свойства не сливаются. Ибо Сын в Святом Писании именуется Единородным от Отца, и этим Писание ограничивает личное свойство Сына. О Святом же Духе говорится, что Он от Отца, и свидетельствуется, что Он есть сыновний. Ибо сказано: «Аще кто Духа Христова не имать, сей несть Его» (Рим. 8:9). Поэтому хотя Дух, сущий от Бога, есть и Христов Дух, однако же Сын, сущий от Бога, не есть и не называется Сын Духа, и относительная эта последовательность не имеет места в обратном порядке, так что можно было бы равным образом разложив речь, превращать ее и, как Духа называем Христовым, так и Христа именовать Духовым. Поэтому, так как свойство это ясно и неслитно отличает одно Лицо от другого, а тождество действия свидетельствует об общности естества, то тем и другим подтверждается благочестивое положение о Божестве, что исчисляется Троица по ипостасям и не рассекается на иноестественные отделы.
Поэтому, каково же безумие этих духоборцев, которые учат, что Господь — раб, для которых неверно и свидетельство Павла, когда говорит, что «Господь Дух есть» (2 Кор. 3:17). Или, может быть, слово: «Да приидет» — почитают унижающим достоинство? Не слушают, значит, и великого Давида, который призывает к себе даже Отца, и вопиет: «Прииди во еже спасти нас» (Пс. 78:3). Если для Отца прийти — дело спасительное, то почему для Духа прийти — дело унизительное? Или и это очищение от грехов поставляют признаком унижения достоинства? Послушай неверных иудеев, которые вопиют, что отпущать грехи свойственно Единому Богу, рассуждая об Отце, говорят: «Кто есть сей, иже глаголет хулы? Кто может оставляти грехи, токмо един Бог» (Лк. 5:21)? Поэтому если грехи оставляет Отец, вземлет же на Себя грех мира Сын (Ин. 1:29), и от греховной скверны очищает Дух Святой тех, в ком пребывает Он, — что скажут на это противоборствующие собственной своей жизни?
Но да приидет на нас Дух Святой, и да очистит нас, и да соделает способными к принятию возвышенных и боголепных понятий, указуемых нам в молитве гласом Спасителя. Ему слава во веки веков! Аминь.
Слово 4: на «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мф. 6:10–11)
Слышал я одного врача, который по науке естествословия рассуждал о состоянии здоровья; рассуждения его не будут, может быть, далекими и от нашей цели — благосостояния души. Уклонение какой–либо в нас стихии от надлежащей меры определял он началом и причиной болезненного состояния и, наоборот, также утверждал, что для находящегося в неправильном движении восстановление в состояние, тому свойственное и естественное, есть врачевание от болезнетворной причины. И поэтому полагал, что должно обращать внимание на то именно из движимого в нас беспорядочно, преобладанием чего влияние противоположного на восстановление здоровья всего более делается слабым. Так, если возобладает теплота, должно оказывать содействие преобладаемому и увлажнять иссушаемое, пока теплое, потребляя само себя при недостатке вещества, совершенно не истощится и само собой не угаснет. А также если и другое что из оказывающего в нас противоположные одно другому действия преступит предел, надобно подавать искусственную помощь умаляемому, чтобы оно противостояло умножаемому. И когда это сделается, ничто не будет препятствовать равновесию стихии; тогда телу возвратится здравие, потому что в естестве нет уже неправильного растворения стихий.
К чему же служит у меня это длинное вступление в слово? Не без цели, может быть, такое начало и недалеко от предположенного предмета. Ибо рассмотрению нашему подлежат слова: «Да будет воля Твоя». Для чего же упомянули мы о сем врачебном положении, объясним это в последующем. Духовное в человечестве было некогда здраво, потому что некие стихии, разумею душевные движения, растворены в нас были равномерно по закону добродетели. Когда же усилилась способность вожделевательная, расположение, представляемое ей противоположным, а это есть воздержание, стало преобладаемо избыточествующим, и не было уже ничего препятствующего неумеренному движению вожделения, к чему не должно; тогда в человеческом естестве произошла от этого смертельная болезнь — грех. Поэтому истинный Врач душевных страданий, ради одержимых болезнью вступив в жизнь человеческую, молитвенными речениями ослабляя болезнетворную причину, возводит нас в духовное здравие. Здравием же для души служит исполнение Божественной воли, равно как и наоборот: отпадение от благой воли есть болезнь души, оканчивающаяся смертью. Поэтому, так как сделались мы немощными, когда в раю, оставив добрый образ жизни, без меры вкусили яд преслушания, и потому природой нашей возобладала жестокая и смертельная болезнь, то пришел истинный Врач, по закону врачебного искусства исцеляющий зло противоположным ему, и одержимых недугом потому, что отступили от Божией воли, освобождает опять от болезни единением с Божией волей. Ибо слова молитвы служат врачеванием от постигшего душу недуга. У кого душа одержима как бы некими болезнями, тот молится, говоря: «Да будет воля Твоя». А воля Божия — спасение людей.
Поэтому, когда дойдем до того, чтобы сказать Богу: «Да будет воля Твоя» и на мне, тогда совершенно необходимо осудить прежде ту жизнь, которая была несогласна с Божией волей, и выразить это исповеданием: «Поскольку во время протекшей жизни на зло мне действовала во мне противная Твоей воля, сделался я служителем лукавого мучителя и как бы исполнителем казни, приводящим в исполнение над самим собой приговор врага, поэтому, возбудившись жалостью к моей погибели, даруй, чтобы со временем и во мне совершалась воля Твоя. Ибо, как в мрачных пещерах, когда вносится туда свет, мрак исчезает, так, когда Твоя воля во мне будет совершаться, всякое лукавое и неуместное движение произвола обратится в ничто. Целомудрие угасит невоздержное и страстное стремление ума, смиренномудрие истребит кичливость, скромность уврачует болезнь гордыни, а доброта любви изгонит из души многочисленный сонм противоположных зол; да бегут от нее ненависть, зависть, негодование, гневное движение, раздражительное расположение духа, злонамеренность, притворство, памятование огорчения, жажда мщения, воскипение крови в предсердечии, недоброе око, — все это стадо таковых зол да уничтожится любвеобильным расположением». Так действенность Божией воли исторгает сугубое идолослужение; называю сугубым, как неистовую, приверженность к идолам, и вожделение серебра и золота — этих, как наименовало их пророческое слово, идолов «язык» (Пс. 113:12). Поэтому «да будет воля Твоя», чтобы стала недействительной воля диавола.
Но почему просим у Бога, чтобы произволение наше сделалось благим? Потому что естество человеческое, однажды приведенное в расслабление пороком, немощно для добра. Ибо человек не с той же легкостью, с какой доходит до худого, возвращается от него опять к доброму, как подобный этому закон можем примечать и в телах, потому что неодинаково, не с равным удобством здоровое тело делается больным и заболевшее выздоравливает. Пользовавшийся до сих пор здоровьем часто от одной раны приходил в крайнюю опасность, и один оборот или припадок горячки истреблял всю силу в теле, малый прием яда или совершенно разрушал тело, или производил это постепенно, и за укусом пресмыкающегося, или за ужалением одного из ядовитых животных, или за поползновением ноги, или за падением, или за вкушением с жадностью чего–либо сверх силы, или за иным, тому подобным, мгновенно следовали или болезнь или смерть; освобождение же от недуга если когда и бывает, то при скольких достигается примышлениях, затруднениях и врачебных искусственных средствах? Поэтому, когда действует в нас стремление ко злу, нет потребности в содействующем, потому что порок сам собою довершает себя в воле нашей. Если же возникает наклонность к лучшему, то потребно, чтобы пожелание Бог привел в исполнение. Поэтому говорим: поскольку целомудрие — Твоя воля, «аз же плотян есмь, продан под грех» (Рим. 7:1), то Твоей силой да преуспеет во мне благая эта воля. То же говорим о справедливости, о благочестии, об отчуждении от страстей. Слово «воля» объемлет собой все вообще добродетели, словами же «воля Божия» означается по одиночке все, разумеемое под именем доброго.
Но что значит это прибавление: «Яко на небеси, и на земли»? Слово это, как мне кажется, указует, может быть, на один из более глубоких догматов и составляет учение боголепного разумения при взгляде на тварь. Смысл же того, о чем говорю, таков: вся разумная тварь делится на естество бесплотное и на облеченное телом. Бесплотное естество есть ангельское, а другой вид естества — мы, люди. Поэтому первое — духовно, как отрешенное от обременяющего тела (разумею же тело это грубое и к земле тяготеющее), проходит горний жребий, по легкости и удободвижности естества пребывая в странах легких и эфирных. А другое, по сродству нашего тела с оземленевшим, по необходимости получило в удел как бы некий отстой грязи, жизнь земную. Не знаю, что устрояла этим Божия воля — может быть то, чтобы всю тварь сблизить между собою, чтобы и дольний жребий не был безучастным в небесных высотах и небо не вовсе было безучастно в том, что на земле, но вследствие образования человеческого естества из обоих стихий происходило некое общение усматриваемого в той и другой стихии, так как духовная часть души, которая, по–видимому, есть нечто сродное и одноплеменное с небесными силами, обитает в земных телах, и оземленевшая эта плоть при изменении тленных и восхищении праведных вместе с душой переселится в небесную область. Ибо «восхищени будем», как говорит апостол, «на облацех в сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем» (1 Фес. 4:17). Поэтому это или иное что устроила этим Божия премудрость — все разумное естество по двоякой этой жизни делится на части, и естество бесплотное приняло в свой жребий небесное блаженство, а другое по причине плоти обитает на земле по сродству с ней. Хотя вожделение прекрасного и доброго равномерно осуществлено в том и другом естестве и Правитель Вселенной в обоих сделал равными самоуправление, самовластие и свободу от всякой необходимости, чтобы все одаренное словом и разумением распоряжалось собой по самозаконному некоему произволу, однако же жизнь горняя во всем хранит себя чистой от порока и с ней несовместно ничто представляющееся противоположным, всякое же страстное движение и расположение, которым подвержен род человеческий, приводит в кружение жизнь дольнюю. Поэтому житие святых сил на небесах Богодухновенное слово признает не имеющим примеси порока и чистым от всякой греховной скверны. Все же, что умышлением худого и отступлением от доброго превращается в зло, подобно какому–то отстою или грязи, стекается в эту обыкновенную жизнь, и оскверняется человеческий род, находя в этой тьме препятствие к тому, чтобы усматривать Божественный свет истины. Поэтому если и высшая жизнь бесстрастна и чиста, а здешняя бедственная жизнь погружена во всякие страсти и злострадания, то явно, что горнее житие, как чистое от всего худого, преуспевает в благой воле Божией, ибо где нет зла, там по всей необходимости есть добро. А наша жизнь, утратив общение в добре, отпала и от Божией воли. Поэтому научаемся мы в молитве в такой мере очищать нашу жизнь от худого, чтобы, как в Небесном жительстве, и в нас беспрепятственно управляла Божия воля, так чтобы можно было иному сказать: «Как в престолах, началах, властях, господствах и во всякой премирной силе совершается Твоя воля и никакой порок не препятствует действию добра, так и в нас да совершается доброе, чтобы по истреблении всякого порока в душах наших благоуспешно исполнялась во всем Твоя воля».
Но возразит кто–нибудь: возможно ли в той чистоте, какая в бесплотных силах, преуспевать получившими в удел жизнь во плоти, когда душа по телесным потребностям погружена в тьму забот? Поэтому то, кажется мне, как бы устраняя такую невозможность, Господь в последующих словах разрешает кажущееся затруднительным в предстоящем деле. Ибо этими словами в повелении просить насущного хлеба предлагается нам, думаю, учение, что довольство малым и умеренность по закону бесстрастия равняется тому, чтобы не иметь ни в чем нужды по естеству. Ангел не просит в молитвах Бога о подаянии ему хлеба, потому что одарен естеством, не имеющим нужды в чем–либо подобном, а человеку повелено просить, потому что делающееся пустым непременно имеет нужду в наполняющем. Скоротечен и преходящ состав человеческой жизни, вместо отделившегося требует возобновляющегося. Поэтому, кто в услужении естеству не увлекается сверх необходимости суетными заботами, тот ненамного ниже ангельского чина по жизни, в довольстве для себя малым подражая ангелам, ни в чем не имеющим нужды. Поэтому повелело нам искать только достаточного к сохранению телесной сущности, говоря Богу: «хлеб» нам «даждь», т. е. даждь не забавы, не богатство, не доброцветные багряницы, не золотые уборы, не блеск камней, не серебряные сосуды, не обширные поместья, не военачальство, не владение городами и народами, не стада коней и волов и великое множество другого скота, не обилие невольников, не знаменитость на торжищах, не памятники, не изображения, не шелковые ткани, не увеселения музыкой и не что–либо этому подобное, чем душа отвлекается от Божественной и более досточестной заботливости, — но «даждь хлеб».
Видишь ли эту широту любомудрия? Сколько учений содержится в этом кратком изречении? Словом хлеб как бы так взывает Господь внимающим: «Перестаньте, люди, истощаться пожеланиями суетного! Перестаньте на горе себе самим умножать поводы к трудам! Невелик твой естественный долг: обязан ты доставать плоти своей пищу — дело небольшое и нетрудное, если имеешь в виду потребность. Для чего умножаешь свои повинности? Для чего налагаешь на себя иго, неся столько долгов, добывая серебро, откапывая золото, приискивая прозрачное вещество? Для того ли, чтобы всем подобным услаждать тебе этого всегдашнего собирателя податей — чрево, которому потребен только хлеб, удовлетворяющий тому, в чем нуждается тело?» А ты отправляешься к индам, терпишь беды на чужеземном море, пускаешься в плавание на целые годы, чтобы привезенными оттуда покупками усладить пищу, не обращая внимание на то, что ощущение сладостей имеет пределом нёбо во рту, а также и благовидное, и благовонное, и услаждающее вкус доставляет чувству какую–то скоропреходящую и мгновенную приятность. Кроме нёба, во рту разность влагаемого в гортань ничем не различима, потому что естеством одинаково изменяется все в зловоние. Видишь ли конец поваренного искусства? Видишь ли последствие поваренных ухищрений? Проси хлеба для жизненной потребности — в этом природа сделала тебя должником телу. А что сверх этого изобретено изнеженностью роскошных, то из числа привсеянных плевел. Сеяние домовладыки — пшеница, а из пшеницы делается хлеб; роскошь же — плевелы, они врагом привсеяны к пшенице. Но люди, перестав служить природе необходимым, действительно, как говорит где–то Писание (Мк. 4:7), бывают подавляемы рачением о суетном и остаются недостигшими зрелости, потому что душа непрестанно занимает себя этими суетностями.
О чем–то подобном, может быть, как мне кажется, загадочно любомудрствует и Моисей, советником Еве к наслаждению вкушением представив нам змия. Сказывают же, что это животное — змий — если вставит голову в паз стены, в который вползает, то нелегко вытащить его из паза тому, кто потянет за хвост, потому что упирающаяся чешуя, естественно, противится усилию тянущего назад, и кому проход вперед беспрепятствен, потому что чешуя по гладкому скользит, для того обратный путь назад, задерживаемый упорством чешуи, затруднителен. А слово это, думаю, показывает, что надлежит беречься удовольствия, когда оно входит и вползает в скважины души, и, сколько можно, тщательнее заграждать пазы жизни. Ибо в таком случае жизнь человеческая блюдется чистой от смешения с жизнью скотской. Если же по расстройству в нас связей жизни найдет себе какой–либо вход змий сластолюбия, то поэтому укроется в нас, так как по причине чешуи трудным сделается извлечение его назад из вместилищ разумения. А слыша о чешуе, разумей под этой загадкой разнообразные поводы к удовольствиям, ибо страсть и сластолюбие по родовому понятию — один зверь, но разные и различные виды удовольствий, примешиваемые чувствами к человеческой жизни — это чешуи на змее, испещренные разнообразием страстей. Поэтому если избегаешь сожительства со змием, то берегись головы, то есть первого приражения к тебе зла, ибо к этому ведет загадочный смысл Господней заповеди: «Той твою блюсти будет главу, и ты блюсти будеши его пяту» (Быт. 13:15). Не давай входа пресмыкающемуся, которое вползает во внутренность и при самом начале входит всей длиной своего тела. Ограничивайся необходимой потребностью. Пределом заботливости твоей о жизни пусть будет удовлетворение нужды тем, что у тебя есть.
Если и с тобою Евин советник вступит в беседу о том, что прекрасно для взора и приятно для вкуса и при хлебе станешь искать такой–то снеди, приготовленной с такими–то приправами, а потом вследствие этого прострешь пожелание далее необходимых пределов, то увидишь тогда, как пресмыкающийся вслед за этим неприметно прокрадется к любостяжательности. Ибо, от пищи необходимой перейдя к лакомым снедям, перейдет и к тому, что приятно для глаз, будет домогаться светлых сосудов, красивых слуг, серебряных лож, мягких постелей, прозрачных, с золотой насыпью покрывал, престолов, треножников, купален, чаш, рогов, холодильников, ковшей, лоханей, светильников, курильниц. А чрез это входит похоть любостяжательности и домогается подобных вещей, но, чтобы в заготовлении их не было недостатка, потребны доходы на приобретение требуемого. Поэтому надобно иному быть в печали, живущему вместе проливать слезы, многим сделаться бедствующими, лишившись собственности, чтобы вследствие их слез за столом этого человека было блистательно. А когда змий обовьется вокруг этого и наполнит чрево, чем было желательно, тогда в след за этим по пресыщении человек более и более вовлекается в неистовство непотребства — и это есть крайнее из зол человеческих.
Поэтому, чтобы не происходило ничего такого, ограничивай молитву испрошением этого пособия — хлеба, ища снеди, приправляемой тебе самой природой. И эта приправа есть добрая совесть, при правильном употреблении хлеба всего более его услаждающая. А если желательно тебе усладить и ощущение гортани, то пусть приправой у тебя будет скудость, пусть не прилагается сытость к сытости, побуждение к принятию пищи не притупляется пьянством, но вкушению ее да предшествует у тебя по заповеди пролитие пота. «В поте» и труде «снеси хлеб твой» (Быт. 3:19). Видишь ли, какая первая приправа пищи, по Писанию? Достаточно для тебя этой только потребностью занимать мысль свою — лучше же сказать, до этого только связывать душу попечениями о хлебе. Но скажи Тому, Кто изводит «хлеб от земли» (Пс. 103:1), скажи Тому, Кто питает «вранов» (Пс. 146:81), дает «пищу всякой плоти» (Пс. 135:250), отверзает руку и исполняет «всякое животно благоволения» (Пс. 144:16): «От Тебя моя жизнь, от Тебя да будет и средство к жизни. Ты «даждь» хлеб, то есть даруй иметь пищу от праведных трудов». Ибо если Бог есть правда, то не от Бога имеет хлеб, кто имеет пищу от любостяжательности.
Сам ты — властелин испрашиваемого в молитве, если довольство твое не из чуждого, если доход твой не от слез другого, если при твоей сытости никто не сделался голодным, если при твоем излишестве никто не воздохнул. Особенно же Божий хлеб таков — это плод правды, глас мира, не смешанный с семенами плевел и не оскверненный ими. Если же, возделывая чужое поле, без стыда делая неправду и записями закрепив незаконное приобретение, скажешь потому Богу: «даждь хлеб», то другой будет внимать этим словам твоим, а не Бог, потому что плод неправды плодоносит естество, противное Богу. Кто старается о правде, тот от Бога приемлет хлеб, а кто возделывает неправду, того питает снабдитель неправды. Поэтому, взирая на совесть свою, приноси Богу прошение о хлебе, зная, что у Христа нет общения с велиаром. Если принесешь дар от неправды, то дар твой — «цена песия» и «мзда блуднична» (Втор. 23:18). Хотя прикрасишь подаяния щедростью, однако же от Пророка, гнушающегося такими приношениями, услышишь: «Что Ми множество жертв? глаголет Господь. Исполнен есмь всесожжении овних, и тука агнцов, и крове юнцов, и козлов не хощу. Кадило мерзость Ми есть» (Ис. 1:11–13); и в другом месте: Жряй Ми тельца, яко убиваяй пса (Ис. 66:3) вменится. Поэтому если от Господа имеешь хлеб, т. е. от праведных трудов, то позволительно тебе приносить ему начатки от плодов правды.
Прекрасно же и присовокупление слова «днесь». Ибо сказано: «Хлеб насущный даждь нам днесь». В этом слове заключается другое любомудрие; произнося это, должен ты познать, что жизнь человеческая однодневна. Собственность каждого — одно только настоящее, а надежда на будущее остается в неизвестности; «не знаем, что родит находяй?» (Прит. 27:1). Для чего мучим себя неизвестным, томим заботами о будущем? Сказано: «Довлеет дневи злоба его» (Мф. 6:34), где злобой называется злострадание. Для чего прилагаем попечение «об утрии»? Поэтому Господь тем, что повелевает говорить «днесь», запрещает тебе заботу «об утрии», как бы следующее внушая тебе этим словом: «Кто дал тебе день, Тот даст и потребное на день. Кто «сияет солнце» (Мф. 5:45); Кто уничтожает ночную тьму; Кто показывает тебе луч света; Кто вращает небо, чтобы над землей стало светило; Кто дает тебе это и многое другое, Тот ужели имеет нужду в твоем содействии, чтобы удовлетворить твоей плоти, снабдив ее потребным? Какую тщательность о собственной жизни привносит от себя естество бессловесных? Какие пашни у воронов, какие житницы у орлов? Не одна ли у всех снабдительница жизни — Божия воля, которой все содержится? Вол, или осел, или другое какое бессловесное, не учась, от природы имеют любомудрие и хорошо располагают настоящим, о том же, что будет после, нет у них никакой заботы».
Неужели мы имеем нужду в советниках, чтобы уразуметь эту кратковременность и однодневность плотской жизни? Не вразумляемся тем, что бывает с другими? Как не уцеломудриваемся собственной своей жизнью? Что было пользы от большого заготовления тому богачу, который обольщал себя неосуществимыми надеждами, разорял, строил, собирал, роскошествовал; чего достало бы на многие годы, то в суете надежд запирал в житницы? Не одна ли ночь обличала всю эту мечтательность надежды, как суетное некое сновидение о чем–то не стоящим внимания? Жизнь телесная ограничивается одним настоящим, а жизнь, предоставляемая надеже, есть собственность души. Но человеческое неразумие погрешает в употреблении той и другой, думая телесную жизнь продлить надеждами, а жизнь душевную тратя в наслаждениях настоящим. Поэтому–то душа, занимаясь видимым, по необходимости делается чуждой надежды существенной и действительной, по надежде опираясь на непрочное, и этим не овладевает, и чего надеялась, того не имеет.
Поэтому научимся из настоящего совета, чего надлежит просить сего дня и чего впоследствии. Хлеб — сегодняшняя потребность, а Царствие — уповаемое блаженство. Сказав же о хлебе, Писание разумеет под этим телесную потребность. Если это станем просить, уму молящегося будет явно, что забота его — об однодневном. Если же проспим чего–либо из душевных благ, то явно, что прошение имеет в виду всегда пребывающее и нескончаемое, на что Господь и повелевает наиболее взирать молящимся, как на важнейшее, удовлетворяющее и первой потребности. «Просите», говорит Он, «царствия и правды, и сия вся приложатся вам» (Мф. 6:33), о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Слово 5: на «Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго» (Мф. 6:12–13)
Слово, простираясь вперед, вошло на самый верх добродетели. Ибо словами молитвы изображает, каким по его требованию должен быть приступающий к Богу; показывает, что он уже вне пределов естества человеческого и уподобляется по добродетели Самому Богу, так что, делая то, что свойственно делать одному Богу, по–видимому, и сам делается вторым богом. Ибо оставление долгов есть Божие свойство, и свойство преимущественное, — сказано: никто же «может оставляти грехи, токмо един Бог» (Лк. 5:21). Поэтому если кто в жизни своей уподобился отличительным чертам Божия естества, то сам некоторым образом делается тем же, с кем сходство показал в себе точным уподоблением.
Итак, чему же учит слово это? Во–первых, с дерзновением, на какое приобретено право предшествовавшей жизнью, сознать в себе уподобление Богу, и тогда уже осмелиться называть Бога Отцом своим и просить прощения в прежних прегрешениях, потому что не всякому просящему возможно получить то, чего желает, но тому, кто делами приобрел себе право просить с дерзновением. Ибо это прямо внушает нам Господь в настоящем изречении, а именно, приступая к благодетелю, будь сам благодетелем; приступая к доброму, будь добрым; приступая к правдивому, будь правдивым; приступая к терпимому, будь терпеливым; приступая к человеколюбивому, будь человеколюбивым, а также будь и всем иным, приступая к добросердному, к благосклонному, к общительному в благах, к милующему всякого, и, если еще что усматривается божественного, во всем этом уподобляясь произволением, приобретай тем себе дерзновение на молитву. Поэтому, как невозможно лукавому освоиться с добрым и покрытому нечистыми сквернами иметь общение с чистым и нескверным, так приступающего к Божию человеколюбию отлучает от него жестокосердие. Поэтому, кто за долги держит человека в своей власти и обходится с ним жестоко, тот нравом своим устранил себя от Божия человеколюбия. Ибо какое общение у человеколюбия со зверством, у любвеобильного расположения с свирепостью и у всего прочего, что противоположно злу, с принадлежащим противной стороне и находящимся в таком непримиримом ему сопротивлении, что преданный ему необходимо удален от противоположного? Как сделавшийся добычей смерти уже не жив и наслаждающийся жизнью удален от смерти, так приступающему к Божию человеколюбию совершенно необходимо быть чуждым всякой жестокости. А кто сделался чуждым всего разумеваемого под именем порока, тот некоторым образом по такому нраву делается богом, доводя до преспеяния в себе то, что разум признает и о Божественном естестве.
Видишь, до какого величия Господь возвышает слушателей словами этой молитвы, прелагая некоторым образом естество человеческое в божественное и узаконяя, чтобы приступающие к Богу сами сделались богами? «Для чего, — говорит Он, — ты, поражаемый страхом, бичуемый своей совестью, раболепно приходишь к Богу? Для чего сам себе заграждаешь дерзновение, заключенное в свободе души и изначально существенно принадлежащее естеству? Для чего льстишь словами Необольстимому? Для чего с услужливыми и угодливыми речами обращаешься к Тому, Кто взирает на дела? Тебе, одаренному свободой и благоразумием, можно со властью иметь всякое благо, какое только дается от Бога. Будь сам себе судьей. Произнеси себе спасительный приговор. Желаешь, чтобы отпущены были тебе Богом долги? Отпусти сам; Бог изрек приговор; твой суд над соплеменником, в котором ты властен, каков бы то ни был, есть и твой приговор. Что сам о себе знаешь, то подтверждено о тебе и Божиим судом».
Но как достойным образом раскроет кто все величие Божия слова? Заключающаяся в нем мысль превосходит словесное истолкование. «Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Ту мысль, какая мне приходит при этом на ум, смело и держать в уме, а еще смелее раскрыть ее в слове. Ибо что сказано? Как преуспевающим в добре представляется в подражание Бог по словам апостола: «Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу» (1 Кор. 11:1), так, наоборот, требуется, чтобы твое расположение к добру стало образцом для Бога, изменяется некоторым образом порядок и мы осмеливаемся надеяться, что, как в нас подражанием Богу совершается доброе, так и Бог будет подражать нашим делам, когда преуспеваем в чем–либо добром, и ты возможешь сказать Богу: «Что сделал я, сделай и Ты; подражай рабу своему, Ты, Господь; убогому и нищему — Ты, царствующий над всем; я отпустил долги, не взыскивай и Ты! Я уважил просителя, не отвергни и Ты просящего! Я отпустил должника своего веселым, таков пусть будет и Твой должник! Не делай, чтобы Твой был грустнее моего! Пусть оба равно благодарят оказавших милость! Пусть посредниками обоих подтверждено будет равное отпущение и моему и Твоему должнику! Мой должник — такой–то, а Твой — я; какое решение дал я о своем должнике, такое же да возымеет силу и у Тебя; я разрешил, разреши и Ты! Я отпустил, отпусти и Ты! Я великую милость оказал соплеменнику, подражай и Ты, Господи, человеколюбию раба Твоего».
«Но мои прегрешения пред Тобою тяжелее сделанных предо мною моим должником. Признаю это и я; рассуди и то, сколько преимуществуешь Ты во всяком добре. Тебе справедливо нам, согрешившим, даровать милость, соразмерную преизбытку Твоего могущества. Малое человеколюбие оказал я, потому что большего не вмещает природа моя, а Ты сколько ни пожелаешь, могущество не воспрепятствует щедродаровитости Твоей».
Но с большей тщательностью уразумеем предлежащее изречение молитвы; рассмотрение смысла его, может быть, и для нас послужит неким руководством к высокой жизни. Потому исследуем, каковы те долги, которым повинно естество человеческое, и еще каковы те долги, отпущение которых в нашей власти; познание этого доставит нам достаточное некое уразумение преизбыточества Божиих благ. А поэтому сделаем здесь перечисление человеческих прегрешений пред Богом. Человек стал подлежать наказанию от Бога, во–первых, за то, что отступил от Сотворившего и передался противнику, сделавшись беглецом и отступником от Того, Кто его Владыка по естеству; во–вторых, за то, что самовластную свободу променял на лукавое рабство греху и быть под самоуправством тлетворной силы предпочел сопребыванию с Богом. Да и это — не взирать на красоту Создавшего, а обратить лицо к гнусности греха — можно ли признать каким–либо вторым из зол? И какой род наказаний заслуживающими счесть должно презрение Божественных благ, предпочтение же приманок лукавого? Заглаждение образа, повреждение Божественных черт, отпечатленных в нас при начале творения, потеря драхмы, удаление от отчей трапезы, освоение со зловонной жизнью свиней, расточение драгоценного богатства и все подобные прегрешения, какие можно видеть при помощи Писания и рассудка, исчислит ли какое слово?
Итак, поскольку род человеческий за таковые вины должен понести от Бога наказание, то мне кажется, что поэтому слово Божие учением, изложенным в молитве, наставляет нас к молитвенному собеседованию с Богом, хотя бы кто из нас и всех более далек был от человеческих прегрешений, никогда не приступать с таким дерзновением, как будто бы у него чистая совесть. Ибо иной, может быть, подобно тому богатому юноше, образовав жизнь свою по заповедям, вправе, как и тот, похвалиться своей жизнью и сказать Богу: «Вся сия сохраних от юности моея» (Мф. 19:20) — и даже предполагать о себе, что ему, как ни в чем не погрешившему против заповедей, крайне неприлично прошение об оставлении долгов, пригодное одним согрешившим. Оскверненному блудом, скажет он, приличны такие слова, или за любостяжательность обвиняемому в идолопоклонстве необходимо просить прощения и вообще всякому, каким–либо прегрешением уязвившему совесть души, прекрасно и сообразно с нуждой прибегать к милосердию. А если он Илия великий, или действует «духом и силою Илииною» (Лк. 1:17), или велик «в рожденных женами» (Мф. 11:11), или Петр, или Павел, или Иоанн, или другой кто из тех, чье превосходство засвидетельствовано Божественными Писанием, то для чего употреблять подобные речения, которыми испрашивается оставление долгов тому, на ком нет никакого греховного долга? Для того, чтобы иной, имея в виду что–либо подобное, не впал в высокомерие, подобно тому фарисею, не знавшему, что он такое по естеству. Ибо если бы знал, что он человек, то, конечно, естество свое не представлять чистым от скверны научился бы из Святого Писания, которое говорит: «Не найдешь у людей, чтобы жизнь одного дня могла быть без скверны» (Иов. 14:4–5). Поэтому, чтобы у приступающего с молитвой к Богу не произошло чего подобного с душой, слово Божие заповедует не смотреть на преспеяния, но приводить себе на память общие долги человеческого естества, в которых всякий, без сомнения, и сам участвует, как участвующий в естестве, и умолять Судию, чтобы даровал прощение прегрешения.
Ибо так как живет в нас Адам и каждый из нас — человек, то, пока видим на естестве своем кожаные эти хитоны и скоро увядающие листья вещественной этой жизни, которые, обнажившись от вечных и светлых риз, сшили мы себе ко вреду своему, вместо Божественных одежд облекши себя в забавы, славу, однодневные почести, убийственные услаждения плоти, — и пока взираем на это плотское местопребывание, на котором осуждены мы обитать, как скоро обращаемся к востоку (не потому только, что там видим для нас Бог, Который, как вездесущий, не объемлется никаким исключительно местом, но все равно содержит, а потому, что на востоке первоначальное наше отечество, разумею же пребывание в раю, из которого мы изгнаны — «насади Бог рай во Едеме на востоцех» (Быт. 2:8)); поэтому, как скоро обращаем взор «на востоки» и мысленно приводим себе на память изгнание из светлых и восточных стран блаженства, справедливо тогда присовокупляем сии речения и мы, отменяемые недоброй смоковницей жизни, отверженные от очей Божиих, самовольно предавшиеся змию, который ест землю и по земле ползает: ходит на персях и на чреве своем и нам советует делать то же — предаваться земным наслаждениям, по земле пресмыкающимися и влачащимися мыслями занимать свое сердце и ходить на чреве, т. е. заботиться о жизни сластолюбивой, поэтому, в этом находясь состоянии, подобно тому блудному сыну, после долгого бедствования, в каком пребывал, пася свиней, как скоро приходим, как и он, в себя и приводим себе на мысль Небесного Отца, тогда прекрасно пользуемся таковыми речениями: «Остави нам долги наша».
Поэтому хотя бы кто был Моисеем и Самуилом и другим кем из прославившихся добродетелью, тем не менее, поскольку он — человек, почитает для себя приличными слова эти, как причастный Адамова естества, участник и его падения. Поскольку как говорит апостол, «о Адаме вси умираем» (1 Кор. 15:22), то изречение, какое прилично Адаму при покаянии, надлежит быть общим для всех с ним умерших, чтобы нам при даровании прощения прегрешений снова, как говорит апостол, спастись благодатью Господней (Еф. 2:5). Но сказано, чтобы иной при взгляде на более общее мог уразуметь предлагаемое в слове. Если же кто будет искать истинного смысла в изречении, то, думаю, не потребуется от нас возводить понятие к общему взгляду на естество, потому что достаточно совести, чтобы в рассуждении каждого поступка в жизни соделать необходимым прошение о помиловании.
Поскольку в этом мире жизнь наша, как думаю, подлежит многообразными влияниям, как по душе и разумению, так и по чувствам телесным, то трудно или и совершенно невозможно не увлечься ко греху хотя бы одной какой–либо страстью. Например, эта любящая наслаждения жизнь относительно к телу делится по нашим чувствам, а относительно к душе оказывает себя в стремлении разума и в движении произвола — кто же столько возвышен и одарен таким благоразумием, чтобы по той и другой жизни избыть ему всякой скверны порока? Кто безгрешен оком? Кто невинен слухом? Кто чужд этого скотского услаждения гортани? Кто чист от прикосновения ко греху осязанием? Кому неизвестна эта предлагаемая Писанием загадка: «Взыде смерть сквозе окна» (Иер. 9:21)? Ибо чувства, посредством которых, сообщаясь с внешними предметами, душа по выбору занимается ими, Писание назвало окнами, которые, по слову же Писания, и пролагают путь для входа смерти. Действительно, многих смертей входом делается часто глаз: видит он раздраженного и сам возбуждается к той же страсти, или видит благоденствующего не по достоинству и воспламеняется завистью; или видит горделивого и впадает в ненависть; или видит какое–либо доброцветное вещество, красивое расположение лица и всецело поползается в вожделение нравящегося. И ухо отворяет окна смерти вместе с тем, что слышит, принимает в душу многие страсти: страх, печаль, раздражение, удовольствие, вожделение, неумеренный смех и тому подобное. А услаждение вкуса, как скажет иной, есть матерь всех по порядку зол. Ибо кому не известно, что корнем почти всех погрешностей в жизни служит заботливость о гортани? От нее зависят роскошь, пьянство, чревоугодие, беспорядочное поведение, многоядение, пресыщение, разгульная жизнь, скотское и неразумное падение в страсти бесчестия. Подобным образом чувство осязания составляет крайний предел всех согрешений; все, что ни делается для тела сластолюбцами, принадлежит к числу недугов осязательного ощущения, подробное описание которых было бы продолжительно; да и неприлично к предметам важным примешивать все то, что служит в укоризну осязанию. А весь рой погрешностей души и произвола в состоянии ли и исчислить какое слово? Сказано: изнутри «исходят помышления злая» (Мф. 15:19) — и присовокуплен список оскверняющего нас помыслом. Итак, если повсюду распростерты нам мрежи грехов всеми чувствилищами и сердечными движениями души, то «кто похвалится», как говорит Премудрость, «чисто имети сердце» (Притч. 20:9)? «Кто чист от скверны?» — как о подобном этому свидетельствует Иов (Иов. 14:4). А скверна для душевной чистоты есть удовольствие во многих видах и многими способами примешиваемое к человеческой жизни и душой и телом, помышлениями и чувствами, намеренными движениями и телесными действиями. Итак, у кого душа чиста от этой скверны? Кто не был поражен кичливостью? Кто не попран ногой гордыни? Кого не поколебала рука грешная? Чья нога не поспешала к пороку? Кого не оскверняло бесчинное око, не ввергал в нечистоту невежественный слух, не занимал собою вкус? У кого сердце оставалось бездейственным для суетных движений?
Поскольку в нас есть все это, и в живущих скотски весьма дурно и несносно, в более же внимательных к себе сноснее, но все, кто одного с нами естества, всегда непременно участвуют в погрешностях естества, то, припадая в молитве к Богу, просим поэтому оставить нам долги. Но не приемлется таковой глас и не достигает Божественного слуха, если не вопиет вместе и наша совесть, что оказанное милостью делиться с другими — прекрасное дело. Ибо кто рассуждает, что человеколюбие прилично Богу (а если бы не признавал приличным, не стал бы просить у Бога неприличного и несообразного), от того справедливость требует, собственными своими делами подтвердить суждение о прекрасном деле, чтобы самому не услышать от праведного Судии: "«Врачу исцелися сам». Меня умоляешь о человеколюбии, которым не делишься ты с ближними. Просишь об оставлении долгов — почему же сам мучишь должника? Умоляешь, чтобы рукописание на тебя было изглажено, а сам тщательно хранишь договоры с занявшими у тебя в долг? Просишь об уменьшении счета долгов, а сам данное в долг приращаешь лихвой? Твой должник в темнице, а ты в молитвенном доме. Он страдает за долги, а ты испрашиваешь оставление долга? Твоя молитва не услышана, потому что заглушает ее голос страждущего. Если разрешишь телесный долг, разрешены будут тебе душевные узы. Если простишь, прощено будет и тебе; сам будешь своим судией, сам себе предпишешь закон, расположением к лежащему у ног твоих произнося свыше приговор себе».
Чему–то подобному, кажется мне, учит Господь в другом слове, в виде повествования предлагая это учение. По этому повествованию некий где–то царь грозно председательствует на суде и призывает к себе служителей, собирает сведения о каждом их распоряжении. Приводят к нему одного должника, и царь оказывает ему человеколюбие, потому что должник, припав к его ногам, вместо денег в уплату представил просьбу; и он–то потом с подобным ему рабом за небольшой долг поступает жестоко и бесчеловечно и прогневляет царя своим бесчеловечием к подобному себе рабу. Царь повелел исполнителям казни совершенно изгнать его из царского дома и продлить мучение до того времени, как вытерпит достойное вины наказание. И действительно, что значат несколько ничего не стоящих и легко сосчитываемых оболов в сравнении с тьмами талантов, то и долги нам братий наших в сравнении с нашими прегрешениями пред Богом. Во вред тебе, конечно, служит или нанесенная кем–нибудь обида, или порочность служителя, или злой умысел на телесную жизнь, и ты в воспламенении сердца раздражен к отмщению за это, отыскиваешь всевозможные средства к наказанию огорчивших тебя.
И если раздражение воспламенено на служителя, не рассуждаешь, что не природою, но властолюбием разделен род человеческий на рабов и господ. Ибо Домоправитель Вселенной узаконил одному бессловесному естеству быть в рабстве у человека, как говорит Пророк: «Вся покорил еси под нозе его: овцы и волы вся, еще же и скоты польския, птицы и рыбы морския» (Пс. 8:7–9). Их называет Пророк и служебными, так как сказано в другом месте пророчества: «Дающему скотом пищу их, и злак на службу человеком» (Пс. 147:8–9). Человека же украсил Бог даром свободы, так что порабощенный тебе обычаем и законом по достоинству естества имеет равенство с тобою. Не от тебя получил он бытие, не тобою живет, не от тебя заимствует песнь и душевные силы. Почему же столько воскипает на него раздражение твое, если он поленился, или оставил тебя, или, может быть, и в глаза тебе оказал пренебрежение? Должно тебе посмотреть на себя самого, каков ты бывал пред Владыкой, Который сотворил тебя, ввел в мир посредством рождения, сделал тебя причастником этих чудес в мире, в наслаждение тебе предложил солнце, даровал все средства к жизни из стихий, из земли, из огня, из воздуха, из воды, снабдил тебя даром разумения, впечатлительным чувством, знанием различающих доброе и худое? И что же? Ты разве послушен такому Владыке и не упорен против Него? разве не отступил от Его владычества? Разве не бежал ко греху? Разве не обменял благого владычества на лукавое? Разве, сколько от тебя это зависело, не оставил пустым Владычнего дома, оставив то, что заповедано тебе было «делати и хранити» (Быт. 2:15)? И не при вездесущем ли всевидящем свидетеле — Боге или совершаешь исчисленные прегрешения, или говоришь, или думаешь, чего не должно? И потом, когда ты таков и столькими обременен долгами, почитаешь за нечто великое оказать милость подобному себе рабу тем, что оставишь без внимания какое–нибудь его пред тобой прегрешение?
Поэтому если намереваемся принести Богу моление о милости и прощении, то приуготовим дерзновение совести, представим жизнь свою ходатаицей за произносимую молитву, чтобы воистину можно было сказать: «Яко и мы» оставили «должником нашим».
Что значит за этим присовокупляемое к сказанному? Почитаю необходимым не оставить и этого без рассмотрения, чтобы, зная, кому молимся, приносить моление душой, а не телом. «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго» (Мф. 16:13). Какая, братия, сила сказанного? Господь, кажется мне, многообразно и различно именует злого по разности лукавых сил, называя его многими именами: диаволом (Мф. 13:39), веельзевулом (Мф. 10:25), мамоной (Мф. 6:24), князем мира (Ин. 14:30), человекоубийцей (Ин. 8:44), лукавым, отцом лжи (Ин. 8:44) и другими подобными именами. Поэтому, может быть, одно из разумеемых о нем имен есть и это: «искушение». И такую нашу догадку подтверждает словосочинение в сказанном, ибо Господь после слов: «Не введи нас во искушение», присовокупляет прошение об избавлении от лукавого, как будто тем и другим означается один и тот же. Если кто не входит «во искушение», тот непременно вне власти лукавого, и кто «в искушении», тот необходимо бывает во власти лукавого, следовательно, «искушение» и лукавый по значению одно и то же. Что же внушает нам такое учение молитвы? Стать вне усматриваемого в мире этом, как говорит ученикам в другом месте, что «мир весь во зле лежит» (1 Ин. 5:19). Поэтому, кто желает стать вне власти лукавого, тот по необходимости переселяется из мира. Ибо «искушение» не имеет возможности коснуться души, если мирскую эту заботу, подобно какой–то приманке наживив на коварную удочку, не прострет к жадным. Но гораздо более ясной для нас сделается мысль эта из других примеров. Море нередко бывает страшно своими волнениями, но не для тех, которые живут от него вдали. Огонь истребителен, но только для подложенного в огонь вещества. Война ужасна, но для одних вступивших в воинские ряды. Кто избегает бедствий, какие постигают на войне, тот молится, чтобы не впасть в необходимость воевать. Кто боится огня, тот молится, чтобы не быть ему в огне. Кто трепещет моря, тот молится, чтобы не было ему нужды пуститься в мореплавание. Так и тот, кто страшится приражений лукавого, пусть молится, чтобы не быть ему во власти лукавого. А поскольку, как сказали мы прежде, по слову Писания, «мир во зле лежит» и в мирских делах заключаются поводы к «искушениям», то молящийся об избавлении от лукавого хорошо и надлежащим поступает образом, когда просит, чтобы не прийти ему «во искушение». Ибо, не повлекши с жадностью приманку, невозможно кому–либо поглотить крючок на удочке.
Но и мы, восстав, скажем Богу: «Не введи нас во искушение», т. е. в бедствие настоящей жизни, «но избави нас от лукаваго», приобретшего силу в этом мире, которого да избавимся и мы по благодати Христа, потому что Его и сила и слава со Отцом и всесвятым и благим и животворящим Духом во веки веков. Аминь.
О надписании псалмов
Книга 1. (О целях написания Псалмов)
Предисловие к другу
Со всею готовностью принял я твое, человек Божий, приказание, и меня, и тебя равно вызывающее на труд, и вникал в надписания псалмов. Ибо сего и требовал ты от нас — исследовать усматриваемый в них смысл, чтобы для всех сделалось явным, что может в них руководить нас к добродетели. Посему, с великим вниманием перечитав всю книгу псалмов, признал я необходимым не исследованием надписании начать, но касательно всего вообще псалмопения изложить наперед некоторый способ к искусному уразумении мыслей, по которому естественным образом уяснится для нас понятие о надписаниях. Почему, прежде всего надлежит уразуметь цель сего Писания, к чему она клонится; потом, в след за сим, рассмотреть то направление мыслей к предположенному, какое показывают и порядок, удобно служащий к познанию цели, и отделы всей книги, определяемые особыми некиими очертаниями при пятичастном разделении всего заключающегося в псалмах пророчества. По предварительном же в надлежащей мере уразумении сего соделается для нас понятнее польза, извлекаемая из надписаний и раскрываемая уразумением наперед исследованного. Поэтому с сего должно начать обозрение.
Глава 1. (Человеческое блаженство — есть уподобление Божеству)
Конец добродетельной жизни — блаженство. Ибо все, в чем тщательно преуспеваем, непременно, что–нибудь имеете целью. И как у врачебного искусства в виду здравие, а цель земледелия — заготовление потребного для жизни: так приобретение добродетели служит к тому, чтобы живущему добродетельно соделаться блаженным; это — верх и предел всего, что умопредставляем себе как благо. Посему и то, что, в подлинном и собственном смысле, усматривается и умопредставляется под сим высоким понятием, справедливо будет называться естеством Божественным. Так и великий Павел именует Бога, всем богословским именованиям предпоставив имя: Блаженный, когда в одном из послании выражается такими словами: «блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная!» (1 Тим. 6:15:16). Все сии высокие понятия о Божестве, по моему рассуждению, могут служить определением блаженства. Если кого спросят, что такое блаженство, то не погрешит, в ответе благочестивом последовав слову Павлову и сказав: блаженно, что в собственном смысле и первоначально так называется, или превысшее всего естество; а в людях некоторым образом делается и именуется блаженным, что таково по причастию истинно Сущего и принадлежит в них естеству того, чего они причастны. Посему вот определение человеческого блаженства: оно есть уподобление Божеству. И как, что истинно благо, или превыше блага, то одно и блаженно и вожделенно для естества, и причастием сего все делается блаженным, то Божественное псаломское Писание в некоей благоискусной и естественной последовательности прекрасно указует путь к сему единому, в простом, по видимому, и бесхитростном учении разнообразно и многоразлично излагая способы к приобретению блаженства. Посему и из самого первого псалма можно заимствовать мысль о сем предмете, так как слово, деля добродетель тречастно, каждому отделу, в приличной некоей соразмерности, приписывает блаженство, ублажая то отчуждение от зла, как служащее началом стремления к лучшему, то за сим поучение в высшем и Божественнейшем, как производящее уже навык к лучшему, то наконец чрез сие в совершенных достигающее до преспеяния уподобление Божеству, ради которого и предшествующие состояния называет блаженными, последнее же гадательно разумеется под образом присноцветущего древа; ему уподобляется усовершенная добродетелью жизнь.
Глава 2. (О различных родах жизни и о том, что порок услаждает чувство, а добродетель веселит душу)
Чтобы иметь нам точнейшее сведение об учении о добродетелях, какое преподается во всем псаломском руководстве, хорошо будет, как бы некое искусственное слово в последовательном порядке изложив наперед для себя самих, подробно определить прежде всего, как возможно любителю добродетельной жизни пребывать в добродетели. Ибо в таком случае узнаем следствия предварительно указуемого нам учения. Посему, кто намерен обратиться к добродетели, тому надлежит прежде различить в слове жизнь благоприличную и укоризненную, обозначив каждую особенными признаками, чтобы понятие о них не было затемняемо ничем общим и не смешивалось. Между знаками особенности каждого из сих образов жизни имеются, может быть, и какие–нибудь иные, но более общими других, по нашему предположению, служат следующие: веселие, доставляемое ими людям, уделяется то чувству, то разуму; так как порок услаждает чувство, а добродетель веселит душу. При сем естественно будет одобрению и охуждению удалять мысль слушателей от худшего и сроднять с лучшим, потому что охуждение дурной жизни возбуждает ненависть к пороку, а похвала делам добрым увлекает пожелание к более одобрительному. Потом, чтобы похвала жизни доброй действовала сильнее и порицание жизни худой было поразительнее, надлежит приводить на память самих, как возбудивших удивление добродетелию, так осужденных за порочность; потому что представляемые примеры из их жизни производят некое напряжение и твердость в душевном расположении, когда надежда достигнуть одинаковой чести с доблестными привлекает душу к добродетели, а охуждение осужденных возбуждает к удалению и отчуждению от одинаких с ними предначинаний. При всем же этом необходимо будет для каждого из сих случаев изложить подробное некое учение, которое и укажет лучшее, и отвратит от худшего, к лучшему руководя слух какими либо правилами и советами, и от худого удерживая словами, внушающими отвращение.
Но и по строгом различении этого, поелику с трудом приемлется естеством все то, что чуждо удовольствий (разумею же удовольствие, угодное телу; потому что душевное веселие далеко отстоит от бессловесного и рабского сластолюбия), а особенным признаком той и другой, и добродетельной и порочной, жизни признали мы прежде то, что порок льстит в нас чувствилищам плоти, добродетель же душевным веселием делается в преуспевших; то у возводимых ныне в высшую жизнь, для которых судить о прекрасном представляется еще способным чувство, душа, как неприготовленная опытом и непривыкшая к такому уразумению, не имеет пока и достаточных сил усматривать доброе. А что вовсе не известно, к тому, хотя оно и всего прекраснее, пожелание наше остается неподвижным; без предшествующего же пожелания не будет никакого удовольствия от такой вещи, к которой не чувствуем пристрастия; потому что путем к удовольствию служит пристрастие. Посему для невкусивших еще чистого и Божественного удовольствия необходимо надобно придумать нечто такое, почему были бы приняты и уроки добродетели, будучи услаждены чем либо увлекающим чувство. Так обычно поступать и врачам, когда какой либо горький и противный вкусу целительный состав делают они непротивным для больных, приправив сладостно меда.
Если же в сказанном нами вполне изложено руководство к добродетельной жизни, и именно, как сперва должно отделить один от другого противоположные роды жизни, потом каждый из них обозначить особенным признаком, после того один род почтить словом, другой же чрез охуждение сделать отвратительным, и примерами мужей знаменитых усилить мысль о каждом роде, частными же правилами указать путь, ведущий к добру, и отвратить от худого, и что в добродетели сурового и требующего мужеских сил, соделать это приятным для младенчествующих, усладив чем либо увеселяющим наше чувство; то время уже уразуметь, каким образом из рассмотренного сего изложения открывается нам все заключающееся в псалмах учение, удерживающее от порока и привлекающее к добродетели.
Глава 3. (О сладкозвучии, слагаемости из противоположностей, сторойности псалмов)
Итак, сперва (ибо начинаем с последнего) всмотримся в это примышление, по которому псалмопевец столько суровый и напряженный образ добродетельной жизни, столько загадочное, исполненное тайн учение, столько неизреченное и прикровенное неизглаголанными созерцаниями богословие соделал до того постижимым и сладостным, что учение сие изучается не только совершенными мужами, у которых очищены уже душевные чувствилища, но делается собственным достоянием женского терема; как одна из игрушек, доставляет удовольствие младенцам, престарелым же служит вместо жезла и отдохновения; и кто весел, тот дар сего учения почитает своею собственностью, а кто по какому либо обстоятельству в грустном расположении, тот думает, что ради него подается таковая благодать писания. И путешествующее, и плывущие морем, или занятые какими либо сидячими работами, и вообще все, в чем бы то ни было упражняющиеся, и мужчины, и женщины, здоровые и больные, почитают для себя утратою — не иметь в устах своих сего высокого учения. Даже и пиры, и свадебные торжества среди радостей в сем любомудрии заимствуют для себя часть увеселения; не станем же и говорит о Божественном на всенощных бдениях песнопении псалмов и об изучаемом церквами в них любомудрии.
Какое же это примышление к несказанному и Божественному наслаждению, которое великий Давид влиял в свои наставления, и которым соделал, что уроки его так охотно приемлются естеством человеческим? Всякий, может быть, готовь сказать причину, по которой с удовольствием занимается псалмами. Сладкозвучье речи, скажет иной, — вот причина наслаждения, с каким перечитываются псалмы. А я, как сие ни справедливо, утверждаю, что не должно оставлять сего без исследования; ибо кажется мне, что любомудрье сладкозвучьем означает нечто большее, нежели как понимают это многие. Что же хочу этим сказать? Слышал я одного мудреца, который о нашем естестве вел такое слово: человек есть малый мир, заключающий в себе все, что есть в великом мире. А устройство вселенной есть некая музыкальная стройность, во многих видах и разнообразно по какому–то порядку и ладу сама с собою соглашенная, сама себя поддерживающая и никогда не нарушающая сего согласья, хотя и усматривается некое великое различье существ, если брать каждое отдельно. Что бывает с смычком, который, искусно касаясь струн, разнообразием звуков производит услаждающий глас, какого, конечно, не составилось бы, если бы во всех струнах был однообразный звук; так и входящее в состав вселенной, при разнообразии существ, отдельно усматриваемых в мире, по какому–то на всегда установленному и ненарушимому ладу, само себя касаясь, и производя согласие частей с целым, оглашает вселенную этим всестройным сладкопением, слышателем которого бывает ум. Как нимало непользующийся этим слухом, но простирающийся далее плотских чувствилищ, и возносящийся гор, так слушает он песнопение небес, как, по моему мнению, слышал и великий Давид, когда, по усматриваемому в небесах искусному и всепремудрому движению, уразумевал, что «поведают» они славу производящего в них это Бога (Пс. 18:2).
Ибо действительно с таковым ладом выводимая песнь неисследимой и несказанной Божьей славе есть это согласие всей твари с самой собою, слагаемое из противоположностей. Противоположны же между собою покой и движение; и они взаимно срастворены в естестве существе; и в них самих усматриваем какое–то неизъяснимое смешение сих противоположностей, так что и в движении оказывается покой, и в неподвижном — приснодвижущееся. Хотя всегда движется все, что на небе, или вращаясь с неподвижным кругом, или увлекаясь в противную сторону подвижными телами, но взаимное между собою расположение небесных тел всегда покоится и пребывает тожественным, из того порядка, в каком состоит оно, никогда не переходя в какой–либо другой, а всегда, каким было, таким и оставаясь. Посему соединение покоющегося с движущимся, повсюду совершающееся в некоем однажды установленном и ненарушимом согласии, есть мусикийская некая стройность, с какою совершается складно и чудно сложенное песнопение всем обладающей Сил. Его–то, кажется мне, услышав и великий Давид, сказал в одном из псалмов, что хвалят Бога все силы, какие на небеси, и звездный свет, «и солнце, и луна, и небеса небес: и вода яже превыше небес» (Пс. 148:3–4); а далее перечисляет и все, что есть в твари; потому что взаимное единодушие и сострастие всего, направляемые в порядке, чинности и последовательности, составляют первую, первообразную и истинную мусикию. Ее–то, по неизреченному закону премудрости, Правитель вселенной художественно предначинает тем, что вечно совершается в премудрости.
Посему, если порядок целого мира есть мусикийская некая стройность, «Художник и Содетель» которой, как говорит Апостол, (Евр. 11:10) Бог; а человек есть малый мир, но он же самый делается и подобием Приведшего мир в стройность; то разум, что усматривает в великом мире, то же самое видит и в малом; потому что часть целого непременно однородна с целым. Как осколок небольшого стекла, в прозрачной своей части, подобно зеркалу, показывает солнечный круг, сколько вмещает малость прозрачной частицы: так и в малом мире, разумею человеческое естество, видна вся мусикия, усматриваемая во вселенной, частью соответствующая целому, сколько вмещается целое в части. Показывает же это и устройство орудий нашего тела, искусно приспособленное природою к упражнению в музыке. Видишь ли эту свирель — дыхательное горло, эту подпорку у струн — небо, эту, как бы на струнах и смычком, игру языка, щек и рта?
Итак, поелику все, что согласно с естеством, любезно естеству, а музыка, как показано, согласна с нашим естеством; то посему великий Давид к любомудрому учению о добродетелях присоединил и сладкопение, в высоте догматы влив, как бы некую сладость меда, при помощи которой естество наше некоторым образом изучает и врачует само себя. А врачеством естеству нашему служить стройность жизни, какая, по моему мнению, прикровенно внушается сладкопением. Ибо, может быть, не самое служить призванием к высокому состоянию жизни, к тому, что живущих добродетельно нрав не должен быть грубым, странным, со всеми разногласным, не издавать, как и струна, сверх меры высокого звука, потому что стройность струны, будучи доводима до излишества, непременно нарушается; но и, напротив того, не должен ослаблять своей силы до непомерности сластолюбием, потому что душа, расслабленная таковыми страстями, делается глухою и немою; и все прочее также должно при времени повышать и понижать, имея в виду, чтобы у нас в нравах сохранялись всегда стройность и добрый лад, без непомерной распущенности и чрезмерной натянутости. Почему о Давидовых преспеяниях в сей Божественной мусикии свидетельствует история, именно же, что некогда Саула, который неистовствовал и изступал из ума, Давид исцелял от страсти игрою на гуслях, так что Саул снова возвращался умом в естественное состояние. Почему явствует из этого, на что указывает загадочно значение сладкопения, именно же, что оно внушает нам утишать в себе страстные движения, различно возбуждаемые житейскими обстоятельствами. Но не надлежит оставлять без внимания и того, что не по правилам песнописцев, чуждых нашей мудрости, составлены сии песнопения, потому что не в тон речений заключается сладкогласие, как можно сие видеть у тех, у кого лад пораждается от известного сочетания словоударений, — когда тон звуков понижается и возвышается, сокращается и удлиняется. Напротив того, Давид, придавая Божественным словам неподготовленное и безискусственное сладкогласие, хочет сладкопением, при известном течении речи, истолковать смысл сказуемого, когда самый тон голоса открывает, сколько возможно, мысль, заключающуюся в речениях. Посему такая это приправа снеди, которою, как бы сладостями какими, придается приятность пище уроков.
Глава 4. (О том, что в псалмопениях показано, как добродетель ясными признаками отличается от порока)
Согласно с предложенным нами искусственным воззрением, благовременно уже будет подвергнуть в слове рассмотрению самый пир добродетелей. Ибо, во–первых, можно найти, что добродетель ясными признаками отличается от порока, так что разность той и другого с противоположным неслитна. Из веселья, доставляемого нам ими, делается видным отличительное свойство жизни добродетельной и порочной; порок увеселяет телесные чувства, а добродетель — душу; почему находимое по сим признакам свойство подлежащего безошибочно и несомнительно.
И это не по иному чему, но по мыслям, усматриваемым с первого взгляда, и при обозрении, проникающем до глубины, можно находить во многих местах псалмопения, особливо же в псалме четвертом, где Давид называет тяжкосердыми тех, которые ложь и суету не отличают от истины (Пс. 4:3), но любят неосуществимое, постоянное же и достойное любви презирают. Одна святость, сказано у Давида, действительно достойна удивления, а все прочее, чего домогаются люди, как блага, таково только в предположении; оно само в себе не существует, но в суетном только мнении человеческом представляется имеющим бытие. И чтобы яснее раскрыть учение о сем, говорит Пророк далее, что многие ограничивают благо вещами видимыми, говоря: то только благо, что может иной показать чувству. «Мнози», по слову Пророка, «глаголют: кто явит нам благая?» (7). Но кто имеет в виду добродетель, тот презирает это рабское суждение о прекрасном. Во свете видит он прекрасное; обозначает же сим именем Божественное и высокое веселье. А светом называет оный свет воссиявающий от лица Божия, в естество Которого не может проникать чувство. «Знаменася на нас», сказано, «свет лица Твоего, Господи» (7). Ибо под лицем Божиим, усматриваемым в некиих чертах, кажется мне, Пророк разумеет не иное что, как добродетели; потому что ими отличается образ Божества. И сказав это, указует совершенный признак добродетели: «дал еси веселие в сердце моем» (8), вместо души и ума именуя сердце; потому что уму не свойственно услаждаться приманками порока. Веселию же сердца противопоставляет Пророк это вещественное и житейское изобилие, утверждая, что у имеющих в виду настоящее ценителем прекрасного бывает чрево. Ибо сказав, что у таковых умножились пшеница и вино (8), под именем части совокупил в слов услаждения чрева и все удовольствия пиршеств, занимающие первое место в числе всяких вещественных развлечений, попечение о которых не приводит ни к какому успешному концу. Ибо в естестве человеческом для мгновенного наслаждения нет никакого хранилища, в котором бы могли мы запасать для себя удовольствие, со всем тщанием приобретенное. Но когда сластолюбцам кажется, что овладели они чем–то, как обманчивый какой–то призрак мгновенно исчезает, и обращается это в ничто, и, по удалении таковой мечты, остается один ее след — стыд, отпечатлевающий в них глубокий и неизгладимый образ того, что прошло, так что, подражая в искусстве ловцам, можно по следам распознать природу зверя. Ибо ловцы, когда добыча и невидима, по следу узнают животное.
Поэтому, если свинья или лев дает о себе знать собственными своими следами, то, конечно, естественно и свойству удовольствия делаться известным по оставленному им следу. Но след его есть стыд; следовательно и удовольствие, отпечатлевающее в душе такой след, без сомнения, есть или стыд, или то, чем производится стыд. Но это было уже нами рассмотрено в предшествовавшем сему месте; ибо по предположенному должно было показать из псалмопения, какой конец того и другого рода жизни, и добродетельного и порочного. Посему, сказав в поименованном выше псалме, что конец добродетели — мир, упокоение и вселение единообразное, не имеющее ничего общего с страстями, преуспевающее в уповании на общение с Богом, Пророк противоположное сему, как здесь дал видеть самым умолчанием, так и во многих местах псалмопения, возвещает громко, говоря: «беззаконницы изженутся, и семя нечестивых потребится» (Пс. 36:28); и: «любяй неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешники сети» (Пс. 10:5–6). А есть тысячи и других мест, сему подобных; да и вся книга псалмов наполнена похвалами добродетели и осуждением живущих порочно. И напоминание исторических событий, направленное к двум целям, возбуждает соревнование добродетелию благоискусных лиц, и ужас лукавством осужденных. Ибо когда возбуждает тебя примером к добродетели, говорит: «Моисей и Аарон во иереех Его, и Самуил в призывающцх имя Его: призываху Господа, и Той послушаше их. В столпе облачне глаголаше к ним» (Пс. 98:6–7). А когда указывает на худой конец порока, описывает страдания осужденных за лукавство. «Отверзеся земля и пожре Дафана, и покры на сонмищи Авирона: пламень попали грешники» (Пс. 105:17–18). И: «сотвори им» яко «Мадиаму и Сисаре. Положи князи их яко Орива и Зива, и Зевеа и Салмана вся князи их» (Пс. 82:10–12), и многое иное, сему подобное. Все же частные внушения от начала до конца громко повторяет тебе псалмопение, ни в чем не оставляя без побуждения к прекрасному, ради чего человеку необходимо избегать порока. Все сопряжено с правилами, ведущими к прекрасному: потому что приобретение доброго делается удалением от противоположного и истреблением его. Но излишним было бы делом выставлять все это в точности, когда для читающих сие Писание явна заботливость слова о подобном сему.
Глава 5. (О том, что весь состав псалмов делится на пять частей)
Весь состав псалмов делится на пять частей. И в сих отделах есть некое искусственное расположение и распределение. Объем сих отделов делается явным, однообразно заключаясь некиими славословиями Богу, которые можно знать по указанному у нас разделению псалмопения. Число же псалмопений в каждом отделе следующее: в первом их сорок, во втором — тридцать одно; в третьем — семнадцать, в четвертом — столько же, в пятом — сорок и пять. Посему первая часть, начавшись с первого псалма, оканчивается сороковым, у которого последние слова: «благословен Господь Бог Израилев от века, и до века: буди, буди» (Пс. 40:14), вторая же — семьдесят первым, у которого конец следующий: «благословен Господь Бог Израилев, творяй чудеса един, и благословенно имя славы Его во век и в век века: и исполнится славы Его вся земля: буди, буди» (Пс. 71:18–19); третья — восемьдесять осьмым, и заключается подобным же образом; ибо конец псалма таков: «благословен Господь во век: буди, буди» (Пс. 88:53). Заключением четвертого отдела служит псалом сто пятый, которого конец подобен концу прочих отделов: «благословен Господь Бог Израилев от века и до века: и рекут вси людие: буди, буди» (Пс. 105:48). Пятая же часть простирается от сего псалма до последнего, у которого конец: «всякое дыхание да хвалит Господа» (Пс. 150:6).
Посему время теперь кратко сказать о том искусственном порядке, какой приметили мы в сих отделах. В первом отделе Пророк живущих порочно удерживает от неуместного заблуждения, привлекает же к избранию лучшего, чтобы не следовали они более обольщениям нечестивых, не стояли твердой ногою на дурной стезе греха, не предавались пороку, постоянно и глубоко в них укоренившемуся, но прилеплялись к закону Божественному, при поучении себя в оном преуспев в непогрешительном шествии так, чтобы, подобно древу, укоренился в них навык к лучшему, поддерживаемый Божественными учениями. Посему первое вступление на путь добра есть удаление от противоположного, следствием чего бывает общение с лучшим.
Вкусивший уже добродетели и собственным опытом уразумевший свойство добра, бывает таков не потому, что какою–то необходимостью и по вразумлениям другим отвлекается от пристрастия к пороку и обращает взор к добродетели, но потому, что паче всего жаждет лучшего; ибо непреодолимое и сильное желание псалмопевец уподобляет жажде, приискав между животными породу наиболее чувствительную к жажде, чтобы сила пожелания наипаче выразилась примером животного, чрезмерно жаждущего. И животное сие называет «еленем» (Псал. 41:2), естество которого утучняется тем, что употребляет в пищу ядовитых зверей. А как соки сих зверей горячи и воспалительны; то елень, наевшись и отравившись их соком, по необходимости чувствует в себе сухость. И потому с большею жадностью желает воды, чтобы уврачевать происходящую от такой пищи сухость. Посему, кто по первой части псалмопения предначал добродетельную жизнь, вкушением познал сладость вожделенного, истребил в себе всякий пресмыкающийся вид похотения, и вместо зверей зубами целомудрия пожирает страсти; тот общения с Богом возжаждет паче, или столько же, как и «елень желает на источники водныя» (Псал. 41:2). А достигшему источника после чрезмерной жажды естественно столько поглотить воды, сколько станет пожелания и сил вместить. Но кто принял в себя желаемое, тот полон того, чего желал; потому что соделавшееся полным не пустеет снова, подобно полноте в теле; и питье не остается недейственным само в себе, а, напротив того, Божественный Источник, в ком бы он ни был, в Себя претворяет к Нему прикоснувшегося и сообщает тому собственную Свою силу.
Глава 6. (Толкование 72 псалма ст. 22–28)
Но Божеству собственно принадлежат сила надзора над существами и действенность. Посему, кто имеет в себе, чего желал, тот сам делается надзирателем и прозирает в естество существ. Потому третьему отделу псалмопения положено такое начало, на основании которого Писание (Пс. 72) исследует наипаче, каким образом правда суда Божия сохранится при видимом житейском безурядстве, когда всего чаще не по достоинству произволении достается людям благоденствие в настоящей жизни; потому что в одном и том же нередко можно усмотреть две крайности, а именно: человек дошел до последней ступени порока и стоит на самом верху благоденствия. Иной, смотря на него, колеблется как–то мыслью: не лучше ли для естества человеческого то, что называется худшим? И, напротив того, не худо ли то, что причисляется к доле лучшего? Ибо, если справедливость хвалится, но ревнующий о ней живет несчастно; охуждается же порок, но возревновавшим о нем доставляет достаточное наслаждение всем, что желательно для людей; то почему должно признать, что выбор восхваляемой добродетели предпочтительнее для жизни осуждаемого порока? Посему, кто возвышен разумом, и, как бы с высокой какой башни, простирает око на отдаленные предметы, тот видит, в чем состоит разность порока и добродетели, а именно, что суд о них совершается не по настоящему, но по последнему. Ибо кто дальновидным и прозорливым оком души, как настоящее, уразумев то, что в уповании уготовано добрым, оставляет в стороне все видимое, проникает же душою внутрь небесного святилища, тот посмеивается нерассудительности людей, суд о прекрасном малодушно предоставляющих чувственности. Посему псалмопевец говорит: «что бо ми есть на небеси? и от Тебе что восхотех на земли» (Пс. 72:25). В той же части псалмов, с удивлением возвеличивая и превознося словом небесное, а что на земле и вожделенно очам несмысленных, то презрительно и с осмеянием уничижая и представляя отвратительным, подобно тому, как если кто из родившихся в темнице тот мрак, в котором воспитан и вырос, почитает великим некиим благом, потом, вкусив приятности быть под открытым небом, охуждает прежнее свое суждение, говоря: каким зрелищам солнца и звезд и всей небесной красоты, по неведению лучшего, предпочитал я привычный мне мрак, и псалмопевец потому же самому охуждает в слов нерассудительное мнение о прекрасном, говоря о себе, что он был «скотен» (22), пока видел благо только в земном. Но когда стал с Богом (Бог же Слово), и наставлен на правый путь, а вождем для него делается правое советом Слово, и увидел в добродетели славу, какою бывают восхищаемы обращающие взоры к небу; тогда употребляет оные речения, из которых одно всякое у людей благо вменяет в некое чудо, а другое с презрением отзывается о ничтожестве и суетности обманчивой заботы о жизни. Все же изречение таково: псалмопевец говорит: «скотен бых у Тебе» (22), означая таковыми словами неразумное пристрастие. Потом присовокупляет: «и аз выну с Тобою» (23). Сказав же сие, указует и способ единения с Богом, чтобы и мы дознали, как тот, кто прежде был «скотен», после сего вступает в единение с Богом; ибо говорит: «удержал еси руку десную мою» (23). Божиею помощию называет направление разумения к делам правым. «И советом Твоим наставил мя еси» (24); потому что наставление к прекрасному не бывает без Божия совета: «и со славою приял мя еси» (24). Прекрасно стыду противопоставляет славу, которая как бы некоею колесницею и крылом служит для приемлемого под Божию руку, как скоро отчуждит кто себя от дел постыдных. И таким образом псалмопевец присовокупил к сказанному; «что бо ми есть на небеси? и от Тебе что восхотех на земли?» Так, конечно, поступают доныне многие из людей, хотя в их власти и таковые блага на небе, однако же признают они достойным молитвы просить себе у Бога сих мечтательных обольщении, владения чем–нибудь, или почести, или богатства, или жалкой этой ничтожной славы, за какою с безумием гоняется человеческий род. А приобретающий блага небесные в след за тем присовокупляет: «мне же прилеплятися Богови благо есть, полагати на Господа упование мое» (28), показывая, что, некоторым образом, тот входит в единение с Богом, кто прилепляется к Нему упованием и делается с Ним едино.
Глава 7. (Толкование 89 псалма)
Итак, в третьем отделе, по совершении такового восхождения в высоту, до такой меры вознесенный мыслью и вступив еще на высшую степень, человек делается сам себя больше и выше в четвертой части, как бы, подобно Павлу, восшедший на третье некое небо и став выше пройденных дотоле высоте; потому что вступает туда не как простой человек, но как прилепившийся уже к Богу и вступивший с Ним в единение. Слово же, начиная следующую часть, говорит так: «молитва Моисею, человеку Божию» (Пс. 89:1). Ибо таков уже этот человек, что не сам назидается законом, но для других делается истолкователем закона. Таков быль оный великий Моисей, о котором слышим, что добровольно отверг он царское достоинство, как бы некий прах, отрясенный ступнею ног (Евр. 11:24—27), будучи сорока лет, отлучил себя от общения с людьми, и, живя один, сам с собою, в безмолвии неразвлекаемо погружался в созерцание невидимого; после чего озарен был светом неизреченным (Исх. 3:2), и отрешил душевные стопы от кожаной и мертвой обуви; египетское войско и мучителя истребил одна за другою последовавшими казнями, Израиля же от мучительства освободил светом и водою. Для него после Египта все время было одним непрерывным днем, потому что ночь не отемняла его мраком, по дневном шествии сеяние лучей сменял другой свет, снова воссиявавший из облака, так что, хотя, по необходимому круговращению, скрывалось от них солнце, однако же оставался непрерывный и непреемственный свет от сеяния столпа, без промежутка времени следовавший за сеянием лучей солнечных. Горькую и непиемую воду усладил он деревом и камень для жаждущих претворил в источник, за земную пищу вознаградил небесною; острозрителен был в Божественном мрак и видел в нем Невидимого, описал нерукотворенную скинью, достойно уразумел украшение священства, приял Богописанные скрижали и, по сокрушении их, истесал снова, носил на лиц знамения явившейся ему Божьей силы и светлостью лица, как бы некиим сеянием лучей, заставлял отвращать взоры недостойных с ним встречи, осудил на сожжение огнем и на поглощение землею восставших против священства, истребил поругавших Божественную благодать, волхвование Валаамово обратил в благочестие; и кончина его, как повествуется, была выше жизни; взошедши на вершину горы, ни следа, ни памяти земной скорби не оставил он меру, от времени не переменил прекрасных черт лица, но в изменяемом естестве сохранил неизменность красоты. Они–то служит началовождем в четвертом восхождении и вместе с собою возносит того, кто, пройдя уже три указанные прежде степени, соделался великим. Ибо кто на сей высоте, тот, некоторым образом, стоит на общем пределе изменяемого и Неизменяемого естества, и соответственно сему посредствует между крайностями, Богу принося моления за изменившихся по причине греха, помилование же передавая от Превысшей власти имеющим нужду в помиловании. Почему и из сего можем дознать, что, чем более далек кто от перстного и земного, тем паче приближается к Естеству, превосходящему всякий ум, и благотворностию уподобляется Божеству, делая то, что свойственно Естеству Божественному; свойственным же называю благотворить всякому, имеющему нужду в благотворении, в той именно мере, в какой то для него потребно.
Такую мысль нашел я в этом псалмопении, имеющем сие надписание: «молитва Моисею человеку Божию». Поелику над человечеством возобладало зло греха, и, отторгнутое от единения с добром, погрязло оно в противоположных страстях, и возымело нужду в чьем либо ходатайстве пред Могущим воззвать его из погибели; то место ходатая заступает Божии человек, испрашивающий извинения падению соплеменных и преклоняющий Божество на милость к погибшим. Ибо немедленно как бы оправдывается пред Внемлющим ему, и говорит, что одному Богу свойственно быть твердым во всяком добре и всегда одинаковым, человечество же подлежит превратности и изменению, никогда не пребывает в том же, восходит ли к лучшему, отпадает ли от общения с лучшим. Посему просит, чтобы непреложное соделалось прибежищем во спасение блуждающему во всяком роде.
Вот точные слова псалма: «Господи прибежище был еси нам в род и род» (Пс. 89:2). Почему это сказано? Потому, — продолжает, — что Ты — прежде твари, объемлешь все вечное протяжение от того мгновении, когда естество века восприяло свое начало, и до того мгновения, когда придет конец; конец же нескончаемого — беспредельность: «прежде даже горам не быти и создатися земли и вселенней, и от века и до века», говорит псалмопевец, «Ты еси» (3). А человеческий род, по изменяемости своего естества с высоты благ совлеченный до низости и поползновенности греха, унизился. Посему, говорит Пророк, Ты, Непоколебимый, простри руку поползнувшемуся. Чем Ты по естеству, тем пребывая и для нас, с той высоты, какая у Тебя, «не отврати человека во смирение» греха (4). Потом Пророк делается служителем Владычного слова и произносит человеколюбивое изречените, говоря: потому что «и рекл еси: обратитеся сынове человечестии» (4). А таковое слово заключает в себе особенное учение; ибо обращено к естеству, и в нем предлагается врачевство от зол. Поелику вы, говорит оно, будучи изменчивы, уклонились от добра, то воспользуйтесь обращением снова к добру; и откуда ниспали, туда опять возвратитесь; так как в произволении людей свободно избирать для себя, что хотят, доброе ли то, или дурное. Последующее за сим содержит другое учение. Ибо сказано: «яко тысяща лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашнии, иже мимо иде. Уничижения их лета будут» (5:6).
Чему же научаемся из сего догматически? Тому, что для приступающего по обращении снова к добру, если жизнь его была изъязвлена тысячами прегрешений, скопление злых дел кажется подобным тысяче лет; но как скоро он обратился, Бог ни во что ему не вменяет сего; потому что Божие око взирает всегда на настоящее, не вменяет же прошедшего; напротив того, признается сие у Бога за один день или за часть ночи, которые прошли и миновались. Порочный же поступок в настоящем, хотя согрешающими ставится он в ничто, пред очами Божиими то же, что множество лет. Ибо сказано: «уничижения их лета будут». Прекрасно же и прилично Пророк прегрешения именует «уничижениями»; потому что делающий худое обыкновенно как–то погрешительный свой поступок почитает за ничто, и для каждого злого дела находит какие–либо оправдания, так что о каждом готов сказать: и похоть ничто, и гнев ничто, и все сему подобное ничто; потому что это движения естества, а естество — Божие дело. Посему не признает ничего этого чем–либо худым и Назирающий жизнь человеческую. Потому и Пророк говорит, что «уничижения их», когда они еще в произволении делающего, а не миновались, в очах Божиих признаются каждое за множество лет. А чтобы паче преклонить Бога на милость, Пророк снова изображает словом скоротечность естества нашего. Ибо, в примере представляя сие взору, ясно сказует, что надлежит думать о бедности нашего естества, об утре и вечере, то есть, о юности и старости; утром трава, и цвет, и появление в свете. А что остается после сего, когда с возрастом истощилась влага, растение отцвело, и сродная красота исчезла? — сухость и увядание. Ибо так говорит слово: «утро, яко трава, мимо идет, утро процветет, и прейдет, на вечер отпадет, ожестеет и изсхнет» (6). Вот естество человеческое!
В последующих же за сим словах Пророк еще более оплакивает человечество, говоря, что гневом истощается жизнь человеческая, как бы ветром каким, обуреваемая приражением ярости. Явно же, что гневом и яростью означает ту мятежную деятельность, от которой у людей происходит как оскудение жизни, так и смятение покоющегося. Выражено же сие так: «яко исчезохом гневом Твоим и яростию Твоею смутихомся» (7). И в след за тем к словам сим присовокупляет, что человеческому пороку не прилично делаться зрелищем для Бога, и пречистому лицу не должен являться оскверненный грехами век наш; объясняя же таковую мысль словами, выражается так: «положил еси беззакония наша пред Тобою» (8). Если иной приведет в большую ясность речь сию, дополнив словом: для чего? — то смысл изречения будет таков: Тебе прилично иметь пред очами хорошее; а беззаконное не достойно того, чтобы Тобою было видимо. Посему сделай человечество таковым, чтобы не было оно недостойным Твоего воззрения, а, напротив того, век наш стал достойным явиться пред Тобою. А что с нами теперь, то «вси дние наши оскудеша» (9); потому что не быть в Тебе значит вовсе не быть: над кем превозможет владычество гнева, жизнь тех не состоятельна, походит на тень, подобна паутинной ткани.
Как она бывает видна, пока остается связною; но если кто наложит руку, немедленно, от прикосновения перстов распадшись, уничтожится: так и жизнь человеческая, несостоятельными усилиями, как бы из воздушных некиих нитей всегда соплетаемая, напрасно старается соткать себе ткань неосуществимую, которой если коснется кто твердым помыслом, то избежит прикосновения, и обратится в ничто сей напрасный труд; потому что все, чего домогаются в этой жизни, есть мечта, а не существенность. Мечта — честь, достоинство, род, надмение, пышность, богатство, и все сему подобное, в чем поучаются науки этой жизни. Потому–то все подобное имеет нужду в уврачевателе Боге. Таков, думаю, смысл сказанного тем, кто говорит: «дние лет наших в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь» (10), не потому, что для живущего сверх этой меры жизнь многоболезненна, но потому, что и сей столько краткой жизни большая часть проходит в труде и болезни: младенчество — болезнь, юность — труд, жизнь в средине более изобилует болезнями, а старость самою сединою и морщинами преимущественно свидетельствует о множеств трудов.
Пророк примышляет и другой еще способ, которым бы Божество могло быть умилостивлено к людям; смысл же сказуемого таков: бремя грехов наших навлекает великое наказание, но состоятельность естества нашего маломощна и не вынесет гнева, заслуженного прегрешениями. Но когда налагаемое на нас в наказание было бы сносно, тогда и сего достаточным оказалось бы для вразумления претерпевающих. Поэтому, если и легкого воздаяния будет довольно для вразумления и наказания, кто выдержит державу гнева? Или какое число возможет измерить страх ярости? Посему, если гнев не выносим, сносен же образ действия, соединенный с человеколюбием; то «десницу Твою тако скажи нам», чтобы делаемое Тобою нам вразумление могли мы принять, как дело премудрости, а не как наказание. Так, после изложенного нами наперед смысла, уместно будет привести и самые богодухновенные речения, которые читаются так: «яко прииде кротость на ны, и накажемся. Кто весть державу гнева Твоего? и от страха Твоего ярость Твою исчести? Десницу Твою тако скажи ми, и окованныя сердцем в мудрости обрати» (10. 11. 12). Прекрасно же и то изречение, которое непосредственно за сим присовокуплено к сказанному. Пророк говорит: по немощи естества, величие гнева, какое движет на нас грех, не выносимо, между тем, имеем нужду во вразумлении: да вразумит же нас лучше спасение посредством обращения, нежели наказание по грехам нашим. Потому обрати нас, Господи, ни мало не отлагая сего до времен благодати: ибо словом: «доколе» означает ускорение благодати. И продолжает: «умолен буди на рабы Твоя» (13); потому что примиришься не с чужими, но с собственными Своими рабами, потом, как сподобившийся уже благодати и увидевший оный свет, которым просвещается тьма блуждающих в жизни сей, и которым начинается день добродетельной жизни, говорит: «исполнихомся заутра милости Твоея, и возрадовахомся и возвеселихомся: во вся дни наша возвеселихомся» (14. 15), потому что радость, почерпаемая в Тебе, последовала за временем, проведенным в унижении греха, и лета порока миновались. Так разумеем сказанное: «за дни в няже смирил ны еси, лета в няже видехом злая» (15). Так ободряет просвещаемых обращением, называя чадами дел Божиих; ибо говорит: «призри на рабы Твоя, и на дела Твоя» (16); указывает на происшедших от Авраама патриархов, потому что они в подлинном смысле дела Божии;— «и настави сыны их» (16), ибо, совершающее дела Авраамовы делаются чадами патриархов, за добродетели присвояемые в родство ими. Потом напоследок посредством чистоты соединяет Бога с человечеством, умоляя, чтобы светлость Божия посредством чистой жизни воссияла и в нашем мире; ибо говорит: «буди светлость Господа Бога нашего на нас» (17); чтобы все начинания жизни нашей приносили спасительный плод, и все, что ни делаем, клонилось к одной цели. Потому, сказав во множественном числе: «и дела рук наших исправи на нас» под словом: «дело» совокупив многое, продолжает: «и дело рук наших исправи;» потому что разнообразная и многовидная попечительность о добродетелях делается многомощною, доставляет спасение преуспевающему.
Так, Пророк разумение восходящих с ним вместе возносит на четвертую степень псаломского восхождения и поставляет выше всякой суеты, о какой заботятся многие в настоящей жизни, показывая им, что подобная паутин и несостоятельная вещественной жизни обольстительность не приводит осуетившихся ни к какому доброму концу.
Глава 8. (Толкование 106 псалма)
В след за сим способного идти за ним до высоты и твердым крылом расторгшего сплетения житейских паутин Пророк в пятой части псалмов возводит как бы на какую вершину, на высочайшую степень созерцания. Едва опушившиеся и неокрепшие при слабом и не быстром полете, подобно мухам, лакомясь липкостями настоящей жизни, как мрежами какими, оплетаются и опутываются сетью таковых нитей, разумею, забавы, почести, славу и различные пожелания и, как бы обернутые паутинными какими тканями, делаются добычею и пищею этого зверя, уловляющего их такими вещами. А если кто по естеству быстр, как орел, неуклонным оком души взирает на луч света и, простираясь в высоту, приблизится к таким паутинным тканям; то при одном взмахе крыл в стремительности полета уничтожает все, сему подобное, что ни приблизилось бы к крылам.
И такового возвышенный Пророк, восхитив с собою, ведет на вершину пятого восхождения, в котором заключается как бы вся полнота и главизна человеческого спасения, ибо в объясненном выше псалме словами Моисеевыми изложив пространно любомудрое учение об изменяемом и неизменяемом, и именно, что одно всегда пребывает тем, что оно есть, а другое непрестанно делается тем, чем оно не есть; потому что изменение есть переход из того, каким есть, в то, каким не есть, и, показав, что естество наше свободно одною и тою же силою, как ниспадает во зло, так чрез обращение снова возводится к добру, и потому возможно светлости Божьей снова воссиять в жизни человеческой, теперь открывает в слове всю благодать, подаваемую нам Богом, многообразно представляя ее взору тех, которые с высоты смотрят на чудеса Божии. Ибо не удовольствовался тем, чтобы в одном виде показать благодать, а, напротив того, в различных видах изображает бедствия, в какие впали мы, по наклонности к злу, и многообразно описывает оказываемое нам Богом содействие в добре, чтобы преизбыточествовали поводы к благодарению, когда по мере благ избыточествует благодарность к Богу.
Начиная слово, Пророк немедленно говорит: «исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его» (Пс. 106:1), под исповеданием разумея теперь благодарение, а не возвещение, повелевает за одну единственно благость прославлять Бога, означая сим то, что все доброе и спасительное, соделанное для людей Богом, совершено по благодати и благости, а нами не подано никакой причины к оказанию нам добра. Напротив того, мы пребываем во всяком пороке, Бог же не отступает от собственного Своего естества, но что Он есть, то и творит; так как благому по естеству неестественно было бы соделать что либо иное, кроме свойственного Ему. «Да рекут», — говорит Пророк, — «избавленной Господем, ихже избави из руки врага и от стран собра их, от восток и запад, и севера, и моря» (2:3). Слово благовествует сие о всецелом возвращении к добру человеческого рода; ибо в семь изречении словом: «избавление» означает воззвание из пленения. Бог же в искупление за одержимых смертью Себя Самого дал имеющему державу смерти. И поелику все были под стражею смерти; то, как очевидно, всех искупает сею ценою, так что, по совершении искупления целого рода, никто не оставлен под владычеством смерти; потому что и невозможно кому–нибудь пребывать в смерти, когда нет уже смерти.
Посему слово, целую вселенную разделив по положению на четыре части, ни единой из них не оставило не участвующею в Божьем избавлении, и говорит: «от восток и запад, и севера, и моря», морем означая юг. Посему, вкратце представив благотворность, с какою Бог действовал на весь человеческий род, после сего в несколько приемов описывает падение людей в зло и Божье руководство каждого из падших к лучшему, говорит же так: «заблудиша в пустыни безводней» (4), т. е. оставив путь (а путь есть Господь), блуждали вне Божия надзора в пустыне, которая вся была суха, не увлажена и лишена духовного орошения. А посему, блуждая, где не проложено пути, не возмогли обрести града Божия, в котором обитель достойных. Ибо сказано: «града обительного не обретоша: алчуще и жаждуще» (4:5).
Как скоро от недостатка пищи оскудела их сила, зло в них достигло высшей степени. Да и как быть пище в земле иссохшей и бесплодной? Чем утолить жажду в месте безводном? Явно же, что пророчество называет не хлеб пищею, и не воду питием, а под пищею разумеет истинное «брашно» и под питием «духовное» оное «пиво» (1 Кор. 10:3–4). А тем и другим бывает Господь, предлагая Себя, соответственно нужде требующих и делаясь пищею для алчущих, и источником для жаждущих. Посему какое нашлось избавление от таковой тесноты, от скитания по пустыне, от бедствования в стране безводной, от расслабления производимого голодом? Подлинно чудо! Один глас, обращенный к Богу, претворил все в добро. Ибо сказано: «воззваша ко Господу, внегда скорбети им, и от нужд их избави я: и настави я на путь прав, внити во град обительный» (Пс. 106:6-:7). Путем, от которого уклонились, Пророк называет Самого Господа. Путь же сей говорит в Евангелии: «никто не приходит ко Мне, если Отец Мой не восхощет привлечь его» (Иоан. 6:44).
Посему Бог изводит на путь заблудшихся, и Он Сам делается «градом обительным», как говорит Апостол: «Нем живем и движемся и есмы» (Деян. 17:28). Посему Пророк сподобившимся сих милостей кстати присовокупляет увещание воздать благодарение: «да исповедят Господеви милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим» (Пс. 106:8), то есть, благодеяния да не скрывают в молчании по непризнательности, но да с благодарением провозглашают милость, по которой Бог душу «тщу» соделал исполненною благ: ибо Пророк говорит: «насытил есть душу тщу, и душу алчущу исполни благ» (9).
Пророк еще другим способом представляет взору бедствия нашего естества и изображает Божие человеколюбие, по которому естество наше уготовляется к лучшему. А смысл сказуемого Пророком таков: человечество удалилось от света и склонилось ко греху, и не в прямом уже оно положении, но отчуждено от жизни истинной. Ибо сказано: «седящыя во тме и сени смертней, окованныя нищетою и железом» (10). Удерживаемое тяжкими оковами стало человечество недвижимо из области зла; оковами же служить обнищание в добре, подобно какому–то железу, обложившее собою сердца. И началом всему этому было непослушание Божию закону, и отвержение совета Всевышнего. Сие означает Пророк, говоря: «яко преогорчиша словеса Божии и совет Вышняго раздражиша» (11). За сим жизнь таковых людей, как и естественно, постигли труд и смирение. Труд, как лишившихся пищи, смирение, как невосхотевших пребывать в единении с Всевышним; ибо Пророк говорит: «смирися в трудех сердце их?» (12), а оставление силы не иное что есть, как изнеможение; потому, что найдется ли какая помощь без силы, почему и сказано: «изнемогоша, и не бе помогаяй» (12).
Но Пророк опять одним словом бедствия сия пременил в веселие; ибо говорит: «воззваша ко Господу, внегда скорбети им, и от нужд их спасе я» (13). И уничтожает тьму, сокрушает смерть, расторгает узы. «Изведе я, сказано, из тмы, и сени смертныя, и узы их растерза» (14). А посему, — продолжает Пророк, — да проповедуется с благохвалением милость, что сокрушена неизбежная стража смерти, огражденная, как говорит Пророк, вратами медными и вереями железными. Ибо таковою почитаема была сила смерти, пока явлением жизни истинной не уничтожена держава смерти, потому что все, находившееся внутри оной, оставалось не имеющим возможности бежать, задерживаемое как бы какими–то железными вереями и несокрушимыми вратами. Но «сокруши», — сказано, — «врата медная и вереи железныя сломи» (16). А сие значит, что путь беззакония их уничтожен, и жизнь приуготована к благочестию; и уничтожением оных врат означается возвращение жизни к праведности, ибо сказано: «восприят я от пути беззакония их» (17).
Пророк и иначе еще изображает в слове бедственное состояние человечества; выражает же ту мысль, что беззаконие есть смирение. И говорит это прекрасно; потому что с таковым понятием согласуется одно место у другого Пророка, который говорит о беззаконии, что сидит оно на талант свинца, (Зах. 5:7:8), показывая тем, что порок есть что–то тяжелое и стремится в низ, а что, по подобию Божию, на высоте, то увлекает в свою бездну; ибо сказано: «беззаконии бо ради своих смиришася» (Пс. 106:17), и потому отвратились от всесильной оной пищи, о которой слово сказует первозданным: «от всякаго древа, еже в рай, снедию снеси» (Быт. 2:16). Как полноту всякого блага именует там оно «всяким древом»,так здесь истинную и всесильную снедь именует «всяким брашном», отвращение от которого производит изнеможение, оканчивающееся смертью. Сказует же так: «всякаго брашна возгнушася душа их, и приближишася до врат смертных» (18). И глас к Богу снова бедствие сие обращает в торжество; ибо сказано: «воззваша ко Господу внегда скорбети им, и от нужд их спасе я» (19). Пророк пересказывает и образ спасения, и это сказание есть прямое Евангелие. Ибо говорит: «посла Слово Свое и исцели я, и избави я от растлений их» (20). Видишь живое и одушевленное Слово, во спасение погибших посылаемое и избавляющее от тления подвергшегося тленью! Какой Евангелист так открыто провозгласил сие таинство? Посему да восхваляется, сказано, милость испытавшими на себе благодеяние, и хвала за благодеяние да соделается песнопением. «Да пожрут Ему жертву хвалы; и да возвестят дела Его в радости» (22). После сего снова представляет Пророк страдания, и снова после страданий присовокупляет слово о Божьей милости. Сказует же о безрассудстве людей, что оставив постоянную и неволненную человеческую жизнь, по произволению соделались жителями моря. Ибо говорит: «сходящш в море в кораблях» (23), и вместо того, чтобы «делати рай» (Быт. 2:15), в котором прежде были поставлены, «творящии делание» под водами. Морем же называет вещественную эту жизнь, возмущаемую всякими ветрами искушений, и волнуемую одна за другой непрестанными страстями. Ибо говорит: «творящии делания в водах многих: тии видеша дела Господня, и чудеса Его во глубине» (Пс. 106:23–24); потому что, будучи погружены в порочность жизни и многократно претерпевая жестокие душевные крушения, видели над собою дела человеколюбия Спасающего нас из глубин.
Ибо сказано: «рече, и ста дух бурен» (25). Сию мысль относить должно не к Богу, а ко врагу; потому что голос сопротивника производить «дух бурен». И бурею называется сильный ветер, не прямо дующий, но кружащийся сильным вихрем, который, когда стремительно ударит в воду, море, как от какого–то брошенного большого камня, сею тяжестью будучи приведено в смятение, по необходимости рассекается силою дуновения, потому что вода, где только врежется налегший на нее ветер, от поражающей ее тяжести и здесь и там отбрасывается вверх. Поэтому Пророк продолжает ясно представлять сии страшные явления, а именно: что вместе с тем, как врезывается дух бурный, возносятся волны морские, восходя «до небес» и нисходя «до бездн» (26). Ибо, действительно, подъятие в высоту таких волн, разумею же волны страстей, делается причиною нисхождения в бездну. А бездною, как дознали мы, во многих местах Писания называется жилище демонов. Волнуемые сим смятением и обуреванием волн, от омрачения делаются малосмысленными, от неприятности такого плавания, как бы от опьянения, отяжелев головою. Ибо сказано: «смятошася, подвигошася яко пияный» (27). Однажды же утратив благоразумие, не дают они в себе место никакой мысли о спасении; напротив того, мудрость их прежде всего терпит крушение и погибает. Посему сказано: «и вся мудрость их поглощена бысть» (27).
И для них опять, при таком множестве зол, прекращением невыносимого бедствования бывает воззвание к Богу. Сказано: «и воззваша ко Господу внегда скорбети им, и от нужд их изведе я» (28). И немедленно буря пременилась в благоприятный и попутный ветер, и утихает от волнения приведенное в безмолвие море. Сказано: «и повеле бури, и ста в тишину, и умолкоша волны его» (29). А словом: молчание Пророк, может быть, дает разуметь, что волны суть некие произволением одаренные силы, какими обнаруживает себя то отступническое естество, которому Господь сказал в Евангелии: «молчи, престани» (Марк. 4:39). А тихим ветром называет благодать Духа, которая, при управлении кормилом и плаванием Слова, под умными ветрилами вводит душу в Божественную пристань: ибо сказано: «и настави я в пристанище хотения Своего» (30). После сего Пророк снова повелевает людям и Церкви песнословить благодать, изображая словом едва не на песнословить благодать, изображая словом едва не настоящее состояние Церквей, а именно, что на седалище начальствующих проповедуются сии чудеса Божии, которыми утверждается вера в слушающих. Ибо сказано: «да вознесут Его в Церкви людстей, и на седалищи старец восхвалят Его» (32). Пророк присовокупляет и причины благодарений, а именно, что от Бога реки и появляются, и исчезают: уничтожаются потоки порока, исходища же добродетелей орошают места, дотоле сухие. Ибо говорит: «положил есть реки в пустыню, и исходища водная в жажду» (33). «Реками» называет притоки страстей, и «исходищами водными»— непрерывные ряды худых дел; потому что люди, присовокупляя всегда лукавое к лукавому, подобно какому–то потоку, удлиняют цепь пороков.
Но сказано еще: «и землю плодоносную» обратил «в сланость» (34). Ибо душа, многоплодная для злых дел, будучи претворена, стала жаждущею, как приправленная Божественною солью учения, чтобы не умножалась более порочность живущих, будучи питаема дурными притоками вод, а душа, осоленная и жаждущая, восприяв блаженную жажду и наводнившись собранием добродетелей, соделалась озером. Ибо сказано: «положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходища водная» (35). И сие–то делается градом, который населяют алчущие правды.
Ибо никто из утративших вкус и пожелание пищи, с душою пресыщенною пороком, не поселяется близ сего озера и сих вод. Они же засевают «села» и насаждают «винограды». Такими загадочными наименованиями означает Пророк Божии заповеди и добродетельное житие, потому что заповедь есть семя будущего плодоношения, а добродетель — виноградная лоза, изливающая вино из словесных гроздов в чашу премудрости. Сие же не иное что есть, как обилие благословения. Посему Пророк говорит: «и благослови я, и умножишася зело: и скоты их не умали» (38). Скотами называет покорное служение душевных движений, когда каждое из них в нас способствует добродетели. Раздражительность — добрый скот, когда бывает под ярмом рассудка. Другой добрый скот — пожелание, некоторым образом на хребте держащее и носящее душу, даже возводящее в высоту, как скоро бразды ума направлены горе. И все прочие скоты умножаются благословением, как скоро служение их нам содействует чему либо великому.
Потом Пророк в продолжении слова излагает краткую перечень всего сказанного. Ибо, многими чертами изобразив страдания и представив взору Божии благодеяния, теперь заключив то же в краткую речь, снова повторяет в слове, когда говорит:»и умалишася и озлобишася от скорби зол и болезни» (39), «умалением» означая маловажность и совершающееся с высоты и величия низведение до низости; ибо малое по понятию означает самое маловажное; а под озлоблением разумеет освоение с злом. «Скорбию» же и «болезнию» везде называет конечную утрату благ, как в другом псалме описывает подобное сему, говоря: «объята мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох» (Пс. 114:3). «Болезнями смертными» и «бедами»назвав грехи, указывает и предел, к которому окончательно приводит свойство греха, и который есть не иное что, как скорбь и болезнь. Так Евангелие словом: «плачь и скрежет зубом» (Мф. 24:51) означает то же самое.
Потом в след за сим присовокупляет Пророк: «излияся уничижение на князи их» (Пс. 106:40). А тем учит, что быть в Сущем, значит быть действительно; но если что отпало от Сущего, то оно уже и не в бытии; потому что быть в пороке не значит в собственном смысле быть. Посему–то порок сам по себе не существует, делается же пороком небытие доброго дела. Посему, как тот, кто в Сущем, пребывает в бытии, так, кто доходит до ничтожества (а таков порок), тот уничтожается, по выражению Псалмопевца. Подобное сему словоупотребление приведено как–то в общую известность обычаем так говорить. О пище, принятой плотью, говорим, что она оплототворилась, и о вине, вылитом в воду, что оно оводянилось, и о железе, которое в огне, выражаемся, что оно стало огненным. Так и о том, кто отпал от Сущего, говорим, что он, пришедши в ничтожество, уничтожился. Посему уничижениие есть небытие в добре. Оно же, постигши князей порока, то есть первых людей, подобно зловредному некоему потоку, «излияся» и на преемников рода. Посему, так как естество обнищало, лишившись сего достояния, разумею жизни, человек приведен в бедность татем, будучи окраден Божия благословения; то Пророк говорит посему: «и поможе убогу от нищеты» (41). Ибо «Его нищетою мы» обогатились (2 Кор. 8:9). И Пастырь добрый «положи я», не как зверей, но «яко овцы отечествия» (Пс. 106:41). Отечеством же именует Пророк собрание включаемых в Божественный список, как и Павел говорит: «из Него же всяко отечество на небесех и на земли именуется» (Ефес. 3:15). Потом Пророк присовокупляет: «узрят правии» и убоятся. (Пс. 106:42), научая сказанным и правого, чтобы и он, взирая на сие человеколюбие, убоялся; потому что страх служит немалым охранением благ, памятованием прежде бывшего для последующего времени уцеломудривая и того, кто в страсти. Поелику страх превозмогает и не дает в нас места всякой наклонности к злу, порождаемой нетвердостью воли; то сказано: «всякое беззаконие заградит уста своя» (42). Как блаженна та жизнь, в которой уста беззакония, как некий источник грязи, навсегда заградятся, и человеческой жизни не будут уже осквернять зловонием! Вот верх благ, венец надежд, предел всякого блаженства — естеству не возмущаться более пороком, но всякому беззаконию (а им может быть и изобретатель беззакония, потому что и сие может означаться собирательным словом: «всякое») заграждать те уста, которых глас первоначально соделался для людей снедью смертною. Посему, когда изъято будет все противоположное добру, тогда наступит для нас то состояние, к истолкованию которого не найдется ни одного слова, но о котором свидетельствует слово Божие, что оно выше и чувствования и ведения. К сему Пророк, как бы некую печать, прилагает в конце следующие слова: «кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни» (43). Поелику деятельность премудрости двояка, одна исследует и отыскивает полезное, а другая хранит найденное; то Пророк хочет, чтобы одно дело премудрости, разумею отыскивание, тогда прекратилось. Ибо к чему искание, когда искомое уже у нас? Повелевает же пребывать в действии одной остальной деятельности, чтобы могло сохраниться приобретенное благо, при содействии нам в этом премудрости. Что же это за премудрость, и какое это хранение благ? — Не без разумения пользоваться Божиим человеколюбием. Ибо разумеющий, чего сподобился, не пренебрежет блага, которого удостоен. А без разумения приемлющий милость, терпит то же, что слепые, которые, взяв в руки жемчужину, или изумруд, или какой либо драгоценный камень, бросают, как простой кремень, произвольно лишая себя обладания им, по неведению красоты.
Глава 9. (Толкование 150 псалма)
Сии пять отделений псалмов, представив себе в некотором последовательном порядке, как бы некиими ступенями, одна над другой возвышающимися, разграничили мы по сказанным признакам, а именно, что окончательное выражение каждого отдела составляет некое пресечение речи и основную мысль, выражающую в себе предел предыдущего славословием и благодарственным изречением, состоящим из слов: «благословен Господь во век: буди, буди» (Пс. 88:53). Ибо ими означается некое, непрестанно продолжающееся, благодарение; потому что Писание, сказав однажды: «буди», не заключило сим благословения, но двукратным повторением сего речения узаконяет вечное благодарение. В каждой же части псалмов, распределенных на сии отделы, Писание дало заметить особое некое благо, в котором подается нам от Бога блаженство, в некоем последовательном порядке усматриваемых каждым благ постоянно возводя душу к высшему, пока не достигнет высочайшего из благ.
Это же есть хвала Богу, воздаваемая всеми святыми, как выражает мысль сию последним псалом, говоря: «хвалите Бога во святых Его» (Пс. 150:1), где словами: «утвержение силы» обозначается неотъемлемость блага, и словами: «силы Божии» дается разуметь, что над естеством не владычествует уже порок. Когда человеческая сила в состоянии наконец совершать хвалу «по множеству величествия Его» (2), велегласием уподобляясь уже трубам, не маловажное что либо возглашая, по сказанному: «хвалите» Господа «во гласе трубнем» (3), когда в обилии и разнообразии добродетелей подражает она стройности вселенной по мерному складу песнопения, делается пред Богом органом (Писание же в некоем иносказательном значении именует это «псалтирию и гуслями» (3)); а после сего, отложив всякое земное мудрование, все не издающее гласа и послушания, в велегласии тимпанов, с небесными ликами сочетавает звук собственных струн (струнами же, натянутыми в орган, будут в каждой добродетели непоползновенность и непреклонность к пороку; отчего произойдет прекрасное созвучие кимвала и струне); когда звук кимвалов возбудит усердие к Божественному ликостоянию (чем, кажется мне, объясняет Пророк связь нашего естества с Ангелами, именно говоря: «хвалите» Господа» «в кимвалех доброгласных» (5), потому что таково собрание, разумею, естество ангельское и человеческое), когда человеческое естество будет возведено в первоначальный свой жребий, и при взаимном своем столкновении издаст сладостный глас благодарения, и друг через друга и друг после друга непрестанно будут воспевать благодарность, приносимую Богу за человеколюбие (так как на сие указывает соединение кимвала с кимвалом: один кимвал есть премирное естество Ангелов, а другой кимвал — разумная тварь, человек, только грех разделил их друг с другом): посему, когда человеколюбие Божие оба лика снова сопряжет между собою: тогда, из двух став едино, возгласят оную песнь, как говорит великий Апостол: «всяк язык исповесть небесных и земных и преисподних яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:10–11). По совершении сего, когда враг уничтожен, звук кимвалов сих, издаваемый обищим собранием, провозгласить победную песнь. А по конечном уничтожении и приведении врага в небытие, во веки всяким дыханием равночестно совершаться будет непрерывная хвала Богу. Ибо так как «не красна похвала во устех грешника» (Сир. 15:9), грешника же тогда не будет, потому что не будет и греха; то, без сомнения, в веке том «всякое дыхание восхвалит Господа» (6).
Посему таковой путь к блаженству указан нам сим высоким любомудрием в псалмах и путеводимых ими на высоту возводит он всегда к тому, что еще важнее и выше в добродетельном житии, а именно человеку указывает возможность достигнуть такой меры блаженства, что о превышающем сию меру и разум не в состоянии по каким–нибудь догадкам и предположениям заключить что либо, и слово не находит, что сказать о следующем за нею по порядку, да и самая надежда, которая во всем простирается далее и далее, оставляя позади себя наше пожелание, как скоро приближается к превышающему упование, остается в бездействии, а что выше сего, то лучше чаемого, как свидетельствует и самое любомудрие псалмопения, усмотренным в нем порядком.
Оно с первых же слов, как бы некую дверь и вход в блаженную жизнь, отверзает нам в удалении от зла (ибо сему учат первые речения псалмопения, началом блаженства называя отчуждение от зла), потом предлагает заблуждающим руководство закона, обещая вследствие таковой жизни уподобление всегда зеленеющему дереву, и, показав горести идущих противоположным путем, последующими за тем восхождениями пользующегося сим руководством возводит на самый верх блаженства. Ибо сие показывает тебе смысл последнего псалма, по которому, при восклицании вступивших в союз и общий лик Ангелов и человеков, совершится единое торжество, и все вознесет согласную хвалу Богу, равно в твердости силы восприяв непреклонность к пороку, и «величествию Его», как бы велегласною какою трубою вознося благохвалебный глас. Когда в один лик устроится вся тварь из всех горних и дольних, и тварь разумная, даже разделенная ныне грехом и несогласная между собою, по нашем согласии, подобно кимвалу, издаст добрый глас; когда стекутся вместе и ангельское и наше естество, из слияния сего составившийся Божии полк, при поражении врагов, провозгласит победную песнь Победителю: тогда от всякого дыхания вознесется хвала, на всегда продолжающая милость, и своим приращением непрестанно увеличивающая блаженство, разумею то истинное блаженство, при котором бездейственно гадающее о ведении разумение, бездейственна также и упованием поощряемая наша деятельность; заступит же их место неизреченное, недомыслимое, всякого разумения превысшее состояние, которого и око не видело, и ухо не слышало, и сердце человеческое не вмещало (1 Кор. 2:9). Ибо так Божественный Апостол определил блага, уготованные в святыне.
Книга 2. (О различных надписаниях и о порядке псалмов сообразном с восхождением души)
Глава 1. (Перечисление различных надписаний)
После сего сделанного нами разбора псалмов, время войти в рассмотрение и надписаний, потому что и они подают нам немалое пособие в пути к добродетели, как можно дознать сие из самого смысла в надписанном. Да и необходимо прежде обозрения псалмов первоначально и вкратце сделать искусное некое объяснение надписаний, чтобы и из сего стало для нас наиболее явным, что вся цель Богодухновенного сего учения — возвести разумение к истинному блаженству.
Итак, из псалмов иные вовсе не надписаны; другие имеют у нас в надписании имя Пророка, но не имеют у Евреев; у иных надписанием служит просто имя Давида; а у других вместе с сим именем надписывается нечто и другое, или «хвала» (90) и (144), или «песнь» (75), или «псалом» (3), или «разума» (31), или «молитва» (16), или «исхода скинии» (28), или «обновления» (29), или «изступления» (30), или «в воспоминание» (69), или «во исповедание» (99), или «отроку Господню» (35), или «Идифуму» (38), или «Емаву Израелитянину» (87). В других псалмах делается надписание из некоторого сочетания сих имен или речений, одно к другому приписанных: так надписание делается из сочетания поставленных при имени Давида речений: «песнь псалма» (65), или «псалом песни» (67), или «песнь», или «псалом», или «в песнех псалом» (66), или «в песнех разума» (53), или «молитва Давиду (85), или «молитва нищаго» (101), или «хвала песни» (92) и других тому подобных речений. Опять и с сим вместе в других псалмах надписывается нечто иное. Всего чаще пишется: «в конец»; но с сим речением надписываются вместе и другие различные по виду и смыслу: так, например, пишется: или «о имущих изменитися» (68), или «о тайных» (45), или «о наследствующем» (5), или «о осмей» (11), или «о точилех» (8), или о «заступлении утреннем» (21), или о «Маелефе» (52), или «о людех, от святых удаленных» (55), или «да не растлиши» (74), или «в столпописание» (59), или то и другое вместе (56 и 58), или «о Соломоне» (71), или «песнь о возлюбленнем» (44), или «о тайных сына» (9), или «во исповедание» (99); или какое–нибудь историческое обстоятельство, например: когда «был в вертепе» (141), или «внегда посла Саул, еже умертвити его» (58), или «внегда быша в пустыни» (62), или «о словесех Хусиевых» (7), или «внегда измени лице свое пред Авимелехом» (33), или «внегда приити Зифеем» (53), или «внегда приити Доику Идумейску, и возвестити Саулу» (51), или во дни, когда «избави его Господь от руки всех враг его, и из руки Саули» (17), или «внегда возвратися Иоав, и порази дебрь солей, дванадесять тысящь» (59), или «внегда внити к нему Нафану Пророку, егда вниде к Вирсавии» (50).
У некоторых псалмов надписанием служит еврейское слово: «аллилуия», и притом написанное или дважды, или однажды. У других же псалмов в надписании то же слово сочетается с именами некоторых Пророков, например: «аллилуия Аггея и Захарии» (145), «аллилуия Иеремии и Иезекииля». Есть еще и другой вид надписания, например: или «сыном Кореовым» (41), или «Идифуму» (38), или «Асафу» (49); над одним псалмом по преимуществу надписывается: «молитва Моисея, человека Божия» (89). В псалмах, по церковным спискам имеющих надписания, какие и доныне сохраняются, а в остающихся без надписания у евреев, находим следующее различие: в одних означается какое либо число дней недельных, например: «единыя от суббот» (23), или «четвертыя субботы» (93), или «в день субботный» (91), или»предсубботный» (92); а другие заключают в надписаниях иной смысл, о котором вовсе умолчано у евреев.
Глава 2. (О надписании «в конец» и ему подобных)
Уяснив себе это разделение надписании, полезно будет сделать наперед общее некое истолкование надписаний, имеющих между собою сходство, а потом по порядку войти в исследование видимых разностей. Посему вообще рассуждение о надписании имеет двоякую цель. Или делается оно для указания предлагаемого в псалме, чтобы, изучив цель псалмопения, удобнее дознать нам смысл, заключающейся в речениях; или нередко надписание и само по себе обучает чему либо слух, заключающимся в речениях смыслом указывая на какое либо преспеяние в добродетели. Лучше же сказать, в каждом роде взгляда на надписания цель одна — возвести к чему либо доброму, хотя бы в сказанном, по видимому, указывалось нечто историческое, хотя бы приписано было одно простое имя. Ибо Божественное Писание употребляет исторические сказания не для того только, чтобы сообщить нам познание о событиях, из которых дознаем какие либо деяния и страдания живших в древности, но чтобы преподать нам некое учение о жизни добродетельной, если исторический взгляд заменен будет высшим разумением. Посему, согласившись, что такое понятие должно иметь нам о надписаниях, следует, как сказали мы предварительно, изложить наперед общий смысл надписании, имеющих между собою сходство, и сделать частный разбор тех, которые изложены с какою либо разностью.
Итак, поелику над большею частью псалмов надписывается речение: «в конец»; то должно, думаю, о семь знать: какое объяснение дано по разумению прочих, толковавших сие же Писание. Вместо сего: «в конец», некто говорит: Победодавцу; другой: победная песнь, а еще иной: на победу. Так как концом всякой борьбы бывает победа, которую имея в виду, вступающие в подвиги начинают ратоборство; то кажется мне, что выражение: «в конец» кратким речением возбуждает к усердию подвизающихся за добродетель на поприще жизни, чтобы, взирая на конец, т. е. на победу, надеждою получить венцы облегчали они труд подвижничества, что, как видим, и ныне бывает на ристалищах: венец, предварительно показываемый вступающим между собою в борьбу на поприщах, делает, что их тщательность о победе сильнее трудов, ожидающих в борьбе, но похищаемых из вида ожидаемою славою.
Поелику поприще для борьбы открыто всем, и поприщем служит обыкновенная человеческая жизнь, и на нем один сопротивник — порок, разнообразно в коварных нападениях преодолевающий ратоборствующих; то добрый пестун душ наперед для сего указует тебе на конец твоих подвигов, на украшение из венцев, на приветствие с победой, чтобы, взирая на этот конец, и ты опирался на Победодавца, и уготовлял себе победное провозглашение. Все же те понятия из учения о добродетели, какие из сего следуют, без сомнения, ясны для тех, которые по сему началу смотрят и на последующее. Ибо известно, что сколько в душ страстей, столько у врагов способов привязаться к нам и напасть на нас; помысл, подобно некоему члену души, часто выводится из своего состава, и получает неправильное положение, если человек не приуготовит себя упражнением и не преуспеет достигнуть безопасности и непреткновенности в сих борьбах законным подвижничеством, как говорит Апостол (2 Тим. 2:5), приобретший себе победу, которая есть конец подвигов.
А что еще надписывается вместе с выражением: «в конец»; то служит некоторым наставлением и советом к одержанию победы, и при помощи их не безуспешным остается то, о чем приложено старание. Ибо выражение: «о имущих измтенитися» (Пс. 68) предполагает претворение души в лучшее состояние; значение слова: «маелеф» (Пс. 52) возбуждает подвижника к сильному усердию, указуя на ликостояние после ожидающих нас трудов; ибо так объясняется прочими толковниками самое речение, и «маелеф» переводится словом: ликование. И сие: иметь в виду «тайное», сложить песнь о «возлюбленнем», петь о «заступлении утреннем», иметь пред очами «осьмой» день, взирать на «наследствующую», постараться стать вне сродства Кореева, и это важное повеление Давида: «да не растлиши», которое дал он оруженосцу, устремившемуся на убиение Саула — все сие советует нам слово в образец великодушия сделать столпописанием в душе каждого. И кто вникнет со тщанием, тот во всем сему подобном найдет, что это некие подвижнические уроки, делаемые подвижникам их наставником о том, как кому достигать конца, то есть победы. А также, если при выражении: «в конец» надписывается что либо историческое; то и сие к тому же клонится, а именно, чтобы мы историческими примерами паче укреплялись к борьбам. Вот смысл выражения: «в конец».
Глава 3. (О надписаниях: «псалом», «песнь», «хвала» и «молитва»)
И надписания: «псалом, песнь, хвала, и молитва» — имеют между собою такое различие. «Псалом» есть сладкопение при игре на музыкальном орудии. «Песнь» есть произношение слов при устном пении. «Молитва» есть обращенное к Богу испрашивание чего либо полезного. «Песнь» есть благохваление, возносимое Богу за блага, какие уже имеем. «Хвала» заключает в себе похвалу Божиим чудесам. Ибо похвала есть не иное что, как усиление хвалы.
Но в надписаниях названия сии нередко каким либо сочетанием между собою соединяются так, что из двух названий по соединении делается одно: или «псалом песни» (Пс. 91), или «песнь псалма» (Пс. 82), или «в песнех псалом» (Пс. 66), или, как дознаем у Аввакума, и «молитва с песнию» (Авв. 3:1). Смысл же надписаний сих, по которому возводимся ими к добродетели, есть следующий: псалтирь — такое музыкальное орудие, которое издает звук из верхних частей своего состава, и музыкальное произведение, разыгрываемое на семь орудий, называется псалмом.
Посему увещавающие к добродетели слово самым видом орудия выражает особую мысль: им повелевается, чтобы жизнь твоя была псалмом, который не земными звуками (а под звуками разумею помышления) изглашается, но из горнего и небесного производит чистый и внятный звук. Услышав же песнь, гадательно дознаем видимое благоприличие жизни. Как от музыкальных орудий достигает до слуха один звук сладкопения, самые же речения песнопения не выражаются членораздельными звуками, а в песни бывает то и другое: слышны и склад пения, и вместе с пением выводимая сила речений, которая по всей необходимости бывает неизвестна, когда сладкопение производится одними музыкальными орудиями: так бывает и с упражняющимися в добродетели. Некоторые, вняв умом умозрительному и созерцательному любомудрию о сущем, неявно для многих преуспевают в добродетели, заключая доброе в собственном своем сознании, а которые, по мер рачительности, преуспевают в самом образ жизни, те благоприличием во внешнем, как бы словом каким, обнаруживают и другим благоустройство своего поведения. Посему, когда в добре преуспевает кто тем и другим способом, и любомудрие нравственное сходится с умозрительным, тогда бывает «песнь псалма», или «псалом песни». А когда предметом похвалы бывает что либо одно из сего, тогда или умопредставляемое благо выражается только «псалмом», или нрав и благоприличие в видимом изъясняется песнью.
Песнь же или хвала, соединяемая с песнью, служит уроком для нас не прежде отваживаться на богомыслие, как соделав жизнь свою достойною такого дерзновения. «Некрасна», сказано, «похвала во устнех грешника» (Сир. 15:9). «Грешнику же рече Бог: вскую ты поведаеши оправдания Моя?» (Пс. 49:16). Также и слова: «молитва с песнею» внушают нам то же, а именно, сперва заботиться о жизни, чтобы не оказаться кому нестройным и разногласным в начинаниях, а потом уже приступать с молитвою к Богу. И мне кажется, что Господь сказавшим Ему: «научи ны молитися» (Лук. 11:1), «подал такую мысль, а именно, что молитва преспевает не словами, а жизнию, когда сказал: аще отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец небесный» грехи ваши (Мф. 6:14). Когда же пишется просто: «хвала», тогда понятие сие содержит в себе некое свидетельство о восписующем хвалы Богу; потому что не иному кому принадлежит хвалить Бога, а только, как сказано: «хвала Давиду» (Пс. 144); из чего можно дознать, что если и мы соделаемся подобными ему, то получим тогда дерзновение хвалить Бога.
А «в песнех псалом» (Пс. 60) возводит нас в высшее состояние, которое знал и Божественный Апостол, как говорит о себе Коринфянам, что воспевает он то «духом», то «умом» (1 Кор. 14:15). Почему псалмопение, совершаемое умом, объясняет сказанное прежде слово, что видимое должно быть достойно сокровенного, чтобы песнь приводила к догадке о такой мысли. Псалмопение же, совершаемое одним духом, указывает на преимущественное состояние святых, когда приносимое ими Богу лучше изъявления видимым; потому что это, как сказано: «псалом» не в каких либо песнях, выражающих силу умопредставляемого словами, но в песнях, выражаемых не словом. А это, по моему суждению, урок нам, что надлежит знать о песни. Ибо дознаем, что жизнь высокая, мудрствование о горнем, возбуждение нашего орудья помышлениями небесными и выспренними есть песнь Богу, преуспевающая не силою слов, но превосходною жизнью.
А когда к слову: «в песнех» Пророк приписывает слово: «разума» (Пс. 53:54), тогда, мне кажется, подает некий совет, не без рассуждения избирать речения, употребляемые в славословие Богу, чтобы в неосмотрительном каком либо стремлении, даже не приметив того, не приписать Божию величию неприличных понятий. Такова, например, мысль, что награды живущим по Богу состоят в благополучии настоящей жизни: таково мнение, будто бы и по суду Божью прекрасно то, что таковым кажется человеческому чувству. Можно найти и много подобных сим мыслей, допускаемых неразумными в их понятиях о Боге. А тебе потребен разум знать о Нем только то, что, будучи произнесено, не послужит в хулу. Приличное служит Ему в похвалу выше того, что может быть изобретено человеческим естеством. Для нас же так вожделенно найти и не то, что должно о Нем знать, но то, что не может Он быть сравниваем ни с чем отличным от Него.
Что разумеем мы о хвале Давиду, а именно, что тому только, кто подобен ему, принадлежит хвала Божия, то же, кажется мне, должно знать и о молитве, когда услышим слова: «молитва Давиду», а именно, что должно и нам стараться жизнь свою уподобить его жизни, чтобы приобрести дерзновение молиться.
Так должно сказать и о надписании: «молитва нищаго, егда уныет, и пред Господем пролиет моление свое» (Пс. 101). Потребно нам усильное восхождение к Богу, чтобы уразуметь, в чем мы обнищали; ибо не придем в вожделение истинных благ, если не поймем своей в них нищеты. Но каким–то одушевленным и внутренним соделается глас молитвы, когда узнаем, в чем мы обнищали, когда придем в уныние от замедления в исполнении желаемого, и в таком случае изольется моление наше, вместо слов, слезами из очей.
Так понимай и надписание: «молитва Моисея человека Божия» (Пс. 89), а именно, что приступит к Богу с молитвою можно не иначе, как разве кто, отрешась от сего мера, соделается человеком единого Бога.
Глава 4. (О надписании «о изменитися хотящих»)
Надписание же: «о изменитися хотящих» (Пс. 59), по моему мнению, имеет тот смысл, что одно Божие естество не подлежит превратности и изменению; потому что, как недопускающее вовсе зла, не имеет, на что и воспользоваться сим превращением; в лучшее превратиться Оно не может, нет ничего такого, для чего допустило бы Оно изменение; так как нет ничего, что было бы лучше Его, и во что могло бы Оно перемениться. Но мы — люди, подлежа превратности и изменяемости, по изменчивой деятельности в том и другом, делаемся или худшими, или лучшими: — худшими, когда удаляемся от общения с добром, и опять лучшими, когда, изменяясь, возвращаемся к лучшему.
Посему, так как превращением вовлечены мы во зло, необходимо нам доброе изменение, чтобы в следствие оного произошел в нас переход к лучшему. Сие явствует из связи приписанного к словам: «о изменитися хотящих». Ибо Писание не только подает совет о том, что должно измениться, но предлагает и некоторый способ преуспеть в таком деле, в нескольких примерах показывая переход к лучшему.
Полное же чтение надписания следующее: «в конец, о изменитися хотящих, в столпописание Давиду, в научение; внегда сожже средоречие сирийское, и Сирию совалскую, и возвратися Иоав, и порази дебрь солей дванадесят тысящ». Из приведенных слов видно, что Писание, говоря: «в столпописание Давиду, в научение», содержит в себе некоторое наставление и совет: потому что не было бы приложено слова: «научение», если бы не к наставлению клонилась речь. И сие:»в столпописание» показывает, что слово это должно иметь глубоко и неизгладимо напечатленным в памяти, чтобы в душе столпом была память, а письменами на столпе служили примеры добрых дел. Сими то примерами были доблестные подвиги главного вождя Давидовой силы, вследствие которых враги терпят двоякое бедствие, то истребленные огнем, то пораженные в битве. Ибо как Сирия, лежащая между реками, так и соседний с ними удел Сириян истребляются огнем; а также в дебри солей побиты многие тысячи. Но в точности излагать исторический ход событий было бы продолжительно, и, вместе, излишне. Ибо что большее приобретем мы, изучая в связи изложение сих происшествий? Напротив того, думаю, что лучше кратко объяснить в слове, к чему ведет загадочный смысл исторического воспоминания, чтобы таковое столпописание послужило нам в научение для нашей жизни.
Что же значит сказанное мною? Пророк, Сириею наименовав целый народ, делит его на две части, обозначая каждую особыми чертами, одна часть называется средоречием сирийским, а другая именуется Сириею совальскою; сожигается же та и другая; а потом, по возвращении главного воеводы, дебрь солей осуждается на преданье смерти двенадцати тысяч. Посему представим себе, что вид Сирии двоякий: одни из Сириян отовсюду окружены речными потоками, и это те, которые со всех сторон одержимы страстями; другие близки к Сове, а сим именованием означается в Писании мучительство сопротивной силы. Посему и для нас послужит сие путем изменения на лучшее, если двоякое это племя порока будет истреблено очистительным огнем. Как добродетель оставляет замечательные черты в жизни и в разумении; так и порок усматривается в том и другом. Беспорядочность жизни, вокруг объемлющая душу потоками страстей, называется средоречием, а разумение, по извращенным догматам близкое к князю мера, именуется Сириею совальскою; за истреблением их светоносным и очистительным словом следует то, что бесплодная и соленая земля, то есть воинство сопротивных сил, сокрушена ударом воеводы. Ибо не будет у нас победы над врагами, если начальник воинств не превозможет силою руки. А за погибелью врагов, естественно, следует мир. И таково последствие победы, которое имея в виду, Писание, как на столпах, написует в памятях наших повеление: «изменитися», в исторических примерах показывая освобождение от страстей. Лучше же сказать, урок об изменении ясным соделается для нас, если последуем прочим толковникам, из которых один, вместо слова: «изменение», приписал к псалму: «о цветах»; а другой: «о лилиях». Слово: «о цветах», показывает переход от зимы к весне, что означает прехождение от порока к добродетельной жизни. Вид лилии объясняет, во что надлежит произойти изменению; ибо чрез изменение делающийся светлым явно принимает светлый и белоснежный вид из черного и потемненного. Поэтому по силе всякого надписания, в котором читается: «о изменитися хотящих», должно, как думаю, в псалме находить для себя совет о том, что всегда должно молитвою и тщательною жизнью достигать изменения на лучшее.
Глава 5. (О надписаниях: «о тайных», «о наследствующей», «о заступлении утреннем», «о осмей», «о точилех»)
Надписание: «о тайных» (Пс. 9) внушает нам с точностью преуспевать в Боговедении; потому что погрешительное мнение о Божеств — крайнее падение для души. Чем воспользуется человек от блага, не имея самого блага? Посему–то надписание предлагает тебе, как бы некий светильник, сие учение, занимающееся исследованием таин Боговедения, в котором главное — вера в Сына; ибо так говорит и надписание: «о тайных Сына». Действительно, тайно то, что недомыслимо, невидимо, превыше всякого доступного разумению примышления, и к чему приблизившийся верою достигает конца победы.
Явно и основание надписания: «о наследствующей» (Пс. 5); потому что Пророк о душе, ниспадшей из своего жребия, когда для преступника заповеди зашло солнце, приносит Богу сие моление, чтобы на утро снова отложила она тьму и удостоилась услышать оный сладкий глас, который изречет стоящим одесную: «приидите благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира» (Мф. 25:34).
Не погрешит против истины, кто в том же смысле поймет и сие надписание: «о заступлении утреннем» (Пс. 21): ибо Писанию обычно утром именовать утреннюю зарю, то есть время, служащее взаимным пределом ночи и дня, с которым ночь исчезает и начинается день. И поелику во многих местах Писания под загадочным именем тьмы разумеется порок, то, когда по Божию заступлению совершится в нас восхождение добродетельной жизни, тогда достигнем победы, как говорит Апостол: «отложив дела темная»,и «яко во дни, благообразно ходя» (Римл. 13:12–13).
Близко к исследованному основание надписания: «о осмей» (Пс. 11). Ибо вся попечительность о добродетельной жизни имеет в виду будущий век, начало которого, имеющее последовать за чувственным временем, круговращающимся в седмицах дней, называется осмым днем. Посему надписание: «о осмей» подает совет не иметь в виду настоящего времени, но взирать на осьмый день. Ибо, когда прекратится это скоротекущее и преходящее время, в которое одно приходит в бытие, а другое разрушается; когда минуется потребность приходить в бытие, и не будет уже разрушаемого, потому что уповаемым воскресением претворится естество в некое иное состояние жизни; когда прекратится и это преходящее свойство времени, потому что не будет уже силы, приводящей в бытие и разрушение: тогда, без сомнения, кончится и эта седмица, измеряющая время, заступит же ее место осьмый день, то есть последующий век, который весь составляется одним днем, как говорит некто из Пророков, уповаемую жизнь назвав «днем великим» (Иоил. 2:11), потому сей день освещать будет не чувственное солнце, но истинный Свет, Солнце правды, которое в пророчестве именуется «востоком» (Зах. 6:12), потому что никогда не скрывается на западе.
То же самое разумеем мы и в надписаниях: «о точилех»; потому что точило есть орудие виноделия; из выжимаемых в нем гроздов выходит вино. Но если вино вытекает из гроздов гнилых или незрелых, то оно скоро портится и делается негодным к питью, прелагаясь в какое–то зловонье, или в нечто качеством подобное уксусу, и при другой какой–либо порче изменяется в служащее к зарождению червей. Но если в точило вложен грозд доброго качества и зрелый: то из грозда потечет вино сладкое и благовонное, в котором с продолжением времени возрастать будут добротность и благоуханье. Посему, о чем же внушает нам, сколько можно, наипаче заботиться эта загадка о грозде? О том, чтобы обогащалась наша сокровищница человеческого ума, а эта сокровищница есть надежда; в ней хранится всякий запас для нашей жизни. В таком же случае свойство гроздов сделается для нас известным, если будут видимы сперва ветви, а потом виноградная лоза, держащая на себе грозды и ветви. А сие соделается по словам Господа, изрекшего: «Аз есмь лоза, вы же рождие» (Ин. 15:5). Ибо если, действительно, и плодонося и возрастая, как говорит Апостол, «в Нем» пребываем «укоренены» (Кол. 2:7); то уразумеем из сказанного, что от нас, созданных в Нем, и без Него недостойных питающей нас влаги, требуется грозд дел, который не окислен и не доведен до терпкости гневом, не дошел до гнилости и не распался от какого либо сластолюбия. В точиле каждой души (а точилом служит совесть) грозд дел дает нам вино на последующую жизнь, и каждому по всей необходимости должно вкушать от собственных своих трудов, какие бы они ни были.
Посему блаженны те делатели, которых вино, вкушенное ими, веселит сердце; напротив того, жалки и достойны слез те, у которых «вино», по выражению Моисея, делается «яростию змиев» — (Второз. 32:33), преложившись в ядовитое качество и от розги содомской принося плод в пагубу. Посему, если имеешь в виду осмый день; то помни, говорите Пророк, о точилах в добродетелях; да «точила», по слову притчи, «источают»тебе «вино» благовонное (Притч. 3:10).
Глава 6. (О надписаниях: «о Маелефе», «исход скинии», «о обновлении дому Давидова», «изступления», «в воспоминание», «исповедание», «столпописание», «да не растлиши»)
А надписание: «о Маелефе», яснее переданное переложившими речение сие на эллинский язык, придает какую–то ревность подвижникам добродетели, указывая им на конец подвигов, говоря, что одержавшим верх в борьбах предстоят ликования и веселия; так как в этом смысл протолковано оное слово: «Маелеф», которое переводится словом: ликование, что знаем из истории о победе Давида, когда в единоборстве с сим юношею пал Голиаф, с ликованием встретив, девы славят отважный Давидов подвиг. Так, надписание: «о Маелефе» выражает, что всякая победа над сопротивниками, приобретаемая трудом и пролитием пота, сопровождается весельем и ликованием, потому что всякая разумная тварь присоединяется к победителям, как бы входя с ними в один стройный лик. Было некогда, что словесное естество составляло один лик, который взирал на единого Ликоначальника, и исполнением заповеди приводил себя в согласие с тою стройностью ликов, какую ликоначальник установлял своим движением.
Но после того, как это Божественное согласие ликов расстроил вторгшийся грех, и под ноги первых людей, ликовавших вместе с Ангельскими силами, подлив нечто, соделавшее их поползновенными к обольщению, довел до падения, и человек отлучен от общения с Ангелами, потому что падением прервано единомыслие; падшему потребно стало много трудов и пота, чтобы, поборов и свергнув с себя налегшего на него в падении, снова восстать, в награду за победу над противником получив право на Божественное ликостояние. Посему, когда слышишь, что надписание: «о Маелефе» соединено с выражением «в конец», тогда знай, что в этой загадке предлагается тебе совет не ослабевать в борьбах с искушениями, но взирать на конец — победы, то есть, на вчинение в Ангельский лик и твоей души, очищенной приражением искушений. Так, слышим от Господа, было и с Лазарем, который, поелику терпением страданий на целом поприще жизни сохранил себя непадшим, по разрушении на нем этой скинии после победы над боровшимся с ним на жизненном поприще, немедленно оказался среди Ангелов; ибо сказано: «бысть умрети нищему, и несену быти Ангелы» (Лук. 16:22). Вот ликование — совершение пути с Ангелами, и лоно патриарха, приемлющее на себя Лазаря, и само представляющееся не чуждым сего радостного согласия с ликом. Ибо не погрешит, кто, услышав слово: «лоно», представит себе, что это полнота благ, какою наименован патриарх, подобно какому–то обширному объему моря, и в ней–то пребывает Лазарь; — потому что у отличившихся подобными подвигами ни у кого нет ничего собственного, но благо общим делается для всех, одною и тою же добродетелью достигших равного блага.
Надписание, в котором упоминается: «исход скинии», и еще другое: «о обновлении дому Давидова»близки между собою и по положению и по смыслу. Ибо одно имеет место в двадцать осьмом псалме, а другое в следующем за ним. Каждое из них читается следующим образом: надписание первое: «псалом Давиду, исхода скинии», а надписание следующего псалма: «псалом песни, обновления дому Давидова». Если не вышли мы из этой чувственной скинии, не обновится истинный дом наш. А смысл сказанного таков: в естестве человеческом умопредставляются две жизни: плотская, водящаяся чувствами, и духовная, невещественная, преуспевающая в разумном и бесплотном житии души. Но невозможно соделаться в одно и то же время причастным той и другой жизни; потому что тщательность об одной из них производит лишение в другой. Потому, если будем стараться соделать душу жилищем Божиим, то надлежит плотью выйти из плотской скинии. Чтобы дом наш обновлен был Тем, Кто обновляет нас Своим вселением, сему невозможно совершиться иначе, как разве когда совершится исход скинии отчуждением от жизни телесной.
Псалом «изступления» следующий за «обновлением», пред которым положено следующее надписание: «в конец, псалом Давиду, изступления», согласен с рассмотренными прежде и советует удаляться от тех, с кем связь вредна.
В псалмах же с надписанием: «в воспоминание» (Пс. 37:69), предлагается нам краткое некое учение о спасении. Поелику преслушание заповеди Божьей соделалось для людей путем к погибели (мы не погибли бы, если бы сохранили в памяти заповедь); то Писание поэтому, как врачевство от недуга забвения, предлагает нам памятование о заповеди, делая это в двух псалмах.
А в псалмах, к которым прилагается слово: «исповедание», речением сим научаемся следующему: поелику, по обычаю Писания, слово: «исповедание» имеет двоякое значение и указывает то на исповедание грехов, то на благодарение; здесь в том и другом разумении оного руководимся им к жизни добродетельной; потому что исповедание грехов производит удаление и отчуждение от худых дел, а усердие в благодарности увеличивает милость Благодетеля к приемлющим благотворения с добрым чувством. Посему псалом предлагается «во исповедание»: в таком случае, когда беспокоит тебя какое либо воспоминание о грехе, советует тебе прибегнуть к очистительному средству — покаянию; а если жизнь твоя благоуспевает в лучшем, доброе твое произволение делает твердым за благодарность твою к Богу.
Слова: «столпописание», и: «да не растлиши», в совокупности ли, отдельно ли, находятся в каких надписаниях, содержат в себе совет о добродетели долготерпения. Ибо сие: «да не растлиши» сказано Давидом, когда запретил он оруженосцу нанести удар Саулу; а смысл слова: «столпописание» тот, что таковое речение должно иметь начертанным в памяти, как на некоем столпе, чтобы в подобных делах, если какое обстоятельство возбудит нашу раздражительность к отмщенью за оскорбление, прочитывая мысленно сие повеление, запрещающее убийство, сами в себе усыпляли мы раздражительность, приучая к долготерпению. Но точнейшее о сем рассуждение оставим до будущего времени, переходя к обозрению прочих надписаний. Ибо надлежит уразуметь, что когда значит слово: «аллилуия», которое служит надписанием многих псалмов.
Глава 7. (О надписании «аллилуия»)
Итак, слово: «аллилухя» есть таинственное побуждениье к песнопению Бога; оно взывает слуху, что означаемое им то же, что: «хвалите Господа». Ибо в каких частях святого Писания встречаются напереди эти слова: «хвалите Господа», в еврейских Писаниях означается это словом: «аллилуиа». Или, может быть, слово сие дает паче видеть силу псалмопения, которому служит надписанием, сказуя о нем, что это — хвала Богу. Так как на еврейском языке естество Божие означается различно разными именами, употребляемыми в некоем иносказательном значении; то в числе имен, означающих Бога, находится и слово: «иа», а слово: «аллиллу» у Евреев значит хвала. И не дивись, если таковой вид сего речения в косвенном падеже имени показывает, так называемый, именительный падеж: потому что не по нашему обычаю у евреев видоизменяются слова, напротив того, у них иное сравнительно с нашим видоизменение в произношении имен. Так, имя Пророка, придав ему еллинское видоизменение, произносим: «Илиа», а у евреев, по правилам языка, именительный падеж сего имени говорится: «Илиу». Так и здесь, когда слово: хвала требуется означить в именительном падеже, язык еврейский выговаривает: «аллилу». Поелику же хвала непременно относится к Богу, а имя: «иа» есть одно из имен, означающих естество Божие; то целое вообще слово: «аллилуия» толкуется: хвала Богу. Посему, когда речение сие приписано к псалмопению, надлежит разуметь, что следующее ниже непременно должно возводить к славословию Бога. Как в книге псалмов таковые надписания находятся всего более над последними псалмами; то можно из сего уразуметь, что достигшим уже совершенства в жизни добродетельной и очистившим себя, согласно с тем, что выразумели при обозрении предыдущих отделов псалмопения, прилично хвалить Бога и быть в таком состоянии, в каком, как веруем, пребывает естество ангельское. Ибо у них, известно нам, нет другого занятия, как только хвалить Бога, и у совершенных в добродетели нет иной заботы, как только устроять жизнь свою, чтобы была хвалою Богу. Итак, поелику псалмы, имеющие надписание: «аллилуиа», все почти находятся в последнем отделе псалмопения; то ясно можно уразуметь, что выше всякого восхождения на высоту с помощью псалмов — последний отдел псалмопения, в котором большею частью заключается хвала Богу или приглашение хвалить Бога.
Глава 8. (О ненадписании у евреев некоторых псалмов, в частности 32, 42, 93)
Остается уразуметь, по возможности, причину того, что некоторые псалмы не надписаны. Но что найдено нами по этой части, да будет предоставлено суду читателей: или принять наше мнение, или возвести разумение свое к высшему взгляду. Итак, в ненадписанных псалмах примечаем мы следующее различие: одним из них вместо надписания служит самое содержание псалмопения, в них, и у евреев, и у нас это общее, что у предлагаемого нет другого надписания, кроме одного только смысла, открывающегося в речениях. А в прочих псалмах, хотя есть надписания церковные и таинственные, знаменательные для таинственного нашего благочестия, однако же нет их у евреев, согласно с обвинением, какое сделано им в Евангелии, что постановили определение: «да, аще кто исповест Христа, отлучен от сонмища будет» (Иоан. 9:22). Посему, в каких надписаниях евреи заметили, что заключают в себе какое либо указание на таинство, тех они не приняли; поэтому в Писании о таких псалмах с точностью замечено это, и к чтенью церковного надписания прибавлено: «не надписан у еврей». Итак, указав предварительно на сие разделение псалмов ненадписанных, благовременно будет предложить о сем свидетельство из самых псаломских изречений.
Псалом, предпоставленный всем, не имел нужды в надписании, потому что для читающих ясна цель сказуемого в нем; а именно, служит он введением в любомудрие, советуя удаляться от зла, пребывать в добре и, по возможности, уподобляться Богу.
Но как в самом начал учения о блаженств предписано, что не должно нечествовать; то, чтобы нам избавиться от нечестья, прилагается второй псалом, предвестивший Евангельское таинство, так что первый псалом некоторым образом служить надписанием второго. Ибо Пророк сказует там о плотском рождении ради нас Рожденного «днесь» (а днесь составляет часть времени), но всегда от Отца и во Отце сущего, Сына и Бога. Сказует и о царстве у непризнававших царства, у тех, которые за то, что не служили Богу, причислялись к язычникам, были какими–то самозаконниками, лучше же сказать, — беззаконниками; потому что не приняли закона Божия, но свергли с себя «иго» (а «игом» Пророк называет заповедь). Когда же превысшее всего царство пришло и на них, тогда и они, непризнававшие некогда над собою владычества, делаются наследниками Божиими по вере в Рожденного «днесь», разумею Того, Кто поставлен над ними в царя; тогда и родились, и стали царями те самые, которых железный жезл, то есть, непреложная сила, сокрушив в них земное и скудельное, претворила в чистое естество, научив тем, что одно только блаженно — уповать на Царя. Вот смысл сего псалма, по моему изложению; желающий может мнение наше поверить самыми Божественными речениями, точно ли сказанное нами согласно с Богодухновенным словом.
Прочие же из ненадписанных псалмов, по высказанной нами выше причине, таковы в еврейской синагоге, а не в Церкви Божьей. Ибо при всех можно найти непременно какое либо надписание, которого не принимает еврей за слово благочестия, и которое не допускается ими по неверию. Таких псалмов (говоря вообще о числе их) двенадцать. Но чтобы и точнее изложить, что нужно сказать о них, укажем порядок последования каждого: именно, псалом тридцать второй и сорок второй, за ними семидесятый, потом третий по семидесятом, и после них девяностый, потом девяносто второй и следующие до шестого, далее девяносто осмый, и последний из ненадписанных: сто третий, — вот порядок псалмов, ненадписанных у евреев. Причины же, почему не приняли евреи сих надписаний, не полагаю иной, кроме сказанной. Лучше же сказать, наше о сем рассуждение, если немного и мимоходом обозрим некоторые из ненадписанных псалмов, послужит доказательством, что обвинение иудеев в неблагопризнательности подтверждается самым обозрением речений.
Псалом повелевает возрадоваться о Пришедшем с небес на землю, говоря: «радуйтеся приведши о Господе» (Пс. 32:1), потому что Он всем правит, все из несуществующего привел в бытие, все сохраняет в бытии, и Его повеление делается сущностью.
Таков смысл Божественных слов: «яко Той рече, и быша: Той повеле, и создашася» (9). Он блаженным делает о имени Его утверждающийся народ, а народом называет Пророк нас, для которых надежда спасения — имя Христово, так как по имени Его называется всякий уверовавший; потому что «с небесе призре Господь» видеть «вся сыны человеческия: от готоваго жилища» (13:14). А готовым жилищем наименовал присносущного Отца, Которому принадлежит вечное бытие, как ни от кого не происшедшему, но всегда готовому. И не почтем странным, что из оного готового жилища к сынам человеческим присоединяется Соделавшийся сыном человеческим, так как мы уверены, что Он есть «создавый на едине сердца их» (15). Ибо, если естество человеческое — Его создание, что нового познаем из таинства? То, что Владыка естества «во Своя прииде», но евреи Его не «прияша» (Иоан. 1:11). Потому–то и нет у них надписания, как у того, кто не видит, нет солнца. Потому–то и мы плотское исполнение закона, которое Пророк называет «лживым конем», и всякое телесное разумение заповедей (это, может быть, значить слово «исполине»), признаем бесполезным для спасения, как и псалмопевец охуждает подобное сему, выражаясь загадочно: «ложь конь во спасение» (Пс. 32:17), «и исполин не спасется множеством крепости своея» (16). Но взирая на Избавляющего от смерти души наши небесною пищею, как говорит Пророк: «очи Господни на боящыяся Его, уповающыя на милость Его, избавиши от смерти души их, и препитати я в гладе» (18)), говорим: «душа наша чает Господа» (20), призревшего на нас с небеси, и: «буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя» (22). Посему–то еврей не принимает надписания псалма сего!
Таким же образом опять и сорок второй псалом не имеет у евреев надписания; так как самые слова, по моему мнению, показывают, что заключающееся в сем псалме таинство не было приемлемо держащимися еврейской ереси; потому что псалом возвещает, что делающийся юным внидет «к жертвеннику» (Пс. 42:4). Но для еврея сие невозможно; он не согласен в таинстве спасения обновиться рождением свыше.
А в псалме семидесятом, по церковному изданию имеющем надписание: «сынов Ионадавовых и первых пленшихся», евреями сие умолчано; причина же тому ясна. В сих словах заключается более других явное пророчество о Господе; и ими охуждается неверие иудеев, которые не могли принять явного учения о таинстве. Как больные глазами или страждущие водобоязнью не переносят — одни приражения к глазам луча, а другие взгляда на воду, но, смеживши вежди, отворачиваются страждущие глазами от луча, а подверженные водобоязни от взгляда на воду: так и злоба иудеев, поелику не хочет признать славы Божественной проповеди, неудобоприемлемою делает истину умолчанием о ней. Но и из самого псалмопения можно познать загадочный смысл пророчества. Ибо в семидесятом псалме, у которого это надписание: «о первых пленшихся», Пророк, как бы от лица пленника, говорит и иное нечто приличное речи просителя, и следующее: «избави мя из руки грешнаго, из руки законопреступнаго и обидящаго» (4), сими именованиями указуя на пленившего жизнь нашу. А в остальных словах псалма, после многих утешительных изречений, описывает совершившееся возвращение из плена, когда говорит: «елики явил ми еси скорби многи и злы, и обращеся оживотворил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси: умножил еси на мне величествие Твое и обращся утешил мя еси» (20:21). Сие же, как изводится из бездны увлеченный в нее тяжестью греха, яснее уразумеем из учения великого Павла; о таковом говорит он: «да не речеши в сердцы твоем: кто взыдет на небо? сиречь Христа свести. Или: кто снидет в бездну? сиречь Христа от мертвых возвести» (Римл. 10:6–7).
Ибо от чего взошла в мир смерть, тем опять и изгнана, взошла человеком, Человеком и изгоняется. Первый человек открыл вход смерти, вторым Человеком вводится, напротив, жизнь, вшествие которой производит уничтожение смерти. Для сего, когда в бездне смерти содержим был плененный смертью, второй Человек страданием снисшел в бездну смерти, чтобы погрязшего в ней снова возвести с Собою в горнее. Ибо сие в точности объяснило великое слово Апостола; сказав о сем многое другое, говорит он следующее: «якоже о Адаме еси умираем, такожде и о Христе еси оживем» (1 Кор. 15:22). Посему–то, поелику надписание: о «пленшихся» громко взывает о домостроительстве воплощения Господня, то евреи заграждают себе слух и не принимают надписания.
Так, ту же причину непринятию надписания евреями найдешь и в девяностом псалме, а именно, что надписание указывает на Христово Богоявление. Ибо у нас упомянутый псалом есть «хвала песни;» а всякая хвала относится к Богу; евреи же умалчивают сию хвалу и хвалящим Господа повелевают молчать. Они стараются воспретить и детям во храм хвалить Господа за благодеяния, как Евангелие выставляет на позор их неблагодарность. Излишним же было бы делом указывать в сем обозрении на самые изречения, относящиеся к Господу в хвале этой песни, так как при самом чтении написанного явственнее открывается этот смысл.
И следующий за девяносто первым псалом имеет в надписании также нечто ясно высказанное; почему иудействующий далек от согласия на сие надписание. Читается же оно так: «хвала песни Давиду, в день субботный, внегда населися земля». Ибо кто из обучившихся слову о благочестии не знает, что в день субботний совершено таинство победы над смертью, когда тело Господне, в точности по закону, пребывало недвижимым на ложе во гробе? Кто не знает и того дня, «внегда населися земля». Населителем нашим, Который, сокрушив истребителя нашего селения, разрушенное снова воссоздал от основания? А истребителем нашим была смерть, которую Господь тогда привел в бездействие, когда, пребывая недвижимым на том месте, где находился, казался нам субботствующим, поборол же силу смерти, пролагая Собою путь всем умершим к воскресенью от смерти. Но не приемлет таинства субботы враг креста Христова. Потому и сия «хвала» у евреев не надписана; ибо не соглашаются они, что Тот есть Господь, Кто, соделавшись подобным нам и прияв на Себя наше поношение в образе раба, снова воцарился, и «облечеся» в Свою «лепоту» (Пс. 92:1), и возложил на Себя силу Свою. Сила же и лепота Сына — Отец. Сей–то Сын расслабленное грехом естество человеческое снова соделал твердым, чтобы оно не уклонялось более в порок и не допускало до себя греховной бури. Псалмопевец, и за многое другое в загадочных выражениях восхвалив благодать, прилагает к слову какой–то, громкий глас издающие, «реки» (3), означая сим, как думаю, гласы Евангельские. Но какая нужда повторять по порядку написанное в сем псалмопении, когда в Божественных изречениях нет никакого сомнения, что песнопение сие относится к Нему — Богу, восшедшему «в воскликновении» (Пс. 46:6), свидения Свои соделавшему достоверными добрым исповеданием, и устроившему, что собственному «дому Церкви подобает святыня» Духа (Пс. 92:5)?
Так по той же причине еврей не принимает надписания и девяносто третьего псалма. Надписание же это читается так: «Давиду в четвертый субботы, не надписан у еврей». Заключающееся в сем псалме таинство предвозвещает домостроительство страдания.
Поелику в пятый день недели совершено предательство Иуды; то искупившей Собою весь мир в предшествовавшей сему день как бы продается предателем. Так сделанное Иудою, именуется и в пророчестве Иеремии: «и прияша тридесят сребренник, цену цененного» (Мф. 27:9). Для того же, думаю, продается, чтобы продажею Своею купить проданных под грех. Почему Пророк, провидя будущее, возбуждается каким–то гневом на совершаемое, называя Его «Богом отмщения» (Пс. 93:1), и умоляя «вознестися» нас ради Смирившегося, «воздать гордым воздаяние» по достоинству их (2), да не «восхвалятся» злобою «грешницы» (3), к которым взывает, именуя их «безумными» и «буими» (8), как непризнавших Божества в Явившемся. Ибо безумному свойственно, как говорит Пророк в другом месте, сказать, что нет Сущего Бога (Пс. 13:1). Взывает же таковым: «разумейте безумнии в людех, и буии некогда, умудритеся». Кто «насаждей ухо»? Кто «создавый око»? Кто «наказуяй языки»? Кто «весть помышления человеческая» (Пс. 93:8—11)?
Ибо всем этим, как думаю, Пророк указывает на чудеса при исцелениях, когда созидались очи из плюновения и земли творимым бренеем (Иоан. 9:6), когда перстом насаждался слух у лишенных как либо сего чувства, когда все, сокрываемое в тайне помышлений, объявляемо было Видящим мысли их.
Поелику Пророк, взывая к ним, не был услышан; то обращает он слово к Господу, и говорит: «блажен человек; его же аще накажеши, Господи, и от закона Твоего научиши его» (12); как будто закон сам по себе не приносит никакой пользы, если заключающегося в нем таинства не уяснить какое Божественное наставление, как сказал это сей самый Пророк: «открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего» (Пс. 118:18). Или, может быть, он ублажает уверовавшего в закон духовный язычника, который, будучи до того времени человеком плотским и уподобляясь скотам, по обучении закону Божию, когда клятва пременилась на благословение, делается блаженным, потому что для него «укрощается»гнев от «дней лютых», а для неуверовавшего «изрыется яма» (Пс. 93:13). Потом чрез несколько слов Пророк сказует цель домостроительства Господня о человеке: «аще не Господь помогл бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя» (17); потому что Господняя помощь не попускает нам быть обитателями ада; сказует еще, что по «множеству болезней», следствий греха, Врачующим нас употреблено над нами равносильное врачевание (19). Посему вдается в высшее любомудрие, уча, что зло не от Вечного; ибо говорит: «не пребудет Тебе престол беззакония, созидаяй труд на повеление» (20), то есть, не вместе с Тобою усматривается начало злобы; потому что престол, установляющий грех повелением, есть начало. Сим Пророк показал, что злоба не от вечности, и не вечно пребудет; ибо что не вечно было, то и будет не вечно. Сказывает же Пророк и способ истребления зла, предрекая уничтожение злобы с убиением Господа иудеями. Ибо говорит: «уловят на душу праведницу, и кровь неповинную осудят» (21). Но сия кровь сделается спасительною для меня. Ибо осужденный на смерть Господь чрез то делается для меня «прибежищем», и «в помощь упования» поставляется верующим сей «Бог» (22), Который, на праведном суде воздая каждому по достоинству, уничтожит лукавство, а не естество согрешивших. Вот точные слова Пророка: «воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавствию их погубит я Господь Бог» (23). Означает же сказанным, что погибнут приявшие на себя ныне образ греха. А когда не будет злобы, не будет носящего на себе образ ее. Посему, когда погибнет злоба, и ни в ком не останется такого начертания, все образуются по подобию Христову, и во всех воссияет один образ, какой в начале вложен был в естество.
Глава 9. (О ненадписании у евреев некоторых псалмов, в частности 94, 95, 96, 98, 103)
После сего Пророк последовательно поступает далее, не употребляя никакого музыкального орудия, но собственным своим голосом воспевая Богу благоговейную хвалу в песни; ибо говорит: «хвала песни Давиду» (Пс. 94). И этого надписания у евреев нет, потому что слышащих призывает оно к общению в радовании и к победному воскликновению, говоря: «приидите возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему» (1), а в конце заключает некую сильную угрозу неверующиим, обнаруживавшим сие злоумие и в продолжение сорокалетнего пребывания в пустыне, когда раздражали они Благодетеля, и после того не приявшим дарованного нам Евангелием упокоения от греха, когда, «услышав глас» Пришедшего ради нас в сие днесь, и из довременного и вечного величия снисшедшего во временное бытие, можно было им «днесь» открыть для себя вход в покой, но они, всегда поставляя себе путеводителем заблуждение и неверие, и в первые, и в последующие за тем времена вход в покой Божии заграждали клятвою. Ибо как вошли бы в покой добровольно соделавшие себя чуждыми благословения?
Так и после сих псалмов девяносто пятый у еврействующих читается не надписанным, а у нас есть песнь, воспетая Богу по возвращении из плена, когда воссоздано было разрушенное устроение естества нашего. Читается же надписание се так: «хвала песни, внегда дом созидашеся по пленении, не надписан у Еврей» (Пс. 95). Прямо же в самом вступлении псалмопение сие благовествует таинство Нового Завета, говоря: «воспойте Господеви песнь нову» (1). И не без основания умолчано надписание псалма сего у евреев; ибо после Евангельских провозглашений, какие сделаны в начале псалма, пророчество обращает речь к обращенным из язычников, говоря: «принесите Господеви отечествия языке, принесите Господеви славу и честь» (7), «поклонитеся Господеви во дворе святем Его» (9). И такова вся последующая речь; она предсказывает прехождение благословения на язычников. «Рцыте во языцех», говорит Пророк, «яко Господь воцарися» и разрушенную злобою «вселенную исправи», так что она навсегда пребудет неколебимою (10). О сем веселятся небеса и радуется вся земля, потому что подвиглись воды морские с их исполнением. А сим иносказательно изображает Пророк сопротивную силу, потрясаемую и приводимую в несостоятельность нашею жизнью, когда мы соделываемся небесами, поведающими славу Божию, и землею благословенною за плодоношение добродетели. «Да подвижится море», говорит Пророк, «и исполнение его» (11). Далее сказует, что «возрадуются поля», называя полями уравненную в добродетели жизнь, о которой и Исаия в словах своих упоминает иным образом, повелевая дебрям наполниться, холмам и горам смириться (Иса. 40:4). Говорит же сие, кажется мне, не с иным каким намерением, как желая уврачевать недостатки и излишества в добродетельных предначинаниях, чтобы от недостатка в добром в учении о добродетели не произошло пустоты, и от излишества — неровности. Ибо говорит: «возрадуются поля, и вся яже на них».
Подобным образом и следующий за сим псалом не принят у Евреев с надписанием; потому что говорит о касающемся до нас и благовествует о состоянии нашей земли. Надписание приписывает Давиду сие псалмопение и выражается так: «Давиду, егда земля Его устрояшеся». Но слово: «Его», очевидно, относится не к Давиду, а к Богу; потому что земля, прежде отпадшая чрез грех, ныне, познанием Бога, приобрела постоянство; земля Божья — все мы, не устоявшие прежде в добре и за то подпавшие клятве, но потом избавленные от клятвы и снова достигшие постоянства в добре. И сие прямо благовествует самое начало псалмопения, а именно: поелику воцарился Господь, то радуется земля. Как иной сказал бы: поелику воссияло солнце, то освещается им земля: так, поелику возобладало Господне царство, то в нас веселие сего царства. Вот точные слова псалма: «Господь воцарися, да радуется земля: да веселятся острови мнози» (Пс. 96:1). Прекрасно Пророк назвал островами души показавших твердость и неизменность в искушениях. Хотя отовсюду окружает их море порока, однако же не имеет оно над ними столь великой силы, чтобы приражением своим произвести какое либо волнение в постоянной добродетели. Потом слово среди всего этого под облаком и мраком представляет неудобозримость Божия естества: «облак и мрак окрест Его» (2) и, показав страшное действие карательной силы в сказанном: «огнь пред Ним предъидет, и попалит окрест враги Его» (3), открывает Евангельское световодство, молниями называя слова Божественной проповеди, озаряющие целую вселенную; ибо говорит: «осветиша молнии Его вселенную» (4), и в следующих словах показав высоту Евангельских таинств, именно, когда говорит: «возвестиша небеса правду Его, и видеша еси людие славу Его» (6), и предвозвестив истребление идолов и уничтожение всякого заблуждения в словах: «да постыдятся еси кланяющейся истуканным, хвалящиеся о идолех своих» (7), прилагает печать благ, сказуя людям пришествие Господа во плоти: «свет воссия праведнику, и правым сердцем веселие» (11).
С концом сего псалмопения прекрасно и сообразно с делом связуется начало следующего ненадписанного псалма. Ибо одна и та же сила для праведника бываете светом и веселием, и гневом для народа неверующего. Сказано: «Господь воцарися, да гневаются людие» (Пс. 98:1). Кто сей воцарившийся Господь, превысший ангельского и небесного естества? Ибо Писание упоминанием о Херувимах показываете превосходство премирной силы Того, Чье воцарение приводит в разрушение то, что составилось худо; потому что колеблет не то, что в нас небесного, но то, что в нас земного, так выражает сие словом: «седяй на Херувимех, да подвижется земля» (1). Оставляю следующее за сим, чтобы продолжением разбора не причинить великого обременения. Скажу только, что все до конца псалмопения относится к одной и той же цели.
Пророк свидетельствует, что Сей воцарившийся Бог не первым нам ныне явился, но Он же являлся и именитым из пророков. Поэтому упоминает о Моисее, Аароне и Самуиле (6), из которых каждый знаменит и славен благочестием пред Богом.
Присовокупляет же к слову и упоминание «о столпе облачном», в котором Бог глаголал «к ним» (7), научая тем, как думаю, неверующих не удивляться поэтому Божией бесед с нами чрез человека. Ибо тогда в столпе облачном глаголавший Бог после того явился во плоти; почему, если скажет кто, что плоть недостойна того, чтоб чрез нее глаголал к нам Бог, то не возможет засвидетельствовать достоинства и в облачном столпе. Ибо что в нем такого, что можно было бы признать достойным величия Божия? Если же для иудеев достоверно, что Бог глаголал в столпе облачном, то да не будет не вероятным и то, что глаголал Он во плоти. Сверх того, и Исаия в вид облака представлял себе плоть; ибо говорит: «се Господь седит на облаце легце» (Иса. 19:1); и последующих за Господом тот же опять Пророк именует облаками, говоря: «кий суть, иже яко облацы летят?» (60:8). Сею подобоименностию облаков показывает Он сродство Господней плоти с остальным человечеством. Итак, сему–то Богу, некогда чрез облако, а после того чрез плоть, глаголавшему к людям, говорит далее Давид: «Господи Боже наш, Ты послушал еси их: Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их» (Пс. 98:8). А чтобы иной, смотря на домостроительство, не поползнулся на какие–либо низкие и человеческие понятия о Божестве, Пророк в конце псалмопения, обратив речь к нам, присовокупляет сие изречение: «возносите Господа Бога нашего» (9), «и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть» (5).
Смысл же сказанного, как предполагаем, есть следующий: Божественные тайны открыты вам, люди, сколько слух человеческий принять может; путеводимые сим к благочестивому Боговедению, сколько вмещает ваш рассудок, столько возносит славу Божию, зная, что, сколько бы ни возвысилось ваше разумение, хотя бы преступили вы всякое высокое представление в понятиях о Боге, и тогда обретаемое и поклоняемое вами не самое еще величие Искомого, но только подножие ног Его. Сим–то сравнением с недоступным для постижения Пророк объясняет бессилие и низость нашего разумения.
Потом, миновав после сего несколько псалмов, в псалме сто третьем, который вместе со многими другими причисляется к ненадписанным у евреев, Пророк ясно богословствует о единородном Боге, Ему приписуя вину создания вселенной. Ибо сказано, что псалом сей о сотворении мира — Давидов, и не надписан у Евреев; а сим означается, что Евреи не принимают цели сего пророчества. Надписание же читается так: «Давиду о мирстем бытии», не надписан у Еврееев. Смысл псалма сего изложим при времени; а теперь достаточно нам будет сказать только то, что та же причина, разумею неверие иудеев, сделала, что и сего псалма надписание не принято Евреями.
Глава 10. (Исследование слова «диапсалма»)
Не надлежит оставлять без исследования и слова: «дапсалма» (Греческим словом «диапсалма» переводится еврейское «села». Здесь греческое слово оставляется без перевода; потому что в славянской Псалтири (напр., Пс. 9:ст. 21) оно никак не переедено, даже совершенно опущено). Жившие прежде нас полагали, что словом сим означается перемена, или мысли, или лица, или вещи; мы не отвергаем мнений отцов, но не поленимся о значении сего речения придумать нечто и от себя. Посему принят нами такой смысл слова: «диапсалма», что, когда, в последовательном ходе псалмопения, в пророчествующем Давиде происходило некое новое озарение Святого Духа и некое приращение в даровании ведения, на пользу приемлющих пророчество; тогда, сдерживая свой глас, давал Он время разумению усвоить себе ведение мыслей, пораждаемых в нем Божественным озарением. И как нередко иные, или идя вместе дорогою, или разговаривая друг с другом на пирах, или в собраниях, если откуда либо приразится вдруг к слуху шум, прекратив речь, напрягают разумение разобрать сей шум, безмолвием доставляя слуху время узнать силу шума, а потом, когда производившее шум умолкает, снова заводят речи друг с другом: так великий Давид, служа истолкователем Духа, в сладкопении излагал, что прежде им было дознано; и если научался чему в продолжение речи, преклоняя душевный слух к оглашающему его духовно и заставляя умолкнуть свою песнь, каких исполнен бывал мыслей, те и выражал, снова слагая слова в сладкопение.
Посему «диапсалма», как скажет иной, давая определение слову, есть внезапно происходящий перерыв псалмопения для приятия свыше внушаемой мысли. Или иной определит лучше так: «диапсалма» есть учение, таинственно сообщаемое душе Духом, между тем как вниманием к сей сообщаемой мысли пресекается непрерывность песнопения, так что, по мнению многих, происходящее молчание служить знаком, что сила Святого Духа оставила пророчествующего. Посему–то некоторые толковники вместо слова: «диапсалма» в сих промежутках вписывают слово: всегда, чтобы из сего можно было дознать, что учение Духа Святаго было в душе непрестанно, а слово, истолковывающее мысли, внушаемые душе свыше, было не непрестанно; но Пророк одно изглашал с разумением, а другое только еще принимал. Посему, когда провещавал мысли, отпечатленные в разумении, тогда псалмопение продолжалось последовательно; но если душевный слух его оглашаем был чем либо еще более Божественным, то весь он был слухом, и песнь умолкала. Посему, так как Дух Святый глаголал в нем всегда и во время молчания; промежутки имело одно слово (сей–то промежуток толковники наименовали «диапсалмой»).
Но, по обозренному нами разделению псалмопения, во всей книге разлагаемому на пять частей, и из этого можно доказать, что придуманная нами причина истинна, именно же из того, что каждым отделом путеводимый им постепенно руководится всегда к высшему. Ибо последний только отдел от начала до конца в каждом псалме имеет непрерывное и нераздельное песнопение, нигде не разделяемое «диапсалмою»; это принадлежит каждому из псалмов, как называемому песнью «степеней», так и надписанному: «аллилуиа». Соблюдением такого правила, как думаю, доказывается, что в других псалмах, как низших, есть возможность поучать высшим мыслям, и в связь речи вводить то, что может возвести разумение к лучшему; а совершенство степеней и псалмов с надписанием: «аллилуиа», как достигшее до самой высоты примышленного ко благу, не имеет нужды ни в каком прибавлении, но само собою доведено до полного совершенства в добре. О сем свидетельствует и смысл надписания сих псалмов, именуя все надписанное хвалою Богу. Ибо как тела, проходя по возрастам, имеют предел, на котором останавливается естество, не допуская уже большего приращения, но все остальное время оставаясь в одном и том же положении так и при Божественном обучении возможны и возрастание и неподвижный предел, и обучающий младенчествующих и несовершенных умом, питая приличными снедями, млеком и подобным тому, приводит их в возрастание, а совершенным, у которых чувствилища души обучены другими уроками, предлагает твердую трапезу.
Посему, что в последнем отделе никакой не было нужды истолкователю Духа высшим сколько–нибудь мыслям научаться «диапсалмою», к разумению причины сему ясным указанием послужат здесь те части псалмопения, которые разделены «диапсалмою». Так в третьем псалме, где Пророк предсказывает замешательство и затруднение, произведенное восстанием врагов, отделив эту часть «диапсалмою», таинственно огласившему его с упованием изрек спасительное это слово: «Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою» (Пс. 3:4). И снова в промежутке сложив песнопение, после благодарственного оного изречения, какое произнес, говоря: «гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея» (5), научает, чем решится общая тягота человеческих бедствий, и при внезапном озарении Духом наученный таинству страдания Господня, приемлет на себя самое лице Владыки и говорит: «Аз уснух и спах, востах, яко Господь заступит мя» (6). Но в точности излагать смысл, заключающийся в каждом речении, будет делом излишним, потому что слово поспешает к другим предметам.
А как в данном понятии слова: «диапсалма» увериться надлежит на основании самых писании, то и в четвертом псалме есть «диапсалма», из которой узнаем то же самое. Ибо Пророк некоторым образом всему человеческому роду взывает, что суетно, чего домогаются люди, и «тяжкосердыми» именует сынов человеческих, которым любезна суетная и несостоятельная ложь; потом, умолкнув, показывает, в чем состоит истина. Ибо говорит: «уведите, яко удиви Господь преподобнаго Своего» (Псал. 4:4), словом: «преподобный», указывая, думаю, на Господа, как говорит и Моисей: «праведен и преподобен Господь» (Второз. 32:4). Потом предложив совет, как можно человеку проходить жизнь в чистоте, и быв судиею и решителем душевных помышлений, когда говорил: «яже глаголете в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся» (Пс. 4:5), и снова, возвратясь к себе самому, и сам услышал, и слышащим провозгласил уничтожение приношения по закону в жертву животных; ибо имеющему нужду в душевном очищении повелевает не надеяться на заклание бессловесных животных, но познать, какими жертвами благоугождается Бог. Почему говорит: «пожрите жертву правды, и уповайте на Господа» (6).
Так Пророк и в седьмом псалме наперед излагает свое собеседование с Богом, в котором оправдывается пред праведным Судиею, что злоба врагов не есть воздаяние за зло, им причиненное, но сами они первые виновники лукавства, и что он равно вменяет в грех, как самому начать злое дело, так и начавшему мстить тем же. Сказав это, преклоняет снова слух пред Открывающим великое таинство благочестия, в котором совершается Господом отмщение истинным врагам. Ибо полчище сопротивных не могло быть истреблено иначе, как воскресшим за нас Господом. Но воскресению, конечно, должна предшествовать смерть. Посему возвестивший воскресение Господне, вместе с тем открыл и соединенное с воскресением, разумею, таинство страдания. А Пророк, став посему Богодухновенным, по вселении в него Духа Святаго, говорит: «воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих» (Пс. 7:7), означая словом: «гнев» карательную силу праведного Судии, а последующими словами — уничтожение порока; потому что один только враг у естества, — то, что представляется противоположным добру, и это — порок, конец которого — уничтожение и превращение в ничто.
Посему Пророк, сказав: «вознесися в концах враг Твоих», дает видеть, что, поелику злоба врагов возымеет конец, то не останется более в жизни стремления к пороку. Ибо, как концом болезни бывает здоровье, и концом сна — пробуждение (спящий же, пока он во сне, не имеет конца сну, и больной еще не на пределе между недугом и здоровьем; но когда с недужным последует выздоровление, а с спящим пробуждение, тогда говорим, что они при конце того, в чем каждый из них находился, один — сна, другой — болезни): так и здесь, приведение человеческого естества в блаженное состояние Пророк наименовал «концем врагов».
В рассуждении слова: «диапсалма» одну только во всей книге псалмов примечаем перемену в одном девятом псалме. Ибо не просто сказано: «диапсалма», но: «песнь диапсалмы». Хотя, может быть, речь сия извращена по какой–либо ошибке писца, так что должно лучше читать: «диапсалма песни», а не: «песнь диапсалмы», однако же, поелику надлежит иметь пред глазами изображенный в Иоанновом Апокалипсисе суд на изменяющих Божественные Писания прибавлением или убавлением; то, сохраняя преданный нам порядок речи в сей части Писания, попытаемся отыскать, ежели есть, причину, по которой написано: «песнь диапсалмы». Итак, соображаем, что от сей «диапсалмы» и до следующей была одна «диапсалма», когда Дух Святый влагал в Давида пророчественные мысли. Но, не как в прочих случаях, и здесь это происходило.
Ибо в других случаях не вместе совершалось и оглашение, таинственно производимое в душе Духом, и возвещение сообщенного Пророку ведения, но пока сердце обучалось внутренно, слово безмолвствовало. Здесь же совокупно и в одно время совершаются два действия; Пророк в то же время, как пророчествует, приемлет от Духа наставление в высших сведениях, и продолжение песнопения не пресекается, но соприсущий органу Пророка Дух Святый Сам, по Своему изволению, приводит в движение издающий глас чувствилища, чтобы и песнь не умолкала, и учение не встречало препятствия в звуках; потому что самое учение Духа было песнь, как и называет это Симмах.
Но как таковая вставка слова встречается во многих местах псалмопения, то для получивших в сказанном общее напутие к уразумению слова: «диапсалма» достаточно и сего будет, чтобы не перебирать уже в подробности всех мест, где есть слово: «диапсалма». Ибо излишнее и вместе напрасное дело, останавливаясь на известном, длить слово рассуждением о том, что признано всеми.
Глава 11. (О порядке псалмов и о порядке восхождения душ человеческих)
Но иной основательно спросит и о том, почему порядок псалмопения не согласен с последовательностью истории. Ибо, если кто обратит вниманье на расстояние времени, в которое продолжалась жизнь Давидова, и на последовательность событий; то не найдет, чтобы расположение псалмов согласовалось с порядком истории. Посему, обращаясь к первой цели нашего слова, скажем, что ни о чем этом не было заботы у нашего Учителя; а Учителем, думаю, должно наименовать Духа Святаго, как говорит Господь: «Той вы научит всему» (Иоан. 14:26). Итак, Сим руководителем и наставником душ признается делом второстепенным все иное, попечение же у Него только о том, чтобы спасти блуждающих в суете жизни и привлечь к жизни истинной. Ибо для всякого дела, совершаемого с какою либо целью, есть некий естественный и необходимый порядок, при котором последовательно с успехом исполняется желаемое. Так у каменотесцев, хотя цель работы та, чтобы камень уподобить какому либо существу, однако же дело начинается не вдруг с конца, а напротив того, искусство вводить необходимый некий порядок, без которого желаемое не может быть сделано. Ибо сперва надлежит отделить камень от однородной с ним скалы, потом обсечь на нем бесполезные выпуклости, препятствующие тому, чтобы он уподобился предположенному, и таким образом обработать камень, выдолбив те его части, по отнятии которых в остальном начинает быть видим образ животного, которое изобразить старается художник. После сего, надобно какими либо более тонкими и слегка действующими орудиями очистить и выровнять шероховатость камня, и тогда уже остальному сообщить вид первообраза, наконец, поверхности камня придать лоск и большую гладкость, и сообщить произведению такую красоту всеми средствами, какие знает искусство. Таким же образом, поелику все естество наше от пристрастия к вещественному как бы окаменело, то слово, которое выделывает из нас первобытное Божественное подобие, неким путем и последовательно достигает конца своей цели. Прежде всего отделяет нас, как бы от какой–то однородной с нами скалы, разумею порок, с которым съедились мы какою–то постоянной дружбою. Потом обсекает излишки вещества; после сего начинает тому, что обделывает, придавать вид подобия образцу отнятием препятствующего сходству, и, таким образом, обучением мыслям более тонким, очищая и выравнивая наше разумение, напечатлением добродетели воображает в нас Христа, по образу Которого и первоначально мы были, и снова сотворены.
Посему какой же порядок в обработке наших душ? В первом отдел псалмопения, отлучены мы от порочной жизни, а в следующих отделах непрерывною последовательностью уподобление доведено до совершенства. Посему порядок псалмов строен, потому что, как сказано, Духу желательно научить нас не простой истории, но души наши образовать добродетелью по Богу, как требует сего последовательное уразумение написанного в псалмах, а не какое нужно в исторической последовательности. Ибо, как в представленном нами примере каменотесания много орудий потребно искусству для обработки изваяния, и орудия сии не сходны между собою по наружному виду, но иные к концу сделаны винтообразными, другие имеют острее, на подобие пилы, другие же устроены в виде резца, иным придан вид полукружия; из всего же этого и подобного сему служит художнику каждая вещь в свое время: так и истинному искуснику, художнически приводящему души наши в Божественное подобие, как бы вместо неких каменотесных орудий, уготованы псалмопения; употребление же сих орудий приводит в порядок потребность делания. И художнику не для чего любопытствовать, какое из орудий выковано прежде другого, чтобы приготовленное прежде и в деле тесания употребить первым. Ибо кто обращает внимание на потребность, тот первым и вторым часто употребляемым делает то орудие, которое присоветует потребность.
Посему, идет ли речь в первых псалмах о Голиафе и Сауле, а в последних об Авессаломе, об Урии, о «словесех Хусиевых» (Пс. 7:1), о встрече с Вирсавиею, нет до сего дела тому, кто образует ими сердца наши, но только бы от каждого псалма было какое либо содействие к нашему благу; сие одно имеет в виду и последовательность в деле спасения. Наилучшим порядком делается последовательность и порядок в том, что содействует нам в этом.
Так первый псалом удалил человека от сродства со злом, второй, предвозвестив явление Господа во плоти и показав, что блаженство наше — упование на Него, указал, к кому должны мы прилепиться.
Третьи псалом предвещает предстоящее тебе от врага искушение, так что тебя, помазанного уже на царство за веру и соцарствующего с истинным Помазанником, намеревается свергнуть с сего достоинства не кто либо внешний, но тот, кто от тебя самого происходит. Ибо не со стороны заимствованную имеет над нами силу неприятель, и не бываем мы свергнуты с своего достоинства кем другим, если сами при тяжких муках не соделаемся отцами злого порождения, которое угрожает нашему царству и восстает на него, тогда одерживая над нами верх, когда осквернит сожительствующих с нами, делая открытым срам, то есть, когда объявит всем о растлении в нас добродетелей, с которыми сожительствовали мы некогда. Посему, поелику в первых псалмах не укреплены еще наши силы к борьбам, чтобы при нападениях противника лицом к лицу вступить с ним в битву; то слово показало боримым, что не маловажно для безопасности избегать нашествия подобного врага, примером из надписания (Пс. 11) научая тебя, что, когда родится у тебя Авессалом, власатый пороками братоубийца, вознеистовавший на честный твой брак и на ложе не скверное; тогда бегай, как говорит Господь, из города в город (Матф. 10:23). Ибо бегством от лица такого сына — Авессалома, тому, кто собрал свои силы при помощи древа, привязавшего к себе лукавые власы Авессаломовы, можно тремя стрелами умертвить врага.
Конечно же, явен для тебя смысл, представляемый историею загадки, то есть, как значение древа, к которому пригвождены были власы порока, что именует Апостол рукописанием грехов, говоря: «и то взять от среды, пригвоздив е на кресте» (Кол. 2:14), то есть, на древе, так и значение трех стрел, в средину сердца поражающих врага, чем наносится и смерть врагу последнему.
Чтобы иметь нам надлежащее понятие о стреле, вникнем в пророчество Исаии, который говорит от лица Господа: «положи Мя яко стрелу избранну, и в туле Своем» вознес «Мя» (Иса. 49:2). Посему стрела сия есть живое Слово Господне, «острейшее паче всякаго меча обоюду остра» (Евр. 4:12), слово же есть Христос; и в сем имени исповедуется таинство Троицы. В Нем познаем и Помазанного, и Помазавшего, и Того, Кем помазан. Ибо если недостает одного из трех, то не составляется и имя Христово. Посему имя сие, когда вознесено оно в туле нашем, то есть, когда верою приемлется в душе нашей (потому что туле слова есть душа); тогда делается губительным для восстающего на нас и преследующего нас, кому уничтожение на древе.
Посему после благовременного бегства от восстающего (который по естеству один, но делается множеством при худом вспоможении), и после сказанного: «умножишася стужающий ми: мнози востают на мя» (Пс. 3:2), и после всего того, что далее заключает в себе псалмопение, полагается уже начало побед. Ибо благовременное бегство от восстающих делается причиною победы над врагами. Посему последующее псалмопение имеет надписание: «в конец». А конец всякой борьбы — победа (как наше слово предварительно установило сие значение). И кто однажды изведал сию победу, у того победы над врагами успешно следуют одна за другою; потому что в первой победе, когда житейские сладости входили в состязание с душевными благами, в тебе наклонность к лучшему препобедила вещественное обольщение. Осудив ищущих суетного и любящих ложь, пристрастие к видимому обменил ты на вожделение невидимого.
В следующем псалме побеждаешь другим способом. Ибо двое вас состязающихся между собою об истинном наследии, и другой выставляет на вид закон, а ты веру; правдивый же подвигоположник тебе предоставляет награды за победу над ним, так что чистое состояние души делается для тебя восходом солнца, к удалившемуся от тьмы приводящего начало дня, что псалмопение именует словом: «заутра» (Пс. 5:4). Таким образом, у подвижника всегда следует победа за победою, и преспеяния в следствие победы делаются непрестанно большими и славнейшими.
Еще по порядку следует другая победа, одерживаемая по указанному прежде сего. Ибо кто признал наследие, тот памятует о «осмом» (Пс. 6) дне, который служит пределом настоящего времени и началом будущего века. Особенность же осмого дня та, что пребывающим в оный не дается уже времени на приуготовление добрых или злых дел; но чего семена посеет кто себе самому делами своими, рукояти того и воздадутся ему в замен. Посему, кто упражнялся в одержании сих побед, тому псалом вменяет в закон покаяние приносить здесь, потому что во аде старание о подобном сему не исполнимо.
Еще к новым борьбам отсылает слово; снова умащает пред приражением искушений. Ибо тот же неприятель, этот Авессалом, как бы возродившись от нас, восставляет ту же нами уготовляемую брань, в которой обращает в бегство уготовляющего нам смерть наше благоразумие в деле, лучше же сказать, Божия помощь. Ибо Пророк, причину добрых для него последствий от слов Хусиевых приписав Богу, воздает тем благодарение. Но излишним будет делом в точности излагать тебе историю, как этот Хусий, верный между оруженосцами Давидовыми, вмешивается в число друзей Авессаломовых, и у похитителя власти приобретает более доверия, нежели совет Ахитофелов, от чего произошло, что, когда в совет одержало верх решение Хусиево, подававшей Авессалому гибельный для Давида совет сам на себя кладет удавку. Стоило бы внимания к жизни добродетельной применить то, что в истории загадочно; почему спасающее нас определение делается удавкою сопротивнику? и сие спасительное определение описывается, как в истории, так и в псалмопении? Но наша цель в порядке псалмов выразуметь ту связь, которою приводимся к благу. Поэтому обратим здесь внимание на определение, губительное для подающего нам коварный совет. Какое же это определение? Равно вменять в порок — и начинать неправду, и мстить начавшему. Ибо Давид признает себя достойным крайних бедствий, и сам себе определяет наказание, если окажется, что он как бы в обмен за зло вознаграждал злом, и за сделанные ему прежде обиды воздавал тем же, что сам получил.
И таким образом Пророк после сих борений снова оказывается победителем. Ибо следует надписание, предуказующее «конец: о точилех» (Пс. 8); а конец борьбы есть победа. Но распространять снова речь о смысле сего выражения: «о точилех», будет делом излишним, когда достаточно раскрыть оный при исследовании его в своем месте. Пророк, как после первого бегства от Авессалома за различение дел истинных с суетною заботою удостаивается победы, так и теперь, после подобных борений, пользуясь споборающим сопротивника словом: «о точилех», делается победителем за сокрушение вместе «врага и местника» (7), который потому и именуется и «врагом и местником», что самые приманки его ко греху служат для чувствующих всего тягчайшим наказанием, и то самое, чем, обманывая, привлекает он человека к общению с злом, есть несноснейший род мучения. Так обеясняет мысль сию Божественный Апостол, сказав: «возмездге, еже подобаше прелести их, в себе восприемлюще» (Рим. 1:27). Ибо какое другое тягчайшее наказание могло бы быть придумано за нечистоту студа, какой сами на себе содевают делатели студа? Посему ты, собственною своею жизнью сокрушивший силу такого «местника», который предающегося пороку наказывает соучастием его в пороке, обрати взор на небеса, и на великолепие, которое превыше небес, и на достоинство естества нашего, над кем оно начальствует и с кем поставлено в один ряд. Ибо одним и тем же и над бессловесными владычествует, и, сравниваемое с Ангелами, не многим умалено в равенстве с ними. Разум причиною тому, что имеет и начальство над бессловесными, и близость к Ангелам.
Еще следует способ новой победы, когда ты, Пророк, прешедши видимое, вступаешь с Словом в сокровенное; а Слово — Сын. И достаточно уже обученный предшествующими победами, псалмопевствуешь о «тайных сына» (Пс. 9) в благозвучном и стройном созерцании, и снова, победив в тайне устрояющего нам козни зверя, преследуешь так, чтобы врагу не оставалось больше повода хвалиться перед нами. «Да не приложит ктому величатися человек на земли» (Пс. 9:39). Тогда, по причине последовательно одержанной тобою победы, имея еще совершеннейшее упование на Бога, говоришь: «на Господа уповах» (Псал. 10:1). А в последующей за тем победе снова припоминаешь «об осмей» (Пс. 11), когда истребляются «языке велеречивый и устны льстивыя» (Пс. 11:4) и неистовство против Бога. Но сохранены будут «от рода сего и во век» (8) не ходящее окрест нечестия, а держащиеся прямого пути, «егоже обновил есть нам» Бог — «путь новый и живый» (Евр. 10:19–20).
И какая надобность говорить о каждом псалме? Достаточно тебе и сего напутствия, предуказующего дальнейший путь к совершенству в порядке и надписании, и псалмов, после того как к таковому разумению немало помогает нам в предшествующих словах предложенное истолкование надписаний.
Глава 12. (После удаления от зла ублажается познание добра, а также толкование псалмов 47:48)
Но как кончился первый отдел восхождения посредством псалмов; в сороковом псалме снова делается повторение о блаженстве, и псаломское слово иначе, нежели в начале, определяет нам блаженство. Ибо в начале блаженным признано удаляться от зла; а здесь ублажается познание добра. Но естество добра, или если можно найти какое высшее сего речение или понятие, есть сей единородный Бог, Который «нас ради обнища богат сый» (2 Кор. 8:9). Его–то нищету во плоти, показанную нам в евангельском сказании, предвозвещает здесь слово, ублажая с разумением познавшего оную нищету Того, Кто нищ по образу раба, но благословен по естеству Божества. Ибо слово, в начале псалмопения наименовав Его «убогим и нищим» (Пс. 40:2), в конце отдела говорит: «благословен Господь Бог Израилев от века и до века: буди, буди» (14).
Итак, достигший сей высоты начинает новое восхождение. Ибо, оставив отца Корея, который по гордости вознесся против священства, и за сие попален огнем, поглощен разверзшеюся землею, и за грех соделался преисподним, верою усыновляет себя истинному Отцу, уразумев, сколько разности в этом — соделаться чадом Божиим, или называться сыном отступника Корея. Посему, улучив конец победы, познав, сколько разности между сим Отцем и отцем лукавым, поглотив и истребив в себе всякую зверскую и ядовитую мысль, подобно тому, как естеству еленей существенно принадлежит сила истреблять пресмыкающихся, уподобляется еленям и жаждою, и жаждет Божественных источников (а это — само Божественное естество, единое в существе и созерцаемое в Троице). Ибо говорит: «имже образом желает елень на источники водныя: сице желает душа моя к Тебе Боже» (Пс. 41:1). Потом утоляет жажду, соединенную с пожеланием, и поспешая улучить желаемое, даже непродолжительное замедление в приобщении благ вменяя в бедствие, в средине и в конце псалмопения говорит: «вскую прискорбна еси душе моя?» и: «уповай на Бога» (6:12), потому что действительно нам обещано благое услаждение Божественным упованием.
И таким образом Пророк переходит к следующему псалму, в котором от жертвенника Божия делается юным (Пс. 42:4); а в следующем снова ведущих род от Корея делает победителями, показывая, что худородством отцов не ослабляется добрая слава пред Богом. Причину же истребления врагов приписав в сем псалмопении Богу, когда говорит: «спасл бо еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси» (Пс. 43:8), переходит к песни о возлюбленном, чтобы бывшие сперва сынами отступника, а потом соделавшиеся победителями лукавого, пришедши в разум, достигли конца победы. Ибо сказано: «в конец, в разум, песнь о возлюбленнем» (Пс. 44:1). Из сей песни узнаем, кто Тот, Которого престол от вечности превыше всех существ, и кто та дева, которая уневещивается Ему для сожительста, не иначе удостоенная сей чести, как уже по забвении отца своего (11).
И сию песнь посвятив возлюбленному, снова слагает Пророк победную песнь о «сынех Кореовых» (Пс. 45:1), продолжая речь о предметах таинственных. Ибо наименование псалмопению: «о тайных», и под сим именем описывается в слове и шум вод, и движение народов, и призвание царей, и колебание земли, и сказано, что «Господь» всякой силы «с нами» (8:12). А всем этим Пророк предвозвещает пришествие Господне во плоти, когда и все естество издает глас, и с места на место переходят горы, — эти земные мудрования порока, о которых древле думали, что они неподвижны и непреложны; и река веселья «веселит град Божий, и селение Свое освящаете Вышний» (5), и все, что следует в том же порядке, и в чем слово сими загадками предвозвещает тайны.
И еще к новой победе переходит слово; ей рукоплещут и радуются все народы, потому что «взыде Бог в воскликновении» (Пс. 46:6). Конечно же, ясно для тебя слово: «восхождение», по толкованию Павла, который говорит, что невозможно взойти, если не предшествовало нисхождение (Ефес. 4:9). Повелев же всем петь разумно (Пс. 46:8), Пророк переходит словом к более возвышенному состоянию, предметом песни соделав «вторый» день «субботы» (Пс. 47:1). А день сей, если смотреть на него по первоначальному устроению мера, есть приуготовление неба и тверди и отделение пренебесных вод от наземных. Если же обратишь взоры к Евангелию, то подлинно он уготовал нам небо; потому что небо называет Бог твердью; а Павел представляет себе утверждением веру во Христа. Ибо тогда подлинно созидается для нас по вере небо, когда прошла печаль субботы, и соделалась для нас верною тайна «нареченного Сына Божия в силе, по Духу святыни, из воскресения от мертвых, Иисуса Господа нашего» (Рим. 1:4), Который подлинно «велий Господь и хвален зело» (Псал. 47:2), и что еще по порядку содержит в себе псалом, и этот Божественный град, который именуется у Пророка «горою благокоренною, радованием всея земли — горами сионскими» (2.3), о котором наипаче повествуется всего более чудное, что бывший некогда «ребрами северовыми» ныне стал «градом Царя великого», и что «Бог в тяжестех его знаем есть» (3:4), чем ясно указуется в слове на то чудо, какое видим в Церкви. Ибо северный край земли мрачен и холоден, всегда остается не освещенным и лишенным солнечных лучей. Посему–то сопротивная сила разумеется под именем севера.
Итак, тот же город, который некогда находился на севере и был ребром его, переведенный из жизни темной и холодной, соделался градом Божиим и местопребыванием царского жилища. «В тяжестех его знаем есть Бог. Тяжестями» же Пророк называет объем зданий, построенных в виде четвероугольников, которыми гадательно означаются твердые и высокие столпоздания добродетелей, усматриваемые в душах святых, так как только в держащихся такого образа жизни познается Бог. С предложенным прежде согласно и следующее: «яко царие собрашася в нем» (5); потому что собрание не рабствующих, но царствующих обитает в Божественном оном граде: «тии», сказано, «видевше тако, удивишася» (6).
Пророк объявляет и причину сего удивления; те которые недостойно населяли прежде сей град, когда был он ребрами северовыми, «смятошася, подвигошася: трепет прият я». И не трепет только, но и «болезни яко раждающия» (7). Все сие, говорит Пророк, произведено в них духом бурным, сокрушившим корабли отступления, худо плавающее по морю житейскому. Ибо сказано: «духом бурным сокрушиши корабли варсийския» (8). Но кто содержит в памяти историю Деяний, тому не неизвестно «дыхание бурно» (Деян. 2:21), какое ученики познали «в горнице» (1:13); и кто внимательнее читал пророчество Ионы, конечно знает, что отступившей от Бога ищет корабля, плывущего в Фарсис. Потом псаломское слово, как бы разделившись на два лица, в первых речениях принимает на себя лице начинающего речь, а в последующих произносит сказанное принявшими слово. Ибо, говорит Пророк, соглашаясь в истине прежде произнесенного, как бы узнав сказанное кем либо другим: «якоже слышахом, тако и видехом во граде Господа сил во граде Бога нашего» (Пс. 47:9), Потому с наслаждением увидевших, что слышали, представил подающими совет друг другу. А совет был таков: «обыдите Сион, и обымите его, поведите в столпех его: положите сердца ваша в силу его и разделите в силу его, домы его» (13:14), и что еще содержит в себе псалом.
После сего проповедь, слова распространяется по порядку по всей земле, и как до смешения языков у всех были «устне едине и глас един» (Быт. 11:1): так и теперь все народы, вся вселенная, все люди делаются единый слух и единое сердце, потому что всех оглашает единое слово. Ибо, совокупив в одно собрание весь человеческий род, и целый мир претворив в одно зрелище, всем вообще возглашает слово, говоря: «услышите еси языцы, внушите еси живущии по вселенней, земнороднии же и сынове человечестии», богат ли кто в вас, или убог (Пс. 48:2–3). Сими тремя сочетаниями Пророк объемлет вообще всякое различие в жизни человеческой. В первом сочетание сказует: «еси языцы и живущии по вселенней», чтобы именем языков означить местные ограничения, а следующим выражением — обитателей сих мест. Сказав же: «земнороднии и сынове человечестии», людей плотских, перстных и менее разумных, отличает от спасаемых и имеющих в себе некую отличительную черту естества человеческого; а собственно отличительная черта человека — подобие Божеству. Неравенство же житейское по бедности и богатству есть самая общая причина различного и многообразного несходства в делах человеческих.
Но кто этот, вещающий слово в таком многочисленном и разнородном собрании слушателей? Кто иной, кроме свидетельствующего о Себе, что «возглаголет премудрость и разум» (4)? А глаголет это, кто имеет духа премудрости и разума, эту великую благодать, в которой человек преуспевает внимательностью и размышлением; ибо Пророк, сказав, что не отверзет уст, пока, не приклонит слух к предлагаемому слову, говорит: «уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум» (4).
И сперва «приклоню в притчу ухо мое», а тогда уже «отверзу во Псалтири ганание мое» (5). Посему какой же это разум и какое это «ганание»? Тварь Божия, говорит Пророк, не видела приготовления какого либо лукавого дня, как свидетельствует слово миробытия, но грех день радования соделал днем страха и наказания, которого могли бы мы не бояться, если бы блюдущий нашу пяту змий, которому имя беззаконие, не кружился на жизненном нашем пути и, пресмыкаясь по оному, не соделал его негладким и страшно колючим, усыпав повсюду разными чешуями страстей. Потом, все псалмопение разделив на две части, Пророк в первой части предлагает совет не иметь в виду никакого другого Избавителя. Ибо говорит, что «не избавит ни брат» ни другой какой «человек», но каждый будет сам о себе умолять, если «даст Богу измену за ся, и цену избавления души своея» (8:9). Имеет же Пророк в виду ту заботливость, с. какою в этой жизни гоняемся за суетным, обратить для нас в совет к презрению того, о чем заботимся. Почему люди проводят жизнь в безрассудных трудах, как будто надеются жить всегда? Почему не чают себе смерти и тления те, которые видят пред собою умирающих? Подлинно неразумны и безрассудны те, которые видят, что после этой жизни другим оставят свое богатство, а сами навсегда поселятся в гробах, если имен своих возвышенною жизнью не вписали на небесах, но, возжелав быть именитыми на земле, соделали себя безъименными в горнем граде. А всему этому причиной то, что человек не разумеет собственной своей чести, но добровольно вовлекается в скотские удовольствия, будучи предан гортани и чреву, а по чреве и скверне. Это составляет часть первого отдела в псалме. Остальная же часть содержит в себе обвинение в ином; но опять тем же изречением оканчивается слово. И сим, думаю, пророчество дает нам видеть любомудренное свое учение о первой причине доступа к нам зол, — а именно, что человек уподобился скотам страстями, свойственными бессловесным.
Да и по уврачевании нашем от такого зла, совершенном благодатью Призревшего милосердо на род человеческий, люди, снова оставив доброго Пастыря, пасутся смертью, уклоняясь не на небесную, но на адскую пажить и делаясь овцами ада. Ибо сказано:»яко овцы во аде положени суть, смерть упасет я» (15). Так грехом снова производится в нас нечувствительность к чести, даруемой нам благодатью, и стремление к бессловесной жизни. Ибо все, совершающееся вне истинного разума, есть бессловесие; а бессловесие и бессмысленность свойственны скотам.
Глава 13. (Толкование 51, 52, 53, 54 псалмов)
Излишним было бы делом подробно писать о содержащемся в псалмопении, разбирая с точностью каждое выражение; ибо желающий с великим удобством может из сказанного уразуметь и не объясненное; почему, думаю, не должно речи придавать длинноту многословьем. Разве из доселе исследованного необходимо повторить то одно, что великий Давид два благодеяния оказывает естеству человеческому, одно тем, что иносказательно предъизображает наше спасение, а другое тем, что указывает людям способ покаяния, для преспеяния в этом, как бы какому искусству, обучая пятьдесятым псалмом, которым уготовляется для нас новая победа над сопротивником.
Ибо уметь очищать себя от худого — значит стать готовым, и иметь предлог к непрестанной победе над врагом; потому что у нас в жизни сей ведется непрерывная «брань к млродержителю тьмы сей, к духовом злобы поднебесным» (Ефес. 6:12). А как при всяком приражении искушения имеем у себя одну только защиту — покаяние, то воспользовавшейся им с преспеянием во всякое время бывает победителем всегда нападающего.
Но при этом, хотя в надписаниях есть историческая непоследовательность; однако же смысл связуется последовательно. Ибо дело с Вирсавией и Урием гораздо позднее повествуемого об Идумеянине Доике. Последнее происходило в начале самовластья Саулова, а первое случилось незадолго до конца царствования Давидова. Но Дух не заботится в слове о временном и плотском порядке дел. Ибо какая для меня великая польза сперва узнать об Идумеянине, а потом приобрести сведение о Вирсавии? Какая в этом добродетель? Какое восхождение к лучшему? Какой урок для изучения высших пожеланий? Но если, дознав тайны пятидесятого псалма, какое слово содержит в глубине своей, вместе с сим изучу то врачевство, какое к сокрушению противника дано нам в учении о покаянии, так что чрез это приобрету навык и умение к всегдашней победе над врагом; то смотри, сколько буду способен к дальнейшему по порядку восхождению, одерживая победу за победой.
Прочитаю же тебе историческое надписание, изложенное в такой связи: «в конец, разума Давиду, внегда приити Доику идумейску, и возвестити Саулу, и рещи ему: прииде Давид в дом Авимелехов» (Пс. 51:1.2). Из сего научаюсь, что тогда сие приводит к концу победы, когда моею жизнью, как у великого Давида, управляет разум; и тогда всего более огорчаю Доика, этого противника моему спасению, пребывая в дому иерея, когда сей прислужник мсков, не имея более возможности сойтись со мною лицом к лицу, тайно составляет против меня злоумышление, донося моему убийце о моем пребывании у иерея.
Да будет же явно, что такое и эти мски, к которым приставлен сей Идумеянин, пасущий бесплодную породу, для которой не нашло себе места Божье благословение, в начале вложившее в тварь способность к размножению, как сказано: «раститеся, и множитеся» (Быт. 1:22); потому что размножение порока не от Бога; как и у мсков не друг от друга преемство рода, но всегда природа вновь производит сие животное, от себя ухищряясь и вводя в бытие не существующее в числе тварей. Без сомнения же, из сказанного явствует, какую цель имеет в виду слово. Ибо если вся, «елика сотвори» Господь, «добра зело» (Быт. 1:31), а меск вне списка вошедших в число тварей, то явствует, что имя сие взято в историю для указания им на порок. Посему не от Бога имеет существование, да и став тем, что он есть, не достаточен в силах к продолжению собственного своего бытия. Ибо как не само себя соблюдает естество мсков, так и порок не остается навсегда хранимым сам собою, но всякой раз бывает порождаем иным, когда благородное, бодрое, скорое и высоковыйное в нашем естестве поползается в вожделение сочетания с безгласным и бессловесным.
Итак, этот иноплеменник Доик, служащий Саулу вестником о Давид, этот пастух бесплодного стада мсков, не иной кто, как злой ангел, различными греховными страстями привлекающий к худому человеческую душу, на которую, когда увидит, что она в дому истинного иерея, тогда, не имея возможности поразить человека брыканиями мсков, доносит «князю злобы духа, иже действует в сынех противления» (Ефес. 2:2). Но укорененный, «яко маслина плодовита в дому Божии» (Пс. 51:10), отвечает мучителю теми словами, какие слышали мы в псалмопении, которое говорит: «что хвалишися во злобе сильный беззаконием» (3)? Ты, у кого «язык, яко бритва изощрена» (4), у всякого, на кого бывает возложена, похищающая благолепие власов и остригающая «седмь плениц» (Суд. 16:19) кудрей, в которых наша сила. Конечно же, из седмеричного числа, так как Исаия исчислил седмерично подаваемую благодать Духа, составишь себе понятие о духовных «пленицах», за острижением которых, как было с Сампсоном, следует утрата очей, и то, что человек делается посмешищем для Филистимлян, когда упиются. Но Пророк, сказав, какими чертами описываются отличительные свойства сильного в пороке, присовокупляет, что Бог будет истреблять его до «конца», пока не «восторгнет» ныне, и не «преселит» от Божественного «селения», и «от земли живых» не ископает корней злобы и горечи его (7), и не совершится все то, что псалмопение в след за сим содержит в себе относящегося к той же мысли, и чем, по словам Божественного Апостола, усовершается твердость «укорененных верою» (Кол. 2:7). Ибо Пророк говорит: «аз же яко маслина плодовита в дому Божии: уповах на милость Божию во век» (Пс. 51:10), и в продолжение времени большее еще этого, которому мера — беспредельность, и которое Пророк именует: «век века»; а сим и благодарение Богу обещается приносить вечно, говоря: «исповемся Тебе в век, яко сотворил еси» мне то, за что должно благодарить. «И терплю», — продолжает, — «имя Твое» (11), потому что терпение для преподобных Твоих есть благо.
Но как многоцветный отблеск по разнообразию цвета красок нечувствительно переходит из одного цвета в другой, неприметно смешивая между собою разноцветные лучи: так можно видеть, что сие псалмопение крайний луч мысли последовательно сливает с началом светлости следующего псалма, так что среда между псалмами делается неощутительною, потому что смысл предыдущего псалмопения и смысл последующего сливаются сами собою. Ибо, «яко маслина плодовита», укоренившийся «в дому Божии», положивши в себе незыблемое и неподвижное утверждение веры и надежду на милость Божию благодарности сраспростерший с беспредельностью веков, приходит в раздражение на безумствующих, у которых верх безумия — об истинно Сущем, о Том, Кто над всеми и во всех, сказать: нет Его. При стольких и столь сильных доказательствах (рассуждает Пророк, и прежде всего указует на Божие о людях промышление; почему твердость надежд так непреложна, что желание исполнения, простирающееся на вечность веков, не утомляется), почему говорит «безумен в сердце своем: несть Бог; растлеша и омерзишася» в таковых начинаниях ума (Пс. 52:2). Ибо отпадение от подлинно Сущего действительно есть повреждение и разрушение существующего. Возможно ли кому существовать, не будучи в Сущем? Возможно ли кому пребывать в Сущем, не веруя в Сущего, что Он есть? Но подлинно Сущий, без сомнения, есть Бог, как великому Моисею свидетельствует о сем видение Богояления. Посему, кто в мысли своей не дает места бытию Божию, говоря, что Бога нет, тот, став вне Сущего, растлил собственное свое бытие.
Посему Пророк говорит: поелику «уклонишася» от Бога, то немедленно «еси непотребни быша» (4), подобно какому–то брошенному сосуду, признанному ни на что не годным. А что негодно для хорошего, то своею непригодностью для лучшего ясно показывает пригодность для худого. Итак, посему–то Господь с «небесе приниче на сыны человеческия» (3). А таковое слово предуказует Господне сопребывание с людьми в то время, когда предводителям в неверии, священникам, фарисеям, книжникам, с покорностью последовали все. Ибо они хульными своими зубами терзали и поедали народ. Потому сказано у Пророка: «тамо устрашишася страха, идеже не бе страх, снедающии люди Моя в снедь хлеба» (5:6), подобно как и страждущие недугом водобоязни, для которых, если сделается возможным принять в себя воды, для страждущего будет сие врачевством от недуга.
Но они боятся почему–то предлагаемого в спасение, и чуждаются спасающего, по страху не погибнуть, уготовляя себе погибель. Так и иудеи, когда взывает к ним Источник: «аще кто жаждет, да приидет ко Мне, и пиет» (Иоан. 7:37), поелику чувствилища души были у них предварительно объяты неистовством неверия, «устрашишася страха, идеже не бе страх», отвращаясь от спасительного пития, не зная того, что в роде праведных бывает Бог, дающий «от Сиона спасение Израилю, и пленение людей Своих» от лукаво пленившего нас грехом, снова возвращающий к Себе (Пс. 52:7), когда в веселии и радовании истинный Израильтянин и духовный Иаков.
Посему таков смысл псалмопения, как, по сказанному теперь, можно находить в выражениях сего псалмопения. Но с сим смыслом согласно и надписание псалма. Ибо надписание дает видеть, что псалмопение сие есть победная песнь, разумно возглашаемая ликом. Ибо сказано: «в конец, о Маелефе, разума Давиду» (Пс. 52:1); а Маелеф толкуется лик. И вместо сего: «в конец» иные толковники написали: победная песнь.
Последовательно за сим поступающее далее слово, снова соображаясь с понятиями, приобретаемыми по мере преспеяния, применяет к ним сказанное в истории загадочно. Когда бездейственным против нас делается Доик, этот Идумеянин, пасущий в себе бесполую породу мсков (а и в предшествовавшем слове сказано то, что животным сим означается грех; потому что и грех есть плод бесполого оного древа, которое в Писании именуется «добрым и лукавым» (Быт. 2:9), добрым; так как грех, за которым гонятся плотолюбцы, как за добром, прикрыт приманками удовольствия, и так же лукавым; ибо, за чем гонимся теперь, как за прекрасным, то приводит к горькому концу: равно как и в представляемом животном можно видеть знаки двух пород, коня и осла, так что меск есть вместе конь и осел, но не раздельно тот и другой, а в одном животном два, потому что двоякая природа животных соединилась к произведению сего животного); посему, когда доносчиком мучителю о пребывании нашем у иерея соделается оный умопредставляемый нами иноплеменник; а потом сего величающегося порочностью и приобретшего силу в беззаконии, при помощи Божьей, лишим мы владычества и, исторгнув из земли живых, искореним его; соделавшись маслиною, увеселяемою и обременяемою множеством плодов, и, будучи усилены надеждою на Бога, ликовствуя, воспоем победную песнь над побежденным: тогда по всему праву поступим в высшее, в подлинном смысле, по словам Песни, «скача на горы, и прескача на холмы» (П. Песн. 2:8). Итак, что же это за гора, на которую теперь перескакивает слово с прежней горы мыслей? Иная снова победа, и иные по победе «песни разума», слагаемые «Давиду». Вызывает же здесь на подвиги не стадо уже мсков, но племя Зифеев, которые, заседши в теснинах знойного восхождения, когда не возмогут воспрепятствовать нам совершить шествие теснинами, тогда снова поспешат к Саулу, опечаленному нашим спасением. Ибо сказано: «в конец в песнех разума Давиду, внегда приити Зифеем, и рещи Саулови: се Давид скрыся в нас» (Пс. 53:1–2). Конечно же, кому не неизвестна история, тот знает некое тесное и знойное место, упоминаемое в этой стране. А под сим утесненным проходом понимаем Евангельский путь царства, на котором преграждают шествие Зифеи, то есть иноплеменное полчище демонов, эти служители сопротивной силы, и который находят немногие, отвращающиеся пути широкого. Буквально же история сия читается так: «не се ли Давид скрыся у нас в Мессаре во узинах на холме?» (1 Пар. 23:19)
Ибо действительно в сей тесноте укрываются живущие по Богу. А путь сей указует нам Новый Завет, с помощью которого можно взойти на самую высокую вершину горы, в историческом рассказе именуемую холмом. Посему, когда беспрепятственно проходим оный тесный путь, Зифеи о нашем спасении доносят мучителю; а мы имени Спасшего предоставляем власть судить нас ко благу, говоря: «Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми» (Пс. 53:3). Ибо совершившееся изображено в слове, как ожидаемое.
Так Писание не обращает внимания на точность показаний времени. Ибо пророчество и о будущем многократно поведывало, как о прошедшем, и о бывшем, как об ожидаемом, что можно видеть и в сем псалмопении к концу его. Не сказал Пророк: воззрит, но «воззре око мое на враги моя» (9). Из сего дознаем, что для Бога нет ничего ни будущего, ни прошедшего, но все в настоящем, так что при речениях о Божией силе, имеют ли они какое значение прошедшего или будущего, понятие не выходит из пределов настоящего. Посему вступившей на путь знойный и тесный и обративший в бегство скопище Зифеев, говорит Богу: во имя Твое совершилось наше спасение, и в Твоем владычестве имеет силу суд наш во благо, и всегда будет это. А за сие Пророк призывает Божий слух выслушать благодарения, сказуя о восстании чуждых и сильных в злобе, о взыскании души его теми, кем предводит не Бог, но противник Божий. Ибо говорит поэтому: они «не предложиша Бога пред собою» (5), а мне «помогает Бог» (6), возвращающий зло изобретателям злобы, истиною же уничтожающий все, что враждебно истине и иноплеменною с нею. А я, говорит Пророк, возблагодарю Того, в Чье имя спасен, потому что благодарность для меня благо с тех пор, как избавился я от скорбей, и своими глазами увидел уничтожение врагов. Ибо пророческое око увеселяется этим, когда не усматривается более ничего сопротивного добродетели. А по истреблении порока, который, как враг, противостоит добродетели, не останется уже и имени врагов. Ибо кто еще назовется врагом, когда не живет более вражда, но, как говорит Апостол, убил ее Мир (Ефес. 2:14:16).
Но чтобы высказанную теперь мысль приложить к словам псалмопения, прочти до буквы самое псалмопение, по порядку поставленное пятьдесят третьим. Пророк, когда преодолел уже Зифеев, увидел конечную гибель порока, снова пришедши в сознание содействия свыше, воспевает победную песнь Богу. Ибо надписание читается так: «в конец, в песнех разума Давиду».
Но как в телесных борьбах подвижники ведут дело не с теми же сопротивниками, которых преодолевали на поприще в молодости, напротив того, по мере возрастающей у них силы, выходят на противоборников, которые больше и ростом и крепостью; а если и этих одолеют, вступают в борьбу с превосходнейшими и их, всегда соразмерно приращению сил своих выбирая для борьбы сильнейших противников; таким же образом и тот, кто много раз отличался победами над врагами, делает победы свои еще более знаменитыми, вступая в битву с противоборниками более знаменитыми и важными.
И поэтому просит Подвигоположника об услышании, говоря: «внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего» (Пс. 54:2). Просит также обратить внимание на подвиг его, продолжая речь: «вонми ми, и услыши мя» (3). Указывает в слове на трудности подвигов, описывая печаль, затруднение, смятение сердца, «вражий глас, стужение грешниче» (4), открывая сие Самому Подвигоположнику, как некие поражения, нанесенные на поприще противоборниками, и сверх этого еще «смятение сердца, боязнь смерти, страх и трепет», мрак, объявший всю его жизнь, (5:6); почему, чтобы преодолеть столько трудностей и стать выше их, для всего этого нашелся один только способ — окрылиться ему крыльями голубиными, и поднявшись ввыспрь, там остановить полет в таком месте, которое, будучи безопасно от всех зол, изобилует дарами Божественными. Ибо говорит Пророк: водворившись «в пустыни от дольняго малодушия и бури» искушений (8:9), там я получил спасение Божие, где уничтожается порок. Так как слово: потоп у Пророка означает уничтожение, потому что все, поступившее в глубину, уничтожается. Посему погружение в глубину и погибель греха есть сокрушение порочного общества. Потому сказано, что потопляется Богом зло, когда разделяются Им языки соумышляющих злое. И что еще далее содержит в себе смысл сего псалмопения, изображение города, население его дурными предначинаниями, — все это клонится к тому же. Ибо Пророк именует и перечисляет худых обитателей сего города, сказуя, что «беззаконие и пререкание во граде» (10), «нощию обходят по стене», и еще «беззаконие, труд и неправда» питаются «посреде» града (11). Показывает же, какая злая толпа наполняет стогны его, именуя «лихву и лесть» (12), самое же тяжкое из всего этого, здесь поименованного, по словам Пророка, есть лицемерие, которое, принимая на себя равнодушную и показывающую знаки любви наружность, под этим добрым покровом скрывает обман. Посему правдивый Судья посылает поселенцев, которые достойны таковых жителей. Хочешь ли знать имена сих поселенцев? Сказано: «да приидет смерть на ня, и да снидут во ад живи» (16).
И изобразив словом все горести, какие постигнут их, Пророк прилагает это услаждающее изречение, которым и препобедил град со всем его наполнением, говоря: «аз же уповаю на Тя» (24). Полноту же сего города называет «мужами кровей и лсти», которые «не преполовляют» лукавого дня, какого бы рода он ни был, и не оставляют лукавства не доконченным, но достигают совершенства во зле. Победителем всех их делается Пророк сим единым изречением, которым выражает расположение к Богу, говоря: «аз же уповаю на Тя».
Глава 14. (Толкование 55 и 56 псалма)
Человек трудолюбивый, дошедши до сих мыслей, пусть сам читает Богодухновенные изречения псалмопения, чтобы не утруждать его нам, излагая все до буквы и продолжая делать свой взгляд на каждую мысль. Как совершающие путь, который простирается далеко в высоту и с трудом проходим, когда встречают на дороге место, где можно сесть, отдыхают там долго, смотря по труду, какой ими подъят, а когда силы их снова укрепятся, побуждают себя к продолжению остального пути: так и идущий путем добродетели, для которого совершаемые им переходы суть победы над сопротивниками, как свидетельствует надписание предыдущего псалма, подкрепив себя одержанною победою, снова простирается к другой предстоящей ему победе. Велико и то борение, которое преодолел он в упомянутом псалме: скорбь, затруднение, смятение, вражду, молву (ибо это значит «глас вражий, стужения грешнича» и гнев негодующих, от чего происходят: смятение ума, боязнь смерти, страх, трепет, тьма и тому подобное.
Посему, кто превозмог столь многих и сильных противников, на крылах как бы голубицы, явившейся миру, и от преизобилующих пороками преселился в пустыню, не произращающую плевел лукавства, где приобретается упокоение одолением целого города сопротивников и всей полноты населяющих его (а населяют город сей беззаконие, труд, пререканье, лихва, лесть, смерть, нисхождение жизни во аде, и злейший всех род — всегдашнее лицемерие обитателей, которое под видом единодушия действует злокозненно, и победителем которого бывает тот, кто во все время собственной жизни своей непрерывно сохраняет упование на Бога; ибо словами: «вечер и заутра и полудне» (Пс. 54:18), объемлет Пророк целую дневную меру, в продолжение которой говорил он то, что благоволит услышать Бог, избавляющий жизнь миром от приближающихся к нему в таком великом множестве, которых он именует мужами кровей и лести и совершенными в пороке); итак, кто надеждою на Бога одержал верх над столь многими и сильными врагами, тот, как бы приведя в некое забвение показанные им труды, снова восстает на борцов, еще более сильных и могущественных.
Ибо вот какой новый труд берет на себя Пророк за прежние подвиги. О «людех», говорит он, «от святых удаленых» (Пс. 55:1). Люди же эти — вся полнота человечества, которую удаление от святых заповедей на какое–то великое и беспредельное расстояние, как бы стеною, поставленною в средине, отделило от Бога. Сих–то людей призывает победою над сопротивником, в награду подвигов назначая спасение погибших; почему заслугу сию выставляет на столпе в неизгладимых письменах памяти, увековечивающей событие. Посему победа одерживается «Давиду в столпописание, внегда», говорит он, «удержаша и иноплеменницы в Гефе» (1). Но чтобы не укрылся от нас смысл, сотканный в этом слове из исторических загадок, повторю сию историю, сократив в немногие слова. Зависть к Давиду при победе его над Голиафом в жестокой душе Сауловой порождена похвалою тех, которые, ликуя, веселились по причине сей победы. И Саул всеми способами, и тайно, и явно, уготовлял Давиду смерть: то скрытно строил ему козни, то, в след за сим, явно принимался за оружье и восставлял на него подданных. Но после многих, многократно деланных Саулом покушений на жизнь Давида, наконец пришедши к Зифеям, Давид поселился в одном городе у иноплеменников, добровольно принявших его к себе. Там жил он с своими сподвижниками, имея при себе двух законных жен, из которых одна была Израильтянка, а другая, быв прежде женою одного из владетелей на Кармиле, по смерти его стала сожительницею Давидовою. Вот что содержит в себе история.
Посему то, что Давид удержан у иноплеменников, не означает, что удержание сделано с худым намерением, ибо не то было на деле; а напротив того означалось сим исполненное любви и дружеское расположение, ибо Гефеи поселяют у себя изгнанного из земли отечественной. Итак, что же? Ужели это сын Иессеов Давид — человек от человеков, столько преуспел своими подвигами, что весь человеческий род, удаленный от Бога за преступление святых заповедей, снова призвал к Богу и показал ему гадательный смысл столпописания? А кто столпописанием наименует Писание Богодухновенное, тот не погрешит. Или не явствует из самой связи истории, что столько велик Тот, Кто стал вне пределов естества, населил город у иноплеменных Себе, нашел Себе покой в двояком браке, взяв одну супругу из Израильского рода и другую с ложа иноплеменников, так что, если слово о Нем надлежит привести в большую ясность, то Он есть вместе Победитель и Жених. Ибо, как сильный в брани, преодолел имеющего державу смерти, и тем неисчетный народ, содержимый в аде, извел на свободу; а когда народ Израильский по зависти и ревности устремился на убиение Его, удерживается Он по благорасположению иноплеменниками, и у них созидает град, разумею Церковь; и здесь–то утверждает царство Свое Изрекший подчиненным Сауловым: «отимется от вас и, царствие, и дастся языку творящему плоды его» (Матф. 21:43). В этом–то граде есть несколько и благорожденных Израильтян, по пророческому изречению, в котором сказано: «в Церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых» (Пс. 67:27), ибо начавшее слово веры, проповедники истины, основатели Церкви, разумею учеников и Апостолов, были «от источник Израилевых. Князи Иудовы», говорит Пророк, «владыки их, князи Завулони, князи Неффалимли» (28). Сими признаками и указаниями пророчество предъозначает родовые отличия учеников. Между ними и «Вениамин юнейший, во ужасе» обученный тайнам, от семени Авраамова и колена Вениаминова, Божественный Апостол Павел. Впрочем, если и повествуется, что Царь имеет в сожительстве Израильтянку, то больше любима им Авигея, с которою сожительствовал сперва обитатель Кармила Навал, по прозванию — «человек зверонравен» (1 Цар. 25:3), суровый горец, стригущий овец, по смерти которого жена сия сожительствует с царем и делается матерью царей.
Итак, надписание псалмопения заключает в себе столько таин, означая победу над людьми, «от святых удаленными» (Пс. 55:1), и за успехи над иноплеменниками воздвигнутый столп, который начертанными на нем письменами держащимся иудейского неверия служил в укоризну, а спасающимся верою — в путеуказание к добру и в образец. Самые же изречения псалмопения, как мне более кажется, относятся не столько к пришедшему от Давида царю, сколько к самому Давиду, борцу с пороком и делателю добродетели. Но никто не может сказать, будто бы заключающиеся в псалмопении мысли не согласны с загадочными указаниями надписания. Ибо кто истинно, и как должно, взирает на богословие; тот, без сомнения, покажет жизнь согласную с верою. А сие не иначе возможно, как по низложении плотского восстания упражнениями в добродетели. Для добродетели же главное — Божья помощь, которой сподобляется своею жизнью присвоивший себе Божью милость. Как иной при внезапном нашествии какого либо разбойника, или убийцы, для избежания опасности, не довольствуясь самим собою, призывает на помощь кого либо из друзей; так и здесь вступающий в битву для борьбы с человеком (а именуя человека, Пророк собирательным сим именем указывает на немощи естества) призывает помощь свыше, говоря, что попирает его борющий, что он подавлен и приведен в отчаянье продолжением борьбы во весь день; что не один враг вступает с ним в борьбу; напротив же того один этот человек есть целая толпа врагов. «Попраша мя», говорит Пророк, «врази мои весь день, с высоты» (3), низлагая тем самым, что они выше попираемого. И не днем, не при свете совершается это; вспомоществуемый светом не убоялся бы я; почему говорит: «в день не убоюся» (4), и даете видеть умалчиваемым, что тьмою наводят на него страх враги. Впрочем, таковой борец делает для себя днем надежду на свет, которым уничтожается тьма. «В день не убоюся, аз же уповаю на Тя».
Но, можете быть, иной лучше постигнет смысл написанного, принимая во внимание загадочный смысл надписания. Пока «людие» (род человеческий) удалены были от святых Ангелов; попирали их немощи естества, подавляла и сокрушала продолжительность брани, низлагали высшее, и имели они страх во время ночи. Но когда стали надеяться на Бога, свергнув с себя, как бремя, обманчивую надежду на суетное; тогда восхвалили слова свои, которые не иное что, как исповедание веры. Ибо Пророк говорит: о «Бозе похвалю» слова мои (11). Но сими похвальными словами, говорит он еще, враги мои «гнушаются», изобретая «на мя помышления на зло» (6), пока живу с ними, строят мне тайные и скрытные козни; делая свое дело, не перестают всегда подстерегать «пяту мою» (7), так как из начала делом человекоубийцы — «блюсти пяту» человека (Быт. 3:15). Но если и тяжко приражение неприятелей; при Твоем содействии будут они отражены; потому что спасение даруется Тобою людям не за дела праведности, но по одной Твоей благодати. Сказано: «ни о чесом» спасешь их (8). И все дальнейшее последование сего псалмопения объясняет призвание человеческого рода, а самое главное в нем — неизгладимый памятник победы над сопротивником, как бы на столпе Божия человеколюбия показуемый всей твари в повод к славословию. Посему Пророк, как бы взирая на этот столп, в последних стихах псалмопения говорит: о «Бозе похвалю» глагол, о «Господе похвалю слово» (11).
«На Бога уповах». При Его помощи страха плотского уже не убоюся (12). «Во мне», продолжает, «молитвы, яже воздам хвалы: яко избавил еси душу мою от смерти, и нозе мои от поползновения» (13:14). А поползновением называет уклонение от хождения по заповедям, от которого произошло падение. Посему, будучи избавлен от смерти и восставлен от падения, представляется лицу Божию, от которого был удален, когда первоначально вкусил от запрещенного заповедью, и от стыда сокрыл себя под тенью смоковницы. Итак, восприяв снова дерзновение, восстановляется для оживляющего света. Ибо говорит: «благоугожду пред Господем во свете живых» (14), откуда в начале отчужден был грехом.
И о сем довольно. Ибо думаю, что не должно, исследывая неутомимо каждое речение, без меры длить слово. Но поелику в священных песнопениях много псалмов победных, на которые указует надписание: «в конец», и в них победа над сопротивниками рассматривается со многих сторон; то естественно иметь особое некое значение той победе над противоборствующими, которая изображается историческими загадками, разумею же историю, описывающую дела Сауловы. Порядок сих псалмов состоит не в последовательности исторических событий, но он следовал оказываемым преспеяниям в добродетели. Каждое из открывающихся событий поставлено так, чтобы служило доказательством возрастания в добродетели, и первое, и последнее приведено в последовательную связь относительно к добродетели, и порядок не порабощен вещественному стечению событий. Посему после многого другого описывается прежде многих событий бывшая встреча в пещере Саула, стремящегося к убийству, и Давида, уклоняющегося от убийства; где возможность совершить убийство извратилась до противоположности. Кого преследовали, чтоб предать смерти, тому открывается случай убить желающего его смерти; он имеет возможность, а с возможностью и силу совершить казнь над врагом; но вместо врага убивает в себе свою раздражительность.
Хотя, конечно, всякому, кто поверхностно не занимается Божественным, известна эта история, однако же перескажем ее кратко, сколько можно будет, сократив повествование о сем в немногих словах. В Иудеи было некое пустынное место, в котором в нужде своей имел пристанище гонимый Давид. Там находилась какая–то просторная пещера, которая одним только устьем принимала в себя укрывающихся в нее. Когда же Саул искал Давида и со всем воинством осматривал сию пустыню; Давид и бывшие с ним по необходимости убегают в пещеру. И когда они были уже в пещере, входит за ними в устье ее и Саул исправить некоторую нужду, не зная впрочем о вошедших туда случайно воинах, угрожающих его безопасности. Посему Саул, оставшись один, снял с себя верхнюю одежду и положил подле себя, но скрывающимся внутри во мраке был он виден, освещенный лучом из устья. Все прочие, бывшие с Давидом, возымели решительную мысль броситься на врага и пришедшему для убийства отмстить, когда как бы Сам Бог дал врага в руки гонимым на смерть. Но Давид удержал их порыв, признав непозволительным поднять руку на царя своего. Обнажив же меч, вынутый из ножен, и неприметно став позади Саула, когда покушение на жизнь могло совершиться без свидетелей, потому что мрак в пещере, затрудняя зрение, все делаемое в ней укрывал от обличения, и потому была возможность одним ударом в спину вонзить весь меч в сердце, он не коснулся, даже не подумал коснуться Саулова тела. Но тайно мечем отрезываете «воскрилие» верхней одежды (1 Цар. 24:6), чтобы в последствии эта риза свидетельствовала о Давидовом человеколюбии к Саулу, отрезанием «воскрилия» показывая возможность нанести удар и его телу. Риза делала явным, какому долготерпению обучился Давид; в руке был у него обнаженный меч, а под рукою тело врага; имел он возможность и убить сего врага, однако же, и раздражение препобедив рассудком, и возможность нанести удар — страхом Божиим, не только превозмог собственный гнев, но и оруженосца, стремившегося к убиению Саула, удержал произнесением достославных этих слов, сказав ему: «не убивай христа Господня» (1 Цар. 26:9). Итак, Саул выходит из пещеры, не зная, что там было, и надев на себя обрезанную одежду. Выходит с ним, но сзади, с безопасностью для себя самого, и Давид, и, взошедши на бывший над пещерою холм, показывает в руке воскрилие (а это было не иное что, как бескровный памятник победы над сопротивниками), и, громким голосом вскричав Саулу, извещает его об этой новой и чудной доблести, которой не осквернил он, обагрив кровью, при которой и доблестный муж победил, и побежденный спасается. Ибо не падением врага свидетельствуется Давидова доблесть; но поелику сопротивник спасен от опасности, то еще более явным соделывается превосходство силы в имеющем столько упования, что не в гибели противоборствующих поставляет он свое спасение, но, и окруженный злоумышляющими, как бы никто не думал оскорбить его, почитает себя безопасным. Лучше же сказать, Писание этою историею научает, что преимуществующий добродетелью оказывает мужество свое не против соплеменников, но против страстей. Посему таковою Давидовою доблестью охлаждается раздражение в обоих. Давид собственным рассудком истребляет в себе личный свой гнев, угашает гнев, располагающий ко мщению. А Саул оказанным ему человеколюбием умертвил в себе злобу на Давида. Ибо из той же истории можно дознать, что говорит он после сего победителю, приводимый в стыд тем, на что покушался, плачем и слезами доказывая внутреннее свое отвращение от злобы.
Посему, сколько видно сие из истории, таково содержание пятьдесят шестого псалма; самые же речения надписания, которыми указывается на встречу в пещере, изложены в следующем виде: «в конец, да не растлиши, Давиду в столпописание, внегда ему отбегати от лица Саулова в пещеру» (Пс. 56:1). Но чтобы видно было, сколько с сим надписанием согласны содержащиеся в псалмопении мысли, время теперь в немногих словах заметить, какой в них образ воззрения, изложив наперед Богодухновенные изречения. «Помилуй мя Боже, помилуй мя: яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, дондеже прейдет беззаконие» (2). Псалмопевец молит за упование на Бога и за твердую на Него надежду воздать Божиим милосердием. «Дондеже прейдет беззаконие», говорит он. Но чтобы мысль сия сделалась для нас более ясною, разберем слово сие так: свойство греха — быть непостоянным и преходящим. И в начале не вместе с тварью все Сотворившим и Осуществившим приведен он в бытие, и не всегда пребывает с существами. Ибо что существует от Сущего, то и в бытии всегда пребывает. А если что происходит не от Сущего, и сущность чего имеет состоятельность не в том, что оно есть, но в том, что оно не добро; то сие — какая–то трава, растущая на кровле, не имеющая корня, не сеянная, невозделанная; хотя в настоящем беспокоит она своим несостоятельным прозябением, но в последующее время, при восстановлении вселенной в доброе состояние, конечно, преходит и уничтожается, так что зла, встречающегося нам ныне, в той жизни, какая предстоит по упованию, не останется следа. Ибо сказано: «еще мало, не будет грешника: и взыщеши место его, и не обрящеши» (Пс. 36:10).
Итак, пророческое слово в начал сего псалмопения любомудрствует, в возвышенных учениях излагая естествословие порока. Оно учит, что до тех пор имеем нужду в содействии милосердия, «дондеже» жизнь нашу «прейдет беззаконие», ко вреду нашему вошедшее в жизнь. Таковое же содействие дарует нам упование на могущество Содействующего и вооружение себя сенью крыл Божиих. И кто под сенью крыл Божиих, служащею для нас покровом, будет разуметь добродетели, тот не погрешит. Ибо само Божество, каково Оно в естестве Своем, пребывает недоступным и непостижимым естеству человеческому, по неизреченности Своей паря гор превыше человеческого рассудка. Но в сеннописании добродетелей взирающим на оное открываются некоторые существенные черты неизреченного Естества, так что всякая мудрость, благоразумие, ведение и всякий способ постигающего что–либо мышления суть не самые крила Божии, но сень Божиих крыл. Но великое для нас благодеяние и сень. Ибо Пророк говорит: «воззову к Богу вышнему, Богу благодеявшему мне» (Пс. 56:3).
Этою сенью, которую дольнему меру послал Бог с высоты, «спасе мя» (4) осенившим в облаке Духом, и тех, которые, по сказанному в прежних псалмах, попирали меня, поставил ныне в ряд укоряемых. Ибо «посла Бог милость Свою и истину Свою, и избави душу мою от среды скимнов» (5). Подлинно скимнами были для меня прежде грехи, скимнами львов, которые страшили пастью и остриями когтей терзали меня. Но пришли помощники, «милость и истина» — эта прекрасная чета; потому что и милость не без суда, и истина не без милости. И ими–то избавляюсь от сопребывания с сими скимнами. Звери же сии, говорит Пророк, «сынове человечестш, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч остре» (5).
Устройство естества нашего не знало сих чувственных стрел, вместо зубов вложенных в уста человеческие; но если кто уподобится зверю по страсти, и преобразится в него по овладевшему им пороку, то, утратив естественный свой образ, подлинно делается зверем. Посему Пророк, упомянув о львах, наименовал сынов человеческих зверями, у которых бранными орудиями зубы и язык. Потому, кто столько возвысился умом, что водворяется под сенью крил Божиих и на земле восприял небесный жребий (ибо сказано: «посла с небесе и спасе мя» (4)), тот не взирает уже на земное, но трудится для славы пренебесной, говоря: «вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя» (6). И описывая нападения врагов, сказывает им Пророк, что впадут они в яму, и на них самих обратятся уготовляемые ими бедствия.
Ибо говорит: «сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою: ископаша пред лицем моим яму, и впадоша в ню» (7). Сам же, как извещает, готов он воспевать Божью славу с благохвалением; потому что при таком величии души блажен тот, чье сердце уготовано к благохвалению Божьей славы, вмещая в себе невместимое, утверждая о себе, что он расположен и готов, и не отлагает песни, но живые орудия свои поименно приглашает к служению в песнопении, взывая: «востани псалтирю и гусли» (9), чем указуется стройное согласие в Божественном славословии двоякого человека: и видимого, и сокровенного. И орудия повинуются призывающему. Временем же для такого мусикийского песнопения служит раннее утро; потому что для тех, которые не отложили дел тьмы, не пробуждается Божья слава. Посему и псалтирь и гусли ответствуют взывающему: «востану рано» (9). Так Пророк обещается воздать Богу благодарение, которое называет исповеданием, исполняемым «в людех и во языцех» (10); потому что благодать веры равно уделяется носящим оба сии имени: и «людям», и «языкам. Не иудеев Бог токмо», но «и языков, понеже един Бог, Иже оправдит обрезание от веры, и необрезание верою» (Рим. 3:29–30). Посему, так как Божие благословение, как бы двойным каким потоком, излилось на тех и других, разделяясь то на «людей», то на «язычников»; пророчество за тех и других приносит благодарение Богу; потому что до бесконечности возросший грех превосходит величием своим Божия милость, соделавшаяся превысшею и самой небесной высоты. Ибо сказано: велика превыше «небес милость Твоя» (Пс. 56:11). Изречениями воздаваемого за сие славословия почитаю окончательные слова псалмопения, в которых сказано: «вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя» (12). Ибо в какой мер Божье славословие, распространенное спасаемыми верою, умножается на земле, в такой же пренебесные силы, радуясь нашему спасению, воспевают и славословят Бога, как и то небесное воинство, когда Ангелы увидели на земле мир, явившийся нашему миру по благоволению «в человецех», говорит пастырям: «слава в вышних Богу» (Лук. 2:14).
Глава 15. (Толкование 57 псалма)
Но при такой высоте этого псалмопения следующий за ним по порядку псалом столько отличается еще большим величием, сколько можно дознавать сие из того самого, что написано. Как у скороходов опередивший победителя других приобретает большую пред прежним победителем славу, оказавшись лучшим бежавшего вперед: так пятьдесят седьмое псалмопение в сравнении с предыдущим, которое оказалось высоким по мыслям, препобеждает его величием своих мыслей. Как тот псалом имел превосходство пред другими псалмами, так этот имеет преимущество пред тем, который имеет превосходство пред прочими. И о победе сего псалма свидетельствует надписание: «в конец». Но мне кажется, в рассуждении сей победы слово свидетельствуется не столько поражением противников, а напротив того, более обилием благ. Надписание же читается так: «в конец, да не растплиши, Давиду в столпописание» (Пс. 57:1). Сколько раз об этом подвижник великодушия Самим Подвигоположником провозглашается, что он увенчан за сию победу! А, может быть, и сам Дух Святый нередко чудесным образом приемлет на Себя сей глас, так как оный выше сил человеческих и выходит из пределов естества. Ибо сказать подобное сему свойственно только естеству бесплотному и невещественному, которого не касается ни одна из человеческих немощей. А кто человек, кому по естеству существенна раздражительность, — и тот терпит зло от неполучившего ни малейших поводов к злу, даже от удостоенного многих и великих благ, тем самым, кому оказал добро, из за пустого начальства, за сделанное в его же пользу, доводится до пресельничества, принужден стать беглецом из собственного дома, до смерти гонимый облагодетельствованным, по трудности жизни переходя с места на место, вселяется в пустынях, укрывается на вершинах гор, выпрашивает себе убежище у иноплеменников, бедствует от недостатка в самом необходимом для жизни, многое терпит, живя под открытым небом; неоднократно бывает в опасности утратить жизнь от гонителя, который однажды стремился из своих рук убить его копьем, даже дом, в котором жил, чтобы не избежать ему смерти, занял своими оруженосцами; потом всюду разведывал, у кого поселился, чем питается, где теперь, к кому переходит. И когда терпевшему все это двукратно представлялся удобный случай убить врага: Саул, однажды в пещере неосмотрительно впадал в руки Давиду, а в другой раз в шатре погружен был в сон, Давид же стоял над спящим и убийством гонителя мог вполне удовлетворить своему гневу; тогда и сам он не поднял руки, и порывающемуся на умерщвление говорит: «да нерастлиши». Вот изречение, подлинно свойственное Богу, — изречение, воспрещающее губить человека!
Поэтому, как делающие явственные на камнях надписи, глубоко вырезывают очертания букв, много раз водя резцом по изображениям; так Дух Святый на столпе нашей памяти приводит в большую ясность и видимость сие важное для нас изречение, чтобы письмена сии, ясно и неслитно в нас отпечатленные, могли быть прочитываемы во время страданий. Сие–то, думаю, было целью в домостроительств Святаго Духа — предшествовавшие преспеяния святых мужей поставить в путеводство жизни тем, которые будут в последствии, так как подражание приводит нас к равному и подобному благу. Ибо когда душа готова отмстить огорчающему, и кровь в предсердии кипит от раздражения на оскорбившего; тогда воззревший на этот столп, какой воздвигнут Давиду Духом Святым, и прочитавший на нем слова, какие Давид изрек о намеревавшемся убить его, без сомнения, утишит в душе смятение помыслов, усмиряя страсть желанием подражать в подобном деле.
Но величие того, кто с успехом восшел на степень сего псалмопения, а именно, сколько стал он выше достигнутого прежде величия, можно усмотреть и из самых речений псалмопения. Ибо не жалуется уже, что попирают его враги, не призывает в помощь себе милосердия, но, став выше сего, как бы с высокого какого подзорного столпа, живущим внизу в междугории, при самой подошве жизни человеческой, с обличением взывает, говоря следующее: что говорите и делаете вы, о человеки? правду ли произносите вы? по правоте ли ведете суд? вижу, что сердца ваши на земле, и всякое сердечное движение есть уже дело, а не мысль. Вместе с тем, как появляется зло в разумении, и руки немедленно соединяют с мыслями дело. Для большей ясности, своими словами заменив несколько псаломских речений, изложил я читаемое так: «аще воистинну убо правду глаголете, правая судите сынове человечестии: ибо в сердце беззаконие делаете на земли: неправду руки вашя сплетают» (Пс. 57:2.3). Потом, негодуя на лишивших себя спасения, Пророк присовокупляет следующие за сим речения, говоря: «отчуждишася грешницы от ложесн, заблудиша от чрева» (4).
Уразумеешь же сказанное, исследовав, какие это первоначальные «ложесна» человеческого состава, и какое это чрево, носившее в себе человечество. Не иное что думаю, означается сим, как Божье человеколюбие и Божья благость, по которой мы сотворены и родились. Ибо «сотворим человека по образу нашему и по подобию» (Быт. 1:26), сказал «Создавый на едине сердца их» (Пс. 32:15), и еще говорит: «сыны родих и возвысих, тии же отвергошася Мене» (Иса. 1:2). И в святом Писании можно прочесть тысячи подобных мест, из которых познается, какое чрево образовало нас, и какая матерь произвела на свет рождением.
Сие–то имея в виду, негодующий на погибель отступников, Пророк сетует; ибо подлинно плач — это изречение, которым выражает он скорбь свою о грешниках: как «отчуждишася грешницы от ложесне? как заблудиша от чрева», ложь предпочтя истине? Их раздражительность подобна ярости отца лжи, этого первого змия, «яко аспида глуха и затыкающаго уши свои: иже не услышит гласа обавающих, обаваем обавается от премудра» (Пс. 57:5–6). Ибо свойство этого зверя таким заметили мудрые в этом, а именно, что, воспылав яростью, задерживает в гортани дыханье и не движется от задержания в себе воздуха, раздуваясь как мех, так что напрасными и недействительными остаются все каким либо естественным противодействием смягчающие зверей средства, какие изобретены мудрыми в подобном сему. А сим Пророк дает разуметь, что сердце одержимых пороком, когда учители предлагают им врачевание, остается непослушным.
И все продолжение псалмопения составляет плач воздыхающего о гибели людей, достойных сожаления. Ибо предвозвещает их будущее, говоря: «Бог сокрушит зубы их во устех их» (7). Какие зубы? Не очевидно ли, что те челюсти преслушания тех прислужников наслаждениям чрева, которых Пророк в предыдущем псалмопении наименовал «оружьями и стрелами» (Пс. 56:5), и которыми растерзывается слово истины? И сказано: «членовныя львов сокрушил есть Господь» (Пс. 57:7). Узнаешь же, кого Пророк назвал львами, если изучишь отличительные свойства сих зверей. Сказывают, что у львов глаза извращены, что естество их плотоядное и кровожадное.
Конечно же, знаешь загадочный смысл и извращения глаз у тех, которые смотрят непрямо, и неприятного дыхания у тех, которые на хулу употребляют уста свои, и поэтому имеют сродство с зловонием греха, а также всего, что разумеется под дыханием; потому что плоть и кровь, чем наипаче питается львиное естество, как мерзость, не приемлются в царствие Божие. Ибо, когда достойные сподобятся чести, в то время, они, как сказано, «уничижатся» (8), протекая жизнь вместе с непостоянным естеством вещественного, с которым они освоились. Ибо сказано: «уничижатся яко вода мимотекущая» (8); потому что лукавый стрелец душ наших, направляя в человеческую жизнь разжженные стрелы греха, не престает поражать их, пока не приведет сил их в изнеможение. Сказано: «напряжет лук свой, дондеже изнемогут» (8), и сделаются «растаявшим воском», из которого нетрудно вылепить всякого вида подобие греха.
К сему Пророк прилагает еще оные плачевные слова о достойных сожаления, сказуя: «паде огнь на них, и не видеша солнца» (9). Значение же сего речения объясняет другой толковник, сими словами выражаясь о преждевременном извержении из матерних ложесн недоношенного младенца. «Изверг» женский, говорит он, не увидит солнца (Иов. 3:16). Итак, поелику в начал псалмопения сказано: «отчуждишася грешницы от ложесн, заблудиша от чрева» (Пс. 57:4), а это значит то же, что рождены недоносками, и причиною такого их недостатка, как утверждает Пророк, уподобление змею и аспиду; то посему и теперь, возвращаясь к тому же образу речи, продолжает, что, будучи несовершенными в отношении к естеству, по своей порочности соделавшись недоносками, изринуты и ниспали из умопредставляемых нами ложесн, став сами для себя огнем, по причине вещественного произволения, почему не узрели и солнца. А солнцем указуется истинный свет, к которому не обратил взора недозрелый род иудеев.
И последующая за сим речь состоит в строгой связи с предыдущею. Ибо, что Пророк наименовал там «глухим аспидом», то теперь, изменив образ речи, называет неразумным «тернием»; потому что разумение бывает следствием слышания, а кто не приемлет слуха, тот вместе с слухом отвергает, без сомнения, и разумение. Посему, как там, упомянув о родовом наименовании змея, выставляет самый злой в целом роде вид этого зверя, называя «аспида»: так и здесь, наименование терна представив, как бы родовым каким, выставляет самый несносный вид терна, назвав его «рамном», которого иглы остры, спицы часты, уязвления приближающимся вредны и ядовиты.
Однако же, будете ли вы терниями, говорит Пророк, или даже в терниях «рамноме», так как почитаете себя еще «яко» живыми (ибо не в подлинном смысле жив, кто не имеет истинной жизни); гнев «пожрет» вас (10). И как жизнь грешников не в подлинном смысле есть то, чем называется, а только именуется сим (что разъединено с истинною жизнью, то не жизнь); так и гнев в Боге, хотя грешникам представляется гневом и так ими именуется, тем паче не есть гнев, но «яко» гнев для именующих гневом воздаяние, праведно Богом распределяемое. Посему вот что значат слова: «яко живы», и: яко «во гневе пожрет» вас; — вас, которые не в действительной жизни, пожрет Он, Который недействительно во гневе.
Потом Пророк говорит: «возвеселится праведник, егда увидит отмщение» (11), не тому радуясь, что другие гибнуть, но когда в сравнение с их положением приведет он свое, тогда ублажит себя за благоразумие, по которому не делал того, за что, как видит, отмщено грешникам; да и чистоту собственных рук лучше усмотрит при сравнении с окровавленными руками грешников. «Руце свои», сказано, «умыет в крови грешника» (11). Знаем же, что не для иного чего моем руки, как для того, чтобы водою свести с них скверну; а обагрение кровью не очищает прежде бывшей скверны, напротив того, само делается скверною. Посему, как белый цвет при сличении с кровью делается виднее; так и чистота рук праведника, при сравнении с руками противника, оказывается более блистательною. Невероятное ныне, а именно, что в понесших добровольно труды за добродетель есть некое приобщение совершеннейшего, тогда обнаружится на опыте. Кто увидит сие, тот скажет: вероятно, что правдивым судом Божиим уготован был праведнику плод. Смотри, на какие высоты взошло слово! Сколько величие сие превышает то, что показано в предыдущих псалмах?
Глава 16. (О значении слова «тщепогребальная» и толкование 58 псалма)
Но для преспевающих в добродетели и это еще — не предел восхождения на высоту. Ибо следующее за сим в связи порядка высотою взгляда оказывается превысившим и это. Надписание снова провозглашает увенчиваемого. Снова воздвигаемый столп свидетельствует, что одержанная победа выше сил человеческих. Сказано: «в конец, да не растлиши» (Пс. 58:1). Много раз говорено, что словом: «конец» означается победа, и нет надобности словом снова объяснять, что известно. Но это человеколюбивое изречение, превосходящее всякий избыток великодушия: «да не растлиши», в настоящем месте получило высший смысл. Кому неизвестно, что и всякий, к кому ни обратись, готов делать добро не причинившим никакого зла? А кто великодушнее других, тот, и после сделанного ему какого либо малого оскорбления, нередко переносил небольшую неприятность, и при благотворении не мешало ему это сделать добро и оскорбившему его несколько. Но малодушный, если встретится какая огорчающая его малость, употребляет всю, какая есть у него, силу на отмщение, воспользовавшись удобным временем сделать зло. Посему не равно чудно, если одинаковое благодеяние оказано будет и тем, кто не потерпел прежде ничего худого, и тем, кто воздает благодеяниями оскорбившему. Поэтому–то всего более несравненным и неподражаемым окажется великодушие Давидово, которое, если кто сличит его с этим лукавым неистовством Сауловым, едва не уподобляется даже бесстрастию Божественного естества.
Слова сии: «да не растлиши», которые Давид, как на столпе, начертал в памяти потомков, произнесены Давидом не тогда, как мучитель был расположен к нему дружественно, но уже после того, как Саул посылал умертвить Давида в дом его. Без сомнения же тебе, как любоведущему, известна эта часть истории, на которую указываете надписание, а именно, когда на Саула было нападение лукавого духа, святый Давид игрою на псалтири успокоил происшедшее от недуга смятение, а Саул, нашедши стоящее пред ним копье, пустил в своего благодетеля, направив в него острием. И как Давид при Божьем содействии уклонился от удара, брошенное копье острием своим глубоко вонзилось в стену; а Давид из царского дворца бежал в свой дом в надежде, что раздражение царя заменится раскаянием. Поелику же Саул вокруг Давидова дома поставил копьеносцев и служителей своих, дав им приказ убить Давида; то он едва избег опасности, тайно от стражи в одно окно бросившись на открытый воздух, и, удалившись, переходил с места на место, по нужде ища убежища у незнакомых ему людей. Но и при этом поймал его Саул, со всем войском окружив тот холм, на который прибег Давид с присоединившимися к нему. И в ночь, на которую замедлена была смерть его, потому что Саул умерщвление гонимого отложил до утра, Давид входит в шатер неприятеля, и, нашедши его на каком–то ложе погруженным в сон, не только удерживает свою руку, которая, может быть, поспешала принести дар раздражению, но и оруженосца, наклонившегося уже над Саулом, чтобы нанести ему смертельный удар (ибо говорит: «поражу, и не повторю» (1 Цар. 26:8)), останавливает в этом порыве сим высоким и славным изречением, сказав: «да не растлиши» того, кто спешит истребить нас.
Но не это одно достойно удивления в сем деле, что Давид дарует жизнь тому, кто все делает против его жизни, но и то, что Давид, помазанный на царство, и зная, что не иначе достигнет царского сана, как разве когда не станет уже Саула, признает за лучшее по великодушию злострадать в унижении человека частного, нежели взойти на царство, удовлетворив раздражению на оскорбившего. Посему–то к изречению человеколюбия приложено и сие: «внегда посла Саул» в дом Давида, «еже умертвити его» (Пс. 58:1). Ибо не тогда изречено, когда происходило сие; но присовокуплено это для возбуждения большего удивления, что произнес сие тот, кто испытал на себе это.
Но излишним почитаю теперь, когда речь поспешает заняться другим, вносить в нее что либо требующее объяснения в истории: почему после сказанного: Саул поразил Давида копьем, история прибавляет, что копье вонзилось в стену, «Давид же спасеся», и что на одре Давидовом не найден сам он, найдены же вместо него «тщепогребальная и печень козия» (1 Цар. 19:10–13), что в те времена, по какому–то обычаю, в отвращение смерти делалось таким образом: больного сводили с одра, и на постель клали ризу, возлагаемую на умерших, и козию печень? Ибо для трудолюбцев явно, что история сия есть пророчество о Господнем домостроительстве. В мучителе Сауле были демоны. Их прогоняет помазанный на царство, приводя в ужас музыкальным орудием — гуслями. Одержимый же пребывающими в нем демонами того, кто при помощи гуслей показал свою силу над демонами, поражает копьем, но удар вместо Давида принимает на себя стена, а он спасается.
После этого преследуемого злоумышляющим Саулом ищут на одре и не находят; а одр вместо его помещает на себе «тщепогребальная и козия печень».
Без сомнения же очевидно, к чему клонится речь загадок, из которых слагается сия история. Давидом предуказуется Тот, Кто от Давида. Помазанный означает Христа; а гусли суть телесное человеческое орудие; песнь на гуслях — слово, откровенное нам Воплотившимся, делом Которого уничтожить наваждение демонов, чтобы не были уже «бози язык бесове» (Пс. 95:5). А этот царь, имеющий в себе демонов, как скоро духи бегут от игры на гуслях, с пользою употребившего на сие это орудие, поражает копьем (копье же есть древо, вооруженное железом), но копье вместо игравшего на гуслях принимает в себя стена; а под стеною разумеем земную храмину, и в ней дознаем то тело, при котором усматриваем древо креста и железо. Но этот Давид, и помазанник и царь, не подлежит страданию, потому что Божество не пригвождается ко кресту гвоздями. Услышав и о Мелхоле, происходящей от Саула, с которою вступил в общение Давид, не подивимся сему, взирая на последствие. Ибо знаем, что Бог смерти не сотворил, но отцом смерти соделался царь злобы, сам себя лишивший жизни. Ибо «завистью диаволею смерть вниде» (Прем.Сол. 2:24); «царствова же смерть от Адама» и до закона (Рим. 5:14). Но Апостолу желательно, чтобы не царствовала она более в нас, «в мертвеннем» нашем «теле» (6:12). Посему за всех Вкусивший смерти пребывает в дому у происшедшей от мысленного нашего Саула; имя же ей Мелхола, и значение сего имени есть царство, потому что дотоле над естеством человеческим царствовал грех.
Но пребывающий в сем доме, Сам исходит в окно; окно же означает возвращение снова во свет Того, Кто явил Себя «седящим во тме и сени смертней» (Матф. 4:16). А «тщепогребальная» Его усматриваются на одре. Ибо и Ангел ищущим Господа во гробе говорит: «что ищете живаго с мертвыми? несть зде, но воста» (Лук. 24:5–6): вот «место, идеже лежа» (Матф. 28:6). Гроб, в котором погребен был Господь, ищущие Его увидели пустым без искомого ими тела; были же в нем одни погребальные пелены. Посему разумеем, что восстание Господне из гроба означают собою «тщепогребальная»на одре Давидовом, которыми совершается действительное отвращение от нас смерти. Поелику же в пронзенной стене, которую приняли мы за тело, нет крови; то, чтобы не было недостатка в самом существенном из представляемого нами в таинстве, которым мы искуплены, сказываю, что это — кровь, находится она в «тщепогребальных». Ибо во внутренностях одна печень служит источником крови и местом, где она составляется; без печени невозможно образоваться и естеству крови. Посему, если кровь из печени, а в «тщепогребальных» есть печень, то нет недостатка крови и в том, что для естества человеческого соделалось средством, отвращающим смерть. Да и род животного, от которого взята печень, тот же, какой назначен для умилостивительных жертв за грехи. А сверх сего, из этого же рода берется животное и для пасхи (Исх. 12:5). И также Моисей говорит, что сие же животное должно избирать для отпущения за грех народа (Лев. 16:7—10), когда из двух представленных козлов по жребию отделяются они на два дела, один приносится в жертву Богу, а другой с возложенным на него грехом отпускается в пустыню. А вследствие всего этого и подобного тому печень сего животного взята в знаменование крови, которою совершилось отвращение смерти от заболевших смертельно, по причине воскресения из мертвых Господа нашего, которое означают «тщепогребальная».
Но благовременно будет изложить кратко мысль, заключающуюся в псалмопении, именно следующую. Пророчество делит речь свою на две. Одна от всего человеческого рода обращена за нас к Богу; другая Приявшим за нас страдание произносится нам. Посему изреченное за нас таково: «изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя, и от делающих беззаконие, и от муж кровей, которые уловиша душу мою, нападоша на мя крепко» (Пс. 58:2—4), не потерпев от нас ничего худого. Ни в чем не погрешил я против них; не учинено нами во вред врагам никакого беззакония, которым бы и огорчились они. «Без беззакония» было первое мое течение (5). Но вот все, как что было, говорит Пророк, «виждь, и вонми посетити:» не отлагай по человеколюбию отмщения погрешившим, «да не ущедриши», продолжает, «вся делающыя беззаконие» (6).
Потом влагает речь в уста высшему лицу, и как бы от лица Внявшего молитве говорит, что враги сии «возвратятся на вечер» (а это не иное что значит, как то, что изгнаны будут во тьму кромешную; потому что «вечер» — начало и матерь тьмы), и «взалчут яко пес» (у кого нет напутия ко спасению, тех по необходимости будет сопровождать бедствование от глада благ: так взалкал в аде богач, лишенный Божественного орошения; и как не заготовил себе такового блага, то сгорал пламенем). Но»и обыдут град», говорит Пророк (7). А это, кажется мне, дает разуметь нечто подобное следующему. Поелику все ненужное и негодное к употреблению живых, будет ли это труп, или что повредившееся, или какой зловонный гной, выбрасывается вне города; то около сего находятся голодные псы, питающееся выбрасываемою из города нечистотою. Писание, научая сим различию между живущими добродетельно и порочно, означает сие загадочным представлением города, благоприличный и упорядоченный образ жизни называя городом, как бы населяемым добродетелью. А противоположный добродетели порок изображает тем, что вне города, где отыщется всякий грех, который есть какое–то зловонное извержение из образованной жизни, составившееся из гнилых тел и скверного гноя.
Поэтому житель города есть нечто великое и досточестное, подлинный человек, первоначально вложенные в естество черты отпечатлевший в себе жизнью; пребывающей же вне города есть пес, а не человек. Таким образом, по всему видно, как надлежит отличать пса от такого человека, каков он должен быть по естеству, и отличать не по наружному устройству тела, но по разности в жизни. Ибо обитатель доблестного города подлинно есть человек. А кто прилагает старание о зловонном непотребстве и о домогающемся излишестве любостяжании, которое иной назовет в собственном смысле гноем, или о других видах порока; тот, вне оного града блуждая и пресмыкаясь окрест его, сам о себе вопиет, что он пес, из Божья подобия претворившийся в естество псов. Под псами же, без сомнения, разумеешь первороднаго пса, этого плотоядца и «человекоубийцу»), как называет его Писание (Иоан. 8:44). Продолжение псалма описывает жизнь псов, сказует, что из уст их вместо лая исходит какой–то глас, и вместо песьих зубов сокрыт меч во устнах их, выражая сие такими словами: «се отвечают усты своими и меч во устнах их» (8). Но для имеющих в себе Бога страхования сии — смех. Ибо сказано: «Ты Господи, посмеешися им» (9). А я «державу мою к Тебе сохраню» (10). И чрез несколько слов Пророк предуказует человеколюбие, являемое Богом твари Своей.
Ибо говорит: «не убий их», но «низведи я» (12) с высоты неверия на гладкую равнину Богопознания. Так и поступили великий Павел и Иоанн Креститель, — Павел, низлагая «всяко возношение взимающееся на разум Божий» (2 Кор. 10:5), а Иоанн, по пророчеству Исаии (Ис. 40:4), уравнивая и сглаживая всякий холм и всякую гору, надменную величавость порока доводя до самоуничижения и невеличавости добродетели.
Поелику отовсюду изгоняется неверие, и на место его вводится Боговедение; то «Бог владычествует Иаковом, и концы земли» (Пс. 58:14). Поелику нигде не остается идолослужения; то, без сомнения, Господь будет Владыкою концов земли, когда искоренится над многими некогда царствовавший грех, который у Пророка назван «грехом уст их, и словом устен их, и гордынею, и клятвою, и ложью» (13). Потом Пророк снова повторяет слово свое «о возвращающихся на вечер, об алчущих яко пес, и обходящих град» (15), сим повторением сказанного, как думаю, давая знать, что люди в том и другом, и в худом и в хорошем, какими бывают здесь, такими будут и после сей жизни. Кто теперь по причин нечестия ходить кругом, не живет во граде, не хранит в себе отличительных черт человеческой жизни, но произвольно делается зверем и псом; тот и тогда, недопущенный в горний град, будет мучиться гладом благ. А победитель сопротивных, как говорит псалмопевец в другом где–то месте, и восходя «от силы в силу» (Пс. 83:8), и вознаграждаемый за победу, говорит: «воспою силу Твою, и возрадуюся заутра о милости Твоей: яко был еси заступник мой, и прибежище мое» (Пс. 58:17), и Тебе подобает слава во веки веков. Аминь.
О шестодневе, слово защитительное брату Петру
Что ты делаешь, человек Божий, приказывая нам отважиться на недоступное для человека, взяться за такие дела, в которых не только не возможно иметь успех, но за которые и приниматься, по моему понятию, не безукоризненно? Что у великого Моисея, в его любомудренном по божественному вдохновению сказании о миробытии, по первоначально представляющемуся значению написанного, кажется заключающим в себе противоречие, велел ты нам, отыскав в этом некий сообразный с предметом смысл, привести во взаимную связь, доказать, что святое Писание само с собою согласно, и сделать это после того богодухновенного обозрения, какое оставил об этом отец наш, которому все читавшие, поступая, по моему мнению, хорошо и справедливо, дивятся не меньше, как и любомудренному сказанию самого Моисея.
Какое отношение имеет к зерну колос, который из зерна, и не зерно, лучше же сказать, тоже зерно по внутренней силе, но отличен от него по величине, по красоте, по разнообразию и по наружному виду; такое же отношение (может сказать иной) к сказанному великим Моисеем имеют мысли, при люботрудном обозрении обработанные великим Василием. Что Моисей выразил немногими и определенными речениями, то учитель наш, возрастив возвышенным любомудрием, по образу того, уподобляемого царствию, горчичного зерна (Мф. 13:31.), которое в сердце делателя возрастает в дерево, соделал не колосом, но деревом: и оно повсюду изобилует мыслями, вместо ветвей распространяет учения, и с благочестивою целью простирается в высоту, так что возвышенные и превыспренные души, в Евангелии называемые птицами небесными (32), по величине таковых ветвей могут гнездиться на них; потому что душе, как бы неким гнездом служит соглашение вопросов, упокоевающее собою эту пытливость ни на чем не останавливающегося ума, которая подобна какому–то туда и сюда кружащемуся полету.
Посему возможно ли против такого столь великого древа словес насадить малую ветвь нашего разумения? Или ты и не приказываешь этого? Да и я никогда не решился бы трудолюбию нашего отца и учителя противопоставить свой труд? Но садовники делают чудеса, умудряясь на одном дереве разнообразить плоды. И такой у них способ возделывания растений: сорвав с другого дерева малый лепесток с продолженною при основании кожицею, на другом большом растении вкладывают сию кожицу в разрез какой–либо его части, чтобы вложенное, питаясь естественным соком большого растения, отродилось в ветвь. Так и я, разумение свое, как некий малый отпрыск, срастив влагой великого дерева — мудростию нашего учителя, попытаюсь сделаться его ветвью, сродняясь, сколько для меня это возможно, с его мыслями, и наполняясь обилием сообщаемых мне в них поводов к размышлению.
Ибо думаю, что некоторые не уразумели хорошо цели написанного им в Шестодневе; а поэтому винят его в том, что не сообщил им ясного ведения о солнце; почему светило сие после трех дней особо созидается, а не вместе с другими звездами; так как не возможно дневной мере определяться утром и вечером, если солнце не станет непременно производить вечер своим захождением, и утро восхождением.
А также не допускают создания двух небес, говоря: хотя Апостол упоминает о третьем небе (2 Кор. 12:2.), тем не менее в рассуждении сего остается сомнение; потому что в начале сотворено одно небо, а потом твердь, об ином же небе, то есть, о вторичном творении, не написано у Моисея, и нельзя доказать, что под сими двумя разумеется и третье небо, так как ни после тверди не сотворено иное небо, ни выражение: в начале не позволяет подразумевать какого либо прежде бывшего неба. Если в начале сотворено небо, то явно, что тогда началось творение. Не согласно было бы с разумом наименовать началом, что имеет другое высшее себя начало. Что занимает второе по порядку место, то — не начало, и не называется началом. Но Павел делает упоминание и о третьем небе, о котором не говорится при описании творения. Значит и здесь упоминание о втором небе принадлежит к числу вопросов.
Предлагающие это и подобное сему не обращают внимания, кажется мне, на ту цель учения, какую имел отец наш, который, беседуя в Церкви многолюдной при таком стечении народа, по необходимости соображался с приемлющими слово. В таком числе слушателей, хотя много было способных разуметь слова более возвышенные, однако же большая часть не могла следовать за более тонким разысканием мыслей; как люди простые, трудящиеся, занятые сидячими работами, как собрание жен, не учившихся таким наукам, и толпа детей, и престарелые по летам, все они имели нужду в такой речи, которая удобопонятным наставлением посредством видимой твари, и того, что в ней хорошего, руководила бы к познанию все Сотворившего. Почему, если кто будет судить о сказанном, соображаясь с целью великого учителя; то не найдет никакого недостатка в словах его. Ибо вел не такую речь, в которой с жаром оспариваются предлагаемые возражения, но всецело был занят простейшим истолкованием речений, чтобы предложить слово полезное для простоты слушающих, и чтобы вместе толкование его, указывая на многоразличные учения внешнего любомудрия, удовлетворяло несколько и слушателей, способных разуметь высшее; а таким образом и для простого народа было оно понятно, и в сведущих возбуждало удивление.
Но ты, как бы на горе Синай, оставив внизу многочисленный народ, и превысив других разумением, усиливаешься с великим Моисеем войти в тот мрак созерцания тайн, в котором был он, и видел незримое, слышал неизглаголанное словом, и стараешься узнать необходимый порядок творения, почему по приведении в бытие неба и земли, свет, чтобы стать светом, ожидал Божия повеления, а тьма была уже и без повеления? И если свету ничего недоставало к тому, чтобы озарить лежащий внизу воздух, и определить время дня и ночи; то какая была потребность в устроении солнца? И если вместе с небом в начале приведена в бытие земля; то почему приведенное в бытие было не устроено? Ибо устроить и сотворить не представляется в понятии чем либо различным. А если сотворить тоже, что и устроить, то почему сотворенное не устроено? И в рассуждении влажной сущности встречаются затруднения; а именно поверх небесного свода, имеющего вид шара, не возможно держаться чему либо текучему. Ибо чем утверждена влага на скате, когда влажное по всей необходимости с выпуклости шара стекает на наклонные ее части? Как при непрестанном движении того, что под влагою, будет она иметь в себе постоянство, всегда скользя на собственном своем основании? Почему не рассеется при самом быстром вращении полюса, без сомнения отталкивающего то, что на нем? Да и утрата влажного естества невероятною кажется возражающим; потому что в равной всегда мере видимы собрания вод в источниках, реках, озерах, исключая только некоторые источники, которые, свое обилие вод заимствуя с земной поверхности, изливают наполняемое дождями и снегами, и подобно временным потокам, по приливу сверху, и убывают и увеличиваются. Об источниках же, из которых изливается непрерывный ток, без всякого умаления или приращения, по необходимости признано, что в них не утрачивается влажная сущность: потому что расточаемое не может всегда оставаться в равной мере. Да и огонь, если бы действительно он истреблял воду, не оставался бы не возрастающим в собственной своей мере, и не усиливающимся. Ибо от истребления горючего вещества невозможно не возрастать естеству огня.
Итак, если, любопытствуя о сем и подобном сему, усиливаешься познать все возвышенное, то сам своею мудростию можешь увидеть и что сокрыто во мраке Моисеева видения, не к другому кому обращаясь, но к той благодати, которая в тебе, и глубины Божии испытывая тем Духом откровения, Который является в тебе по молитвам. Но как, по апостольскому закону, надобно нам угождать друг другу ради любви, и достойному похвалы рабу свойственно приводить в исполнение, что ему приказано; то в кратких словах, сколько это возможно, попытаюсь открыть об этом свою мысль, молитву твою употребляя в споборника слову. Но прежде нежели приступлю к делу, пусть будет засвидетельствовано, что не предложим учений противных тому, что о миробытии любомудрствовал святый Василий, хотя бы слово наше, по какой–либо последовательности мыслей, пришло и к иному истолкованию. Напротив того Василиево да удерживает за собою верх, уступая первенство одному богодухновенному завету; а наше да предлагается читателям, как ученическое в каком либо училище упражнение, от которого никому никакого не произойдет вреда, если и найдется в сказанном нечто несогласное с общим мнением. Ибо слова сего не выдаем за догмат, чем подали бы повод клеветникам, но признаемся, что упражняем только свое разумение в предлагаемых мыслях, а не истолковательное учение излагаем в последующем. Посему никто да не требует от моего слова, чтобы оно занялось решением затруднений, представляемых нам из святого Писания, и из того, что правильно истолковано нашим учителем, н кажется не согласным с общими мнениями. Мне предлежит не то, чтобы придумать какое–либо оправдание противоречиям, представляющимся с первого взгляда. Напротив того да будет дозволено, свободно и сообразно с моею целью, исследовать смысл речений; если только в состоянии буду, при помощи Божией, оставляя в словах собственную их выразительность, придумать какое–либо связное и последовательное представление совершившегося во время творения.
Сказано: в начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1:1), и за сим все, что содержит в себе слово о миробытии, сказуется приведенным в бытие в продолжение шестоднева. Но прежде исследования написанного надлежит, думаю, согласиться слову в том, что в Божеском естестве изволению сопутственно могущество, и мерою Божия могущества служит воля. Воля же есть премудрость; и премудрости свойственно не незнать, как может произойти каждая вещь. А с ведением неразрывно и могущество; почему совокупно с тем, как познал Бог, чему должно произойти, воздействовала и творящая существа сила, приводя в действо умопредставленное, и в следствие ведения ни в чем не обманываясь, так что согласно и нераздельно с решением воли оказалось и дело. Ибо решение воли в Боге есть вместе и могущество наперед предъизволяющее, чтобы существа пришли в бытие, и предуготовляющее поводы к осуществлению умопредставленного. Посему в деле творения должно представлять себе в Боге все в совокупности, волю, премудрость, могущество, сущность существ. А когда сие действительно так: никто да не затрудняет сам себя, доискиваясь и спрашивая о веществе: как и откуда оно? Ибо, слышим, иные говорят: «если Бог не веществен; то откуда вещество? Как количественное от неколичественного, видимое от незримого, от неимеющего величины и определенного очертания непременно определяемое объемом и величиною? И все прочее, усматриваемое в веществе, как и откуда произвел Тот, Кто в естестве Своем не имеет ничего подобного»? Но на каждый вопрос о веществе решение у нас одно — не предполагать, будто бы премудрость Божия не могущественна, и могущество не премудро; а напротив того держаться той мысли, что одно с другим неразрывно, что то и другое оказывается одним и тем же, так что совокупно и вместе с одним усматривается и другое. Ибо премудрая воля Божия явлена могуществом в совершаемом, а действенное могущество Божие довершено премудрою волею. Посему, если в одном и том же и вместе есть премудрость и могущество, то не не знает Он, как могло найтись вещество к устроению существ, и не имеет недостатка в могуществе умопредставленное привести в детство. Всемогущий же по премудрой и могущественной воле к совершению существ положил основание в совокупности всему тому, из чего составляется вещество: легкость, тяжесть, плотность, скважность, мягкость, твердость, влажность, сухость, холодность, теплоту, цветность, образ, очертание, протяжение. Все сии свойства сами по себе — понятия и голые умопредставления. Ибо ни одно из них само по себе не есть вещество, но сходясь между собою, делаются они веществом. Посему, если о Преимуществующем премудростию и могуществом скажем, что все знает и все может, то приблизимся, может быть, несколько к возвышенному слову Моисея, который говорит: в заглавии (??? — сие слово употребил Акила вместо слова: начало) сотворены Богом небо и земля. Поскольку Пророк книгу Бытия соделал введением в боговедение, и у Моисея та цель, чтобы преданных чувственности посредством видимого руководить к превышающему чувственное понимание, а небом и землею определяется познаваемое нами посредством зрения; то слово наименовало их, как крайние объемы существ познаваемых нами посредством чувства, чтобы, сказав: от Бога получило бытие содержащее, означить им все содержимое внутри сих пределов, и вместо того, чтобы сказать: Бог сотворил все существа в совокупности, изрекло: в заглавии или в начале сотворил Бог небо и землю. Ибо одно значение сих двух слов: в начале и в заглавии; обоими равно выражается совокупность. Словом: в заглавии показывается, что все вместе приведено в бытие, а словом: в начале выражается мгновенность и неразрывность. Слово: начало чуждо понятия о всяком протяжении. Как точка — начало черты, и атом — начало телесного объема; так мгновение начало временного протяжения. Посему совокупное положение основания существ неизреченным Божиим могуществом у Моисея наименовано началом или заглавием, в котором сказуется все состоявшимся. Ибо нарек крайние пределы существ, а с тем вместе молча указал и на заключающееся между сими пределами. Пределы же разумею по человеческому чувству, которое не простирается и до того, что под землею, и не восходит далее неба.
Итак словами: начало миробытия предполагается такое разумение, что и поводам, и причинам, и силам всех существ вдруг и в одно мгновение положил Бог основание. За первым стремлением Божией воли последовала сущность каждого из существ: небо, эфир, звезды, огонь, воздух, море, земля, живое существо, растения, все, что зримо было Божиим оком, указуемо словом могущества, как говорит пророчество, знающий все прежде бытия его (Дан. 13:42.). Когда же могуществом и премудростию положено основание совершению каждой из частей мира, последовал за сим необходимый некий ряд в известном порядке, так что предварил и прежде всего иного видимого во вселенной появился огонь, а после огня явилось, чему необходимо следовать за предварившим, и за этим третье, чего потребовала художественная природа; также четвертое и пятое и все прочее в дальнейшем за сим последовании появлялось в таком порядке не по самослучайному какому–либо столкновению и не в следствие беспорядочного и никуда не направленного движения. Но как необходимый порядок естества требует последовательности в том, что приводится в бытие, так и Моисей, в виде повествования излагая любомудрое учение о естестве вещей, говорит о создании каждого существа, присоединяя и некие творческие Божии глаголы, которыми каждое из существ приводится в бытие, и делает это прекрасно и боголепно; потому что все, в некоей стройной связи и премудро созидаемое Богом, подлинно есть некий глас; потому что, хотя не знаем, что такое Божия сущность, однако же, представив в уме Божию Премудрость и Божие могущество, уверяем себя, что постигли Бога умом.
Посему–то, когда приходила в бытие вселенная, прежде, нежели каждое из наполняющих вселенную существ оказалось само по себе, над всем разлит был мрак. Ибо не появлялось еще блистание огня, сокровенное в частицах вещества. Как кремни остаются невидимыми во тьме, хотя по естеству имеют в себе светоносную силу, при взаимном ударении друг о друга порождая из себя огонь; но как скоро является из них искра, и сами они при ее светлости делаются видимыми: так все было невидимо и не явлено, пока не пришла в явление светоносная сущность. Ибо когда по единому мановению Божией воли вдруг нераздельно составилась вселенная, и все стихии были еще одна с другою смешаны, тогда рассеянный по всюду огонь оставался потемненным, омрачаемый преизбытком вещества. Но поскольку в нем есть некая всепроницающая и удободвижная сила; то вместе с тем, как естеству существ дано было Богом повеление привести в бытие мир, и огонь проторгся из всякого тяжелого естества, и вдруг озарил все светом. Но что произошло по слову премудрости могуществом Сотворившего, о том упоминает Моисей. как о повелительном Божием слове, говоря: И сказал Бог: да будет свет. И стал свет (Быт. 1:3.); потому что у Бога, и по нашему понятию, дело есть слово; почему все, приводимое Им в бытие, приводится словом; и что от Бога, в том невозможно и представить чего–либо неразумного, как ни есть составившегося и самослучайного. А напротив того надлежит верить, что в каждое из существ вложено некое премудрое и художническое слово, хотя оно и недоступно нашему взору. Посему, что сказал Бог? Поскольку таковое вещание есть повелительное слово, то боголепно, думаю, уразумеем это, относя изречение сие к вложенному в тварь слову. Так и великий Давид протолковал нам подобные вещания, сказав: все соделал Ты премудро (Пс. 103:24). Те повелительные глаголы при творении существ, которые Моисей писал с Божия гласа, Давид наименовал премудростию, созерцаемою в вещах сотворенных. Почему и сказует, что небеса проповедуют славу Божию (Пс. 18:2), то есть, в стройном вращении открываемое ими художественное зрелище для сведущих заменяет слово. Ибо сказав: небеса проповедуют, и возвещает твердь, Давид исправляет сим тех, которые грубее понимают сказанное, и думают, может быть, услышать и звуки вещания и членораздельные слова в поведании небес; почему говорит: нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их (4); и тем показывает, что созерцаемая в твари премудрость есть слово, впрочем не членораздельное. И еще, поскольку Моисей говорит, что были ему некие Божии вещания, изглаголанные в чудесах совершенных в Египте; то Псалмопевец истолковал их возвышеннее, нежели как понимают многие, сказав: они показали между ними слова знамений Его и чудеса [Его] в земле Хамовой (Пс. 104:27). Ибо Псалмопевец, сказав, что действенная сила каждого из сотворенных существ приводится в деятельность неким словом, сим изречением ясно дал разуметь, что наименовал так не слово действительно изрекаемое, но являемую в чудесах силу.
Посему и здесь, хотя предваряла по скорости и удободвижимости естества и отделялась от существ светоносная сила, отделяющая себя от инородного, и все осиявалось, освещаемое лучезарною этою силою, однако же то слово, по которому действовала в этом сущность огня, принадлежало изречь единому Богу, в естество вложившему светоносное слово. О сем–то свидетельствует писанием своим и великий Моисей, когда говорит: и сказал Бог: да будет свет, выражая, как думаю, сказанным ту мысль, что создание света, превышающее всякое человеческое понятие, есть Божие слово. Ибо мы видим только то одно, что совершается, и чудо приемлем в себя чувством. Где же скрывавшийся огонь мгновенно возрождается? Если возгорается при взаимном ударении кремней, то каких? Или происходит от трения других вещей? и какая эта сила, которая поедает объятое огнем, а воздух озаряет пламенем? Не можем мы ни видеть сего, ни составить о сем какое–либо понятие, но говорим, что причина сего необычайного чуда сокрыта в едином Боге, по неизреченному закону могущества сотворившем, что огнем порождается свет; как свидетельствует в слове своем Моисей: И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы (Быт. 1:3.4). Ибо подлинно единому Богу свойственно было видеть, что свет будет таким добром; нищета же нашего естества смотрит только на то, что совершилось, а закона, по которому совершается это, ни увидеть, ни похвалить не в состоянии; потому что похвала воздается тому, что познано, а не тому, что не известно.
Итак сказано: и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы (Быт. 1:4). Что происходит необходимо по самой последовательности естества в некоем порядке и стройности, Моисей опять приписывает Божией деятельности, научая, как думаю, сказанным, что Божьею премудростию предумышленно все, происшедшее в последствии одно за другим в необходимом некоем порядке. Ибо когда светоносная сущность, рассеянная во вселенной, стеклась к сродному, и вся собралась вокруг себя; тогда, омрачаемая прочим веществом стихий, необходимо затенялась, и эта тень была тьма. И сие–то происходящее последовательно, чтобы не приписал кто какому–либо самослучайному столкновению, Моисей называет делом Бога, эту силу вложившего в творимое. Что естество огня быстро, приснодвижимо и стремится выспрь, известно это всякому из явлений. Что по сему началу предполагается словом разуметь сие последовательно, то у Моисея описывается исторически в виде повествования: и был вечер и было утро (Быт. 1:5). Ибо кто не знает, что, поскольку тварь понимается двояко, как нечто умопредставляемое, и нечто чувственное, то у законодателя теперь все попечение, не умопредставляемое описать, но в явлениях показать нам устройство чувственного.
Поскольку с того же мгновения, как начала составляться вселенная, огонь, подобно какой–то стреле, отбрасываемый иноестественными стихиями, по легкости и стремительности выспрь естественного ему движения, из всего был изгоняем, и с равною мысли скоростью проникнув чувственную сущность, не мог продолжать движения по прямой черте, потому что умопредставляемая тварь по необщимости не входит в смешение с чувственным, огонь же есть нечто чувственное; то по сей причине, достигнув крайних пределов твари, необходимо огонь совершает кругообразное движение, вложенною в естество его силою понуждаемый к общему движению со вселенной, тогда как не имеет для него места движение по прямому направлению (потому что всякая чувственная тварь заключена в собственных своих пределах), пролагает себе путь по крайнему пределу чувственного естества, движась, где только удобно, так как, по сказанному нами прежде, умопредставляемое естество не дает в себе хода огню. Посему–то Моисей, последовав мыслию за движением огня, говорит, что сотворенный свет не остался в одних и тех же частях мира, но, обтекая грубейший состав существ, попеременно при сильном движении приносит частям неосвещенным светлость, а освещенным — мрак. И может быть, по временному протяжению такового преемства, совершающегося в дольней стране (разумею преемство света и тьмы), Моисей Богу также приписывает наименование дня и ночи, внушая о всем последовательно происходящем не представлять себе, будто бы получило начало самослучайно, или от кого–либо другого. Посему говорит: и назвал Бог свет днем, а тьму ночью (Быт. 1:5). Поскольку светоносная сила естественно не могла оставаться в покое, когда свет проходил верхнюю часть круга, и стремление его было в низ, то при нисхождении огня лежащее выше необходимо покрывалось тенью, потому что луч вероятно омрачаем был естеством грубейшим. Поскольку удаление света именовал Моисей вечером, и когда огонь опять поднимался с нижней части круга, и снова простирал лучи к верхним частям, происходящее при сем нарек он утром, наименовав так начало дня.
Но повторим несколько сказанного выше, чтобы предложенное в божественном Писании содействовало нам к продолжению сделанного обозрения. О миробытии прежде всего изрекло слово: в начале сотвори Бог небо и землю. Поняли же мы это так, что слово означает сим совокупность состава существ, указывая содержащим и на содержимое внутри: потому что крайними пределами объемлется, конечно, и среднее. Крайние же пределы для человеческого чувства суть небо н земля: так как ими с той и другой стороны ограничивается человеческий взор. Посему, как сказавший: в руке Его все концы земли (Пс. 94:4) разумел и средину между концами; так и Моисей упоминанием о пределах делает указание на вещественную основу всего мира. К таковому же разумению, утверждаем мы, содействуют поставленные в средине речения;
ибо написано: земля же была безвидна и пуста (Быт. 1:2): а из сего явствует, что все уже было в возможности при первом устремлении Божием к творению, как бы от вложенной некоей силы, осеменяющей бытие вселенной, но в действительности не было еще каждой в отдельности вещи. Ибо сказано: земля же была безвидна и пуста; а сие тоже значит, как если бы сказать: земля и была, и не была; потому что не сошлись еще к ней качества. Доказательством сей мысли служит то, что, по Писанию, была она невидима. Ибо невидимое не есть цветность; а цветность производится как бы неким истечением образа на поверхность, образ же не возможен без тела. Посему, если земля была невидима, то, конечно, и бесцветна, с бесцветностью же подразумевается неимение образа, и вместе с сиим последним неимение и тела. Следовательно при начальном основании мира земля, как и все прочее, была в числе существ, но ожидала того, что дается устройством качеств, что и значит, прийти в бытие. Писание, сказав, что земля была невидима, показывает сим , что никакого иного качества не было еще при ней видимо; а наименовав неустроенною, даст разуметь, что не была еще приведена в огустение телесными свойствами.
Еще более уясняется такая мысль писаниями Симмаха, Феодотиона и Акилы. Один сказал: «земля была праздною и безразличною»; другой: «она была пустота и ничто»; третий: «ничто и ничто». А сим, по моему рассуждению, выражается, словом: праздна, что не была еще в действительности, имела же бытие в одной только возможности, а словом: безразлична, что качества не были еще отделены одно от другого, и не могли быть познаваемы каждое в особенности и само по себе, но все представлялось взору в каком–то слитном и безразличном качестве, не усматривалось в подлежащем ни цвета, ни образа, ни объема, ни тяжести, ни количества, ни чего–либо иного сему подобного, отдельно в себе самом взятого. На ту же мысль указывают нам слова: пустота и ничто. Ибо словом: пустота Феодотион выразил способность вместить в себе качества; а из сего познаем, что Творец вселенной предварительно дал земле силу приемлемости качеств; была же она какою–то пустотою, и ничего в себе не имела, пока не восполнена качествами. Третье же выражение Акилы, как отысканное им в Философии Эпикура, думаю оставить без рассмотрения. Ибо и Эпикур о первом начале существ говорит нечто подобное, показывая таковыми речениями, что не состоятельное естество атомов есть пустое слово, и ничего не значит; а это подобно выражению: ничто и ничто.
Но возвратимся опять к продолжению обозрения. Когда огонь единожды обтек самый крайний предел чувственного естества, почему в след за сим приходит в бытие твердь, о которой сказано, что она есть граница между верхними и нижними водами? Ибо думаю, что тверди, будет ли она одною из четырех стихий, или чем иным от них, нельзя представлять себе, как воображала внешняя философия, телом твердым и упорным; напротив того крайний предел чувственной сущности, по которому, по причине приснодвижимой силы, круговращается естество огня, сравнительно с вечным, бестелесным, неосязаемым свойством, назван в Писании твердью. Кто не знает, что все твердое сгущается по какому–то непременно упорству; а сгущенное и упорное не свободно от качества тяжести; тяжелое же по естеству не может быть стремящимся выспрь. Напротив того твердь выше всей чувственной твари; потому сообразность с разумом требует не представлять о тверди чего–то грубого и телесного, но, как сказано, по сравнению с умопредставляемым и бесплотным, все, что принадлежит к чувственному, хотя по естественной тонкости избегает нашего наблюдения, называется твердью. Посему, что было объято огнем во время его кругового обращения (объят же предел вещественной сущности), то, будучи однажды описано каким–то собственным своим пределом, по вещественной природе справедливо наречено твердью в сравнении с тем, что ниже, но наименовано и небом, как и свету дано имя день, а тьме — ночь.
Разделение же вод, разлучаемых посредством тверди, не противно сему предположению и согласно с Писанием. Ибо сообразно с утверждаемым после сказанного о земле, написано: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою (Быт. 1:2). Посему думаем, что Духу Божию столько же не возможно быть Духом тьмы, сколько чужд Он и всякого зла. И на сие можно представить тысячи изречений святого Писания, что Бог есть свет истинный (Ин. 1:9), и живет во свете неприступном (1 Тим. 6:16) А Дух Божий по естеству тоже, что и сам Бог. И если естество Бога и Духа одно, Бог же есть свет, то, конечно, и Дух Божий также свет. Свет же, без сомнения, и то делает пребывающим во свете, над чем носится. И вода, над которою носился Божий Дух, есть нечто иное, а не это в низ стремящееся естество текучих вод; она твердью отделяется от тяжелой и в низ стремящейся воды.. Если же в Писании и она именуется водою (чем, как по высшему умозрению догадываемся, означается полнота умопредставляемых сил); то никого да не смущает сия подобоименность; потому что Бог и есть огонь поедающий (Втор. 4:24), но понятие о сем огне не имеет вещественного значения. Посему, как познав, что Бог есть огонь, представлял ты Его чем–то иным, а не этим видимым огнем, так наученный, что над водою носится Божий Дух, представляй себе не это стремящееся в низ и текущее на землю естество; потому что Дух Божий носится не над земным и непостоянным.
Итак, чтобы яснее открылось нам это понятие, кратко повторим смысл сказанного, а именно: твердь, которая названа небом, есть предел чувственной твари, и за сим пределом следует некая умопредставляемая тварь, в которой нет ни образа, ни величины, ни ограничения местом, ни меры протяжений, ни цвета, ни очертания, ни количества, ни чего либо иного усматриваемого под
небом.
И никто да не подумает о мне, будто бы сим в моем воззрении на речения, понимая оные иносказательно, ввожу смешение понятий, и чрез это соглашаюсь с мнениями тех, которые прежде нас имели подобный взгляд, и говорю: бездною называются отпадшие силы, а под тьмою верху бездны разумеется миродержитель тьмы. Никогда не соглашусь на такую беззаконную мысль, чтобы злобу представлять себе Божиим созданием, когда Божие слово вкратце изрекло ясно: И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1:31). Если добро все, что сотворил Бог, бездна же, и что около нее, не вне созданного Богом; то следует, что и она, хотя есть бездна, в собственном смысле добра, хотя и не сияет еще около сей бездны вложенный в существа свет.
Посему, когда слышу в Писании слово: бездна, утверждаю, что означается сим множество вод. Ибо так определяется сие слово и в Псалмопении, где сказано: Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны (Пс. 76:17.18). А когда слышу, что около бездны тьма, тогда представляю себе, что вложенная в естество существ светоносная сила еще не явилась. Научаемый же Писанием, что твердею произведено разлучение вод, думаю, не вопреки справедливости и значению слова поступить, разлучение вод понимая так, что должно разуметь под оным различное естество разлучаемых вод, убедиться, что одни воды стремятся выспрь легко, даже превосходят легкостью огонь; а посему, пребывая выше теплой сущности, не увлекаются движением того, что ниже их, и теплотою не приводятся в противоположный порядок, но пребывают тем же не умаляясь, и круговращающемуся под ними огню не дают сквозь себя никакого прохода. Ибо как невещественному сделаться вместилищем вещественного? Другие же воды суть те самые, которых естество познаем и глазом, и осязанием, и вкусом. Они стремятся в низ, представляются прозрачными, различаются вкусом по вложенному в них качеству; и воды сии подводить под какое либо другое понятие не понуждает естество познаваемого. А то, что названо также водами, но невидимо, не имеет текучести, не объемлется вовсе ничем таким, чем обыкновенно сдерживается влажное естество, но как само вне места, так и в себя не дает доступа всякому чувством познаваемому качеству, потому что Дух Божий носится над этим, и потому что признается это превысшим неба, и потому что пребывает вне всего познаваемого чувством, думаю, всякий из способных судить, уносясь предположениях к умопредставляемой сущности, представит себе чем–то иным, а не водою обыкновенною. Ибо на основании нами исследованного пришли мы к той мысли, что все движимое заключено внутри умопредставляемого естества, и имеет обращение около себя самого. Границею же движимому служит предел протяженного естества, за которым находится естество умопредставляемое и неизмеряемое, свободное от свойств, места и протяжения. Посему о самом крайнем пределе чувственной сущности, далее которого нет ничего подобного познаваемому в видимом, утверждаем, что сей–то предел означается именем тверди: и сие наше мнение подтверждает Писание, говоря: и отделил Бог воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так (Быт. 1:7). Ибо сим показывается, что и в начале одна вода не была растворена другою, но при общности имен естество было не смешано: ибо говорится не то, что стало под твердью бывшее выше тверди, но что одно было под твердью, а другое нечто над твердью. Если же в самом начале определено занять положение одному в низу во мраке, а другому не во мраке; ибо что в Духе Божием, то, конечно, во свете и отделено от мрака, а вместе с сим было выше тверди, показавшейся посреди; то пусть разумный слушатель судит, удалилось ли сколько–нибудь слово наше в сказанном от надлежащего разумения.
Таково сие и подобное сему, что примышлено нами о первоначальном составе существ, о том, почему свет по силе своей сущности не позднее существ, хотя Писание прежде повествования о свете говорит о тьме, и таковы наши гадания о тверди и о разделении вод, естество которых, разделенное на стремящееся в низ и на легкое, приводит нас к предположениям, сообразным с каждым из подобоименно сказуемых.
Когда же разделены между собою воды и видимые, и умопредставляемые, и среднею гранью двоякого естества вод оказалось небо, о котором сказано, что приведено в бытие в начале вместе с землею и со всем, положенным в основание устройству мира, а теперь довершено и наименовано при явлении тверди, определенной вращением огня; тогда второе круговращение света снова стало вместе и омрачать и освещать лежащую ниже часть. А сие и наименовано, как одно за другим следовало, в совокупности же составило день. В следствие же сего по необходимости привзошло в тварь и свойство числа; потому что число не иное что есть, как сложение единиц. Все же, представляющееся в каком–либо определенном очертании, именуется единицею. Посему, так как круг, сам себя определяющий, со всех сторон полон; то Слово прекрасно чем–то единым наименовало одно обращение круга, сказав: и было утро и был вечер: день один (Быт. 1:5). И опять другое обращение назвало также единым; сложив же то и другое, составило два. Так Слово вместе с частями твари ввело и число, последовательность в порядке означая числительными именами. Ибо говорит: и был вечер, и было утро: день второй (8)
Когда сие совершилось, естество существ, держась последовательности, снова производит, чему необходимо следовало быть за произошедшим прежде. Но и сему Божию делу предшествует Божие повеление; потому что Моисей везде обезопашивает наш ум, чтобы ни одного из существ не представлял себе состоявшимся без Бога, но удивление каждому из сотворенных существ возводило его к Сотворившему.
Сказав, как вся светоносная и огнистая сущность собственными своими качествами отделилась от иных существ, Писание умолчало об устроении воздуха, хотя в естествословии второе место после поднявшегося вверх огня принадлежало воздуху, у которого по легкости есть некоторое сродство с легкостью огня; и потом уже следовало рассуждать об естестве тяжелом: однако же Моисей ведет речь о последнем, а не касается словом воздуха; не потому, что он ничего не привносит к полноте всего мира, и не потому, что лишен силы стихий, но, вероятно, потому, что при мягкости и уступчивости естества воздух в себя принимает каждое существо, дает его видеть в себе, а сам не имеет ни цвета собственного, ни образа, ни поверхности, но принимает на себя и чужой цвет, и чужой образ. Ибо при осиянии его светом делается светлым, а оттеняемый темнеет, сам же по себе ни светел, ни темен; принимает на себя всякий образ, окрашивается во всякий род цветов, способствует всякому движению всего в нем движущегося. Легко уступает тому, что в нем несется в ту или другую сторону; и здесь и там рассекаемый объемом движущегося, сам собою восстановляется позади сего объема. Да и когда из сосуда льется, какая бы то ни была, влага, дает свободный ход выливаемому, и сам собою на опорожненное место входит внутрь сосуда. II тысячи подобных случаев доказывают мягкость и уступчивость воздушного естества. И так, поскольку в нем совершается человеческая жизнь, в нем заключена вся почти сила жизни, в воздухе заимствует свою крепость действенность чувственных орудий; посредством его и видим и слышим, чрез него также ощущаем пахучее, а переведением дыхания совершается главнейшее из жизненных действий; переставший дышать непременно перестает вместе и жить; то по сему самому премудрый Моисей не занялся естествословием сей нам близкой и сродственной стихии, которою с самого рождения питаемся, почитая для нас достаточным по этой части учителем это прирожденное и родственное отношение естества нашего к воздуху. Но что в продолжении творения является в воздухе, то во всей подробности изобразил словом.
Премудрый и всестройный порядок созидаемых вещей, по прошествии второго дня отделяющий воду от земли, снова именуется Божиим глаголом и повелением. Ибо действительно все совершаемое премудростию есть Божие слово, не какими либо орудиями членораздельно изглашаемое, но изрекаемое самыми чудесами явлений. Земляная качественность была еще смешана с естеством влажным; посему кому иному было возможно до того огустить землю собственными ее качествами, что по приведении всех ее частей в однородное, при сжатом и сгнетенном ее состоянии, выжата из нее заключающаяся влажность, вода же отделена от земляной примеси, и собралась вокруг себя самой, заключенная в земных впадинах? И действительно сие было делом Божия могущества и Божией премудрости; потому и Моисей говорит, что чудом сим управляло Божие слово, издавшее повелительное некое изречение; а как я о сем рассуждаю, этим повелительным изречением указывает Моисей на слово вложенное в естество твари. Ибо говорит: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так (Быт. 1:9.) Смотри, вот необходимый порядок естества! Поскольку извлечена из земли вода, то осушается отделенное от влажности, а поскольку влажность нерастворена уже землею в виде грязи, то вода необходимо оттеняется какими–то водоемами, чтобы не утрачиваться ей по текучести естества, если бы ничто не преграждало ее разлития.
Но мне не безвременным кажется, сделать опять упоминание о водах превыше небесных. Если здесь для вмещения вод земля необходимо принимает особый вид, как бы в недра какие заключая их текучесть, и собственною своею неподвижностью сообщая постоянство непостоянному естеству вод; то как же оная вода, если только она действительно вода, стоит на непостоянном, и на наклонном остается не разливающеюся? Если предположим, что естество двух вод одно и тоже; то по всей необходимости тоже самое, что видим в здешних водах, должны заключить и о пренебесных. Следовательно небесный хребет изрыт водотечами, покрыт пропастями, на подобие образовавшихся на земле между стремнин, чтобы вода держалась в сих впадинах. Посему, что скажут, когда кругообразное вращение полюса наклонит к низу то, что теперь в верху, разве придумают какие на кругах крыши, чтобы повисшая вода не выливалась из впадин?
Говорят: огонь расточителен, имеет потребность в каком либо веществе, которое бы непрестанно питало пламень, чтобы не ослабевал он, при недостатке горячего вещества истребляя сам себя. А я, хотя высокое слово нашего учителя соглашается на подобное мнение, попрошу читателей, не оскорбляться, если вполне порабощаю себя предложенному выше в сем обозрении существ. У учителя была не та цель, чтобы собственные свои мнения непременно поставить в закон слушателям, но чтобы учением своим соделаться для поучаемых неким путем к истине. Посему и мы, занявшись оставшимися после него уроками, имеем в виду сообразное с ними. И это наше слово, если только окажется вероятным, да будет приписано мудрости учителя. Итак что же заключим о предложенном возражении?
Не в огне только и воде усматриваем противоположные качества, но и в каждой из стихий непременно можно найти в свойствах ее некую борьбу противоположностей. Как в упомянутых стихиях холодному противоборствует теплота, влажному сухость; так опять в другом отношении в земле и воздухе представляются взаимно одно другому противоположные качества: твердость и разреженность, упорство и уступчивость, и все иное, что в каждой из сих стихий в отдельности познается из противоположного. Посему, как нельзя сказать, что в сих стихиях одна питается другою противоположною; потому что с уменьшением тяжелого не возрастает легкость воздуха, плотность земли не производит разрежения в противоположной стихии, прочие свойства земли своею утратою не питают качеств воздушных; так, скажет иной, влажное и холодное, хотя противоположны теплому и сухому, однако же не питаются взаимным истреблением друг друга, и возможность быть которому либо одному из сих качеств состоит не в возможности не быть другому. В таком случае, если бы сохранение того и другого качества имело возможность только при истреблении обоих двух, не могли бы существовать ни то ни другое; потому что в каждом равна сила к истреблению другого, и всегда избыточество преобладающего служит уничтожением для недостаточного. А что сие положение истинно, можно познать это из самого опыта. Когда какое либо вещество охватит огонь, потом будет введена в дело вода; тогда ясно можно видеть взаимное истребление двух сих стихий; преобладающая из них уничтожает другую, так как каждая равно уступает могуществу сближающейся с нею. А пока силы в обеих равномерны, одинаково производится обеими взаимное друг другом уничтожение, ни одна другою не питается, но обе одна другою уничтожаются. Как о пожирающих друг друга зверях неестественно сказать, что истребляемые друг другом звери друг другом живут; так противление влажного сухому не могло бы ни того, ни другого сохранить в бытии, если бы гибель одного питала другое. Но мне кажется, хорошо будет, держась последовательности мысли, продолжить нам слово свое так: поскольку увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт. 1:31); то утверждаю, что в каждом из существ должно быть усматриваемо совершенство добра. Ибо присовокупление слова: зело, усиливая значение, ясно показывает, что нет никакого недостатка в совершенстве. Как в целом роде животных, хотя можно видеть между ними тьмочисленные различия пород, однако же утверждаем о каждой породе, что соответствует она общему одобрительному о существах приговору, а именно, что они равно добра зло; потому что одобрение относится не к видимому: будут ли это многоножка, земная лягушка, животные родящиеся от гниения нечистот, и они добра зело. Поскольку Божественное око взирает не на внешний вид сотворенного, то не по доброцветности, не по благообразию определяется доброта, но потому что каждое существо, каково оно ни есть, имеет в себе совершенное естество. Ибо не быть быком не значит быть конем; напротив того в каждом из них естество соблюдает само себя, приобретя особенные причины к особенному своему пребыванию, не в разрушении естества почерпая силу, но имея ее для поддержания бытия.
Так и стихии, хотя иначе относятся одна к другой, но каждая сама по себе добра зело, потому что каждая сама по себе, по особенному для нее закону, исполнена добра. Земля есть добро; потому что не имеет нужды в гибели воздуха, чтобы ей быть землею, но пребывает с собственными своими качествами, соблюдая себя естественною, от Бога вложенною в нее, силою. Добро и воздух; для продолжения своего бытия не требует он, чтобы не было земли; но довольствуется теми силами, какие в нем по естеству. Так и вода — хороша, и огонь — хорош, потому что и вода и огонь имеют полноту по собственным своим качествам, и силою Божией воли в особых для них мерах первоначального бытия пребывают постоянно. Земля, сказано, пребывает во веки (Еккл. 1:4), не умаляясь и не прибывая. Воздух сохраняется в особых для него пределах; огонь не убывает. Почему же из всех существ одна только вода принадлежит к вещам истощаемым? И еще притом, когда усматриваем, что огненная сущность и сила велики в сравнении с существами, в ясное доказательство чего любомудрствовавшими о превыспреннем приводится то, что солнце во много крат больше земли; так что не на дальнее расстояние в воздухе простирается тень ее, по превосходству солнечной величины в потоке солнечных лучей принимающая вид конуса. Посему, если одно столько мало в сравнении с другим, что вода, измеренная вместе со всею землею, есть малая часть солнечной величины, то на сколько времени достало бы этой малости для истощения такому огню? Но видим, что море всегда равно полно, и течение рек пребывает в своих размерах, и такой опыт свидетельствует, что влага нисколько не истощается. Но как первоначально не истреблением влажности приведен в бытие огонь, но сотворен тою же, что и влажность, силою; так сообразно с первоначальным устройством стихии навсегда сохранится продолжение ее бытия, и огонь для своего продолжения не потревожит влажного естества.
Говорят: нередко видим, что земля бывает увлажена дождем; а потом, как скоро солнце сильнее пригреет открытое лучам его, земля, незадолго бывшая мокрою, делается сухою. Где же тут влажность, продолжают, если истребила ее совершенно теплота луча? Поэтому, ужели скажут, что вода, если из одного горшка перелита в другой, и полный сосуд стал вдруг пустым, потому что нет ее в одном сосуде, а стала она в другом, вовсе не существует? А что бывает в этом случае, то предполагая и о сказанном выше, никто не погрешит против справедливости. Ибо равно возможно, перелиться влаге из одной вместимости в другую, и испарившейся мокроте из земли подняться в воздух; так как влага естественным образом возгоняется в верх, когда теплота верхнего слоя мелкими частями влечет ее из земли к себе. Признаком совершающегося при сем служит, что нередко, при выхождении из земной глубины паров более грубых, кажется текущим некое подобное облаку вещество, и густота паров бывает такова, что она видима и для глаз. А иногда может быть испарение мокроты, состоящее из таких мелких частей, что тонкостью оно некоторым образом равняется воздуху, и тогда только делается явным для взоров, когда испарение таковых влаг сложится само с собою, и таким образом чрез сгущение обратится в облако; почему сии тонкие и парообразные влаги до времени по легкости плавают в воздухе и носятся ветрами; но, если, по взаимному между собою сродству влаги, слившись вместе, делаются более тяжелыми, то принимают вид капли, падающей из воздуха на землю. Итак теплота не истребила того, что извлекла из земли, но из этого самого составилось облако, а сгустившееся облако стало водою, которая, опять смешавшись с землею, обратилась в пар, а пар, приняв вид облака, сделался дождем; и из дождя земля опять породила пары; пары же, сгустившись в состав облаков, излились, и излившееся.снова возвращено воздуху в парах; и таким образом составляется какой–то круг, около самого себя обращающийся. и всегда делающий одни и те же обороты. Укажешь ли на растения и почки растений. — Все идет тем же кругом. Влага по растениям или семенам стекается в почки: и если входит вместе с нею что–либо земленистое, оставив это в объеме питаемого, когда то, что внизу иссушено окружающим, снова испаряется в однородное с собою. Воздух, будучи разрежен в своих частях, которые тоньше самых тонких частиц пара, все находящееся в нем уступает сродному, Так и пыль, если много рассеяно ее в воздухе, опять возвращается земле. И влага не истребляется, но непременно находит что либо сродное и близкое себе, кружащееся в воздухе, к чему прильнув и возрастая от присовокупления подобных частиц, снова принимает на себя объем облака; а таким образом в виде капель восстановляется в свое собственное естество. Почему повсюду и во всем, что видимо в мире стихийного, сохраняется в одной и той же мере, какую первоначально установила для каждого существа премудрость Создателя к благоустройству вселенной.
Но знаю следующее возражение: часто во время сильного зноя можно видеть какие–то рассеянные в воздухе облака, которыми, если кто долее на них посмотрит, может несколько опровергнуть сие положение, что влажное естество нимало не истребляется. Ибо скученные отрывки облака, во множестве рассеянные в воздухе, сперва уменьшаются в объеме, сжигаемые превозмогающим жаром, потом совершенно уничтожаются, попаленные зноем, так что не сохраняется и малого какого либо остатка по иссушении влаги жаром. А в этом нельзя успокоить себя сказанным о парах. Ибо то, что выше облаков и этого мутного и порываемого ветрами воздуха, по тонкости своего естества имеет такое растворение, что не принимает в себя ничего тяжелого. Напротив того все пары и курения пределом стремления своего вверх имеют тот грубый отчасти слой окружающего землю воздуха, которому неестественно подниматься вверх, потому что тонким и эфирным не приемлется ничто грубейшее. Так и описывавшие вершины некоторых самых высоких гор говорят, что они всегда выше облаков и недоступны ветрам, и птицам невозможно также взлетать туда, как и водяным животным жить в воздухе. А всем этим ясно доказывается, что в воздухе, и именно в верхнем его слое, есть предел, который всем грубейшим испарениям поднимающимся с земли служит остановкою. Посему–то до летней поры на вершинах гор остается снег нетающим, так как составление паров постоянно охлаждает там воздух. Да и огневидные полосы, которые называют иные падающими звездами, по естествословию мудрых происходят от той же самой причины. Когда усилием каких–то ветров часть грубого и наполненного разными веществами воздуха бывает занесена в эфирный его слой, поднявшееся вверх немедленно воспламеняется, и этот текущий пламень несется по направлению данному ветром; когда же ветер утихнет, угасает вместе и пламень. Итак нельзя сказать, что, по уничтожении облака ветром, снова составляются пары, и поэтому согласно с сказанным о парах носящихся внизу надеяться на восстановление истребленной влаги, необходимо же согласиться с теми, которые учат, что влага сгорает и обращается в ничто.
Но я, хотя убеждаюсь, что влажность в парах уничтожается преизбытком жара, почитая признаком человека суетного и спорливого противоречить тому, что явно; однако же, поскольку при обследовании истины со всех сторон надлежит ничем не утомляться, тем не менее утверждаю, что мера влажного естества сохраняется не умаленною, и издерживаемое всегда непременно восполняется в замен недостающего. А таковое мнение делает для меня твердым следующее. В действии огня у нас познаем по опыту, что огонь поедает не все качества вещества, но то одно, которое может охватить. Скажем например о веществе масла; когда оно отделено от холодного качества, тогда влага из этого вещества удобно извлекается теплотою огня, и обращается в пламень. Но не в пламень только один изменяется масло огнем, а и влага в огне, производимом маслом, после огня, как говорят, делается сухою пылью; что ясно доказывает дым от светильника, очерняющий то, что над пламенем; и если дым идет долго, то на очерненном им месте образуется толстый слой. Откуда явствует, что масло, высушенное огнем, изменяется в тонкие и неприметные частицы, в таком виде переходит в воздух, и оттуда оседает на землю. А что в воздухе происходит розлияние из тонких частиц состоящего дыма, это доказывается тем, что очерняются даже ноздри вдыхающих этот воздух, а нередко и внутренний, из груди выдыхаемый, воздух оказывается черным, потому что и он окрашивается цветом дыма, входящим во внутренность при вдыхании воздуха. Итак явствует из сего, что, хотя влага масла претворяется в сухость, однако же вещественный объем, будучи рассеян в воздухе в виде тонких и неприметных частиц, не уничтожается до небытия. Посему, что познали мы об этой влаге из действительного опыта, а именно, что влага изменяется только в сухость, вещественное же не уничтожается совершенно, — если сие же самое представит кто и о всякой влаге, не погрешит против справедливости. Ибо явно, что целое состоит из частей. А что познаем о части, тому научаемся и о целом. Никто же и самый спорливый не будет противоречить, что влажность в родовом понятии одна. Но влажность масла, сожженная огнем, сделалась тонкою пылью. Значит и всякая влага, быв в огне, переменяет качество частей, из влажного делаясь чем–то сухим, а не уничтожается вовсе.
Поскольку облако есть сгущение пара, а пар — разложение влаги на тонкие частицы; то, когда облако сожжено пламенем, этому тонкому и неделимому объему пара, хотя и не сохранит он влажного качества, по всей необходимости должно не обращаться в ничто, и не делаться чем–то невосстановимым. Четыре качества усматриваются в паре: влажность, холодность, тяжесть, величина. Из сих качества противоположные огню могуществом преобладающего уничтожаются. Ни влажность, ни холодность, быв в огне, не остаются таковыми. Но величина сродна и с сущностью огня; ибо он бывает видим в количественном; количественное же не противоборствует количеству. Посему, если у пара сохраняется величина и отделенная от качества влажности и холодности; а при величине сохраняется также и качество тяжести, существенно заключающееся в естестве пара (тяжесть обыкновенно равно принадлежит и влажному и сухому); то ум наш, держась строгой последовательности, не затруднится познать, как вода, став землею, в следствие того, что пары переменяют качество, приемлет подобовидное естество. Ибо сухость и тяжесть свойственны качеству усматриваемому в земле, а в сие–то и претворяется сожженный пар.
И мне кажется, что положившим сие начало, хорошо будет не оставлять последовательности исследования, к которой естественным образом придет сие обозрение, руководя к истине. Ибо и море, по видимому, всегда пребывает в своих пределах по тому самому, что, как всегда происходит в нем небольшое прибавление воды, так и вода в виде паров исчерпывается в верхние слои воздуха согревающею теплотою, которая, подобно кровососному рожку, поднимает вверх тончайшие части влажного естества.
Сему рассуждению противоречит, по–видимому, холодность окружающего воздуха в странах средиземных и северных, потому что море не нагревается там сильно, и не бывает образования паров; но это возражение можно отстранить двояким умствованием. Во–первых тем, что море повсюду одно и само в себе непрерывно, хотя делится на тысячи водоемов, но взаимное их сообщение нигде не пресекается, почему, если на юге от всегдашнего присутствия теплоты испарений больше, то происходящее там умаление вод дает себя чувствовать в странах холодных, и вода перетекает сама собою, по естественному стремлению всегда двигаться в низ. А потом равно сие подтверждается и тем, что всякое море, из какой бы воды ни было составлено, солоно в следствие образования паров; потому что особенное свойство естества соли есть сухость. А если одно и тоже качество равно растворено во всем море; то значит, что соленость во всякой части моря одинаково производит свойственное ей; ибо каждое естество непременно производит соответственное собственной ее силе. Как огонь жжет, снег холодит, мед сладит, так соли сушат. Итак, поскольку в морях повсюду примешано сушащее естество солей, как сие предуведала Божественная премудрость для удобнейшего образования паров (соленость, превозмогая над влажным заключающеюся в естестве ее сухостью, вытесняет и изгоняет из моря все, что в воде состоит из тонких частей); то не противно будет справедливости думать также, что повсюду происходит трата влаги, потому что воздух исчерпывает море парами.
Но что всякая воздушная влага делается облаком, и оттуда изливаются на землю дожди, это показало предшествующее слово, этому научает и пророчество, восписуя таковое дело Богу, когда говорит: призывает воды морские и разливает их по лицу земли (Ам. 5:8), и иное многое. И что все облака возгораются, и совершенно сгорают от теплоты, которая выше их, познали мы это из действительности. Посему остается не упустить из виду возражения, которое естественно возникает перед нами из сказанного. Ибо иной на основании прежних исследований скажет: из примера, что бывает с маслом, познали мы, что вещественное в предмете и по сгорании не погибает, а переходит в воздух, измененное действием огня; но по уничтожении влаги противоположным качеством возможно ли влажному естеству навсегда оставаться не умаляемым, когда сущность теплоты непрестанно пожигает влагу в парах, и превращает в качество сухости, как на основании исследований показало сие обозрение? Посему, если влага испаряется, и влажность, будучи в парах разделена на тонкие и неделимые участки, делается удобоуловимою для теплоты; то, по перехождении влаги в сухое качество, по всей необходимости должно признать более истинным то положение, что есть некое обилие вод, из которого всегда восполняется истраченное огнем. А, может быть, в подтверждение такого мнения иной и из Писания позаимствует некое свидетельство об отверзшихся небесных хлебах (Быт. 7:11), когда надлежало стать всей земле под водою, всякой вершине гор быть в великой водной глубине.
Но утверждаю, что возражение, взятое из Писания, можно отстранить другим Писанием. Ибо знаю, какое употребление Божественных речений обычно Писанию. Что означает оно словом: отверзть, и на что указывает словом: заключит? Ибо явно, что отверзается заключаемое, и заключается отверзаемое. Так, когда во времена Илии усилилась засуха, Писание говорит: заключено было небо на три года и шесть месяцев (Лук. 4:25). Думаю, что выражение Писания: хляби небесные отверзлись употреблено в том же смысле, в каком и сие: заключилось небо во время бездождия. Но тогда, по молитве Илии явившееся из моря облако (3 Цар. 18:44) отверзло им небо пролитием дождя. А сим ясно показывается, что тогда не разверзшаяся небесная твердь излила дождем так называемые над твердью воды, но Писание называет небом окружающий землю воздух, определяющий собою место парам, то есть предел тончайшему естеству того, что над ним, далее которого не имеет никакой силы восходить ничто более тяжелое, ни облако, ни ветер, ни пар, ни испарение, ни птица. Посему, что у нас над головою, то Писанию обычно называть небом: так птиц летающих в сем воздухе называет небесными (Быт. 1:26). Но если это действительно так; то слово наше не решило еще другого вопроса; почему претворение паров в сухость не умаляет влаги, утрачиваемой от преобладания теплой сущности. Но для сего хорошо будет изобрести иной ход умствования, согласный с воззрением сего слова; и может быть, при люботрудной внимательности удастся нам не погрешить в предположении приличном предмету рассуждения.
Слышу пророчество, в котором изображается величие могущества Божия чудесами в твари; оно говорит: Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы (Ис. 40:12)? Сими словами, думаю, пророк ясно научает, что каждая из стихий описывается особенными мерами: потому что содержительная Божия сила, которую пророк именует рукою, горстью, пядью, каждое из существ особым образом заключает в должную меру. Посему, если небо измеряется Божьею силою, вода рукою, вся земля горстью, и холмы взвешены, и горам определено явное мерило; то по всей необходимости каждому существу должно оставаться при собственной своей мере и при своем мериле, так что не может произойти ни увеличения, ни сокращения в том, что отмерено Богом и объемлется Его могуществом. Поэтому, если пророчество свидетельствует, что в существах не бывает ни прибавления, ни умаления, то каждое непременно навсегда остается при собственной своей мере, даже когда естество существ оказывается изменчивым. все прелагающим в то или другое, каждую вещь переиначивающим в что либо иное, и из этого снова посредством преложения и переиначивания приводящим обратно в то, чем была первоначально.
Но что влажный пар, быв в пламени, переходит в земленистое качество, горением будучи преложен в нечто сухое, это в сказанном выше достаточно дано разуметь представленным в пример маслом, и после сего надлежит рассмотреть, точно ли, по изменении вещества пара в противоположное качество, возможно оставаться вверху этому остатку пара, как замечает в одном месте слово сие, претворенному горением в, нечто тончайшее и неприметное?
Думаю, что по известным вам примерам можно заключать и об этом. Ибо здесь тонкие частицы дыма не навсегда остаются носящимися в воздухе, но по разреженности воздуха сходятся с сродным, окрашивая собою землю, стены и дерево на крышах. Посему, сообразно с сим, и о паре также можно предполагать, что и он, поднятый ветрами вверх в выспренний и пламенеющий слой воздуха, при претворении влажного качества сохраняет вещественность, а сделавшись сухим, привлекается к сродному, и возвращается земле. Ибо в каждое из существ с естеством вложена сила притягивать свойственное ему; посему нет никакой несообразности сделать такое предположение, что пар, делаясь каким–то сухим и земленистым, по сему качеству примешивается к сухости земли. Посему, если бы всякое естество влажной сущности было маслянистое; то по грубости сего качества горение обращало бы цвет таковых паров в черный, и про исходящее было бы для всех явно, будучи доказываемо принимаемым видом. Но поскольку в парах водного естества производится что–то самое тонкое и прозрачное, и они, по доказанному выше, вошедши в огонь, влажное качество меняют на сухое; то, если мысль наша и признает это чем–то существенным, по всей необходимости должна сие нечто, тон
кое, убегающее от нашего наблюдения, представлять чистым и воздухообразным. Но если кто признает чувство более достоверным, нежели понятие разума, и старается глазами усмотреть оные неделимые и неприметные величины; то желающему можно видеть, что воздух наполнен такими частицами, когда солнечный свет, входя в окно, сделает более явственною ту часть воздуха, которая освещена лучом. Ибо что недоступно для глаз в прочей части воздуха, то при помощи луча усматривается в бесконечном множестве вращающимся в воздухе. Посему, кто остановит на этом глаз, тот найдет, что поток тонких оных частиц всегда стремится в низ. Открывающееся же в части воздуха служит доказательством, что и во всем происходит подобное сему, потому что все само себе подобно, и целое составляется из частей. А если поток сих тонких и неделимых частиц во всякое время стремится по воздуху к земле; явно же, что не эфирное что либо, будучи раздроблено на сии частицы, рассыпается в воздухе; потому что естество огня не подвергается раздроблению и разлиянию на тонкие части; то по всей необходимости должно увериться, что опускается в низ вещество того самого, что показано было в сем слове восходящим в парах, и что влаги, какие привлечены были естеством теплоты, будучи сожжены и сделавшись землянистыми, не удерживаются долее огнем, но опять возвращаются земле. Так пища, по изменении ее в нас перевариванием в некое тонкое качество, к какой части тела приблизится во время пищеварения, той части переваренное и делается прибавлением. И поскольку многообразна разность членов в составе тела по сухости и влажности, по теплоте и холодности; то при каком бы члене часть пищи ни находилась, делается тем самым, что этот член по природе своей; потому что он, овладев благовременно, себе усвояет тонкость переваренного: подобным сему образом происходит из неделимых оных величин непрестанно совершающееся нечувствительное приращение на земле. Почему прилипающее ко всякому предмету, чем бы ни было по сущности приемлющее, в то естество изменяется, и делается в земле землею, в песке песком, в камне камнем, во всем всем; каким бы из твердых веществ ни было приявшее, принятое превращается в овладевшее им. Если же кто твердость камня признает не допускающею такого приращения; то при всей последовательности нашего рассуждения не почитаю должным спорить с думающими так; потому что их рассуждение не будет иметь никакой силы, если предположим, что этот падающий сверху поток земленистых частиц от того, что не приемлет их, ветры переносят к сродному.
Но иной, может быть скажет, что слово наше опускает из вида собственную свою цель, и предположив доказать, что влажное естество навсегда пребывает в первоначальной своей мере, само того не примечая, ведет к противному заключению. Ибо остается ли в огне возгоняемое вверх, или став сухим опять возвращается на землю, в том и другом случае будет равное умаление воды, и тем не менее сим рассуждением доказывается необходимость преизбытка влаги, по причине всегдашней непременной ее убыли. Посему слову нашему необходимо будет снова рассмотреть естество существ, чтобы в нем рассуждение наше открыло нам путь к предположенной цели.
Посему какое же это естество? Из стихийных существ, видимых в составе надземного мира, Создателем всяческих ничто не сотворено непреложным и неизменным, но все одно в другом существует, друг другом поддерживается; потому что прелагающая сила каким–то круговым вращением все земное прелагает из одного в другое, и из примененного в другое приводит снова в то, чем было прежде. А как сие изменение в стихиях совершается непрестанно, то необходимо всему переходить из одного в другое, друг от друга удаляясь, и снова в равной мере друг с другом сближаясь. Ибо ничто из сего не может сохраняться само собою, если не поддержит естества примешение инородного.
Как же, спросит иной, прелагающая и изменяющая сила совершает круговой путь по четырем стихиям? Ибо не все они происходят. одна из другой, и круг изменения не равно проходит каждым из существ. Но хотя вода изливается в воздух парами, а пары, напитав собою пламень, снова оземленяются, по сообщении с огнем сделавшись чем–то подобным пеплу; однако же земля, приняв их в себя, останавливает на себе ход сего изменения. Ибо не исследовано еще об естестве воды, из земли ли оно имеет свое происхождение. Итак остается рассудить, возможно ли земле превратиться в естество воды. Конечно же никто не обвинит нас в многословии, если войдем, сколько можно, в исследование того, что требует сего в следствие сказанного.
Так видим многие сухие вещества, которые по какой–то естественной особенности увлаживаются сами собою, как например можно сие примечать на соли, на металлах и на веществах, составляемых из какой–либо сожженной влаги, отличительным свойством которых есть сухость, но, если коснется их какая мокрота, делаются они влажными, и сухость переменяют в себе в влажное качество. Так знаю, что естество меда от поджаривания делается некоторым образом сухим, и опять от какого либо обстоятельства разлагается во влагу. Но оставляю это, потому что лучше на основании какого либо необходимого начала придать последовательность положению.
Знаем, что в каждой из стихий не одно качество, которым восполняется составляемое из сей стихии, и отделяется от того, что из противоположной стихии, но каждая вещь познается под различными качествами, из которых одни не сообщимы друг с другом, а другие равно свойственны и приличны качествам взаимно между собою борющимся; на пример: в земле и в воде не смешиваются между собою сухость и влажность; но в каждой из сих стихий в равной мере есть холодность, некоторым образом соединяющая собою взаимно борющееся. Опять вода отделяется от воздуха по противоположности тяжелого легкому. Но и между ними посредствует в естестве той и другой стихии равно усматриваемая влажность. Опять воздух далек от огня, и противоположен ему по причине борьбы между теплотою и холодом; но имеет и общение по качеству легкости, и общение этого качества служит как бы примирением каким естественного их противления. Потом огонь от земли отделяется по тяжести и легкости, но сухость обща обоим качествам, и чрез нее–то вступает разделенное как бы во взаимный между собою союз.
Но, что имея в виду, с сего начинаю исследование? То, что холодность одинаково усматривается и в земле, и в воде, и в воздухе, в большей же мере свойственна влаге, охраняя собою несколько естество воды, своим противлением теплоте замедляя ущерб причиняемый сухостью. Посему, как теплому сродна сухость, и огню одному невозможно оказывать себя не в сухом; так справедливо можно говорить, что с влагою соединена холодность, потому что каждому из качеств, усматриваемых в огне, должно и в воде быть противоположное качество, чтобы с сухим боролась влажность, а с холодным теплота. Посему, если доказано, что влага наравне с холодностью составляет естество воды; то следует заключить, что по силе холодного качества естественно заключающегося в земле, и вода есть в земле, и земля в воде. Ибо естественное сопряжение влаги с холодностью не позволяет им всецело разлучиться друг с другом. Но хотя влажное н холодное встречаются иногда отдельно, каждое само по себе, впрочем каждое не в точности одно, но в одном усматриваются по возможности оба. Ибо как за разлитием влаги в воздухе следует охлаждение в частях влажных паров; так наоборот, поскольку в глубине земли сохраняется холодность, и влажность не теряет сопряженного с нею качества, но холодная сила, естественно заключающаяся в земле, делается как бы семенем каким естества влаги, всегда из себя порождая соединенное с нею качество; так как изменяющаяся действенность, в следствие сильного охлаждения, прелагает землю в воду.
А если кто потребует у нас в этом отчета„ как изменение сие производит преложение твердого в влажное; то также не в состоянии будем объяснить сего, как и всего иного. Ибо как вода разливается в воздух, и тяжелое находит себе место в легком, или как изменение претворяет тяжелое в легкое? Что бывает это, постигаем мы чувством, но не можем разумом объяснить сих дел природы. Но если кто во свидетельство такого предположения примет опыт; то готовы мы доказать, представляя в свидетели слова копателей колодцев. Так как воды заключаются в глубине, выкапывают сперва они сухую землю, и поступая ниже в работе своей, не вдруг встречают воду в полном составе, но прежде по осязанию заключают, что в земле есть некоторая сырость: потом, достигнув более охлажденного слоя по причине глубины, находят комы подобные грязи; после сего, с углублением работы в слои еще более охлажденные, появляется слабое некое просачивание влаги; потом, по раскопании некоего прохода под основанием камня, куда по всей вероятности не проникала еще солнечная теплота, задерживаемая плотностью камня, открываются наконец рабочими некие тонкие жилы воды, между которыми вокруг делается в глубине взаимная связь, и колодец наполняется тогда водою. Посему, что здесь происходит в пустоте, сделанной человеческими руками, — теснимая отовсюду к колодцу влага собирается в нем; тому же естественно быть и на всяком месте, то есть из тонкой влаги непрестанно сообщаемому какими–то жилами течь более широкими проходами, когда тонкие токи будут соединены между собою. Так возрождается вода, когда холод увлаживает землю, и влажность, составляемая холодом, сама собою довершает всецелое естество воды. Отсюда вода, уже собранная и сделавшаяся потоком, где открывается удобнейший путь, пробивает для выхода землю; и сие называется источником. Признаком же, что холодность сопровождается происхождением вод, служит, что страны,
лежащие к северу и более охлажденные, изобилуют водами. Ибо в такой же мере были бы орошаемы водами освещаемые солнцем и южные страны, если бы отсутствие охлаждения не препятствовало происхождению влаг. Как вода, собранная во время дождя, от слияния капель делается потоком; но если кто посмотрит на самые капли, взятые порознь, то в каждой капле представится ему нечто малое и почти ничто; так при непрестанно составляющемся внизу по немного количестве влаги, когда из многих потоков собрание тонких частиц делается одним, — все это обращается в состав реки. Отвергающий же предположения сии откуда признает исходящими неиссякающие источники рек? Не вообразит ли каких озер в недрах земли? Но и те, если не будет в них притока, непременно вскоре истощатся; почему необходимо будет положить, что есть над ними еще другие озера. А последовательность слова потребует наполнения и еще других озер, хотя и предположены будут служащие к наполнению первых, и необходимым сделается доискиваться, из каких источников наполняются последние. А таким образом слово, простираясь в бесконечность, нигде не остановится, предполагая озера над озерами, чтобы не имели они недостатка в источниках, пока не найдет, откуда наполняются последние, в которых происхождение вод берет свое начало. Посему, что касается до отыскания причины первого происхождения воды: гораздо основательнее видеть это в составлении источников, а не воображать подземных озер, существование которых тот час делается противоречащим разуму, по свойству водного естества стремиться в низ. Ибо как потечет вверх то, чему по природе свойственно течь вниз? Притом, о какой величине сих озер дает повод гадать непрестанное истечение стольких вод, чтобы, в продолжение стольких времен изливая такое количество, могли оставаться не опустевшими, между тем как внутри их ничто не заменяет исходящего?
Но в следствие наших исследований явно, что снабжение реки водою не оскудевает, потому что в воду превращается земля. Объем же земли, в следствие исходящей из нее воды, не умаляется: потому что непрестанно совершающееся превращение сухих паров восполняет всегда то, что убывает в ее объеме. А когда так, мысль об изменении стихий из одной в другую не покажется уже для нас несостоятельною. Но ум поступает последовательно, когда в превращении каждой вещи в другую видит, как начало бытию той, в которую преложена, так и восстановление опять в ту, которою была первоначально. Например, вода, в парах вошедши в воздух, делается воздухом: увлаженный воздух осушается в огне, который над ним; земленистое во влаге отделяется от нее естеством огня; а это, когда бывает в земле, холодным качеством претворяется в воду. И таким образом совершается непрерывный порядок; ничто не убывает и не избыточествует, но все остается навсегда в первоначальных мерах.
Итак, на основании сих исследований должны мы под водами над твердью разуметь нечто иное, а не влажное естество, так как из сказанного стало понятно, что естество огня не питается убылью влаги. Ибо по исследованному нами доказано, что теплота, не питается, но погашается холодом, и влажное, уничтожается, а не приумножается сухим. Но время обратить обозрение на другой вопрос, а именно, почему после третьего дня сотворены все небесные светила?
Что каждому из совершаемых чудес предшествовало Божие некое повелительное слово (так как Моисей исторически научает нас высоким сим догматам), исследовано то нами в предыдущих словах, в которых дали мы разуметь, что повеление не есть Божий глас, изрекший слова; но та художественная и премудрая сила каждого из творимых существ, по которой совершаются в них сии чудеса, есть Божие Слово, и Им называется. И как вся в совокупности полнота твари пришла в бытие по первому Божию изволению; то необходимо следующий, по вложении в существо премудрости, порядок, при явлении каждой из стихий, есть следствие Божиих повелений. Ибо при первом создании чувственной твари, совокупив в многообъемлющем слове, Моисей указал на все, сказав: в начале сотвори Бог небо и землю. Выразившись же о полноте существ: сотвори, потом в естественном некоем порядке обозначает словом совершающееся появление каждого из существ. Посему вместе со всем произошел свет, но не явился вдруг во всем, пока темные части твари оставались преграждающими путь светоносной силе. Но вместе с тем, как дано Богом твари служащее к ее украшению, в легкости и удободвижимости естества проявлялась прежде всего проторгавшаяся огнистая и светоносная сила твари; и до времени вся она была собрана в себе самой, и все обтекала; после же того снова частями своими стала отделяться к сродному и сообразному. Ибо из видимого явствует, что не одна сила светоносного естества. Но кто из всего собираемый свет родовым именем назовет одним светом, тот не погрешит: потому что и Божие Слово в начале в единственном числе выражает все, повелев: да будет свет, а не светы. А если кто обратит внимание на явления; то усмотрит в существах большую разность светоносной силы. Почему и Псалмопевец говорит: сотворил светила великие, ибо вовек милость Его (Пс. 135:7) И Апостол говорит: Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе (1 Кор. 15:41), потому что великая, конечно, разность в свете. Ибо, если и всему, что перечислено Павлом, обычно и светить, и каждому светилу принадлежит некая особая сила и слава: то справедливо по родовому понятию именовать все одним светом, и в каждом светиле усматривать не слитную и раздельную разность. А если это действительно так: то, думаю, не погрешит против последовательности мыслей наше гадание, если предположим сие разумевшим Моисея, а именно, что первоначально вся светоносная сила, собранная, в себе самой, была единым светом. Поскольку же в естестве целой вселенной, относительно к большей и меньшей мере тонкости и удободвижимости усматривалась великая некая разность; то достаточно было трехдневного продолжения времени, чтобы ясно и не слитно произойти взаимному отделению каждой вещи в мире одной от другой, так чтобы самое тонкое и легкое, чисто невещественное, в огненной сущности заняло самый крайний предел чувственной твари, за которым следует умопредставляемое и бесплотное естество, а все менее деятельное и более оцепенелое составилось внутри пространства, окружаемого тем тонким и легким естеством; да и сие опять, по разности вложенного в это свойства, разделилось семичастно, по взаимном между собою по сродству соединении всех, одна другой соответственных и близких, частиц света и по отделении тех, в которых есть нечто инородное. Так по взаимном стечении всех сих частиц, сколько их было всеяно в светоносной сущности солнечного естества, произошло одно великое светило; а также, и на луне, и на каждой из прочих движущихся и неподвижных звезд, соединение частиц каждой с однородным произвело которое либо одно из видимых светил. Таким образом пришло все в бытие. Великому же Моисею достаточно было поименовать только более известные из них—светило великое и светило меньшее (Быт. 1:16), а все прочее назвать родовым именем: звезды.
Если же затруднится сим дебелость нашего ума, будучи не в состоянии проникнуть в тонкость Божией премудрости: то никто да не дивится тому, взирая на бедность нашего естества, для которого вожделенно не то, чтобы ни в чем не погрешать, но чтобы в состоянии быть постигнуть хотя что–либо одно.
Говорю же это, имея в виду объяснить, какая была причина сего трехдневного продолжения, и что такого времени достаточествовало к отделению каждого светлого тела. Ибо явно, что непременно есть некая причина, хотя и недоступная нашему взору, по которой мера сего времени к отделению светоносной сущности служила и определенным своим течением, и количеством деятельности огня в его движении, при чем уделы света распределены по свойству светил, так что сии беспредельные разности светов поставили себя каждая в свойственном положении, какое естественным свойством указано там, куда каждую привела вложенная в нее естественная сила, и не произошло при сем никакого беспорядка, пли смешения; потому что Божественною премудростию по естественному свойству, какое дано каждому светилу, установлен у них непреложный порядок, так что самую высшую страну занимают те, которые восходят вверх удободвижнее всякой выси, стремящейся сущности. И из сих опять светил иные, или поставлены в средине, или сделались южными, или уклонились к северу, или заняли среднее между ними место, наполнили собою или млечный путь, или зодиакальный круг, и в нем опять производят или то или другое очертание созвездия; и опять в созвездии не самослучайно каждая из звезд, находящихся в его очертании, имеет положение или там. или здесь; но куда привело равномерно вложенное в звезду свойство, там пребывает в непреложном постоянстве по силе своего естества, согласно с преобладающею премудростию Сотворившего. Сие и подобное сему таково, что ум, взирая на это, приходит в изнеможение, и осуждает собственную свою леность, не имея сил отыскать причину, почему трехдневного продолжения времени достаточно было к отделению такого числа звезд; или как, по причине беспредельного состава неподвижной сферы окружающей землю, в средине всего пространства великая Божия премудрость поместила солнечное естество, чтобы мы не жили совершенно во тьме, когда бы свет, изливаемый звездами, прежде нежели доходил до нас, истощался в промежуточном расстоянии. Посему–то освещающую силу солнечного естества поставила над нами на такой высоте, что луч не ослабляется великим расстоянием, и не делается для нас неприятным по чрезмерной близости; а что вещественнее и грубее всего, что над нами, разумею тело луны, то поставлено ниже, обтекает ближайшие к земле страны; и естество сего тела оказывается чем–то средним, равно наделенным и не светящею и светоносною силой. Ибо собственному светению луны препятствует грубость ее сущности, но при отражении солнечного луча оказывается она не вовсе лишенною светоносного естества. Но хотя видеть причину в каждом из существ проявляемой премудрости невозможным делает бедность нашего естества; однако же из порядка, указанного Законодателем в творении существ, усматривать некоторую последовательность сотворенного возможно, думаю, для тех, которые умеют достаточно видеть, что за чем должно следовать, и по некоторым догадкам сколько–нибудь уразуметь это.
Итак повторим последовательный порядок созданий. А он есть следующий: за предварившим все явлением повсемстнного и родового света по его удободвижности последовало округление тверди, определенное круговым обращением огня. По отделении же от легкого естества естеств более тяжелых, последовательно различаются между собою тяжелые качества, разделенные на земле и воде. А когда дольнее естество приведено в устройство, тонкая, легкая, выспрь парящая сущность, потому что не вся она была сама в себе однородною, в промежуточное продолжение протекавшего времени, из общего делится на однородные свойства; в сей сущности образовавшееся бесчисленное множество звезд, по вложенному в каждую часть естественному свойству, подъемлется на самый верх твари, и каждая звезда занимает собственное свое место, не прекращая всегдашнего стремления к движению и не выходя из того положения, в котором поставлена. Но как порядок звезд неподвижен, так естество их во всегдашнем движении. В след за сим, звезда, которая по стремительности своей занимает второе место после самой быстрой в движении, получает в удел низший круг: и опять третий и четвертый круги даже до седьмого уделяются звездам по отношению их естества к скорости; каждая в такой же мере понижается пред высшею, в какой естество ее в сравнении с звездами, которые над нею, медленнее в движении. Посему совершается это в четвертый день, не потому что тогда создан свет, но потому что светоносное свойство совокупилось вокруг естественного и свойственного ему, и явились, как прочие звезды, так и видимые в большем пред прочими объеме, солнце и луна, бытие которых в первоначальном основании заимствовало начало от света, но состав каждого светила приведен в совершенство в три дня; потому что все движущееся непременно движется во времени, и для взаимного между собою сложения частей нужно некоторое продолжение времени.
И посему великим Моисеем об устроении существ все описано не вне последовательного порядка, если предварительным могуществом Создателя всему в совокупности положено вещественное основание, частное же проявление видимого в мире совершилось в некоем естественном порядке и в последовательности в определенное продолжение времени. Тогда явился вообще свет, а теперь воссияло все светоносное естество в особых телах, к числу которых принадлежат солнце и луна. И как вещества, имеющие некую текучую силу, хотя все текут, но не все поэтому непременно между собою однородны, а напротив того каждое имеет какую либо с другим разность (например масло, ртуть, вода, если кто смешав все эти вещества выльет в один сосуд, то по прошествии непродолжительного времени, сперва сделается видным, что ртуть, так как тяжелее других, и сильнее стремится в низ, собирает собственные свои части, хотя бы и повсюду были они рассеяны; потом вода сливается сама с собою; а потом частицы масла выплывают на верх всего, и составляются между собою); так, думаю, должно гадать и о том, что составляет предмет нашего обозрения, переменив из сказанного в примере одно то, что, здесь в веществах текучих совершающееся по причине тяжести, там в естестве стремящемся выспрь оказывается происходящим в обратном порядке. Поскольку при первоначальном основании существ все по легкости стремилось ввысь, сколько в каждом веществе было скорости по силе, какая во все была вложена естеством; то следовало взаимно стекаться всему имеющему равную скорость; и также по мере разной скорости одному от.другого отделяться, сколько сие было свойственно и возможно. Посему, как в примере отделение сих текучих веществ своим размещением не произвело новых веществ, но уже бывшие и смешанные между собою вещества показали каждое в его чистоте и одно от другого отдельно; так и после трехдневного продолжения времени не вновь созданы светоносное естество и светоносная сила солнца, но, как разлитые по вселенной, отделены и собраны в самих себя.
Если же потребует кто у нас слова и о третьем небе, о котором ничего не написал Моисей, но которое видел Павел, и, быв на нем, как бы в каком святилище премудрости, слышал неизглаголанное; то скажем, что не вне исследованного нами и оное третье небо. Мне кажется, что великий Апостол, простираясь ко всему, что видел пред собою, преступив пределы всего чувственного естества, вошел в умосозерцательное состояние, так что его взгляд на умопредставляемое стал совершенно не телесный. Сие и сам он выражает собственным своим словом, сказав: Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба (2 Кор. 12:2). Посему, думаю, что самый крайний предел чувственного мира Павел нарек третьим небом, разделив видимую вселенную на три части, и по обычаю Писания каждый отдел наименовав небом. Ибо слово Писания, по особому употреблению речений, одним небом называет предел более грубого воздуха, до которого возносятся облака, ветры и естество высокопарящих птиц; потому что говорит и о небесных облаках, и о птицах небесных; и не просто называет сие небом, но и с присовокуплением имени: твердь. Ибо говорит: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной (Быт. 1:20). Потом другим небом и твердью называет усматриваемое внутри неподвижной сферы, где совершают путь свой подвижные звезды. Ибо сказует: И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю (Быт. 1:16.17). Всякому же, сколько–нибудь обращавшему внимание на устройство вселенной, явно, что все то пространство, в котором светила вращаются при своем стремлении выспрь, и самый крайний предел чувственного мира, эту границу умопредставляемой твари, Писание называет и твердью и небом. Посему вожделевавший того, что выше слова, и не смотрящий, как повелевает и нам, смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно (2 Кор. 4:18), куда восхищало его вожделение, туда и был вознесен силою. И когда указывает на сие столько для него вожделенное, вместо того, чтобы сказать: человека, который миновал всю чувственную тварь, и был в святилище умопредставляемого естества, притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса (2 Тим. 3:15), обозначает сие словами Писания, наименовав третьим небом конец сих трех усматриваемых во вселенной отделов. Ибо позади себя оставил воздух, прошел пути круговращения наполняющих среду звезд, миновал верхний свод эфирных пределов, и быв в постоянном и умопредставляемом естестве, видел красоты рая, и слышал, чего человеческое естество изречь не может.
Сие мы, человек Божий, ответствуем на предложенное нам твоим благоразумием, и выражений Писания не претворяя в иносказание, имеющее переносный смысл, и не оставив без исследования сделанных нам возражений. Но сколько можно, принимая речение в собственном его значении, при обозрении именований держались мы последовательной связи естества, и тем по возможности доказали, что нет никаких противоречий в том, что само собою согласно, хотя и представляется противоречащим при поверхностном чтении. Описывать же прочее, что совершено в продолжении шестидневного миротворения, почли мы делом напрасным, потому что высокое слово учителя не оставило не обозренным ничего из подлежащего исследованию, кроме устроения человека, над чем прежде сего потрудившись в особой книге, послали мы твоему совершенству, и в том слове и в настоящем прося тебя и всех читателей не подумать, будто бы идем в состязание с усердием учителя, напротив того и там, восполня, сколько было можно, недостававшее в труде его над шестодневом, присовокупили мы рассуждение о человеке, а здесь позаботились написать сие для требующих последовательности в том, что излагается в Писании, чтобы вместе, и сохранить буквальный смысл написанного, и с буквою примирить естественное воззрение. Если же в сказанном недостаточно что; то без всякой зависти, и твое благоразумие, и каждый из читателей довершите недостающее. Ибо дароношению богатых не препятствовало вложение двух лепт вдовьиных; и принесшие Моисею для скинии кожи, дерева и волосы, не послужили препятствием для предлагавших в дар золото, и серебро, и драгоценные камни. Посему и мы с любовью примем, если принесенное нами будет принято, хотя в качестве волосов, но только в вашей багрянице, перетканной золотом, возложено будет на слово верхней одежды, которому имя: слово, явление и истина, как говорит Моисей (Лев. 8:8), уготовляя священнику новые облачения, по повелению Самого Бога, Которому подобает слава и держава с Единородным Сыном и Всесвятым Духом во веки веков, аминь.
Опровержение Евномия
Послание к Петру Севастийскому
Едва ненадолго улучив свободное время по возвращении из Армении, мог я заняться врачеванием тела и собрать записки, по совету твоего благоразумия составленные на Евномия, чтобы труд мой принял, наконец, вид связного слова, а слово сделалось уже книгой. Но писано у меня не против обеих Евномиевых книг, потому что не имел я столько свободного времени. Ссудивший меня этой еретической книгой, по великой нерасчетливости, скоро вытребовал себе книгу назад и не дал ни списать ее, ни заняться ею на досуге. Пользовавшись ею семнадцать только дней, не имел я и возможности сделать, чтобы в такое короткое время стало меня на обе книги.
А как многие, имея сколько–нибудь ревности об истине, по распространившемуся, не знаю как, слуху, что трудился я над опровержением хульника, неоднократно приступали ко мне, то заблагорассудилось мне прежде всего твое благоразумие употребить советником в сем деле, надобно ли вверять оное слуху многих или придумать что–либо иное. В недоумение же приводит меня следующее: Евномиево слово получил я тотчас по успении святого Василия, когда сердце кипело еще от любви и сильно болело от общей утраты церквей, у Евномия же не то одно написано, что, по–видимому, служит к подтверждению его учения, но в большой части книги видна тщательность, с какою трудился он слагать злоречивые нападения на отца нашего. Поэтому, возмущенный оскорбительными Евномиевыми выражениями, и я высказал по местам некоторое раздражение и воспламенение сердца на сего писателя. Поелику же многие, может быть, иного о нас мнения, а именно, что, по учению оного святого, навыкнув, сколько можно, скромности в нраве, способны мы быть терпеливыми к дерзким против нас до бесчиния; то убоялся я, чтобы за написанное мною о противнике читатели не почли меня, как легко раздражающегося злословием оскорбляющих, каким–то новичком; разве, может быть, признать меня таковым воспрепятствует то, что приведен я в гнев сказанным не против меня самого, но против отца. Ибо в таких случаях соблюдающий скромность не извинительнее, может быть, раздражающегося.
Если же первая часть слова покажется несколько непохожей на состязание, то рассуждаю, что осмотрительный судия одобрит такую бережливость в слове. Ибо не должно было как доброе мнение о великом, подрываемое хулами противника, оставлять незащищенным, так и целое слово наполнять защищением, и здесь и там заводя о нем спор. Сверх того для рассуждающего со всей точностью и это составляет часть состязаний. Ибо так как слово противника имеет в виду две отдельные цели: и нас оклеветать, и осудить здравое учение, то посему и наше слово должно быть направлено против того и другого. Но для ясности и чтобы не прерывать связи в исследованиях о догматах вставками, содержащими в себе опровержение клевет противника, по необходимости произведение сие разделив на две части, в начале занялись мы оправданием себя от возводимого на нас, а после сего, по мере сил, вступили в спор со сказанным против догмата! Заключает же в себе слово не только опровержение еретических предположений, но также учение и изложение наших догматов. Ибо постыдным для себя и вовсе неблагородным почли мы, когда враги не скрывают того, что ни с чем не сообразно, не иметь нам смелости высказать истину.
Послание Петра Севастийского к брату его святому Григорию Нисскому
Богочестивому брату Григорию Петр желает о Господе радоваться.
Прочитав письмо твоего преподобия, и в слове против ереси приметив ревность об истине и о святом нашем отце, признал я слово сие делом не твоей силы, но силы Благоустроившего, чтобы в учениях Его глаголала истина. Но как утверждаю, что защиту истины всего лучше восписать самому Духу истины, так кажется мне, что и усилие восставать против здравой веры должно присвоить не Евномию, но самому отцу лжи. И сей «человекоубийца бе искони» (Ин. 8:44), говоривший в Евномии, как видно, тщательно изощрил на себя меч. Ибо если бы не восстал он с такою дерзостью на истину, то никто не подвиг бы тебя на защиту догматов благочестия. Посему «запинаяй премудрым в коварстве их» (1 Кор. 3:19), чтобы наипаче обличилась гнилость и несостоятельность их учений, дозволил им и восставать против истины, и в пустом этом словоплетении поучаться тщетным (Пс. 2:1).
Итак, поелику начавший благое дело и совершит оное, то не ослабевай и ты, служа силе Духа, и не в половину окажи себя доблестным в борьбе с вооружающимися против славы Христовой, но подражай истинному отцу твоему, который, подобно ревнителю Финеесу, одним ударом обличения вместе с учителем пронзил и ученика. Так и ты словесною дланью вонзи с силою духовный меч в обе еретические книги, чтобы змий по сокрушении главы его не приводил неопытных в страх трепещущим еще хвостом. Ибо если по низложении первых частей сочинения окончание оставлено будет неисследованным, многие останутся при той мысли, что оно имеет еще некую силу против истины.
Оказывающееся же в слове раздражение для душевных чувствилищ заменяет приправу соли. Ибо как, по словам Иова, не «снестся ли хлеб без соли» (Иов. 6:6), так слово, не приправленное таинственными Божиими речениями, было бы не поразительно и не возбуждало бы пожелания.
Посему дерзай, чтобы стать добрым примером для будущих поколений, научая, как благопризнательным детям надлежит вести себя перед добрыми отцами. Ибо если бы оказал ты такое рачение против осмеливающихся подрывать доброе мнение о святом, когда продолжал он еще земную жизнь, то не избежал бы, может быть, клеветы, что оказываешься каким–то льстецом. Но теперь душевную искренность и действительность того благорасположения, какое имеешь к приведшему тебя во свет духовным рождением, ясно показывают и рачительность о почившем, и негодование на врагов его. Будь здоров.
Книга первая
Содержание первой книги
1. Предисловие о том, что бесполезно пытаться оказывать благодеяние не приемлющим пользы.
2. О том, что справедливо приступили мы к опровержению, скорбя о брате, подвергнутом осуждению.
3. О том, что, в Евномиевой книге не усматривая ничего важного по силе учения, по праву осмелились мы на опровержение.
4. О том, что много пустословия и излишеств допустил Евномий, не очень заботясь о существенном.
5. О том, что нехорошо поступил Евномий, в сочинениях своих осмеяв епископов — армейского Евстафия и галатийского Василия.
6. Припоминание о начальнике нечестия Аэтие и о Евномий с краткими сведениями о роде и о занятиях сих мужей.
7. О том, что Евномий обличает сам себя, сделав признание, в чем его не обвиняли.
8. О том, что упреки, какие Евномий делает Василию, как оказывается из дел, гораздо приличнее сделать ему самому.
9. О том, что, обвиняя Василия, будто бы не стоял за учение во время состязаний, Евномий сам оказывается не свободным от обвинения в этом.
10. О том, что все оскорбительные речения, какие Евномий употребил о Василии, на самом деле изобличаются в лживости.
11. О том, что Евномий без стыда воспользовался лжеумствованием, построенным на слове «награда» и доказывает, будто бы по нашему признанию был он судим, а не как не обвиняемый составил апологию.
12. О том, что напрасно укоряет за робость показавшего столько мужества в состязаниях пред царем и пред епархами.
13. Напоминание о том, что сказано им догматического, и раздельные возражения на сказанное.
14. О том, что худо поступил Евномий, когда, говоря о спасительном догмате, не именует Отца и Сына, и Святаго Духа, как предано, но употребил иные имена по собственному изволению.
15. О том, что худо поступил, об одной сущности Отца сказав, что она в самом собственном смысле так называется и есть высшая, и тем в тайне наводя на мысль, будто бы сущность Сына и Духа не в собственном смысле так называется и ниже сущности Отца.
16. Исследование означаемого словом «подчинение», поколику Евномий говорит, что естество Духа подчинено сущности Отца и Сына; и на сем исследовании основанное доказательство, что Дух Святой равночинен, а не подчинен Отцу и Сыну.
17. Исследование действований, какие сообразны с естеством и, по словам Евномия, следуют за сущностью Отца и Сына.
18. О том, что несогласно с разумом поступает Евномий, разделяя догмат на множество сущностей и не представляя никакого доказательства, что это действительно так.
19. О том, что, сущность Божию называя простою, Евномий допускает простоту только в имени.
20. О том, что худо он поступает, измышляя некое предшествующее существованию Единородного действование, которым производится Ипостась Христова.
21.О том, что хула евномиан хуже иудейского заблуждения.
22. О том, что в учении о Божией сущности не надлежит употреблять речений «большее» и «меньшее»; и вместе с сим точное изложение церковных догматов.
23. О том, что учение веры не незасвидетельствовано, как огражденное свидетельствами Писания.
24. О том, что Евномий пустословит, в догматах благочестия ухищренно толкуя о величинах и разностях дел и действований.
25. О том, что Евномий, доказывая, будто каким–то расстоянием времени Отец старше Сына, вынужден будет и Отца назвать небезначальным.
26. О том, что и твари не приличествует такой образ воззрения, какой будто бы, как вынуждают к тому евномиане, должен иметь место в рассуждении Отца и Сына; напротив того, надлежит особо умопредставлять себе Сына с Отцом, о твари же признать, что она возымела начало с определенного времени.
27. О том, что напрасно предполагал Евномий, будто те же действования совершают, и те же дела; и будто различие дел доказывает, что и действования различны.
28. О том, что напрасно предполагал, будто бы в согласии естеств может состояться ненарушимая связь.
29. О том, что напрасно думал недоумение о действованиях разрешать сущностями, и наоборот.
30. О том, что ни одно Божие слово не повелевает касаться подобных вопросов; при этом доказывается суетность любомудрствования о сем.
31. О том, что к ведению тождества по сущности достаточно познания из дел Промысла.
32. О том, что невразумительно утверждаемое сказавшим, будто бы образ рождения следует образу уподобления.
33. О том, что напрасно утверждает Евномий, будто бы естественным достоинством рождающего показывается образ рождения.
34. Напоминание о том, что сказано Евномием в осуждение слова «Единосущный», и спор о сказанном.
35. Доказательство того, что учение аномеев клонится к манихейству.
36. Еще краткое мимоходом напоминание о церковном догмате.
37. Защищение сказанного блаженным Василием и осуждаемого Евномием, именно, когда отец наш говорит, что наименования «Отец» и «Нерожденный» могут означать одно и то же понятие.
38. Опровержение лжемудрственных умозаключений, составленных Евномием из многих епихирем.
39. Ответ на предлагаемый им вопрос: «рождается ли Сущий?»
40. О том, что Евномий, обличенный блаженным Василием, бесстыдно усиливался стоять за себя.
41. О том, что следующее не одно и то же с тем, за чем следует.
42. Истолкование значения слова «нерожденный», и умопредставление о присносущем.
1. Желать всем благодетельствовать и всякому человеку в целом мире, кто бы он ни был, без разбора расточать свою милость, равно как и на неисцелимо больных тратить запас многих врачевств, кажется мне, есть дело невозможное и не свободное от осуждения многими; потому что, несмотря на полезную цель, не доставляет ничего достойного тщательных усилий: ни выгоды принимающим пособие, ни похвалы раздающим его щедро. Напротив того, подобное сему делается часто поводом к худшему, ибо как больные и близкие уже к смерти сильнодействующими врачевствами легко приводятся в конечное расстройство, так зверонравные и неразумные, будучи облагодетельствованы, от несбережения бисеров, как говорит евангельское слово (Мф. 7:6), делаются худшими. Посему, кажется мне, хорошо при раздаянии даров, как предрекло Божие слово, отличать неимеющее цены от драгоценного, чтобы благости щедролюбца не опечалил поправший бисер и бесчувственностью к прекрасному поругавший благодеяние.
2. Пришло же мне на мысль сказать это, когда представил себе щедро сообщавшего всем собственные свои доброты, разумею человека Божия, эти уста благочестия — Василия, который от избытка духовных сокровищ и в злохудожные души без разбора изливал благодать премудрости, даже и в непризнательного к старавшимся сделать ему какое–либо добро Евномия. Ибо последний по чрезмерности душевного недуга, от которого изнемогал в деле веры, жалким казался для всех, принадлежащих к Церкви. И кто сколько не сострадателен, чтобы не сжалиться над погибающим? Василия же единственно подвигло принять на себя врачевание то, что он один в преизбытке человеколюбия отважился целить и труднобольных. И вот в скорби о погибели мужа по естественной ему сострадательности к бедствующим, как некое противоядие вредным отравам, составил он слово в опровержение ереси, имея целью через это сделать человека снова здоровым и возвратить Церкви.
3. А он, как пораженный помешательством ума, противится врачующему, объявляет ему войну, борется и усиливающегося изъять его из бездны нечестия почитает врагом. И не просто, не случайно, не по временам впадает в такое безумие, воздвигает письменный памятник желчного своего состояния. И на долгое время, на какое только хотел, улучив себе досуг, во все продолжение оного породил книгу, носившись с нею дольше, нежели великорослые и тяжеловесные звери со своим плодом; и чреват был угрозами, в тайне еще возращая свой плод, и поздно уже и то с трудом произвел на свет некий недоносок и выкидыш, который все участвующие в том же разномыслии откармливают млеком. А мы, по пророческому ублажению, в котором сказано: «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень» (Пс. 136:9), положили это младенческое словесное произведение, как одно из чад вавилонских, когда бы дошло и до наших рук, взять и ударить о камень («камень же бе Христос» (1 Кор. 10:4.), то есть слово истины), только бы снизошла и на нас сила, укрепляющая немощное по молитвам в немощи тела, совершившего силу свою.
Если бы и ныне еще плотскими очами взирала на человеческую жизнь богоподобная и святая оная душа, и высокие ее уста, по данной им изначально в удел благодати, издавали непреоборимый оный глас, то дошел ли бы кто до такой самоуверенности, чтобы отважиться и сказать что–нибудь о сем же предмете, когда всякого слова и всякого гласа громозвучнее божественная оная труба? Поелику же всецело вознесся к Богу сей и прежде малым неким и тени подобным останком тела касавшийся земли, а большей частью воспарявший к Богу, ныне же и эту тень тела отложивший и оставивший здешнему миру. Между тем шмели жужжат вокруг сотов слова и портят мед; то пусть никто не обвинит в смелости меня, восставшего на защиту безмолвствующих уст. Ибо, не как преимущественно перед другими сознавший в себе некую силу слова, принял я на себя этот труд, но не менее всякого другого в точности зная, что в церкви многие тысячи украшающихся дарованием премудрости. Однако же поелику, сказываю это, достояние преставившегося, и по писанным и по естественным законам, более, нежели всякому другому, принадлежит мне, то посему сверх иного я же присваиваю себе и наследие слова, хотя причисляюсь к последним из составляющих Церковь Божию, но не уступаю в силах отторгшемуся от Церкви и перешедшему на сторону сопротивных, потому что в здоровом теле и самый малый член, по согласию его с целым, сильнее члена поврежденного и отсеченного, хотя последний будет больше, а первый — меньше.
4. Но по причине этих слов никто да не подумает обо мне, будто бы велеречу, как напрасно величающийся силою большею той, какая у меня есть. Ибо не вопреки приличию по какому–то детскому любочестию вступаю в дело с сим человеком для состязания на словах или для показания своей доброречивости. Что иметь в большем количестве бесполезно и ни к чему не служить, в том с готовностью уступаем желающим победы. А что Евномий много упражнялся в словах, догадываюсь, кроме прочего, смотря и на самое сие занятие догматом, особенно же на то, сколько трудился он над сложением настоящего сочинения, заключая и из того, что на произведение сие потрачена немалая часть жизни писателя, а также и из того, что любители его со всею чрезмерностью восхищаются этим трудом. И нет ничего невероятного в том, что трудившийся столько олимпиад изготовил нечто большее, чем набросавшие кое–что наскоро. А такую усидчивую обработку слов показывают больше мелочная тщательность о наружном складе словосочинения, какое–то излишество и суетность в заботливости о подобном тому. Ибо из готового запаса, взятого из каких–то книг, набрав груду слов, в числе которых немногие понятны тщательно, склав в какую–то неизмеримую кучу изречений, произвел многотрудное оное творение, которое хвалят и с удивлением принимают ученики обмана, может быть, по слепоте, препятствующей видеть полезное, лишенные способности отличить все прекрасное от неподобного тому; осмеивают же и вменяют ни во что оное те, у кого сердечное зрение не омрачено скверною неверия. Ибо кто не в праве посмеяться, видя, что по обещанию предметом тщания должна служить истина догматов, между тем самое тщание без всякого успеха обращено на отыскивание малоприличных речений и прикрас? И помогут ли сколько–нибудь к большему, как он думает, обличению сказанного и к подтверждению истины искомого, какое–то странное примышление прикрас в слове, имеющее вид новости и особенности словосочинение, изысканная оскорбительность речи. И опять оскорбительная изысканность, не каким–либо соревнованием предшествовавшему вызванная на труд? Ибо никому не отыскать, кого из приобретших известность, по словесности имея пред очами, мог бы он и сам пуститься на это, подобно какому–то зрелищному чудодею, соответственными, равносложными, по–добозвучными, подобооканчивающимися речениями, как бы бряцалами, в мерных выражениях разыгрывая речь. Таковы, сверх многого другого, и в предисловии у Евномия роскошные эти переливы звуков, нежные припевы, которые, по моему мнению, и произносит он, может быть, не со спокойною наружностью, а напротив того, выговаривает, притопывая ногою, и с приятностью прищелкивая вместе в лад пальцами, и сказывает, что при этом ни в чем более нет нужды, ни в других словах, ни в новых трудах.
Итак, уступив ему, преимущество в этом и в подобном сему и право уповаться победою, добровольно отложу в сторону всякое о сем старание, как приличное одним имеющим в виду честолюбие, если только вообще услаждаться такими сочинениями — удовлетворяет какому–либо честолюбию, потому что и истинный служитель слова Павел, украшаясь одною истиною, как сам почитал постыдным прикрашивать слово такими пестротами, так и нас обучил иметь в виду одну только истину, прекрасно и надлежащим образом узаконивая сие. И кто украшен лепотою истины, тому какая надобность в изысканности прикрас к довершению красоты поддельной и ухищренной? В ком нет истины, тем, может быть, полезно подцвечивать ложь приятностью речений, вместо какой–то краски употребляя такую изысканность в слоге сочинения. В таком случае вероятным и достойным одобрения для слушающих сделается обман, расцвеченный и неузнаваемый под такими прикрасами слова. Когда же ищет кто истины чистой без примеси всякого обманчивого покрова, тогда сама собою просиявает в словах красота.
Но, приступая уже к исследованию сказанного Евномием, затрудняюсь, по–видимому, как иной земледелец в безветрие, не имея способа, как отделить мне плод от мякины. В этой же куче слов лишнего и похожего на мякину столько, что недалек бываешь от мысли во всем, сказанном у Евномия, вовсе не признать ни одного основательного ни дела, ни понятия. Ибо перебирать по порядку все им написанное признаю пустым занятием, а вместе трудным и несообразным с нашею целью. Не столько же у нас досуга, чтобы в праве мы были заниматься делом пустым; и искусному делателю прилично, думаю, тратить силу не на пустое, а на то, над чем труд имеет несомненный плод.
Посему умалчиваю о том, как Евномий прямо во вступлении, величая себя защитником истины, нападает на противников с укоризною в неверии, говоря, что в них поселена какая–то постоянная и неистребимая ненависть, и как гордится он тем самым, за что недавно осужден (хотя не выставляет на вид каких–либо обвинений, а говорит, что был у них какой–то суд о чем–то сомнительном, и что какое–то законное право на дерзких не по праву налагает необходимость вести себя целомудренно, выражает же это собственными словами, лидийским оным складом, именно так: «дерзких не по праву вынудило стать целомудренными законное право», которое Евномий наименовал «воспрещением» восставших, не знаю, что разумея под сим воспрещением). Все сие и подобное сему как пустую кучу слов, не ведущих ни к чему полезному, миную в слове. Если же делается что в какую–либо защиту еретического мудрования, то признаю приличным обратить на это наибольшее тщание. Так поступил и истолкователь божественных догматов в сочинении своем. Когда многое могло служить к распространению слова его, держась законов необходимости, отсекает он большую часть содержания, изо всего сказанного в книге нечестия избрав, что было главного в хуле.
Если же кто требует, чтобы последовательно, по порядку Евномиева сочинения ведено было и наше, то пусть скажет выгоду от этого. Что большего приобретется слушателями, если разрешу тайный смысл надписания, эту загадку, какую, подобно сфинксу в трагедии, предлагает нам Евномий вдруг в самом вступлении, а для сего буду разбирать небывалую эту апологию апологии и множество пустых о сем толков, и длинный рассказ о сонных грезах. Ибо, думаю, достаточно досадит читателям и в Евномиевой только книги сохранившаяся тонкость и пустота новости в надписании сочинения, а вместе и обременительность рассказов о своих делах. Ибо каких не описывает трудов и подвигов своих, пронесшихся по всей суше и морю, и провозглашенных в целой вселенной? И если снова писать об этом и, как естественно, с присовокуплением обличений лжи, от которых увеличится сочинение, то окажется ли кто столько твердым и крепким, как адамант, чтобы не почувствовать отвращения от неуместности труда? Если даже буквально перепишу восторженную эту историю, кто был при Евксинском Понте опечаливший его прежде сходством имени, какова была его жизнь, какие занятия, как по сходству в нраве разошелся с этим Армянским, на чем потом согласились и помирились они между собою, так что Евномий вступил в единомыслие с неодолимым оным и пресловутым (ибо сим и чествует его похвалами) учителем его Аэтием; затем какое было ухищрение и какие козни против него, по которым человека сего представили в суд, вменяя ему в вину, что его хвалят и он выше других. Если буду пересказывать все это, то, подобно навлекающим на себя глазную болезнь долгим обращением с заболевшими, прежде их не покажусь ли и я сам подпавшим недугу рачительности о пустом, идя по следам суесловия и исследывая в подробности, о каких говорит Евномий рабах, отпущенных на волю, о каком союзе посвященных в тайны, о каком ополчении невольников, что значат вошедшие в речь Монтий, Галл, Домециан, лживые свидетели, гневающийся царь и некоторые из посланных в изгнание? Ибо что будет пустее этих рассказов для намеревающегося не простую изложить историю, но обличить оспаривающего догмат ереси? Гораздо же паче в большой еще мере бесполезны будут исторические на это пояснения. Ибо думаю, что и сам сочинитель не прочтет их, не задремав, хотя отцами и обладает некая естественная нежность к происшедшим от них, ибо там объясняются, конечно, деяния, высоко превозносятся словом страдания и история переделывается в напыщенную трагедию.
5. Но чтобы самим отказом, продолженным более надлежащего, не тратить времени на бесполезное, и как тот, кто гонит коня по грязи, и сам от того исполняется неприятности, так и мне, поведя слово по порядку припоминаемого из Евномиева писания, не загрязнить своего сочинения, почитаю приличным весь таковой сор в Евномиевом писании, сколько будет возможно, оставить позади себя, сделав высокий и быстрый скачок словом. Ибо достаточная выгода — скорое устранение неприятностей; тогда слово поспешит к концу истории, и горечь их речей не сообщится и моей книге. Ибо пусть Евномиевым только устам прилично будет иереев Божиих называть подобными сему именами: «щитоносцами, жезлоносцами, копьеносцами, которые стращают допытывающихся, не позволяют утаиться скрывающемуся». И все иное писать на седины иереев не стыдится Евномий. Как в училищах светской словесности для упражнения в развязности языка и ума предлагается отрокам содержание за что нападать на какое–либо непоименованное лицо, так точно и этот писатель выступает против упомянутых иереев, и нападать на них дает свободу злоречивому языку, и, умолчав о худых делах, уготовляет им негодованием изблеванную смесь оскорблений, от себя вымышляя всякие укоризны и в злословии своем сложив вместе несоединимые наименования: «чечевицей питающийся воин, отвратительный святой, побледневний от поста, но по жестокости дышущий убийством», и много подобных сему насмешек. Как иной разгорячается на языческих торжествах и в переизбытке бесстыдства без личины предается буйству, так Евномий, никакой завесой не прикрывая своей горечи, ясным и бесстыжим голосом произносит, как с колесницы. Потом признается, что раздражает его: они, говорит, приложили старание, чтобы немногие вдались в обман наш, и негодует на то, что евномиане не имеют права жить везде, где бы хотелось, но, по повелению державствовавшего тогда, местом их жительства стала Фригия, чтобы не многие терпели вред от дурного сообщества. И об этом, гневаясь на сие, пишет: «велика была тяжесть подвигов, невыносимы скорби, мужества требовало претерпение страданий, когда родину заменила для них Фригия». Подлинно так! Ибо случившееся не послужило в укор уроженцу Олтисирия, не повлекло за собою упадка отцовской чести, не оскорбляло достоинство рода. Так что этот именитый и пресловутый Приск, отец сего отца Евномия, едва ли бы сам не избрал того, на что теперь негодует Евномий. От отца у него славные и замечательные сказания о роде: мельница, кожаная одежда, служительское содержание, и прочее наследие Ханаана. И при этом нужно было порицать содействовавших их переселению! Согласен с этим и я, что подлинно достойны их упреков соделавшиеся для них виновниками этого, если только вообще есть (или были) какие виновники, потому что сведения о прежней жизни, помраченные этим, умаляют память людей почтенных и не позволяют полюбопытствовать о том, что старше настоящего, в каком достоинстве сначала вступили в дело тот и другой, какой устав для жизни приняв от отцов, что из приличного людям свободным в большей или меньшей мере сознав в себе, пришли потом в такую известность и именитость, что знают их и цари, как Евномий величается теперь в своем сочинении, и все высшие начальства ради их пришли в движение, и в большей части вселенной разносится о них молва.
6. Ужели действительно нанесена этим весьма великая обида или самому этому писателю, или его защитнику и наставнику в подобной жизни Аэтию, которому, как мне кажется, соревновал Евномий, имея в виду не столько увлекательность догматов, но гораздо более довольство и выгоды жизни? Говорю же это, не по догадкам каким–либо заключая, но собственными ушами слышав от знавших в точности: ибо об Аэтии этом слышал я рассказы Афанасия, епископа галатийского, такого мужа, который ничего не предпочел бы истине, да и в свидетельство большей части сообщаемого им показывал письмо Георгия лаодикийского. Сказывал же он, что Аэтий не с юного возраста вдался в догматические нелепости, но в последствии времени нововведение сие обратил в жизненный промысел. Ибо, оставив уже обрабатывание виноградника, при котором прислуживал (а как, не почитаю нужным говорить о том, чтобы не показалось будто бы веду рассказ злонамеренно), сначала делается он ковачем, занимается этим с огнем неразлучным кузнечным рукомеслом, с коротким молотом сидит у малой наковальни в волосяном шалаше среди нечистот и этою работою с трудом добывает необходимое для жизни. Ибо могла ли быть какая–либо значительная плата починивающему изломанные вещи, заделывающему скважины, расколачивающему ударами олово, из свинца отливающему поддонки котлов? Но от этого ремесла постигшая его некая беда делается причиною перемены в жизни. В одно время у жены воина взяв какую–то золотую вещь, служившую украшением шеи или руки, чтобы исправить сделанное на ней ударом повреждение, умышленно обманул эту женщину: золотую вещь взял себе, а ей отдал медную, той же величины с золотою и сходную по наружности от одинакового на поверхности цвета, потому что медь покрыл золотом. И женщина приведена была в обман видимостью, потому что Аэтий силен был в своем деле и хитростями своего ремесла мог обманывать пользовавшихся его работою. Но со временем, когда позолота с меди сошла, открыла подмену золота. Потом тать приведен в суд, несколько воинов по родству и соплеменности пришли в гнев. Аэтий за дерзкий этот поступок претерпел все, что справедливо было потерпеть обманщику и татю, с клятвою отказался продолжать ремесло, как будто не произволением, но родом занятий произведено в нем пожелание татьбы. После сего вступает в товарищество к какому–то обманщику врачу, чтобы не во все оставаться без необходимого пропитания и под предлогом врачевания посещать темные дома и каких–то отверженных людей. Потом через несколько время, поелику придуманное средство послужило Аэтию в прибыль, и какой–то Армянин, которого как варвара легко было обмануть, убежден слушаться его как врача и часто давал ему денег. Аэтий почел уже низким работать другим в деле искусства, но пожелал сам быть и именоваться врачом. С этого времени принимал он участие в собраниях врачей, и, сходясь с состязующимися на словопрениях, стал одним из крикунов. И стремительностью слова заслужив уважение, сделался предметом немалого искательства для тех, которые бесстыдных языком нанимают для состязаний своих.
Вкуснее от этого становился у него кусок, однако же, не признавал Аэтий, что должно ему остаться в этом роде жизни, напротив того, начал понемногу после кузнечного промысла кидать и врачебный. Когда же богоборец Арий стал посевать лукавые эти семена плевел, плодом которых были догматы аномеев, тогда врачебные училища огласились Шумом об этом вопросе. Посему занявшись такими разысканиями и из Аристотелевых уроков заметив некий способ умозаключений, Аэтий соделался именитым, новостию изобретений превзойдя отца ереси Ария, лучше же сказать, как выразумевший связь Ариевых положений, почтен человеком тонкого ума, открывающим сокровенное, потому что утверждал, что сотворенное и происшедшее из ничего не подобно Сотворшему и произведшему из ничего.
Посему, как скоро любящий новости слух страждущих тою же болезнью пощекотал он таковыми речами, узнает о нововведении сем Феофиле Влеммиде и как у него еще прежде была какая–то связь с Галлом, то Аэтий введен им во дворец. И как в это время Галл отважился на злой умысел против епарха Домециана и Монтия, то все сообщники в скверном деле по справедливости участвовали в падении Галловом. Но Аэтий избегает наказания, даже не признан заслуживающим потерпеть что–либо худое с совиновниками злого умысла. Сверх того, поелику Афанасий великий царской властью был удален из церкви александрийской и Георгий Тарвастинит терзал этот народ, Аэтий — снова Александриец, не уступающий ни одному из тех, которых кормил и снабжал хлебом этот каппадокиянин, потому что Аэтий не пренебрегал лестью, а Георгий рад был этому, издавна будучи пленен извращением догмата, и охотно готов служить находкой для Аэтия.
Посему не укрывается это и от истинного Аэтиева соревнователя, от сего Евномия, который от отца своего по естеству, человека прекрасного по всему иному, корме того, что соделался отцом такого отца, научился препровождению жизни благонамеренному и законному, но тягостному по бедности и исполненному тысячей трудов (отец Евномиев был какой–то земледелец, сгорбленный над плугом, прилагавший много трудов над небольшим участком земли, в зимнее же время, когда была свобода от земляных работ, искусно выводил детям буквы и склады, и платою за это добывал себе потребное для жизни). Почему, видя такое положение отца своего, расстается с плугом, с мотыгой и со всеми рабочими отцовскими орудиями, чтобы и самому не бедствовать в подобных трудах и сперва делается учеником Пруниковой мудрости. Обучившись скорописи, сначала жил, как полагаю, у кого–то из сродников, в плату за письменную услугу получая пропитание. Потом, обучая детей доставлявшего ему пропитание, понемногу начинает ощущать в себе желание сделаться ритором. Умалчиваю о том, что непосредственно за сим следовало, о жизни его на родине, о том, в каких занятиях и с кем найден он в Константинополе. После же этого, как говорят, занимался он приготовлением шерстяных плащей и поясов.
Поелику Евномий видел, что все это маловажно и что приобретаемое рачительностью об этом не стоит и пожелания, то, оставив прочие промыслы, предпочел всему одного только Аэтия, не без разума, как думаю, но сообразно с своей целью избрав этот путь в жизни. Ибо с того времени, как стал причастным несказанной оной мудрости, все произрастает у него без посева и без возделания, потому что сведущ в том, о чем прилагает старание и приобрел сведение, как наипаче может привлекать на свою сторону людей более страстных. Так как человечество по большей части всего скорее уловляется сластолюбием, и к этой страсти велика наклонность естества, которое с готовностью от суровых занятий ниспадает в негу сластолюбия, то, чтобы как можно большее число своих сообщников подвергнуть одной с собою болезни в рассуждении догматов, для сего именно делается угодником тайноводствуемых им, отстраняя неудобства и трудности добродетели как мало убеждающие к принятию тайны. А чему учат в сокровенности, что провозглашают явно и приводят в ясность вследствие обмана приявшие эту скверну, это неизрекаемое тайноводство, и чему научаются у досточестного священноистолкователя таинств, о способе крещений, об извинительности естества и о всем подобном. Ежели есть у кого досуг дознать сие в точности, пусть спрашивают у тех, для кого не составляет вины произнести устами что–либо неприличное. А мы умолчим о сем, потому что непозволительно даже обвинителям упоминать о подобном, если они научились и в слове чтить чистоту, а не чернить свое писание самыми точными рассказами, даже когда сказуется в них и правда.
Но почему приводил я на память сказанное? Потому что как Аэтию источником нечестия послужило Аристотелево искусство извращать истину, так и усовершившемуся его ученику дана тем же возможность наравне с учителем богато жить простотою обманутых. Чем же столько обидели его Василий с Евксинского Понта или Евстафий из Армении, о которых у него тянется длинная вставка исторического рассказа? Чем помешали ему достигнуть цели жизни? Не на большей ли паче высоте поддержали новую их славу? Ибо откуда у них известность и столь великая именитость? Не от оных ли мужей, если только говорит о них правду обвинитель? Ибо то самое, что приобретшие славу, как свидетельствует сочинитель, признали достойными себе противниками не имевших вовсе известности, естественно послужило поводом высоко о себе думать сим, вступившим в борьбу с мужами, предпочтительно пред другими имеющими преимущество. А от сего произошло то, что низость и безызвестность прежней жизни оставляются в тени. И с этого времени приобретают известность тем, чего имеющим ум напротив было бы должно бегать. Ибо никто из благомыслящих не пожелает, чтобы за худое дело почли его великим, но для подобных сим людей это кажется самым крайним пределом благополучия. Так рассказывают об одном из неславных и ничтожных жителей Асии, что пожелал сделаться именитым у ефесеев. Какого–либо великого и славного дела и на ум ему не приходило, да и не могло прийти, но он делается замечательным более, нежели приобретшие известность делами самыми великими придумав ефесеям в высшей мере причинить утрату. Было у них одно общественное здание, обращавшее на себя взоры великолепием всякого рода и многоценностью. Этот же человек, великое сие произведение уничтожив огнем, подвергнутый суду за дерзость, признался в душевной свой страсти а именно, что признавая важным быть известным у многих, придумал это, чтобы по великости зла памятно с ним было и имя отважившегося на злое дело. Такое же средство к приобретению известности и у Евномия с Аэтием, исключая разве то, что есть разность в великости зла, ибо причиняют вред не строениям неодушевленным, но самому живому зданию церкви, внося, как бы какой огонь, извращение догмата. Но слово о догмате отложу до своего времени.
7. Теперь же рассмотрим, какою справедливостью водится Евномий, в предисловии жалующийся, будто бы причиною ненависти к нему неверных служит его справедливость; ибо, может быть, не неуместно из сказанного о некасающемся догмата дознав, как он держится истины, сим указанием воспользоваться при рассмотрении того, что говорится о догматах. Сказано: «Верный в мале, и во мнозе верен есть: и неправедный в мале, и во мнозе неправеден есть» (Лк. 16:10). Намереваясь писать апологию, сочинение небывалое и необычайное по написанию и содержанию, говорит он, что причина таковой странности произошла не от иного чего, но от возражавшего на его прежнее сочинение, потому что, хотя сочинению тому имя было «апология», но получив замечание от учителя нашего, что апология прилична одним обвиняемым, а если кто пишет сам по себе добровольно, то сочинение есть нечто иное, а не апология, он не противоречит, что по очевидной несообразности не должно составлять апологии, если не предшествует обвинение, но говорит, что, как обвиненный в весьма важном, он стал оправдываться от взведенного на него осуждения. Но сколько в этом лжи, ясным, думаю, сделается из того самого, что скажем. Жалуется Евномий, что много несносных зол потерпел от осудивших его; и это можно дознать из того самого, что написано им.
Посему как же потерпел он это, если оправдался в винах? Ибо если апологией пользовался к избежанию обвинений, то, без сомнения, плачевное это положение ложно и придумано напрасно. Если же потерпел то, что сказал, то, конечно, потерпел, не оправдавшись; ибо всякой апологии цель та, чтобы не допустить властных в приговоре обмануться клеветою. Разве вознамерится сказать, что представил он апологию в суде, но не мог склонить к себе участвовавших в суде, и побежден противниками? Напротив того, ничего такого не сказал в суде, и не мог сказать. Почему же? Сам признается в сочинении, что не захотел иметь дела с враждебными и неприязненными судьями. «Признаемся, — говорит, — что осуждены мы, когда безмолвствовали, а на место судей допущены люди злые И лукавые». Здесь в сильном, как думаю, волнении, и иное имея в помысле, не заметил вместо прикрасы введенного в речь солецизма, весьма смело подделавшись под аттический склад, в речении «допущены» (εισφρησαντων), так как употребление оного иное у преуспевших в слове, известное знакомым с риторическими правилами, а иное придумано новым аттическим остряком. Впрочем, это нимало не идет к нашей цели.
Но, поступив несколько далее, присовокупляет он следующее: «если по тому, что не воспользовался я судьями обвинителями, думает он уничтожить это название «апология», то крайне обманывается по простодушию». Когда же и перед кем оправдался этот остроумный муж, отвергнувшей судей по причине вражды, а на суде, как сам подтверждает, безмолвствовавший? Посмотрите на этого сильного поборника истины, как он, через несколько времени переменившись, передается на сторону лжи и, чествуя истину словами, противится ей в делах. Но приятно то, что изнемогает в силах и при самой защите лжи. Ибо каким образом один и тот же и справедливо оправдывался в возведенном обвинении и благоразумно также безмолвствовал, потому что суд производили враги? И из того самого сочинения, которое назвал апологией, ясно оказывается, что вовсе не было составляемо над ним суда. Предисловие сочинения обращено не к определенным судьям, но к каким–то неопределенным людям, которые и в то время были и в последствии будут, перед которыми (в чем и сам я согласен) нужна ему большая апология, но не подобная теперь написанной и требующей другой еще апологии в защиту себя, но какая–нибудь общая и разумная, которая могла бы убедить слушателей; потому что написал сие тот, кто собрал себе судилище из людей, которых не было в присутствии, а может быть, и не рождалось, и оправдывался перед теми, которые не существуют и упрашивал тех, которые не родились, чтобы всем множеством не отличили лжи от истины, когда большей частью привязаны будут к лучшему. Ибо действительно к таковым, в отеческих чреслах еще находящимся судьям, прилично обращаться с подобною апологией, и думать, будто бы говорит правду, потому что один решился идти вопреки мнению всех, и ошибочное представление души своей почитает достовернейшим в целой вселенной прославляющих имя Христово.
Пусть же, если угодно, пишет новую апологию и этой второй апологии, потому что теперешняя есть не исправление погрешности, а паче заготовление новых обвинений. Кто не знает, что всякая правильная апология имеет в виду опровержение возведенного обвинения? Например, обвиняемый в воровстве, или в убийстве, или в другом каком преступлении или вообще отрицается от поступка сего, или вину худого дела слагает на другого, или, если не может ни того, ни другого сделать, просит снисхождения и милости властных в приговоре. А здесь в сочинении нет ни отрицания вины, ни сложения на других; не прибегает Евномий к милости, щ обещается вести себя лучше на будущее время, а напротив того, тщательно собранными доводами усиливает ту самую вину, за которую осуждается. Ибо представляемое на него, как говорит он, есть обвинение в нечестии, не вину неопределенную взводящее, но показывающее самый род нечестия; апология же, не отрицая вины, но подтверждая обвинение, доказывает, что должно нечествовать. Пока догматы благочестия не приведены еще были в известность, может быть, менее опасно было бы отважиться на нововведение. Но когда во всех благочестивых душах твердо учение богослова, тогда возглашающий противное признанному вообще всеми оправдывается ли в том, за что его обвиняют, или паче навлекает на себя гнев слушателей и делается злейшим обвинителем самого себя? Я утверждаю последнее. Посему, если, по словам сочинителя, имеются или слушатели приведенного им в оправдание, или обвинители его дерзких нападений на благочестие, пусть скажет сам, или как будут поносить его обвинители, или какой приговор произнесут о нем судьи, когда апологией подтверждается его погрешительность.
8. Но не знаю, как удалился я от связи речи по причине нестрогого соблюдения последовательности. Ибо не то подлежит теперь исследованию, как надлежало оправдываться, но то, оправдался ли вообще Евномий. Возвратимся же к предположенному, а именно, что он явно уловляется собственными словами следующим образом: в негодовании говорит ложь, что был он судим и имел беззаконных судей, что, влачимый по суше и морю, злострадал от солнечного зноя и от пыли. Потом, снова прикрывая эту ложь, по пословице выбивает гвоздь гвоздем, другою ложью покрывая прежнюю. Ибо тогда, как все с ним уверены, что не промолвил в судилище ни одного слова, говорит, что уклонился от судилища врагов и осужден безмолвный. Кто бы мог больше сего обличить себя в противоречии и истине, и себе самому? Когда обвиняют его за надписание сочинения, представляет необходимость оправдания перед судом. Когда обличают, что ничего не было сказано перед судьями, отрицает, что был суд, и не признает судей. Посмотрите на этого сильного поборника истины, как твердо противостоит он лжи? А потом, сам будучи таков, великого Василия осмеливается именовать лукавым, злонравным, лжецом; и еще сверх того — дерзким, невеждою, самозванцем, не посвященным в ведение божественного; присовокупляет же к списку злоречий помешательство ума, безумие и тысячи подобных ругательств, примешивая их в разных местах целого своего сочинения, как бы думая, что желчи его достаточно будет, чтобы преобороть свидетельство всех людей, которые дивятся имени великого как единого из древних святых. И Евномий думает, что неуязвимому насмешками можно повредить одним злоречием. Не столько низко солнце, чтобы мог достать бросающий в него камнями или чем другим. Брошенное опять возвращается на бросившего, и цель остается выше бросаемого. Если кто станет клеветать на солнце, что оно не светло, то свет лучей не помрачится от насмешек. Солнце и осмеиваемое останется солнцем, а у злословящего лучи его, что не светлы, изобличится слепота чувства зрения. И если всех своих слушателей и читателей пожелает, подобно этой апологии, всего более убедить в этом, чтобы не соглашались с общими и, отдавая преимущество большинству, дознанного опытом многих не предпочитали собственному предположению, то напрасно будет суесловить перед видящими дело.
Посему, кто благорасположен к Евномию, тот пусть убедит его положить узду на уста себе, не предаваться бесчинству в слове, не «противу рожну прати» (Деян. 9:5), не отзываться дерзко о досточтимом имени, но, и на память только приводя великого Василия, исполняться благоговения и страха в душе. Ибо что ему будет и выгоды от этого безмерного самохвальства, когда Василий таким почитается у всех, каким возвращают его жизнь, слово и общее свидетельство о нем вселенной? Предприемлющий же отзываться о нем худо выказывает свой нрав, и именно то, что, как говорить негде Евангелие, не способен «добро глаголати» будучи лукав, но глаголет «от избытка бо сердца и от лукаваго сокровища износит» (Мф. 12:34–35). А что высказанное Евномием есть голословное злословие, не согласующееся с истиной дел, обличением этому служит то самое, что им написано.
9. Упомянул Евномий о каком–то месте, в котором, по словам его, состоялся спор о догматах, но места не поименовал, и не обозначил каким–либо знакомым признаком, так что слушатель в необходимости ошибочно гадать о неизвестном. В этом месте, — говорит Евномий, составилось собрание из лиц, отовсюду созванных; и как юноша цветет в слове, представляя взорам самый ход дел. Потом, говорит, что каким–то судьям (не называя и их по именам) предстояло решительное окончание дела, подавал же свой голос и бывший в присутствии наш наставник и отец. Но поелику превосходство на суде отдано противникам, то он бежал оттуда, оставив свое место, погнался за каким–то дымом отечества. И Евномий нещадно чернит Василия в изображении робости, как желающему можно дознать из самой книги; ибо у меня нет досужного времени все изблеванное его досугом вносить в мое сочинение. А для чего упомянул я о сказанном, к тому и перейду.
Какое это безымянное место, в котором производится исследование догматического учения? Какой случай вызывает на состязание доблестных? Какие это люди, побуждавшие себя и сушею, и морем поспешать к общению в трудах? О каком говорит мире, занятом последствиями и ожидающем судебного приговора? Или кто распорядитель сих состязаний? Или пусть, хотя и дозволит себе умолчать это, чтобы, по обычаю, принятому у детей в училищах, ухитриться в подобных вымыслах придать слову какой–то вес и величие, однако же пусть скажет то одно: кто неодолимый этот борец, с которым вступить в состязание, по словам его, убоялся наш учитель? Ибо если и это выдумано, то пусть опять будет признан победителем и возьмет верх в суесловии; мы же умолкнем. В борьбе без всякой пользы с тенью истинная победа — добровольно отказываться от такой победы. Если же Евномий говорит о том, что происходило в Константинополе, разумеет оное сборище, воспламеняется в слове своем тамошними плачевными событиями и себя именует великим и непреоборимым борцом, то примем обвинение, а именно, что, присутствуя там во время состязаний, не вступали мы в борьбу с состязующимися.
Посему укоряющий Василия в робости пусть покажет, выходил ли на средину сам он? Промолвил ли какое слово в защиту своего благочестия? Продлил ли с отвагою речь? Славно ли боролся с противниками? Но нечего сказать ему, разве будет явно противоречить себе самому. Ибо признался, что в безмолвии принял произнесенный судьями приговор. Посему если должно было говорить во время состязаний (сие узаконяет теперь в своем сочинении, то почему осуждается тогда, пребывая в безмолвии? Если же хорошо поступил, предпочтя спокойствие при судьях, то по какому жребию его — безмолвствующего — хвалить, а нам спокойствие наше обращать в охуждение? Может ли кто придумать что более несправедливое этой несообразности, если, когда двое писали сочинение после состязаний, один из них о себе скажет, что защитился вовремя, хотя и много опущено им времени, а написавшего возражение на защитительное его сочинение станет порицать как опоздавшего, потому что много прошло времени от состязаний? Или, может быть, возражению должно было иметь в виду то слово, которое будет сказано впоследствии? Ибо этого, кажется, не достает в обвинении. Почему же, зная наперед, что будет писать, во время того суда не обличил? Ибо, что не на суде составил сию апологию, явствует из собственного признания его; припомню опять самые слова: «Признаемся, — говорит, — что, безмолвствуя, осуждены мы», и присовокупляет причину: «потому что, сказано далее, лукавые люди получили право судить», или лучше сказать, как выражается сам он, «допущены на место судей». А что еще подтверждает о написании апологии в надлежащее время, явствует сие из других сказанных им слов; буквально же читается сие так: «но что не выдумав от себя, а будучи вынужден посредниками, в надлежащее время и надлежащим образом приведен я, — говорит он, — к написанию апологии, стало это явным и из самих дел и из его слов». Посему, что скажет без труда извращающий речь во все стороны? Не то ли, что не должно было молчать во время состязаний? Итак, почему Евномий во время самих состязаний был безгласен? Но у него апология благовременна и после состязаний? Почему же у Василия борьба с тем, что сказано Евномием, безвременна?
Но всего более, кажется, верно слово преподобного, что под видом апологии, Евномий в какую угодно ему было связность привел свои догматы. А истинный соревнователь Финееса, истребляющий мечом слова всякого, кто соблудил, отступив от Господа, извлек врачующий душу, губительный для нечестия нож, — разумею опровержение хулы. Если же упорствует и не принимает врачевания Евномий, умертвивший душу свою отступничеством, то вина на избравшем злое; сие подтверждает и слово внешних мудрецов. Вот каков Евномий и перед истиною и перед нами! По древнему закону, дозволяющему за причиненную обиду отмщать равным, и нам, правда было бы можно нещадно заметать его укоризнами и с великим удобством щедро расточить злословие на оскорбившего, потому что, если он так обилен был на оскорбление и охуждение не представившего даже и случая какого–либо к поруганию, то естественно найдись многим подобным речам у желающих осмеять его честную жизнь. Но поелику учеником истины изначала научены мы изучать Евангелие, то и не требуем взамен ока за око, зуба за зуб, зная, что худый поступок уничтожается обыкновенно поступком противоположным, и что–либо сказанное или сделанное зло не дойдет до крайности, если что–нибудь полезное, проникнув в среду, рассечет непрерывный ряд зол. А посему ряд злословий и оскорблений в дальнейшем своем продолжении останавливается долготерпением. Если же кто будет отмщать обидою за обиду, злоречием за злоречие, то, конечно, увеличить несообразность, питая ее подобным.
10. Посему, оставив все сказанное в средине книги как оскорбление, насмешку, злоречие, колкость, поспешу словом к исследованию догмата. Если же кто скажет, что уклоняюсь от злословия по неискусству отплатить подобным, то пусть посмотрит на себя самого, — какая у него склонность к худшему, которая без всякого усилия сама собою поползновенна на грех. Ибо сделаться худым — зависит от одного произволения, и часто для совершения греха достаточно хотения. Гораздо же более удобства к прегрешениям языка, потому что прочие грехи для совершения своего требуют и времени, и занятия, и внешнего содействия; а сподручность слова доставляет всю возможность согрешить. Доказательством сего служит то самое Евномиево сочинение, которое у нас в руках. Рассмотревший его неповерхностно найдет наклонность грешить на словах, подражание чему, конечно, весьма легко, хотя бы кто и вовсе не заботился об искусстве хулить. Ибо на что трудиться в составлении оскорбительных слов? Можно воспользоваться против обидчика его же речениями, потому что в этой исполненной укоризне части сочинения Евномий собрал все лжи и хулы, составленные по бывшим у него образцам, и нет такой нелепости, которая не была бы написана, например: «человек опасный, спорливый, враг истины, софист, обманщик, противоречащий мнениям и сведениям многих, не стыдящийся обличения делами, не уважающий ни страха, внушаемого законами, ни укоризны от людей, не умеющий отличить правду от ухищрения». К сему Евномий присовокупляет «бесстыдство и готовность к злословию»; потом называет «нерадивым, исполненным борющихся между собою предположений, совмещающим в речи несовместимое, борющимся с собственными своими словами и произносящим противоречия». Потом, желая о Василии наговорить много худого, и будучи не в состоянии душевную горечь излить в новых оскорбительных речениях, поелику нечего больше сказать, возвращается часто к одному и тому же и, сказав однажды, к тому же делает еще оборот и в третий и в четвертый раз, или еще и более, как будто на поприще каком, туда и обратно давая ход слову, в тех же оскорбительных выражениях, с тем же пустословием злоречий обращается взад и вперед, повторяя то же. И потому не приводимся уже в негодование бесстыдством его оскорблений; в пресыщении сказанным раздражение прекращается. Иной скорее почувствует омерзение, нежели придет в гнев; так низки, лишены всякой приятности и площадные сии насмешки, нисколько не отличающиеся от шуток какой–либо пьяной старухи, которая бормочет сквозь зубы.
Итак что же? Должно ли перебирать все по одиночке и со всею тщательностью оправдываться во всем оскорбительно выраженном, доказывая, что не таков тот, о ком сие сочинено? Но в таком случае и мы окажемся оскорбляющими сего, подобно светилу воссиявшего нашему роду, с усердием доказывая в слове, что он не делал зла и не заслуживал осуждения. Напротив того, помню божественный этот глас, как пророчески изрек он об Евномий то место из пророчества, где Пророк уподобляет его бесстыдным женам, которые собственный свой позор слагают на целомудренных (Иер. 3:3). Ибо кого врагом истины провозглашают Евномиевы слова? Кого выставляют противоречащим мнению многих? Кто просить читающих его сочинение не смотреть на множество свидетелей, не обращать внимая на древность, не спешить согласием на достоверность признаваемого совершенным? Ужели одному и тому же свойственно и это написать, и утверждать сказанное прежде, как домогаться, чтобы слушатели следовали его нововведениям, так опять хулить других за то, что идут напротив общим понятиям? А сие — «не стыдиться обличения делами и людской укоризны», и что еще подобного сему перечисляет Евномий, предоставляю произволению слушателей рассмотреть, о ком справедливо это сказать, о том ли, кто себе самому и ближним равно поставляет в закон целомудрие, благоприличие и всякую душевную и телесную чистоту при самом строгом воздержании, или о том, кто повелевает не препятствовать естеству, достигать угодного ему исполнением телесных пожеланий, не противиться удовольствиям, не судить строго о таковой житейской рачительности, потому что никакого вреда не делается душе от такого образа жизни, и человеку для совершенства достаточно еретической только веры. Если же Евномий отрицает, что так у них учат, то и я, и каждый из благомыслящих желали бы, чтобы в таковых его отрицаниях была правда. Но найти себе место такому отрицанию не дозволяют истинные его ученики, или падет самое главное его положение, и разорится скиния ради сего наипаче утвердившихся на догмате его. А кто бесстыден, не уважает человеческой укоризны, угодно ли видеть это из дел юности или из дел последующей за тем жизни? В том и другом случае найдешь, что укор в бесстыдстве падет на него самого; ибо не одно и то же свидетельствуют о каждом из них и юность, и следующая за нею жизнь.
Пусть сочинитель этот приведет себе на память, как жил он на родине во время юности и в Константинополе, и пусть услышит от знающих, что им известно о том, на кого он клевещет. Если же пожелает кто обозреть последующие занятия, то пусть сам скажет, кто достоин наименования бесстыдным? Тот ли, кто до священства щедро расточил отеческое имущество бедным, а наипаче во время голода, когда сделался настоятелем в церкви, священствуя еще в сане пресвитера, и после сего не пощадил остатков, так что и он мог похвалиться с Апостолом: «ниже туне хлеб ядохом» (2 Фес. 3:8)? Или тот, кто защиту догмата обратил в предлог к доходам, самозвано вторгается в дома, отвратительного недуга не прикрывает своим поведением, не рассчитывает, что у здоровых естественное бывает отвращение от таковых людей, и что по древнему закону, по причине близости в значении недугов, и его изгнали бы из стана живущих?
Еще же опрометчивым обидчиком и, во всяком случае, лжецом именуется Василий у того, кто великодушно, с кротостью обучает противников, ибо так в сочинении своем услаждается речами о себе, кто не оставил ни одного случая излить весь избыток горечи, где только мог это сделать. Итак чем же и какими поступками обличает Василия в обиде и опрометчивости? «Тем, — говорит, — что меня каппадокиянина, назвал галатом, а потом имеющим жительство на рубеже отечественных стран, в каком–то безымянном краю Корниаспины». Если и назвал не урожденцем Олтисирии, а галатом (но только докажет ли, что прибавлено это название, ибо в наших списках нет сего приложения; допустим однако без спора, что и это сказано), неужели за сие одно Василий называется опрометчивым, обидчиком, и всеми укоризненными именами? А не разумеет того мудрец, что обвинение от клеветника в маловажном доставляет обвиняемому великую защиту и свидетельство о правоте? Ибо предпринявший обвинить не стал бы щадить важнейшего и упражнять злобу свою маловажным, о чем действительно говорит он много, возвышая и преувеличивая неправду, с важностью любомудрствуя о лжи, признавая ее равною нелепостью, идет ли дело о важном или о маловажном. Ибо подобно отцам своей ереси, разумею книжников и фарисеев, умеет тщательно оцеждать «комары» и нещадно пожирать горбатого вельбуда (Мф. 23:24), навьюченного тяжелою ношею лукавства. И, может быть, не неуместно было бы сказать ему, чтобы пощадил от такого законоположения живущих в нашем гражданском обществе и не давал повеления почитать за ничто различение осуждения во лжи по малости и значительности дел. Ибо не одинаково грешат и Павел, допуская ложь и очищаясь по–иудейски благовременно с пользою для введенных в обман, и Иуда во время предательства, приняв на себя вид друга и защитника. Солгал и Иосиф, человеколюбиво шутя над братьями, и клянясь в этом фараоновым здравием (Быт. 42:16); солгали и братья против него, по зависти умыслив ему сперва смерть, а потом рабство. Можно сказать много и других подобных примеров. Лжет Сара, устыдясь своего смеха; лжет и змий, внушая такую мысль, что человек преслушанием перейдет в естество Божие. Великая разность во лжи по тому, чего она касается; невозможно и сказать какова она, будешь ли судить по древним повествованиям или по нынешней жизни. Посему и мы, по общему приговору о людях, какой устами Пророка изрек Дух Святый, а именно: всяк человек ложь (Пс. 115:2), — соглашаемся, что и человек Божий вовлечен был в ложь, случайно употребив название сопредельной страны или по незнанию местного именования, или по необращению на то внимания. Но солгал и Евномий, и какая же это ложь? Извращение самой истины; говорит, будто бы вечно Сущего когда–то не было; утверждает, что истинно именуемый Сыном называется так лжеименно; о Творце вселенной выражается, что Он тварь и создание; Господа всяческих называет рабом; по естеству имеющего начальство сопричисляет к естеству рабственному. Мала ли эта разность во лжи? Такова ли чтобы кому–либо почесть за ничто солгать, по–видимому, так или иначе?
11. Но смотрите, какую прилагает попечительность об истине в доказательстве, других укоряющий даже за софистический образ речи. Учитель наш в слове к Евномию сказал, что во время переворота в делах в награду за нечестие приобрел он Кизик. Посему что же делает обличающий софистов? Привязывается немедленно к слову «награда» и говорит, будто бы, по нашему признанию, «он защитился, одержал верх апологией и приобрел победную награду состязаниями», и слагает умозаключение, выводя следствие, по его мнению, из беспрекословных положений. Перескажем же буквально, что собственно им написано: «если награда, — говорит он, — есть признак и конец победы, а на победу указывает судебное производство, судебное же производство вместе с собою вводит, конечно, мысль об обвинении, то допускающий награду необходимо должен признать, что была и апология». Что же скажем на это? Не будем спорить, что состязался он, что сие лукавое состязание нечестия было весьма сильно и упорно, и не в малой мере своими усилиями против истины превзошел и превысил он подобных ему; но не над противниками одержал он победу; в сравнение же с теми, которые по нечестию вместе с ним стремились в заблуждение, опередил всех преизобилием лжи, и, таким образом, за переизбыток зла получил в награду Кизик. Как преимуществующий перед всеми, подобно ему вступавшими в борьбу с истиною, во время победы, одержанной хулою, удостоен громкого и знаменитого провозглашения, и в награду за нелепое учение законоположившими так при состязании избран ему Кизик. И что в означенном смысле признано сие нами, доказывает наше сочинение, в котором сказано, что Кизик сделался для него наградою нечестия, а не каким–либо успешным следствием апологии. Посему, что же общего в сказанном нами с этим детским сплетением софизмов, будто бы за это как состоялось над ним судебное следствие, так приготовлена им апология? Подобное сему походит на то, как если бы кто, на пиру больше других выпив неразбавленного вина и за это пившими вместе с ним удостоенный какой–либо чести, победу сию на пиру обратил в доказательство, что судим был на судилище и в суде одержал верх. Потому что таковой может, подражая ему, составить умозаключение: если награда есть признак и конец победы, на победу же указывает производство суда, а производство суда вводит с собою, конечно, мысль об обвинении, то я одержал победу над судом, потому что, упиваясь, был увенчан на состязании в том, кто больше выпьет.
Но таким образом хвалящемуся, конечно, кто–нибудь скажет, что иначе ведутся состязания в судилище и иной способ прения на пиршествах; и победивший на чашах вследствие таковой победы не имеет никакого преимущества перед своими противниками в судилищах, хотя он и красуется цветочными венками. Посему и кто превзошел подобных себе словом нечестия, в приобретенной за нечестие награде не представляет еще свидетельства, что победил и в суде. Поэтому какую же пользу доставляет непроизнесенному защищению наше свидетельство, что он берет верх в нечестии? Ибо, если бы, оправдавшись перед судьями и одолев противников, потом уже принял возданную в Кизик почесть, то сказанное нами благовременно было бы обратить против нас. Если же непрестанно свидетельствуется в слове, что, избегая неприязненности властных произнести приговор, в безмолвии принимает назначенное ему наказание, не соглашаясь суд о подвиге предоставить врагам, то для чего обольщает сам себя, и слово «награда» употребил в свидетельство, что оправдался? Не выразумел чудный сей муж значение слова «награда», а именно, что Кизик отдан ему, как некое отличие и признание доблести по превосходству в нечестии. Но поелику принимает награду по желанию и как победный дар, то пусть примет и то, что соединено с сим понятием, а именно, что своей победой приобрел он превосходство в нечестии. Ибо если нашим оружием укрепляется против нас, то справедливость требует воспользоваться или тем и другим, или ни тем, ни другим.
12. Таков он в наших делах; но не окажется ли, хотя сколько–нибудь держащимся истины в прочем, что сказано у него оскорбительного? В этом описании Василия робким, несмелым, уклоняющимся от трудов более упорных, в изображении его всеми подобными сему чертами, когда Евномий тщательно собирает признаки робости: скрытную хижину, надежно запертую дверь, смятение от страха, производимое входящими, и голос, и взгляд, и черты лица, и все тому подобное, чем выражается недуг робости. Но если бы Евномий и не был обличен солгавшим в чем–либо другом, то достаточно было бы и сего одного, чтобы обличить образ его действия. Ибо кто не знает, как в то самое время, когда царь Валент восставал на церкви Господни, великий оный подвижник великодушною решимостью превозмог столь затруднительное положение дел, стал выше устрашающего, превознесшись мыслью над всем, что устроялось к его устрашению? Кто из обитателей востока, кто из населяющих самые края нашей вселенной не знал борьбы его за истину с преобладающими? Кто не приходил в ужас, взирая на сопротивника? Это был не какой–либо человек обыкновенный, не поддельными хитросплетениями приобрел он силу побеждать, и взять над ним верх было небесславно, и быть им побеждену — не безвредно; но, хотя под своим правлением имел тогда всю римскую державу, однако же, гордясь столь великим царством, послушался клеветы на наше учение Евдоксия, епископа германикийского, который обманом привлек его к себе. А споборниками в своем желании имел он всех людей сановитых, всех служащих при нем и заведывающих делами, из которых иные склонились на сие добровольно, по сходству в мыслях, а многие из страха перед державною властью с готовностью делали, что ей было угодно, и жестокостью к державшимся веры доказывали усердие к нему, когда бегства, описи имения, изгнания, угрозы, взыскания, опасности, содержание под стражей, узилища, бичевания и что еще страшнее сего, — все приводимо было в действие против несоглашающихся с желанием царя; когда оказавшимся в доме Божием благочестивыми было тяжелее, нежели уличенным в самых преступных винах.
Но подробное описание всего этого потребовало бы какого–либо большего сочинения, многого времени и труда особого рода. С другой стороны, поелику тогдашние бедствия известны всем, то ничего не прибавится настоящему слову точным изложением сих несчастий в письменах. В повествовании о них есть и другая невыгода; излагающему по порядку историю сих горестных событий необходимо сделать некое упоминание и об учиненном с нашей стороны. Ибо если в сих борьбах за благочестие и сделано нами что–либо такое, что при повествовании может возбудить соревнование, то мудрость повелевает предоставить сие ближним, по сказанному: «да хвалит тя искренний, а не твоя уста» (Притч. 27:2). Сего–то не уразумев, проникающий во все большую часть своего сочинения занял велеречием о себе.
Поэтому все сему подобное отлагая в сторону, в точности изложу дела боязливости нашего учителя. Противостоял ему как сопротивник сам царь; а прислуживал стремлениям царя начальствующий по нем во всем царстве, и содействующими таковому пожеланию служили все окружающие царя. Для точнейшего испытания и доказательства в подвижнике непоколебимого убеждения присовокупи к этому и самое время. Какое же тогда было время? Царь отправился из Константинополя на восток, превозносясь мысленно недавними своими успехами над варварами и не предполагая, чтобы стало что–либо противиться его желаниям. Предшествовал же ему в этом пути епарх, вместо какого–либо иного необходимого, для начальства делающий такое распоряжение, что бы ни одному держащемуся веры не позволялось оставаться на своем месте, но все таковые отовсюду были изгоняемы, а на место их вводимы были какие–либо другие самозваные, к оскорблению божественного домостроительства. Посему, когда с таким решением, подобно какой–то грозной туче, державная власть двинулась из Пропонтиды против церквей, и внезапно Вифиния опустела, а Галатия с большим удобством увлечена, и все на пути уступали им в образе мыслей, а по порядку и наша уже страна подверглась этой беде; что делает тогда великий Василий, этот, как говорит Евномий, боязливый, не смелый, робеющий страшного, вверяющий спасение свое скрытой хижине? Приведен ли в ужас постигшим бедствием? Страдание ли постигнутых им прежде приемлет себе в советника для собственной своей безопасности? Соглашается ли с советующим уступить ненадолго стремительности зла, и не повергать себя в очевидную опасность сношением с людьми, привыкшими к кровопролитию? Или всякое превосходство слов, всякая высота мыслей и речений изобличит себя в том, что она ниже действительности? Как изобразит кто словом столь великое презрение страхований? Как представит кто взору эту новую борьбу, о которой справедливо может иной сказать, что ведут ее не люди и не с людьми, но что добродетель и дерзновение христианина противоборствуют в ней убийственному владычеству.
Предварив прибытие царя, призвал Василия к себе епарх, начальственную власть, и без того страшную по величию оной, еще более страшною сделав жестокостью наказаний, после тех плачевных опытов, какие совершил в Вифинии. Когда с обычною легкостью без труда покорены были галаты, епарх думал, что и у нас встретит готовность на все, что ему угодно. Предначатием же строгости в делах служила речь, смешанная вместе из угроз и обещаний. Епарх говорил, что Василий, если будет покорен, продолжит пользоваться и честью от царя и начальством в церкви, а если воспротивится, потерпит все, чего похощет раздраженная душа, к власти присовокупив и силу. Таковы были их поступки.
А наш столько далек был от того, чтобы прийти в какой–либо ужас от видимого или сказанного, что, подобно некоему врачу или доброму советнику, призванному исправить ошибки, приказывал им раскаяться в том, на что отваживались, и впредь прекратить убийство рабов Господних; потому что пекущимся об одном царствии Божием и о бессмертной державе могут они не более как только примыслить что–либо; но не в силах сделать зло, не в состоянии изобрести ничего такого, что, будучи сказано или сделано, опечалило бы христианина. Опись имения, говорил он, не коснется полагающего все стяжания в одной вере; изгнание не устрашит с одинаковым расположением обходящего всю землю и взирающего на всякую страну по кратковременности жительства, как на чуждую, и поелику вся тварь сослужебна, — на всякий град, как на свой. Подвергнуться же ударам или трудам, или смерти, когда нужно то будет за истину, — не возбудит страха и в женщинах, но для всех христиан есть высший предел блаженства в чаянии оного претерпеть что–либо невыносимое. Одно только печалит, присовокупил он, что одна в природе смерть, и не находит он никакого способа, чтобы можно было многими смертями подвизаться за истину.
Поелику же Василий в этом случае поставил себя выше оных угроз и всю надменность оного властительства презрел, как ничто, то, как на зрелище с переменою лиц вместо одних являются внезапно другие, так и здесь горечь угроз преобразилась в ласкательство, грозный дотоле и ужасающий своею гордынею епарх, переменив речь на скромную и снисходительную, говорит: «А ты не почитай маловажным, что великий царь вступает в среду твоего народа, напротив того, согласись именоваться и его учителем, и не противься изволению его. Угодно же ему, чтобы сие последовало по исключении из письменного изложения веры одной малости — речения «единосущный». Но учитель отвечает опять: царю стать членом церкви — это весьма важно, ибо, говорит он, великое дело — спасение души, не потому, что это — царь, но потому что вообще он человек. Но, чтобы в изложении веры сделать исключение или прибавление, столько далек он от сего, что не может изменить даже порядка в написанном. Вот что этот робкий, малодушный, приходивший в ужас при скрипе двери, изрек словом столько высокому чином и сказанное подтвердил делами! Так остановил и отвратил он собою, как бы поток какой разливающийся по владениям, ниспровержение церквей, один возымев достаточную силу против удара зол, и подобно какой–то великой и непоколебимой скале в море вместо многих л огромных волн сокрушив собою приращение бедствий.
Но сим не кончилась его борьба. Напротив того, еще предпринимает сделать опыт сам царь, негодуя, что в первое нападение дело кончилось не в его удовольствие. Посему, как некогда ассирийский царь в Иерусалиме разорение израильского храма велел произвести повару Навузардану, так и этот некоему Димосфену, приставленному к приготовлению яств, и главному повару, как бесстыднейшему других поручив сию службу, думал, что одержит верх во всяком предприятии. Посему, так как из всего делает он смесь, и какой–то богоборец из Иллирика, с посланием в руках, собирает на это всех вельмож, и Модест снова воспламеняется гневом с сильнейшею прежнего стремительностью; то все подвиглись гневом царевым, негодуя вместе с огорченным царем, и угождая раздражению власти, и все поражаются грозою ожидаемого. Ибо опять этот епарх; опять сильнейшие прежних восстания страхований, прибавления угроз, чувствительнейшее раздражение, плачевное зрелище судилища, глашатаи, докладчики, жезлоносцы, загородки, занавесы, все, чем легко приводятся в ужас мысли и у самых приготовленных. И снова подвижник Божий во вторичной борьбе и превосходит славу, приобретенную в предшествовавшей. Если требуешь доказательств, то смотри на самые дела. Было ли в церквах какое место, не разоренное тогдашним переворотом? Осталось ли какое племя не испытавшим еретического восстания? Кто из уважаемых в церквах не был от влечен от трудов? Какой народ избежал такого насилия? Возьмем ли всю Сирию, средоречие даже до варварских пределов: Финикию, Палестину, Аравию, Египет и Ливийские племена до самого конца известной нам вселенной — и всех обитающих там: понтийцев, киликийцев, ликиян, лидяь, писидиян, памфилиян, карийцев, жителей Геллеспонта, островитян до самой Пропонтиды, и всех населяющих Фракию, куда только простиралась Фракия, и окрестные племена до самого Истра; что из всего этого осталось в своем виде, исключая разве то одно, что прежде еще одержимо было таковым злом? Но из всех народов один каппадокийский не ощутил общего бедствия церквей; его спас от искушений великий наш защитник.
Таковы последствия робости нашего учителя! Таковы дела приходившего в ужас от трудов более тяжких! Не у жалких старух снискал он себе славу, не о том старался, чтоб обмануть женщин, легко доступных всякому обману, не почитал за великое возбудить к себе удивление в людях предосудительных и развратных; но делами доказал душевную крепость, постоянство, мужество и благородство в образе мыслей. Его заслуги — спасение всего отечества, мир нашей церкви, образец всего доброго для живущих добродетельно, низложение противников, защита веры, ограждение немощных, поддержка усердных, — все, что признается у нас лучшим. При сих только повествованиях и слух, и зрение приводятся в согласие делами. Ибо здесь одно и то же — и словом повествовать о том, что прекрасно, и на деле показывать свидетельствуемое словами, а в том и другом достоверным делать одно другим, память видимым, а дела повествуемым.
13. Но не знаю, как на столько удалилось слово от предположенного, обращаясь к каждой хуле, высказанной клеветником. Впрочем Евномию немалая выгода — это замедление слова на подобных предметах; обличение людских неправд препятствует слову поступить к существеннейшему. Как судимого за убийство бесполезно преследовать за опрометчивость в словах, потому что обличенного убийства достаточно к произнесению смертного приговора, хотя убийца не обличается с тем вместе ни в какой опрометчивости слов, так, кажется мне, хорошо будет в обличении Евномия представить только его нечестие, а злословие против нас отложить в сторону. Ибо явно, что, с обнаружением зломыслия в важнейшем и существенном, обличается вместе и все прочее, как возможное для него, хотя и не будем в точности говорить обо всем подробно. Итак, главное, к чему стремится он и в прежнем своем слове, и в том, которое разбираем теперь, есть хула на догмат благочестия; все же старание прилагает совершенно извратить, изгнать, уничтожить благочестивые понятия о единородном Боге и о Святом Духе. Посему, чтобы умствования его о догматах истины оказались наиболее лживыми и несостоятельными, сперва предложу буквально сказанное о них Евномием, а потом, возвратясь опять к сказанному, исследую каждое изречение отдельно.
«Все наше догматическое учение ограничивается превысшею и в самом собственном смысле так называемою сущностью, еще тою, которая от нее существует, после же нее первенствует над всеми иными, наконец, третью, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных, но подчинена одной как причине, а другой, как действованию, которым пришла в бытие; без сомнения же, для восполнения всего учения берутся вместе и действования последующие за сущностями и сродные им именования. Еще же, поелику каждая из сих сущностей, отдельно взятая проста и в собственном своем достоинстве и есть, и умопредставляется совершенно одна, а действования определяются делами, и дела измеряются действованиями действующих, то, по всей необходимости, за каждой из сущностей последующие действования одни меньше, другие больше, одни состоят в первом, другие во втором ряду, и вообще говоря, доходят до такой разности, до какой могут доходить дела; потому что не позволительно назвать одним и тем же деиствование, которым сотворил ангелов или звезды, или небо, или человека; но, сколько одни дела превосходнее и досточестнее других, столько и деиствование выше другого деиствования, как скажет иной благочестиво рассуждающий; так как одни и те же деиствования производят тождество в делах, а разные дела указывают и на разность деиствовании. Поелику же сие действительно так, и взаимным отношением одного к другому соблюдается непременная связь, то производящим исследование в сродном вещам порядке надлежит не смешивать всего вместе, усиливаясь слить это; и если поднят будет спор о сущности, то из первых и непосредственно принадлежащих сущностям деиствовании производить удостоверение в доказываемом и разрешение спорного; а при разрешении сомнения о действованиях из сущностей самым приличным и для всех полезным почитать поступление от первых ко вторым».
14. Итак, вот хитросплетение хулы! Истинный же Бог наш, Сын истинного Бога, водительством Святаго Духа да направит слово к истине. Будем опять повторять сказанное по порядку. Евномий говорит, что «догматическое его учение ограничивается превысшей и в самом собственном смысле так называемой сущностью, еще тою, которая от нее существует, после же нее первенствует над всеми иными, наконец, третьей, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных, но подчинена одной, как причине, а другой — как действованию». Итак, первое злоухищрение в книге есть следующее: Евномий, обещая изложить нам таинственный догмат, как бы исправляя евангельские речения, не употребляет тех именований, в которых Господь предал нам таинство сие в тайноводстве веры, напротив того, умолчав имя Отца и Сына и Святаго Духа, вместо Отца именует какую–то превысшую и в самом собственном смысле именуемую так сущность, вместо Сына — сущность, которая от первой существует, после же нее первенствует над иными, а вместо Святаго Духа — сущность, которая не состоит в одном ряду ни с одною из поименованных. Но если бы так выразиться сообразнее было с делом; то Истина, без сомнения, не затруднились бы в изобретении сих слов; не затруднилась бы, конечно, и приявшие потом на себя проповедь таинства, и «исперва самовидцы и слуги бывшии Словесе» (Лк. 1:2), а после них целую вселенную наполнившие евангельскими догматами, и опять после сего по временам восстававшие недоумения о догмате, разбиравшие на общем соборе, записанные предания которых всегда сохраняются в церквах. Если бы так надлежало выражаться, то не было бы у них и упоминания об Отце и Сыне и Святом Духе. Если совершенно благочестиво или безопасно речения веры заменить этою новизною, то значит, что невежды, не оглашенные в таинствах, не слыхавшие именований, как выражается Евномий, сродных, были те, которые и не умели, и не хотели собственные свои понятия сделать предпочтительнейшими именований, преданных нам в Божественном слове?
15. Но всем, думаю, явна причина этого составления новых имен. Ибо всякий человек, услышав название Отца и Сына, тотчас из самих имен познает свойственное им и естественное одного к другому отношение; потому что из сих названий само собою разъясняется сродство естества. Посему, чтобы не было сие разумеемо об Отце и единородном Сыне, скрадывает через это у слушателей то понятие взаимного свойства, которое с именами само собою входит в мысль; и, отложив в сторону речения богодухновенные, в изложении догмата пользуется речениями, придуманными к вреду истины.
Но прекрасно говорит Евномий следующее: в сем заключается догматическое учение не вселенской, но нашей церкви. Всякому же, у кого есть ум, легко разуметь нечестие сказанного. Но, может быть, не небла–говременно будет подробно исследовать в слове, с каким намерением одной сущности Отца Евномий приписывает, что она есть превысшая и в самом собственном смысле так именуемая, ни Сыну, ни Святому Духу не дозволяя быть высшею и собственно так называемою сущностью. Ибо думаю, что в этом видно старание совершенно отрицать по сущности Единородного и Духа, и Евномий таким ухищренным словосоставлением неприметно ведет к сему именно, что существуют Они только по видимому и по имени; истинное же исповедание Их ипостаси таковым построением речи отвергает; а что таков оборот речи, без труда приметит, кто ненадолго остановится на Евномиевом слове. Кто признает, что Единородный и Дух Святый истинно существуют по собственной Своей ипостаси, тому не свойственно много толковать о признании имен, которыми, думает он, должно чествовать сущего над всеми Бога; ибо крайнюю означало бы простоту соглашаться в деле и привязчиво спорить о словах. А теперь об одной сущности Отца засвидетельствовав, что она высочайшая и в самом собственном смысле так именуемая, умолчанием о прочих приводит к заключению, что они не в собственном смысле существуют. Ибо как сказать, что существует истинно, о чем не засвидетельствовано, что существует в собственном смысле? О чем не признано, что оно наименовано в собственном смысле, тому необходимо придать противоположное именование; и что не в собственном смысле, то, без сомнения, не действительно таково. Посему утверждаемое о чем–либо, что существует не в собственном смысле, делается доказательством совершенного несуществования; сие то, вероятно, имея в виду, Евномий вводит эти новые именования в своем догмате. Ибо никто, конечно, не скажет, что Евномий по недоразумению впал в необдуманное предположение и высшим определяет место, находящееся вверху, и Отцу как бы отделяет высокую какую–то стражбу, а Сына помещает в местах низменных. Ибо не найдется такого ребенка по уму, чтобы в рассуждении духовного и бесплотного естества представлял себе разность по месту; потому что телам свойственно положение на месте; а духовное и невещественное по естеству признается далеким от понятия о месте. Посему, какая же причина сущности одного Отца называться превысшею? Ибо не легко кому–либо представить, будто бы по какому–то невежеству в эти мысли вовлечен был тот, кто во многом, чем выказывает себя, принимает вид мудреца, и, как выражает божественное Писание, мудрится «излишше» (Еккл. 7:17).
Но не скажет он, будто бы наименование высшею показывает в сущности превосходство силы или благости, или другого чего подобного; ибо всякому (не говорим о хвалящихся превосходством мудрости) известно и то, что не имеет недостатка в совершенной благости и силе и во всем подобном Ипостась Единородного и Святого Духа; потому что всякое благо, поколику не допускает оно противоположного, не имеет предела благости, ограничивается же обыкновенно одними противоположностями, как можно это видеть в отдельно взятых примерах: силе конец, как скоро место ее заступает немощь; жизнь ограничивается смертью; свету предел — тьма; и кратко сказать, всякое отдельно взятое благо прекращается противоположным ему. Поэтому если Евномий предполагает, что естество Единородного и Духа удобопревратно в худшее, то справедливо умаляет понятие о благости Их, так как могут Они быть увлечены и противоположным. А если божественное и неизменяемое естество не допускает до Себя ничего худшего (а сие признается самими врагами), то, без сомнения, умопредставляется Оно неопределимым в рассуждении добра; а неопределимое есть одно и то же с беспредельным. В беспредельном же и неопределимом представлять увеличение и уменьшение — крайне неразумно. Ибо как сохранится понятие беспредельности, если о беспредельном будем утверждать, что оно бывает больше и меньше? Большее познаем из взаимного сравнения пределов; а у чего нет пределов, в том как возможет кто представить избыток? Или Евномий, представляя себе не это, а некое преимущество по времени, понятие большего придает тому, что старше по древности, и по сей причине одну сущность Отца называет превысшею? Итак, пусть скажет Евномий, чем измерил это большее в жизни Отца, когда не представляется никакого временного расстояния прежде ипостаси Единородного?
Но если бы и было это расстояние (пусть сказано будет сие пока предположительно), сущность, по времени предшествующая той, которая пришла в бытие после, какое преимущество имеет в бытии (разумею относительно к самому понятию бытия), чтобы одну именовать превысшею и в собственном смысле так именуемою, а о другой утверждать, что она не такова? Ибо у предшествовавшей в сравнении с младшею, хотя время жизни больше, сущность однако же от этого ни больше, ни меньше. Более же ясным соделается это из примеров. В отношении к сущности меньше ли Авраама имел через четырнадцать родов явившийся на свет Давид? Изменилось ли сколько–нибудь в нем человечество? Меньше ли был человеком Давид, потому что по времени жил позднее Авраама? И кто столько тупоумен, чтобы мог сказать это? Ибо понятие сущности, нимало не изменяемое с продолжением времени в отношении к обоим одно. И никто не скажет, что один в большей мере человек, потому что предшествовал по времени, а другой меньше причастен человеческого естества, потому что вступил в жизнь после других, как будто или растрачено естество предшественниками, или время истощило его силу в живших прежде. Ибо не времени принадлежит определять каждому меру естества; напротив того, естество пребывает само по себе, соблюдая себя посредством появляющихся вновь; а время течет собственным своим чередом, или содержа в себе, или минуя, естество постоянное, непреложное, пребывающее в собственных своих пределах. Посему и тогда не докажут, что у одного отца в собственном смысле превысшая мера сущности, если бы было допущено, что по времени имеет Он больше, как предположило слово; а без всякой разности в старшинстве времени как представит кто–либо подобное нечто о естестве предвечном? Поелику всякое измеряемое расстояние открывается в том, что ниже естества Божия, то какое остается основание у пред–приемлющих довременную и непостижимую сущность различать по разности понятий: выше и ниже?
Но никакого нет сомнения в том, что защитой иудейского догмата служит утверждаемое сими, доказывающими существование единой сущности Отца (которой одной решительно приписывают они бытие в собственном смысле), а сущность Сына и Духа полагающими в числе несуществующих; потому, что всему не в собственном смысле сущему приписывается бытие только на словах, по обычному неправильному словоупотреблению; как и человеком называется не уподобительно показываемый в изображении; напротив того, в собственном смысле называемый сим именем есть не подобие человека, но первообраз подобия. А изображение по имени только человек, и не может поэтому в собственном смысле называться тем, чем называется; так как по естеству оно не то, чем именуется. Так и здесь, если сущность одного Отца называется в собственном смысле, а сущность Сына и Духа не в собственном, что означается сим? Не явное ли это отрицание спасительной проповеди? Итак, пусть бегут опять от церкви в иудейские синагоги, не уступая Сыну бытия в собственном смысле и тем доказывая, что вовсе не имеет Он бытия; потому что недействительное одно и то же с несуществующим.
А поелику Евномию хотелось бы в подобных вещах быть мудрым, и презирает он тех, которые предпринимают писать без логической строгости' то пусть скажет нам презренным: в какой мудрости почерпнул он познание о большем и меньшем относительно к сущности? Какая причина установила такую разность, что какая–нибудь сущность больше другой сущности по самому, разумею, значению сего слова: «сущность»? Ибо пусть не представляет нам тех разностей в качествах, или в отличительных свойствах, какие по закону мышления понимаем как принадлежности сущности, составляющие нечто иное с подлежащим. Ибо не разности испарений, или цветов, или тяжести, или силы., или достоинства., или поведения и нрава, или чего–либо иного усматриваемого в теле и душе, предлагается теперь исследовать; но разумею самое подлежащее, чему в собственном смысле придается наименование: сущность; о сем спрашивается: точно ли какая–либо сущность имеет с другою разность в большей мере бытия? Но доныне еще не слышали мы, чтобы из двух существ, признаваемых имеющими бытие, пока оба существуют, в одном бытие было в большей, а в другом в меньшей мере; потому что и то и другое равно имеет бытие, пока пребывает тем, что оно есть, и, по сказанному, нет причины к предпочтительнейшему или продолжительнейшему бытию в чем–либо одном.
Посему, если вовсе не позволяет Евномий представлять себе Единородного имеющим сущность (ибо на это, кажется, поползается тайно речь его); то не приписывающий Ему бытия в собственном смысле, пусть, рассуждая о Нем, не уступает Ему и меньшего. Если же Сына, как ни есть состоящего в бытии, исповедует силою самосущею (об этом не было у нас еще спора); то почему опять отъемлет данное, доказывая, что Тот, чье бытие он исповедал, имеет бытие не в собственном смысле? А это значит то же, как было сказано, что и вовсе не быть. Как невозможно быть человеком тому, к кому совершенно неприложимо соответственное сему имени понятие; и у кого недостаток отличительных свойств, у того отъемлется целое понятие сущности; так и о каждой вещи, о которой засвидетельствовано, что имеет бытие несовершенно и не в собственном смысле, частное признание бытия не заключает в себе никакого доказательства о бытии ипос–тасном; напротив того, указание на бытие несовершенное доказывает всецелое несуществование подлежащего. Посему, если здравомыслен, то пусть обратится к благочестивому разумению, изъяв из догмата понятие о меньшей и не собственно так называемой сущности Единородного и Святаго Духа. Если же решился непременно нечествовать (и не знаю, почему же ему хочется Творцу своему, Богу и благодетелю воздать хулою); то да потерпит наказание за мнение о своей учености, будто бы значит он нечто, по невежеству подчинив одну сущность другой, утверждая, что, но неоткрытому еще закону, одна сущность выше, другая ниже, свидетельствуя, что одна в собственном смысле, а другая не в собственном так называется. Ибо и из философствовавших вне веры не знали мы ни одного, кто предавался бы сему бреду; потому что такое мудрование не согласно ни с богодухновенными изречениями, ни с общими понятиями.
Посему цель измышления сих именований достаточно, думаю, объяснена сказанным, а именно, что речения сии предварительно полагает Евномий как бы в убежище и в основание всего своего злого умысла касательно догмата, чтобы, приготовляя ум, представлять себе одну только в самом собственном и высшем смысле сущность, без труда решить о других, как об умопредставляемых в смысле низшем и не собственном. Наипаче же показывает это в последующем, где, излагая свои мнения о Сыне и о Святом Духе, не употребляет сих речений, чтобы, как сказал я прежде, сими наименованиями невольно не показать свойства в их естестве; но делает безымянное о них упоминание сей поучающий, что «от сродных имен и речений должно возводить разумение слушающих». Но какое имя сроднее употребленного самою Истиною? Евномий же учит вопреки Евангелию, именуя не Сына, но Сущность от высшей происходящую и после оной перед всеми существами первенствующую. А что говорится это к извращению благочестивого понятия об Единородном, еще более обнаружится сие из остального Евномиева рассуждения. Но поелику в сказанном у него, по–видимому, соблюдается середина, так что и не утверждающий о Христе ничего нечестивого мог бы употребить иногда сии речения; то по сей причине и я не коснусь теперь учения о Господе, чтобы сберечь место опровержению самых явных на Него хулений; но по мере сил моих исследую учение Евномия о Святом Духе, потому что явную и ничем не прикрытую произносит о Нем хулу, говоря, что Дух не равночестен Отцу и Сыну, но подчинен Тому и Другому.
16. Посему вникнем сперва, какое значение слова «подчинение», и в каких случаях божественное Писание употребляет такое речение. Почтив человека тем, что создан по образу Сотворившего, Создатель Бог подчинил ему всякое неразумное естество, как воскликнул великий Давид, изображая благодать сию в песнопениях. Ибо говорит: «вся покорил еси под нозе его» (Пс. 8:7), и поименно упоминает о подчиненных. Но в Божественном Писании еще и иное означается словом «подчинение», ибо Давид же, причину успехов своих в бранях восписуя Богу всяческих, говорит: «Покори люди нам и языки под ноги наша» (Пс. 46:4), и еще: «покоривый люди под мя» (Пс. 17:48). И в божественных Писаниях часто можно находить слово сие означающим владычество над сопротивным. Ибо изречение Апостола о будущем напоследок подчинении всех людей Единородному и через Него Отцу (1 Кор. 15:28), где он в глубине премудрости говорит, что сам «ходатай Бога и человеков» (1 Тим. 2:5) подчинится Отцу (сим подчинением Отцу Сына, соделавшегося причастным человечеству, давая разуметь покорность всех людей), как требующее большего и много труднейшего исследования, оставлю на время. Но в местах ясных, по которым нет никакого сомнения о значении слова «подчинение», в каком смысле утверждается, что сущность Духа подчинена сущности Сына и Отца? В том ли, в каком Сын подчиняется Отцу по разумению Апостола? Но поэтому Дух поставляется в едином чине с Сыном, а не подчиняется Ему, если только подчиненных два лица. Или не в этом смысле? Посему в каком же ином, кроме того, в котором, как научил нас псалом, естеству разумному подчинено неразумное? Следовательно, столько отличны, сколько естество неразумных животных отлично от естества человеческого. Но, может быть, Евномий отвергнет и это понятие? Следовательно, придет к остальному значению, — что естество, противостоявшее и противоборствовавшее прежде, после того сильною необходимостью вынуждено поклониться под власть воспреобладавшего.
Пусть из сказанного изберет, что угодно; но не знаю, что именно избрав, избежит неминуемого осуждения в хуле: тогда ли, когда скажет, что наравне с бессловесными подчинен Дух, как человеку подчинены рыбы, птицы и овцы; или когда, как отложившегося, пленником приведет к преизбыточествующему силою? Или не согласится ни на одно из сих речений, скажет же, что слово «подчинение» употребил не по понятию, усвоенному Писанием, но в другом значении называет Духа подчиненным Отцу и Сыну? Какое же это значение? Или тем самым, что Дух есть третий в порядке, какой ученикам передан Господом. Писание узаконяет подчинять, а не в один ставить ряд? Поэтому на том же основании пусть и Отца подчинит Единородному, потому что божественное Писание часто, предпоставив имя Господа, на втором месте делает упоминание о сущем над всеми Боге. «Аз и Отец», говорит Господь (Ин. 10:30), предпоставляя Свое имя. И еще: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога» (2 Кор. 13:13); и тщательно ищущим свидетельств в Писании можно собрать тысячи таких мест, каково, например, следующее: «Разделения же дарований суть, а тойжде Дух: И разделения служений суть, а тойжде Господь. И разделения действ суть, а тойжде есть Бог» (1 Кор. 12:4–6), так что на этом основании пусть Духу и Сыну подчинен будет и Сый над всеми Бог, упомянутый Павлом на третьем месте. Но и ныне не слыхали мы еще этой мудрости, которая называемое в каком–либо ряду вторым или третьим низводит в чин подвластного и подчиненного. Евномию только угодно доказывать, что известный по преданию порядок лиц указывает на преимущества и низшие степени достоинств и естеств; ибо он утверждает, что порядок мест служит указанием инаковости естеств, не знаю откуда заимствовав такое представление и какою необходимостью доведенный до сего предположения. Ибо численный порядок не производит разности естеств, напротив того, исчисляемое, каково по естеству, таким и пребывает само в себе, будет ли оно исчисляемо или нет. Число есть знак, дающий знать количество вещей; и во второй ряд низводить не всегда непременно то, что ниже по достоинству естества, но по произволу счисляющих приводит только в ряд вещи, обозначаемые числом. «Павел и Силуан и Тимофей» (1 Фес. 1:1) — здесь упомянуты три лица по воле упомянувшего; показывает ли же число, что Силуан, поставленный вторым после Павла, есть нечто иное, а не человек? Или Тимофей, поставленный на третьем месте, вследствие сего места, данного ему в ряду упоминающим так, представляется инаковым по естеству? Нет, потому что каждый из них есть человек и прежде числа, и после оного; слово же, поелику невозможно было одним речением означить вдруг троих, упоминает о каждом отдельно в произвольном порядке, связует же имена поставленным между ними союзом, чтобы, как думаю, сею связью имен показать согласие троих в едином деле.
Но не это угодно нововводителю догматов; он узаконяет, что противно порядку Божиего слова; и чтд Самим Господом поставлено в ряду с Отцом и Сыном, то, отделив от свойственного и естественного Ему места в ряду и сочетания, причислил к подчиненным, и говорит, что это есть дело Того и Другого, — Отца, как производящего причину происхождения, и Единородного, как от Себя производящего Ипостась Его; и определяет, что это есть причина подчинения, хотя не открыл еще означаемого словом «подчинение».
17. Потом говорит: «Без сомнения же берутся вместе и действования, последующие за сущностями, и сродные им именования». Смысл этих слов не очень ясен, будучи прикровен великим мраком нечестия; но сколько иной может проразумевать по догадке, он таков: действованиями сущностей Евномий, как думаю, именует производящие Сына и Святаго Духа силы, которыми первая сущность произвела вторую, а вторая — третью, и говорит, что наименования совершенных дел составлены сродно с делами. Но ухищрение в рассуждении имен мы по возможности уже исследовали; и когда достигнем этой части исследования, если потребует слово, еще продолжим исследование.
А теперь стоит пока рассуждения: как за сущностями следуют действования? Что такое они по собственному своему естеству? Иное ли что с сущностями, за которыми следуют? Или часть сущностей и естества? И если иное, то как или от чего происходят? Если то же самое, то как отделяются и, вместо того, чтобы нераздельно быть с ними, совне за ними следуют? Ибо не просто дознать что–либо из сказанного. Естественная ли какая необходимость невольно вынуждает действование, каково оно ни есть, следовать за сущностью, как следуют за огнем сгорание и пары, и испарения — за телами, от которых они происходят? Но, думаю, и сам Евномий не скажет этого; будто бы каким–то разнообразным и сложным достоянием почитать должно Божию сущность, которая не отдельным и вместе с нею усматриваемым имеет действование, открывающееся в подлежащем, как бы чем–то случайным. Напротив того, говорит он, что произвольно и свободно движимые сущности сами собою производят, что им угодно. Да и кто о том, что совершается произвольно по промышлению, скажет, что оно следует, как нечто совне сопровождающее? Ибо не знаем, чтобы по общему словоупотреблению в подобных случаях весьма обычен был такой образ выражения: о действований трудящегося над чем–нибудь говорить «действование следует за трудящимся». Ибо отделившему одно от другого невозможно постигнуть остальное само по себе; но кто сказал «действование», тот в слове сем сообъял и движимое сообразно с действованием, и кто упомянул о действующем, тот, конечно, вместе с тем молча обозначил и действование. Но сказанное яснее будет в примерах. Говорим, что такой–то кует или плотничает, или работает что–либо иное подобное. Итак, одним словом в речи представляются вместе и работа, и занимающийся работой, так что, если определить то или другое, не останется и остального. Посему, если два предмета — самое действование и сообразно с оным приходящий в движение — представляются один с другим вместе, то почему здесь говорится, что за первою сущностью следует действование, производящее вторую сущность, как бы составляя собою среду между обеими сущностями и не состоя ни в согласии по естеству с первою, ни в соприкосновении со второю? Ибо отделено от одной тем, что оно не естество, но движение естества; не согласуется же со следующею за нею, потому что посредством него произошло не чистое действование, но действующая сущность.
18. Потом вместе с сим исследуем и это: Евномий именует сущность делом сущности, сущность вторую делом первой, а опять третью второй. Чем доказал он предварительно учение сие? Какими доводами воспользовался для сего? Каким способом довел нас до необходимости поверить, что последующая сущность должна быть действованием предшествующей? Если бы по прочему, усматриваемому в твари, должно было умозаключать и о сем, то, хотя и в таком случае нехорошо по дольнему гадать о превысшем, но, по крайней мере, может быть, извинительно несколько было бы разуму при посредстве видимого блуждать в непостижимом. Теперь, кто решится утверждать, что небо — дело Божие, а дело неба " солнце, и солнца — луна, а луны — звезды, и звезд — что–либо иное в творении? Ибо все это — дело Единого; потому что един Бог и Отец всех, из Негоже вся (Еф. 4:6; 1 Кор. 8:6). Если же и приходит что в бытие друг через друга, как рождение животных, то и в этом случае происходит не что–либо инаковое, потому что в рождающемся вновь остается то же естество. Итак, почему, не имея возможности сказать подобное о чем–либо из усматриваемого в твари, Евномий доказывает это о превысшей сущности, что дело первой есть вторая сущность и так далее? Если же, имея в мысли рождение животных, вообразим по этому и о пречистом естестве нечто подобное так чтобы последующее представлять себе делом предыдущего, то и в этом случае не сохраняет Евномий последовательности речи. Ибо рождаемое другим непременно однородно с тем, от чего рождается; но он, чтобы показать обилие лжи, как ловкий борец, предприяв обеими руками низлагать истину, приписывает происходящим друг от друга неоднородность и иноплеменность. Чтобы показать подчиненность и в естественном достоинстве умаление Сына и Духа, говорит, что из одного произошло другое. А чтобы таким способом прихождения в бытие знающие рождение одного от другого не приведены были к понятию о родстве, борется с самим законом естества, говоря, что от одного происходит другое, и утверждая, будто бы Рожденный, что касается до естества Родшего, не истинный сын.
Но за что, кажется мне, в праве иной прежде всего укорить Евномия, — состоит в следующем. Если бы это был кто другой, по неопытности в слове не навыкший к таковым построениям мыслей и не упражнявшийся в них, и потом стал бы утверждать представившееся ему случайно, то, может быть, извинительно было бы ему для доказательства догматов не воспользоваться способами, при сем употребительными. Поелику же у Евномия столько на это силы, что в стремлении все постигнуть простирается и до того, что вне области нашего естества, то почему не знал он начала, при помощи которого в сих покушениях разума совершается уразумение всего сокровенного? Ибо кто не знает, что всякое слово, заимствуя начала в явном и всеми познанном, сообщает через это вероятность сомнительному и что не иначе может быть постигнуто что–либо сокровенное, как при руководстве к уразумению неизвестного тем, что уже признано нами? Если же взятое за начала понятий к открытию незнаемого противоречит предположениям многих, то с трудом разве и через это может быть открыто то, чего не знаем.
У принадлежащих к церкви вся борьба и весь спор с аномеями касательно догмата — о том, должно ли естество Сына и Духа признать или, по слову противников, сотворенным, или несотворенным, как верует Церковь. А Евномий то самое, чему все противоречат, выдает за исповедуемое всеми и, не нашедши никакого доказательства на то, что последующая сущность есть дело предыдущей, смело утверждает, что это действительно так, не знаю, по чьему наставлению или по какой мудрости осмелившись на сие. Ибо если всякому доводу и доказательству надлежит предпоставлять какое–либо бесспорное и несомненное исповедание, так чтобы предвзятым доказывалось неизвестное, будучи представлено приспособительно к посредствующим доводам, то искомое еще обращающий в довод чего–либо другого не иное что подготовляет, как неведением — неведение, и обманом — обман. А это то же, что слепца, как говорит негде Евангелие, делать вождем слепцу (Мф. 15:14). Ибо подлинно к слепому и напрасно усиливающемуся слову, утверждающему, что Творец и Создатель всяческих есть тварь и произведение, присовокупляет другое слепое слово, что Сын есть нечто чуждое естеству Отца, не подобное Ему по сущности, вовсе непричастное естественного с Ним свойства. Но не об этом еще речь, ибо, где Евномий яснее открывает нечестие своего мудрования, там и для нас кстати будет поместить обличение нечестия; теперь же возвратиться нам должно к продолжению по порядку им сказанного.
«Еще же, поелику каждая из сих сущностей чиста, проста, совершенно едина и такою умопредставляется по собственному своему достоинству, действования же определяются делами, и дела соразмеряются с действованиями действовавших, то, по всей необходимости, и действования, последующие за каждою сущностью, одни — меньше, другие–больше, и состоят то в первом, то во втором ряду». Смысл всего сказанного, хотя у Евномия содержится во множестве слов, есть один, а именно: старается он показать, что никакой нет связи у Отца с Сыном и также у Духа с Сыном, но сущности отдельны одна от другой, разъединены, суть какие–то чуждые друг другу естества, неродственные между собою, и разные не в этом только, но и в количестве и в понижении достоинств, так что одни, как говорит сам Евномий, умопредставляются большими, другие меньшими, и во всем прочем имеют несходство.
Хотя излишним покажется для многих останавливаться над явным и пытаться обличить подробно все, что, по мнению многих, само в себе ложно и гнусно и не имеет никакой силы; однако же, чтобы не подать мысли, будто бы по недостатку обличений нечто из сказанного им упустили из виду неисследованным, по мере сил приступим и к этому. «Каждая из сих сущностей, — говорит Евномий, — чиста, проста, совершенно едина и такою умопредставляется по собственному своему достоинству». Здесь опять сомнительное представляя как всеми признаваемое, думает он, будто бы сказал нечто, когда вместо всякого доказательства признает достаточным сам подтвердить сказанное. Три, говорит он, сущности, ибо это оказывается из того, что сказал: «каждая из сих сущностей», чего не сказал бы, если бы признавал одну сущность. Посему, если так означает взаимную Разность сущностей, чтобы не подать о себе мысли, будто бы увлекается нечестием Савеллия, который одному подлежащему приспособляет три названия, то соглашаемся с ним и мы, и никто из благочестивых не воспрекословит этому учению, разве только покажется Евномий погрешающим в одних именах и в словоупотреблении, когда именует сущности вместо ипостасей; ибо не все те вещи, которым принадлежит одно и то же понятие сущности, подобным сему образом под тождественное подходят понятие и по ипостаси. Петр, Иаков, Иоанн по понятию сущности одно и то же друг с другом, потому что каждый из них человек; но по отличительным свойствам ипостаси каждого из них не сходятся между собою. Посему, если Евномий доказывал это, а именно, что не должно смешивать ипостаси и одному лицу приспособлять три наименования, то будет, по свидетельству Апостола, «верно слово его и всякого приятия достойно» (1 Тим. 1:15). Но поелику не это имеет в виду, и говорит сие, не ипостаси различая между собою по усматриваемым в них свойствам, но доказывает, что самая подлежащая рассмотрению сущность инакова с другою, или, лучше сказать, сама с собою, и посему именует многие сущности, так что каждая имеет некую особящую ее от других инаковость; то посему утверждаю, что Евномиево рассуждение не имеет ни начала, ни главной основы и не доказывает хулы ничем общепризнанным. Ибо нет у него доказательства, которым бы иной мог быть приведен к такому понятию о догмате; напротив того, как бы при пересказе сна удерживает голос и недоказанное изложение нечестия. Ибо тогда как Церковь учит не делить веры на множество сущностей, но веровать, что в трех Лицах и ипостасях нет никакой разности по бытию, а противники в самих сущностях полагают видоизменение и несходство; Евномий ни одним словом недоказанное (что даже и доказано быть не может) смело подтверждает как доказанное, и доныне, может быть, не промолвив ничего в уши слушателям. А мог он научиться, смотря на выслушивающих разумно, что всякая речь, пока по произволу носится недоказанного, есть так называемое пустословие старух, не имеющее никакой силы, чтобы доказать собою искомое, — когда в защиту сказанного не приводится ни божественных Писаний, ни человеческих умозаключений. Но довольно об этом.
19. Рассмотрим же сказанное. Евномий говорит, что проста и совершенно едина каждая из сих сущностей, которые изобразил он в слове. Но что просто божественное, блаженное и всякий ум превышающее Естество, этому, думаем, не будут противоречить слишком грубые и низкие разумением. Ибо предположит ли кто многовидным и сложным естество, не имеющее ни вида, ни наружного образа, отрешенное от всякой количественности и меры в величине? Но что превысшую сущность признавать простою не согласно с догматом, доказываемым последователями Евномия (хотя на словах все у них согласно), это явно будет для остановившегося над сим ненадолго. Кто не знает, что простота Святой Троицы, по самому своему понятию, не допускает большего и меньшего? Ибо в сущности, в которой невозможно представить какого–либо смешения или стечения качеств, но которую постигает мысль, как некую неделимую на части и несложную силу, почему и на каком основании дознал бы кто разность большей и меньшей величины? Определяющему сии разности, по всей необходимости, должно представить себе столкновение каких–либо качеств в подлежащем, потому что или примышляет в них разнствующее избытком и недостатком, и через это в искомое вводит понятие количественности, или установляет ту мысль, что одна сущность преимуществует перед другою или уступает другой благостью, могуществом, мудростью или чем иным, что только благочестиво разумеется о Божестве; в таком случае неизбежно понятие сложности. Ибо у того существа нет никакого недостатка в мудрости, в могуществе или в другом каком благе, у которого благо но есть что–либо приобретенное, но каково оно есть, таким и пребывает по природе. Посему, кто говорит, что в Божественном естестве заключаются меньшие и большие сущности, тот, сам того не примечая, доказывает, что Божество сложено из чего–то неподобного, так что, по его разумению, иное есть само подлежащее, а иное опять им приобретаемое, по причастию в чем бывает оно в благе, не быв таковым само по себе. Если же Евномий представлял себе истинно простую и совершенно единую сущность, которая сама в себе есть благо, а не делается им через приобретение, то не мог приписывать ей большинства и меньшинства. Ибо и прежде сего было говорено, что благо уменьшается одним только присутствием зла. А чье естество недоступно худшему, в том не мыслим предел благости; неопределимое же таково не по отношению к другому, но само по себе представляемое избегает предела. Если же сказать «беспредельное беспредельного больше или меньше», то не знаю, как это сложится в мысли. Поэтому, если Евномий признает что, превышая сущность проста и во всем сама с собою согласна; то пусть согласится и на то, что она допускает общение в простоте и беспредельности. Если же отделяет и отчуждает он сущности одну от Другой, представляя себе сущность Единородного иною с Отцом и так же знакового с сущностью Единородного сущность Духа, и говорит о них: «эта больше и эта меньше», то пусть признает, что, хотя, по–видимому, приписывает им простоту, но в действительности утверждает их сложность.
Возвратимся же опять к сказанному им по порядку. «Так как сущность чиста, проста, совершенно едина, — говорит он, — и такою умопредставляется по собственному своему достоинству». Что значит «по собственному своему достоинству»? Если рассматривает сущности по общему их Достоинству, то и в этом случае было бы излишне, напрасно растягивало бы речь прибавление сие, останавливающееся на признаваемых всеми родах; но, может быть, извинительною несколько сделалась бы неуместность выражения, потому что благочестивый смысл даже пустоте и излишеству речи придал бы качество быть сносными. Но теперь есть опасность погрешить ему не в словах только (этот недуг был бы удобоизлечим); напротив того, дело состоит в лукавых ухищрениях. Евномий простою называет каждую из трех сущностей, по собственному ее достоинству, чтобы в начале высказанными у него определениями первой, второй и третьей сущности, повреждено было вместе и понятие простоты. Ибо как сущность Отца наименовал единою, превысшею и единою в собственном смысле так называемою, ничего этого не признав о Сыне и о Духе, не употребив о них выражений «высший» и в самом собственном смысле», точно так же назвав сущности простыми, по мере усматриваемого в каждой достоинства, и о понятии простоты думает, что надлежит приспособлять оное: почему в самом собственном смысле так называемая и первая сущность умопредставляется в высшей и совершенной простате, вторая же соответственно, по мере удаления от первенства, понижается и в понятии простоты, а также последняя настолько понижается в понятии совершенной простоты, насколько и мера достоинства умаляется до крайности, так что согласно с сим сущность Отца умопредставляется чисто простою, сущность же Сына не в точности простою, но в применении к ней естества сложного, а естество Святаго Духа имеющим большую сложность, так как мера простоты напоследок постепенно умаляется. Ибо как о несовершенно благом признаем, что оно в некоей части причастно противного свойства, так и то, что не вполне просто, неизбежно кажется сложным.
20. А что с этою мыслью употребил Евномий речение сие, яснее оказывается в продолжении речи, где открытее понятие о Сыне и Духе низводит до каких–то по земле пресмыкающихся и низких предположений. «Поелику, — говорит он, — действования определяются делами, и дела соразмеряются с действованиями действовавших, то посему необходимо, чтобы и действования, следующие за каждою сущностью, были одни — меньше, другие — больше, и состояли иные — в первом, а другие — во втором ряду». И хотя, тщательно покрыв сие туманностью слововыражения, устроил он, что понятие этого для многих неуловимо, однако же удобно объяснится из связи подлежащего исследованию. «Действования, — говорит он, — определяются делами». А делами именует Сына и Духа, действованиями же–производительные силы, которыми они совершены и о которых незадолго прежде сказал, что следуют они за сущностями. Речение «определяться» выражает прихождение в равновесие произведенной сущности с произведшею силою или, лучше сказать, не силою, но действованием силы, как называет сам Евномий, чтобы произведение было делом не всей действующей силы, но некоего частного действования, когда вся сила в такой мере пришла в движение, в какой потребно ей обнаружиться к совершению производимого. И то же самое опять приведя в обратный порядок, говорит: «И дела соразмеряются с действованиями действовавших». А смысл сих слов сделается для нас знакомее из примера. Предположим, что о каком–либо орудии для кожевенных дел идет такая речь: если резец, сделанный в виде круга, наложен на что–нибудь такое, на чем надлежит произойти такому изображению, то вырезываемое им определяется видом железа, и в вырезке окажется такой же величины круг, какой и у железа; и опять — какое расстояние обойдет орудие, такой меры и вырезкою опишет круг. Подобна этому мысль сего богослова о божественной ипостаси Единородного. Некое действование, говорит он, как бы орудие, следующее за первою сущностью, совершило соразмерное себе дело — Господа. Так умеет он славить Сына Божия, который прославляется ныне во славе Отчей и откроется во время суда! О Нем говорит, что Он есть дело и соразмерен произведшему Его действованию! Поэтому какое же это действование, последующее за Богом всяческих, умопредставляемое прежде Единородного и определяющее Его сущность? Существенная ли это какая и самостоятельная сила, свободным движением производящая, что ей угодно? Следовательно она — Отец Господу, и для чего сущему еще над всеми Богу приписуется название Отца, если не Им, но каким–то из последующих совне действованием произведен Сын? Почему Сын Тот, о Ком Евномий говорит, что произошел Он от чего–то иного, как будто некий подметный (да простит Господь за это слово!) вторгся в свойство с Отцом, будучи почтен одним только наименованием Сына? Почему же после Бога всяческих поставляет и Господа счисляющий Сына по Отце третьим, потому что на втором месте после сущего над всеми Бога почитается оное посредствующее действование? В этом же порядке и Дух Святый, конечно, займет, уже не третье, но пятое место, так как, по Евномиеву слову, действование, последующее за Единородным, от Которого состоялся Дух Святый, конечно, считается между ними в средине.
Но вследствие сего и сказанное «вся быша» Сыном (Ин. 1:3) окажется несостоятельным, потому что этим новым богословом примышлена другая некая ипостась, которая старше Единородного, и которую справедливо будет признать причиною сотворения вселенной, так как, по словам их, и происхождение самого Единородного зависит от оного действования. Если же избегая сих несообразностей, скажет, что действование, произведением которого определяет он Сына, есть нечто неосуществленное, то пусть скажет еще, как за существом следует ничто? И как неосуществившимся производится осуществившееся? Ибо вследствие сего откроется, что, хотя следующее за Богом не существует, однако же сие не сущее стало причиною существ и что не осуществилось в своем естестве, то определяет естество осуществившегося, а вся совершающая и зиждущая твари сила в естественном своем основании заключена в несуществующем. Таковы догматы сего богослова, который о Господе неба и земли, о Создателе всей твари, о Сущем в начале Божием Слове, о Том, Кем «вся быша» (Ин. 1:3), говорит, что от какой–то несуществующей и несостоявшейся вещи или мечты, или, не знаю, как надлежит наименовать измышленное ныне Евномием действование, произошел Он и определяется этим, как некою оградою, объятый отовсюду небытием. Но не уразумел этот видящий невидимое, к какому концу обращается связь речи. Ибо если действование Божие не осуществлено, а им определяется из небытия произведенное дело, то, конечно, произведение признано будет по естеству таким же чем–то, каким в слове изображено естество производящего дело. Ибо всякому известно, чем представляется произведенное из небытия и небытием объятое, именно — ничем; потому что не естественно противоположному заключаться в противоположном, как в огне не бывает воды, в смерти — жизни, во тьме — света, в несуществующем — существующего. Но Евномий, по переизбыточествующей в нем мудрости, или не разумел сего, или произвольно смежает очи для истины.
Внушает же по какой–то необходимости представлять себе меньшинство в ипостаси Единородного и опять некое усиление меньшинства перед Сыном усматривать в Святом Духе, выражая сие такими словами: «по всей необходимости, действования, последующие за каждою сущностью, должны быть меньшие и большие». Сей необходимости, вынуждающей к этому Божественное естество и по жребию уделяющей большее и меньшее, и от него мы не дознали, и сами собою уразуметь доныне были не в состоянии. Ибо у всех, принимающих простую проповедь в простом ее смысле, берет пока верх учение, что на Божественном естестве не возлежит никакой необходимости, которая бы Единородного, как невольника какого, склоняла и вынуждала к меньшинству. Но, оставив сие, хотя бы стоило то и не малого исследования, Евномий учит только, что должно представлять себе меньшее. Но необходимость не на сем только останавливает слово, а и нечто большее уготовляет в хуле, как это уже найдено отчасти. Ибо, если Сын произошел не от Отца, но от какого–то неосуществленного действования, то не только Он признаваем будет меньшим Отца, но все учение по необходимости сделается вполне иудейским. Ибо произведение несуществующего не малым только показывает следствие сей необходимости, но чем–то таким, что выговорить и обвиняющему небезопасно. Как необходимо признается имеющим бытие рождаемое от существующего, так по необходимости будет признано совсем иным происходящее от несуществующего. Ибо когда что–либо не существует само, тогда как осуществится от него другое?
Посему, если не имеет собственной своей сущности это действование, последующее за Богом и производящее Сына, то кто столько слеп, что не уразумеет уготовляемой хулы, а именно, что цель у Евномия клонится даже к отрицанию нашего Спасителя? И если вследствие их учения похищается у веры Ипостась Сына и ничего не оставляется Ему, кроме одного имени, то трудно будет верить, что собственную свою Ипостась имеет и Дух Святый, по их родословию производимый от ряда неимеющих бытия. Ибо когда нет в бытии по сущности последующего за Богом действования, и произведение оного в учении необходимо приемлется за неосуществленное, а за сим опять следует иное некое небытие действования, потом от него, доказывают они, произошел Дух; тогда не всякому ли явна хула, а именно, что, так как учение их гонится за тенями и неосуществимыми вымыслами и не опирается ни на чем истинно состоятельном, то, по их доказательству, после нерожденно сущего Бога ничто не существует в истинном смысле. И самое доказательство учащих подобному ввергает учение в таковую несообразность.
21. Но допустим предположительно, что дело не так, потому что и они исповедуют это и на словах оказывают человеколюбие, Единородному Сыну и Духу Святому уступая бытие в собственной Их ипостаси. Впрочем, если бы, исповедуя сие, исповедывали вместе и принятые о Них мнения, то, конечно, не стали бы оспаривать догмата церкви и не отторглись бы от общего упования христиан. Если же, как бы готовя себе какое вещество для хулы и повод к ней, дарят они Сыну и Духу Святому бытие, то (хотя, может быть, и смело будет сказать сие) полезнее было бы для них, отрекшись от веры, передаться на сторону иудейского служения, нежели мнимым исповеданием веры оскорблять имя христиан. Ибо иудеи, доныне пребывая не приявшими Слова, в той только мере нечествуют, что не исповедуют Христа пришедшего, а надеются, что придет; не слышно же чтобы высказал кто какое–либо дурное понятие, унижающее славу Ожидаемого ими. Исповедники же нового обрезания, а лучше сказать, как говорит Апостол, «от сечения» (Флп. 3:2), хотя не отрицают, что пришел Ожидаемый, однако же подражают тем, которые неверием и оскорбительными речами бесчестят пришествие Господа во плоти. Иудеи намеревались бросать в Господа камнями (Ин. 8:59), а сии в слово истины мещут хульными словами. Те низким и бесславным выставляли рождение по плоти, не касаясь и мыслью рождения Божественного и предвечного; подобно тому и сии, отрекшись исповедывать велелепное, высокое и неизреченное рождение от Отца, утверждают, что Он бытие приял творением, которым сообщается бытие и человеческому роду, и всему сотворенному.
В грех ставили иудеи признавать Господа Сыном Сущего над всеми Бога; негодуют и эти на исповедующих сие о Нем по истине. И те думали почтить Бога всяческих, отказав в равночестии с Ним Сыну; и сии тоже приносят в дар Сущему над всеми, отъятием славы у Господа воздавая честь Отцу. Кто же, как должно, изобразит и прочее, сколько и каких оскорблений оказывают Единородному? Измыслив какое–то действование, предшествующее ипостаси Христовой, называть Христа делом и произведением оного, на что дотоле не отваживались и иудеи. Потом ограничивают естество Господа, заключая Его в какие то пределы произведшей Его силы; и как бы мерою какою, окружая количеством действования, которым Он произведен, этим измышленным ими действованием, как некою одеждою, облеченный отовсюду. В этом не можем обвинить иудеев.
Потом усматривают какое–то сокращение в сущности в смысле меньшинства, не знаю, каким способом измерив в своем предположении неколичественное и не имеющее величины, возымев возможность найти, сколько Единородному Божию не достает величины до совершенства, не имея чего усматривается Он в умалении и несовершенстве, и многое другое частью признавая явно, а частью подтверждая тайно, в упражнение своего лукавства обратили исповедание Сына и Святаго Духа. Посему участь их не бедственнее ли иудейского осуждения, если на что не отваживались никогда иудеи, то так явно утверждается ими? Кто умаляет сущность Единородного и Святаго Духа, соглашаясь сказать или выслушать это, тот, может быть, покажется немного нечествующим. Но если кто в точности исследует сие учение, то уличит себя в самой тяжкой хуле. Таким образом, рассмотрим это, и да позволено мне будет, в изучение и уяснение утверждаемой противниками лжи, обратить слово к изложению наших о сем понятий.
22. Самое высшее разделение всех существ — делить все на разумное и чувственное. И естество чувственное у Апостола вообще названо видимым (Кол. 1:16). Ибо, как всякое тело имеет цвет, который примечается зрением, то, оставляя прочие качества, существенно принадлежащие телам, по качеству более доступному для чувства наименовал видимым. Общее же имя всякого разумного естества, как говорит Апостол, есть «невидимое» ; ибо изъятием из постижения чувственного руководит разумение к бесплотному и разумному. Но разум и понятие разумного делит на два: естество несозданное, а в след за ним берется другое сотворенное; несозданное созидает тварь, а сотворенное в несозданном естестве имеет причину и возможность бытия. Посему к существам чувственным принадлежат все те, которые постигаются телесными чувствилищами, и в которых разности качеств допускают отношение большего и меньшего, тогда как усматривается в них разность по количеству, качеству, и прочим отличительным свойствам.
А в естестве разумном, разумею естество твари, не имеет места такое же отношение разностей, какое примечено в чувственном; но открывается другой способ, обнаруживающий разность большего с меньшим. Поелику источник, начало и подаяние всякого блага усматривается в Естестве несозданном, и всякая тварь к Нему обращает взор по общению в первом благе высшего естества, к Нему приближается и делается Его причастницею по необходимости соразмерно причастию высших даров, тогда как, по свободе произволения, воспринимают оные одни в большей, другие в меньшей мере; то в твари познается большее и меньшее соответственно вожделению каждой. Ибо естество умопредставляется в твари поставленным на взаимном пределе благ и противоположного благам, как способное к свободному приятию того и другого, к чему по избранию воли имеет наклонность, как дознали мы сие из Писания; а потому, по мере отступления от худшего и приближения к прекрасному, уместно будет о превосходящем добродетелью сказать: «больше» и «меньше». Но Естество несозданное далеко отстоит от таковой разности, потому что имеет благо не приобретенное, и не причастием какой–либо высшей красоты прияло в себя красоту, но само в себе, каково оно изначала, и есть благо, и умопредставляется благом, и составляет источник блага, и просто, и одновидно, и несложно, по засвидетельствованию даже препирающихся с нами. Имеет же в себе разность, приличную величию естества, усматриваемую не в большем и меньшем, как думает Евномий. Ибо умаляющий понятие о благе в котором–либо из Лиц, признаваемых верою в Святой Троице, без сомнения, ведет к той мысли, что в обнаруживающем в себе недостаток блага примешано нечто от противоположного состояния, думать же сие о Единородном и о Святом Духе не благочестиво. Напротив того, несозданное Естество, созерцаемое в крайнем совершенстве и непостижимом превосходстве, по отличительным свойствам, какие у каждой Ипостаси Святой Троицы, имеет неслитную и совершенную разность. По общению в несозданности имеет безразличие, а по исключительному свойству каждого Лица — несообщимость. Усматриваемая же в каждой Ипостаси особенность явно и чисто отделяет одну от другой; так об Отце исповедуем, что Он есть не созданный и нерожденный, ибо и не рожден, и не создан. Посему несозданность эта у Него есть общая с Сыном и Духом Святым. Но Отец и нерожден; это есть особенное, несообщимое, чего не находится ни в одной из прочих Ипостасей. Сын по несозданности един с Отцом и Духом, но в том, что есть и именуется Сыном и Единородным, имеет особенность, которой нет ни у сущего над всеми Бога, ни у Святаго Духа. Дух же Святый, по несозданности естества имея общность с Сыном и Отцом, опять отличается от Них собственными своими признаками. Признак же и черта, особенно Его отличающие, — не быть ничем из того, что усматривает разум в Отце и Сыне. Ибо не быть и не рождено и единородно, вообще же быть составляет исключительную Его особенность перед поименованными Лицами. Будучи едино с Отцом по несозданности, опять отличается от Него тем, что не Отец, подобный оному Отцу; при единстве с Сыном по несозданности, составляя с Ним едино и потому, что причину бытия имеет в Боге всяческих, не одно с Сыном опять по Своей особенности, потому что не единородно происходи от Отца, и является через Сына. И опять, поелику тварь приведена в бытие Единородным, то, чтобы не подумали, будто бы и Дух, как явившийся через Сына, имеет некую общность с тварью, непреложностью, неизменяемостью, неимением нужды заимствовать от других благость Дух отличается от твари, потому что тварь не имеет непреложности в естестве, как говорит Писание, повествуя о падении денницы (Ис. 14:12), о котором и Господь, открывая таинства ученикам, сказал: «видех сатану яко молнию с небесе спадша» (Лк. 10:18). Но чем отличается от твари, тем самым состоит в сродстве с Отцом и Сыном. Ибо понятие непреложности и неизменяемости одно и то же самое для всех существ, по естеству не приемлющих в себя худшего.
Так, изложив наперед это, время уже нам исследовать, наконец, и учение противников. «Необходимо, — говорит Евномий, — в учении о Сыне и о Святом Духе быть большим и меньшим сущностям». Итак, посмотрим, в каком смысле разумеет необходимость таковой разности, по какому произведенному сравнению измеряемых друг другом, телесному ли или усматриваемому мысленно в преизбыточествующем и недостаточествующем добродетелью, или по самой сущности? Но о сущности сведущими в любомудрии о подобном сему доказано, что невозможно представить себе в ней какую–либо разность, если кто, очистив и обнажив сущность от усматриваемых при ней качеств и свойств, будет исследовать ее в себе самой, по самому понятию бытия. Усилением же и ослаблением добродетели представлять себе таковую разность в Единородном и Духе, и вследствие сего естество Их предполагать необходимо изменяющимся в то и другое, как равно приемлющее в себя противоположности и стоящее на взаимном пределе прекрасного и противного тому, — свойственно крайнему нечестию. Ибо кто говорит сие, тот доказывает, что иное нечто есть естество сие по собственному своему устройству и иным чем–либо делается по причастию прекрасного и дурного. Так бывает с железом, которое, долго оставаясь в огне, принимает в себя качество теплоты, продолжая быть и железом; если же будет в снегу или во льду, то изменяет качество сие в другое, которое берет над ним верх, в собственные свои части принимая холод снега.
Посему, как не по усматриваемому в железе качеству называем сие вещество, не именуем его ни огнем, ни льдом, когда оно приняло в себя качество одного из сих веществ, так, если по учению нечестивых, допущено будет о животворящей силе, что не по сущности пребывает в ней благо, но происходит от приобщения, то уже не в собственном смысле будет именоваться благом, напротив того, такое предположение принудит представлять себе нечто иное, а именно нечто такое, в чем благо не вечно усматривается, и что, взятое само по себе, не заключается в естестве блага, так что никогда в этой силе не было блага и никогда опять не будет. Ибо если что по причастии лучшего делается благом, то явно, что оно до причастия не было таковым. И если что, будучи иным, в присутствии блага приняло на себя его цвет, то, без сомнения, как скоро разлучится с благом, признаваемо будет за нечто другое, а не за благо. И если сия мысль одержит верх, то естество Божественное будет почитаемо настолько раздаятелем благ, сколько само имеющим нужду в снабдителе благами. Ибо как сообщит кто другому то, чего не имеет сам? Поэтому, если обладает благами совершенно, то не будем представлять себе никакого умаления в совершенстве; и не основателен тот, кто в совершенном полагает меньшее. Если же причастие блага почитается у них несовершенным и потому называют сие меньшинством, то, смотри, что из сего следует. Именно же, что в такой мере у себя имеет, то будет не скуднейшему благодетельствовать, но прилагать старание восполнить недостающее себе самому; так что, по их мнению, ложно учение о промысле, о суде, о домостроительстве и обо всем, что, по нашему верованию, совершено и всегда совершается Единородным, потому что, по их учению, как и естественно, занят Он попечением о собственном Своем благе и оставил управление вселенною.
Если бы возобладало такое мнение, что не во всяком благе совершенен Господь, то нетрудно уже было бы уразуметь, во что обратилась бы хула. Ибо в таком случае тщетна вера, напрасна проповедь, не состоятельны надежды, осуществляемые верою. Для чего и крещаются во Христа, когда нет у Него собственной Своей силы для благостыни? Да удалится от уст моих эта хула! Для чего веруют в Духа Святаго, если это о Нем думают? Как возрождаются крещением от растленного рождения, когда, как они думают, возрождающая их сила не обладает естественною непогрешительностью и неоскудеваемостью? Как тело смирения их преобразит Преобразующий, когда Сам Он, как полагают они, имеет нужду в изменении Его на лучшее, требует для себя другого, кто преобразовал бы еще и Его? Ибо пока в малой мере обладает благом естества, так как высшее естественно в недостаточных влагает непрестанное некое влечение к Нему, никаким образом не прекратится желание большего, но при напряженном всегда вожделении еще не полученного, обладающее меньшим будет вожделевать большего и большего, изменяться всегда в высшее и никогда не достигнет совершенства, потому что не найдет предала, за который взявшись, могло бы остановиться в восхождении. Поелику первое благо по естеству беспредельно, то но необходимости беспредельным также будет и приобщение наслаждающегося благом, так как всегда объемлет в большей против прежнего мере и всякий раз находит необъятный еще избыток, и никогда не может сравниться с ним, потому что и то, чего приобщается, не имеет предела, и то, что возрастает от приобщения, не престает возрастать.
Таковы–то хулы, возникающие из понятия о разности в обладании благом. Если же в Единородном и в Духе усматривают в телесном некоем понятии разумеемые большее и меньшее, то несообразность учения открывается сама собою без точного исследования в подробности. Ибо, по всей необходимости, при таком предположении в Божественное естество вводятся некоторые качества: расстояние, объем, очертание и все, что входит в понятие тела. А где допускается сложное, там, без сомнения, признается и разложение сложного. Но сим несообразным учением, которое осмеливается утверждать, что в неимеющем величины и сложности есть меньшее и превосходящее величиною, доказывается это и подобное этому, как из многого не многое открыло нам слово, потому что и не удобно открывать в слове всю ложь, сокрытую в сем учении. Да и не многим из сказанного тем не менее обнаружится несообразность открывающегося вследствие Евномиевой хулы. Но мы приступим к продолжению сочинения, предпоставив еще не многое к утверждению нашего учения. И поелику во всяком догмате надежная проверка истины есть богодухновенное свидетельство, то хорошо, думаю, будет и в нашем слове удостоверить присовокуплением Божественных словес.
23. Итак, в разделении существ познаем следующие разности. Первым (так как это первое для нашего постижения) называю чувственное; после же сего по руководству чувственного усматриваемое умом — и это, как сказано нами, есть разумное. И опять в разумном признаем мы другую разность, деля оное на созданное и несозданное, и о несозданном естестве определили мы, что это есть Святая Троица, созданным же есть и именуется все, что представляется после Нее. Посему, чтобы распределение наше не осталось недоказанным, но было приведено в несомненность свидетельствами Писания, присовокупим к сказанному следующее: Господь, как Бог Слово, самолично свидетельствует в Евангелии, что Он не создан, но исшел от Отца оным неизреченным и неисповедимым способом рождения или исхождения. И какой найдется свидетель более истинный, нежели Слово Самого Господа, Который во всем Евангелии и истинного Отца называет Отцом, а не Творцом Своим, и Себя Самого именует не делом Божиим, но Сыном Божиим. Ибо как в означение общности Своей по плоти с человеческим родом видимое называл Сыном человеческим, показывая сродство по естеству плоти Своей с тою, от которой заимствована, так истинный и искренний союз с Богом всяческих означает наименованием Сына, словом «Сын», показывая сродство по естеству, хотя некоторые к испровержению истины, взяв отрывочно из приточного речения и без изъяснения предлагая сказанное употребительно, темно и в виде загадки, слово: «созда» (Притч. 8:22), которое приточник внес в речь от лица Премудрости, употребляют в защиту извращения ими догмата, говоря, в словах: «Господь созда Мя», заключается исповедание, что Господь создан, так что Сам Единородный словом сим не отрицает таковой мысли. Но нам не должно обращать внимания на слова сии, ибо они не представляют доказательства, что слова сии непременно должно относить к Господу, и не возмогут доказать, что по еврейскому чтению смысл изречения ведет к сему значению, потому что прочие толковники вместо ««созда»«, перевели ««стяжал, постает»« . Но если бы и такое было чтение в первоначальном Писании, смысл выражения не был бы не труден и ясен, потому что приточное учение показывает цель сказуемого не явно, но прикровенно, не в прямых выражениях, как из сказанного в связи с сим местом можно узнать неудобопонятность слова. Например, сказано: «егда отлучаше престол Свой на ветрех» (Притч. 8:27) и тому подобное. Какой разумеется Божий престол? Вещественный или мысленный? И какие ветры? Эти ли обыкновенные и известные, которые, по словам естествоиспытателей, происходят из паров и испарений? Или представляемые происшедшими иным способом, который неведом обычному человеческому знанию? И сии–то ветры, по слову приточника, послужили основанием престолу? И какое седалище у бесплотного, неописуемого, неизобразимого Бога? И все подобное кто уразумеет по обычному значению сих слов?
Посему явно, что представляемые изречения суть какие–то загадки, заключающие в себе взгляд более глубокий, нежели каков их смысл, представляющийся с первого раза; поэтому предположение, будто бы Господь создан, никоим образом не составится из сего места Писания в рассуждающих благочестиво, а наипаче в наученных велегласием Евангелиста, который говорит, что все сотворенное сотворено Им, и о Нем состоялось. Ибо сказано: «Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть» (Ин. 1:3) о Нем. Евангелист не сказал бы сего утвердительно, если бы веровал, что и Сам Господь есть одна из тварей. Ибо как было бы все сотворено Им, и сотворенное о Нем возымело состоятельность, если бы Он, как Творец, не был непременно чем–то иным от естества сотворенных, и не Он соделал не Себя, но тварь? Если тварь Им, Сам же Господь не Сам Собою, то, конечно, все же Он нечто иное, а не тварь. Посему когда Евангелист сказал: «Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть» о Нем, очевидно сим показал, Что все сотворенное сотворено о Сыне, й не другим Кем приведено в бытие.
Слово сие продолжает Павел и, чтобы не оставить никакого повода к хульной речи, именно же к тому, чтобы' естество Духа причислять к тварям, перечисляет (сказывая, каково оно именно) то, что у Евангелиста называется и разумеется словом ««вся»« . И как великий Давид, сказав, что все покорено человеку, присовокупил и те роды, какие заключены в слове ««все»«, то есть животные земные, водяные и воздушные (Пс. 8:7–9), так и истолкователь божественных догматов Апостол Павел, сказав: «тем создана быша всяческая» (Кол. 1:16), понятие слова ««всяческая»«, определяет перечисленным, ибо говорит ««видимая и невидимая»«, под словом ««видимая»«, как уже сказано, объемля известное чувству, а именем ««невидимая»« давая разуметь естество разумных.
Но что касается до чувственного, то Апостол не имел нужды перечислять все до мелочи поименно. Ибо никто не плотян и не скотен столько, чтобы и Духа Святаго предполагать принадлежащим к чувственному. Упомянув же о невидимых, поелику и естество Духа также разумно и бесплотно, чтобы не подумал кто отнести к ним и Духа по общему свойству невидимости, делает весьма ясное разделение между приведенным в бытие сотворением, и между превысшею твари сущностью. Ибо перечисляет в слове сотворенное, называя некие престолы, начала, власти, господства (Кол. 1:16), и некими родовыми и собирательными именами излагая учение о сих невидимых силах, а что выше твари, то самим молчанием поставляет вне числа существ сотворенных. Как если кто, получив приказание пересказать поименно мелких и низших начальников в войске, управляющих рядом или взводом, сотников и тысячников, и ежели есть другие какие именования начальств над частями, поименовав всех, не сделает никакого упоминания о власти все содержащей и управляющей всею силою, не по презорству, или не но забвению, умолчав о сем преобладающем начальстве, но потому что приказано ему было, или сам он предположил перечислить только подвластное и подчиненное чиноначалие, включив же в этот памятный список низших и главноначальствующего, оскорбил бы его: так, кажется мне, поступил и Павел, посвященный в неизреченные тайны, когда восхищен был в рай, и став зрителем пренебесных чудес, видел и слышал неизглаголанное для людей. И он, намереваясь преподать учение о том, что сотворено Господом, когда изобразил это в слове некими собирательными именами, описав ангельскую и премирную силу, остановил речь на упомянутом выше, не внося в список тварей того, что превыше твари; так что сим ясно засвидетельствовано в Писании, что Дух Святой выше твари.
Но если кто возразить на сие, что Павлом не упомянуты и херувимы, но в перечислении созданного и о них умолчано, как и о Духе, и тем, что не сделано о них упоминания, станет доказывать, что или И их должно признать высшими твари, или не признавать сего о Духе: то пусть вникнет он в значение перечисленных названий, и по–видимому опущенное усмотрит в сказанном, потому что упоминание сделано не поименно. Ибо упомянув о престолах, Апостол другим именем изобразил херувимов, более известным названием выразив на еллинском языке неясное еврейское слово. Слыша, что Бог восседает на херувимах, Апостол силы сии наименовал престолами Восседающего на них. Но также и серафимы у Исайи (Ис. 6:2), которыми ясно проповедана тайна Троицы, когда изумевая перед лепотою каждого Лица в Троице, чудесно взвывали это слово: «свят», — заключаются в списке упомянутых, наименованные словом: «силы» у великого Павла и еще прежде сего у Пророка Давида. Ибо говорит он: «Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящий волю Его» (Пс. 102:21). Исайя же вместо того чтобы сказать: «благословите», написал самые слова благословления: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф: исполнь вся земля славы Его» (Ис. 6:3). А что слуги суть эти силы, творящие волю Божию, Пророк дал разуметь сие в очищении грехов, какое по воле Пославшего совершено одним из серафимов (Ис. 6:6–7). Ибо вот служение сих духов — быть посылаемыми во спасение спасаемых.
Сие–то, кажется мне, уразумев и дознав, что одно и то же у двоих пророков означается различными названиями, избрав же самое известное речение, божественный Апостол серафимов наименовал силами, чтобы клеветникам не осталось никакого предлога утверждать, будто бы и Дух Святой наравне с одним из них пропущен в списке тварей. Ибо об одном сказано, по доказанному уже, а о другом умолчано, как можно сие дознать из поименованного Павлом, который всю тварь исчислил во множественном числе, а об именуемом единично упомянул в числе единственном; потому что сие свойственно Святой Троице — быть возвещаемою единично: един Отец, един Сын, един Дух Святый. Все же поименованное у Апостола выражено во множестве: «начала, власти, господства, силы», чтобы не подать повода к предположению, будто бы в числе их и Дух Святый. Но Павел умалчивает о неизреченном, и прекрасно сие делает. Ибо умел и слышать в раю «неизреченны глаголы» (2 Кор. 12:4.), и удерживаться от истолкования невыразимого словом, когда ведет речь о чем–либо низшем.
24. Враги истины отваживаются касаться и несказанного величия Духа, оскорбляя низведением до низости твари, будто бы не слыхав, как Сам Бог Слово, передавая ученикам тайну боговедения, сказал, что именем Отца и Сына, и Святаго Духа совершается жизнь возрождаемых и сообщается им и через это Духа, соединив с Отцом и с Собою, исключил из понятия о твари; так что благочестивая и боголепная о Нем мысль составляется, и когда Павел при упоминании о твари умолчал и не упомянул о Духе, и когда Господь при упоминании о животворящей силе, Духа Святаго присоединил к Отцу и к Себе. Так наше учение, руководясь святым Писанием, выше твари поставляет Единородного и Духа Святаго, и, по изречению Спасителя, предполагает созерцать их верою в блаженном, животворящем и несозданном естестве; так что высшее твари, по нашему верованию, единое в первенствующем и по всему совершенном естестве, ни коим образом не допускает и понятия о меньшинстве, хотя начальник ереси усекает неопределимое примышлением сего меньшинства, как бы умаляя и сокращая совершенство Божественной сущности, когда утверждает, что усматривает в ней и большее, и меньшее.
Посему посмотрим, что присовокупляет Евномий по порядку к сказанному. После слов, что «по необходимости должно полагать, будто бы сущности одни — меньше, а другие — больше», и одни состоят в первом ряду, по некоему отличию в величине и достоинству возведены до предпочтения, другие же унижены по низшей степени естества и достоинства, присовокупил он следующее: «до такой доходят они разности, до какой доходят и дела; ибо непозволительно называть одним и тем же действованием то, которым сотворил Бог ангелов или звезды и небо, или человека; но насколько одни дела выше и предпочтенное других дел, столько же одно действование превысшим другого назовет иной, уверенный в том, что теми же действованиями производится тождество дел, а различные дела указывают на различные действования».
Посему, думаю, что сам писатель легко не мог бы сказать, что именно разумев, написал он это; смысл сказанного так затемнен непроницаемостью выражения, что никто не будет в состоянии с удобством в этой тине рассмотреть, какая цель у выражающихся так. Ибо выражение: «доходят до такой разности, до какой доходят дела», иной признает за изречение какого–то по языческой басни прорицателя, путающего слова для обмана слушателей. Если же, следуя разобранному доселе, надлежит гадать и о том, что хочет доказать здесь Евномий, то доказывается вот что: сколько есть различия у одного дела с другим, столько будет признаваемо взаимной разности в действованиях. Посему, о каких делах идет здесь речь, сего нельзя найти в сказанном. Ибо если Евномий говорит о видимом в твари, то, не знаю, какую связь имеет это с предыдущим. Поелику вопрос об Отце и Сыне, и Святом Духе, то кстати ли Евномию естествословить о земле, воде, воздухе, огне, о разностях животных, описывать это словом, изображать дела, которые старее и предпочтительнее других дел, и не без основания утверждать, что одно действование другого превосходнее. Если же делами называет Единородного Сына и Святаго Духа, то о каких опять говорит разностях действований, которыми совершены дела сии? И какие те самые действования, которыми превышаются другие? Ибо не объяснил он, что разумеет под восхождением, которым одно действование, как говорит он, превосходит другое; ничего также не сказано об естестве действований, но и доныне речь у него не дошла ни до чего определенного, как не утверждает, что действование есть нечто осуществленное, так не доказывает, что оно есть некое неосуществившееся движение воли. Ибо смысл сказанного, совершенно оставленный по средине между тем и другим предположением, склоняется к каждому из сих понятий.
Присовокупляет же Евномий, что непозволительно называть одним и тем же действование, которым сотворил Бог ангелов или звезды и небо, или человека. Опять по какой необходимости или связи присоединил сие к сказанному, или что особенно доказывается этим? Разве что действования различаются одно от другого в той мере, в какой есть взаимная разность и в делах, доказывает тем, что не все есть дело одного и того же, но иное приведено в бытие иным. Но сего не усматриваю. Из Писания же дознали мы, что все — дело Единого: и небо, и ангел, и звезды, и человек, и все, умопредставляемое в твари. Учение же их догмата утверждает, что Сын и Дух суть дела не одного, но как Сын есть дело последующего за первою сущностью действования, так Дух опять другое дело первого дела. Посему, что общего имеют с утверждаемым ими небо и человек, и ангел, и звезда, совокупленные теперь в слове, пусть скажет сам Евномий или кто–нибудь из сообщников его несказанной мудрости. Ибо нечестие этого явно открывается в сказанном, а на чем утверждается сие нечестие, то даже само с собою несогласно. Ибо явное нечестие — думать, что во Святой Троице усматривается столько же разности, сколько примечается в небе, объемлющем всю тварь, и в одном по числу человеке или в одной видимой на небе звезде. Сопоставление же понятий и связь доказательства на все это (утверждаю это) ни мне, ни самому, может быть, отцу хулы неудобовразумительны. Если бы подобно сему рассуждал он о твари, а именно, что небо есть дело высшего некоего действования, а звезда — произведение действования последующего за небом, произведение же звезд — ангел, и ангела — человек, то речь его сравнением подобных вещей служила бы несколько к подтверждению догмата. Если же все это приведено в бытие одним, в чем сам он соглашается, если только не вовсе идет вопреки слову Писаний, а в происхождении Сына и Духа определяет некий иной способ, то что общего у последовавшего с предыдущим?
Но уступим, что к доказательству различия сущностей есть в этом нечто общее, потому что ему желательно доказывать сие тем, что говорит. Но послушаем, как связал он последующее со сказанным. «Сколько одни Дела, — говорит он, — старше и предпочтительнее других дел, столько и действование, скажет иной благочестиво мыслящей, превосходит над действованием». Если говорит он это о подлежащем чувствам, то речь его далека от предположенного, ибо предположившему рассуждать о догматах какая необходимость любомудрствовать о порядке миротворения и утверждать, что с величиною каждой сотворенной вещи соразмерны высшие и низшие действования Сотворшего? А если ведет речь не о том и делами старейшими и предпочтительнейшими других дел называет дела, выдуманные им ныне в догмате, то есть Сына и Духа Святаго, то хорошо, может быть, в молчании паче возмущаться сею мыслью, нежели, вступив с нею в борьбу, тем самым доказывать, по–видимому, что она имеет значение. Ибо как найдется предпочтительнейшее там, где ничего нет неуважительного? Если в Евномии склонность и готовность к злу простерлась до того, что именование и понятие неуважительного предполагает в чем–либо таком, что по нашему верованию есть во Святой Троице, то надлежит зажать уши и, сколько есть силы, бежать от лукавого слышания, чтобы в слушающем не произошло какого общения с скверною, когда, как из некоего сосуда, полного нечистоты, перельется слово в сердце слушающих.
Ибо как осмелится кто о естестве Божественном и превысшем сказать что–либо такое, чем сравнительно в слове наводится мысль на менее достойное уважения? «Да вcu», сказано, «чтут Сына якоже чтут Отца» (Ин. 5:23). Поелику изречение сие узаконяет равночестие, так как божественное слово есть закон, то Евномий отмещет и закон, и самого Законодателя, одному уделяет он большее, а другому меньшее чествование, не знаю, где обретши меру избыточествующего честью. Ибо по людскому обычаю разности достоинств определяют и почести обладающим, так что подвластные не в одинаковом и равном виде представляются царям и низшим начальствам, но большее и слабейшее обнаружение страха и уважения в представляющихся показывает недостаток или избыток чествования перед чтимыми. И посему особенно предпочтительнейших можно находить по расположению подвластных, когда кто наиболее страшен для ближних и, по–видимому, удостаивается большего пред прочими уважения. В Божественном же естестве, так как в нем открывается все совершенство благ, по слову Божию, невозможно, сколько мы разумеем, найти и способа предпочтения. В Них немыслимы ни избыток, ни недостаток и силы, и славы, и мудрости, и человеколюбия, вообще чего–либо, понимаемого как блага; напротив того, все блага, какие имеет Сын, принадлежат и Отцу, и все принадлежащее Отцу усматривается в Сыне. Как же оправдаемся, большую честь воздавая Отцу? Если царскую власть постигаем разумением по ее достоинству, то Сын есть Царь. Если представим в уме судью, то весь суд принадлежит Сыну. Если занимает нашу душу величие твари, то «вся Тем быша» (Ин. 1:3). Если уразуметь причину нашей жизни, то знаем, что истинная жизнь снизошла даже до нашего естества. И если дознали преставление из тьмы, то не не узнаем истинный свет, которым освобождены мы из тьмы. Но если кому драгоценною кажется мудрость; то Христос — Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1:24).
Итак, поелику душа наша, по справедливости, сколько возможно для нее, столько исполнена удивления к таковым и столь великим чудесам Христовым, то какой можно представить избыток чести, по преимуществу воздаваемой одному Отцу, в котором прилично было бы не иметь части Господу? Ибо это самое — человеческое чествование Божества, в надлежащем смысле рассматриваемое, не иное что есть, как полная любви привязанность и исповедание присущих в Нем благ, и мне кажется, что любовь и предписана в Божием слове, когда сказано: так должно чтить Сына, как чествуется Отец. Ибо закон, повелевая любить Бога всем сердцем и всею силою, предписывает воздавать Ему подобную честь; и здесь слово Божие, узаконяя равносильную любовь, говорит так: Сына чествовать должно, как чествуется Отец.
Сей способ чествования выполнял пред Господом и великий Давид; в предисловии к одному псалмопению, исповедуя, что возлюбил он Господа, и перечисляя причины любви, называет Бога «крепостию, утверждением, прибежищем, избавителем, Богом, помощником, упованием, защитником, рогом спасения», заступником и подобными именами (Пс. 17:2–3). Посему, если Единородный Сын не соделался сим для людей, то пусть, по закону ереси, прекращено будет преувеличение воздаваемой за сие чести. Если же веруем, что всем этим, и что еще выше и есть, и именуется Единородный Бог, по всякому умопредставлению доброго дела и доброй мысли, будучи в равенстве с величием благости, сущей во Отце, то как назовет кто основательным или не любить такого, или не чтить возлюбленного? Ибо никто не скажет, что любовь должна происходить от всего сердца и от всей силы, а чествование от половины. Посему, если от всего сердца чтится Сын, потому что Ему посвящается вся любовь, то какое примышление изобретет что–либо большее сего чествования, когда все сердце, сколько вмещает, в такой мере и чествование приносит Ему в дар любовью? Поэтому суетен, кто при досточтимом по естеству учит о предпочтительном, и таковым сравнением останавливает мысль на недостойном чествования.
25. О твари справедливо можно сказать «это старше», потому что последование дел показано в порядке дней, и о сотворении человека иной скажет «настолько–то предшествовало оному небо» и измерит протекшее между тем время расстояниями дней. В первом же естестве, которое выше всякого понятия о времени и не вмещается ни в одном удобопостижимом примышлении, иное представлять себе упредившим по давности времени, другое опоздавшим — принадлежит новоявленной ныне мудрости. Ибо Утверждающий, что Отец старше Ипостаси Единородного, не иное что утверждает, как то, что сам Сын моложе сотворенного Сыном; если только справедливо сказать, что все века, и все временное расстояние произведены после Сына и Сыном. И к этому еще (что наиболее изобличает нелепость учения) на основании сего не Сыну только припишется какое–то временное начало бытия, но вследствие этого не пощадят и Отца, и о Нем утверждая, что возымел начало во времени. Ибо если прилагается какое–либо указание, означающее рождение Сына, то явно определит оно начало и Отчей ипостаси.
Но не неблаговременно, может быть, для ясности тщательнее исследовать сие учение. Выдающий за догмат, что жизнь Отца старше жизни Сына, некоторым расстоянием времени отделяет Единородного от Сущего над всеми Бога, о сем же среднем между Ними расстоянии предполагает, что оно есть нечто или беспредельное, или заключенное в некоторые пределы и определенное явными признаками. Но назвать Его беспредельным не позволяет мысль о среде, которая непременно ограничит в уме и понятие об Отце, и понятие о Сыне; да и самой этой среды не поймет ум, пока беспредельное ни с одной стороны не будет определено и понятие об Отце сверху не преградит продолжения беспредельному, и понятие о Сыне снизу не пресечет беспредельности, потому что самое понятие беспредельного требует того, чтобы всюду разливаться естеством и ни откуда никаким пределом не быть ограниченным.
Посему (в рассуждении Отца и Сына твердым и непреложным да пребудет понятие бытия!) никакой не будет возможности расстояние сие представлять себе беспредельным; напротив того, по всей необходимости, Единородного представляют они себе в определенном некоем расстоянии от Отца. А это, как утверждаю, значит, что по учению сему и Сый над всеми Бог не от вечности, но возымел начало с некоей определенной точки времени. Такова моя мысль, которую сказываю; к объяснению же оной известными примерами, чтобы посредством видимого соделалось для нас ясным и неизвестное, присовокуплю: по Моисееву писанию утверждая, что после неба в пятый день сотворен человек, сим словом, не произнося вслух, утверждаем также, что за пять до сего дней неба еще не было; так совершающееся после чего–нибудь предшествующим ему расстоянием времени определяет существование и того, что умопредставляется бывшим прежде. Если же примером сим недостаточно уяснили мы свою мысль, то можем разумеемое нами представить иначе, говоря, что закон дан через Моисея по истечении четырех сот тридцати лет от обетования Аврааму. Если, от закона возвратившись назад и протекши мыслью предшествующее ему время, достигнем предела поименованному числу лет, то ясно поймем, что до сего времени обетования Божия еще не было. И многое можно сказать, подобное сему, но отказываюсь перечислять все сие по одиночке, так как это дело скучное.
Посему, вследствие сказанного в примерах исследуем предлежащий вопрос А он состоит в следующем: об ипостасях Отца и Сына, и Святаго Духа утверждать ли, что она, согласно с мнением противников, одна другой старше и моложе? Поэтому, когда, перейдя за рождение Сына, как выражается еретическое учение, приступим потом к среднему расстоянию, какое предполагается в неосновательном мнении преподающих сие учение и утверждающих, что есть некое расстояние между Отцом и Сыном, тогда, если достигнем той крайней точки, которою еретики разграничивают промежуточное расстояние, то находим там жизнь Бога всяческих стоящею вверху, так что перед этою точкою по необходимости образуется что–то, где, как должно верить, нет вечно сущего Бога.
Если же сомневаешься еще, то опять мысль сию сделаем понятною при помощи примеров. Ибо как на двух линейках, когда одна короче, а другая длиннее, сравняв их основания, по верхним концам познаем избыток, потому что, приложив конец меньшей линейки, по оному видим, каков в той, которая длиннее, излишек, и находим, чего не достает той, которая короче, остаток до конца большей приравняв какой–либо мере; будет ли это локоть или другая величина, на которую большая линейка не равняется с меньшею; так, ежели, по словам противников, есть какой избыток жизни Отца пред жизнью Сына, то, конечно, состоит в некоем известном расстоянии; оно же (в сем необходимо согласятся и противники, ибо и враги истины исповедуют, что Отец и Сын равно бессмертны) не в излишестве продолжения полагается, напротив того, разность сию представляют себе в верхнем пределе, жизнь Сына не равняя с жизнью Отца, но протяжением жизни расширяя понятие об Отце. Итак, поелику расстояние определяется двумя концами; то, конечно, по всей необходимости, и в придуманном ими расстоянии берутся две точки, обозначающие собою концы. Посему, как одна часть, по словам их, имеет начало в рождении Единородного, так и другой край непременно кончится другим неким пределом, которым ограничивает себя соответствующее расстояние. Посему, что это за предел, пусть скажут сами, если не стыдятся следовать собственным своим словам.
Но нет никакого сомнения в этой мысли, а именно, что к одной части выдуманного ими расстояния не найдут другой части, если не будет непременно предположено и нерожденному какое–либо начало, после которого средину берут они мысленно для рождения Сына. Посему утверждаем: кто говорит, что неким протяженным продолжением Сын позднее жизни Отца, тот и Отцу дает определенное начало существования, описуемое вымышленным средним расстоянием, и в таком случае, вследствие такого довода, окажется у них оная пресловутая нерождаемость Отца утаиваемою самими защитниками нерождаемости, так как говорит, что не всегда существует нерожденный Бог, утверждают же, что с некоторого начала возымел Он начало бытия; ибо Кто имеет начало бытия, Тот не безначален. Если же во всяком случае надлежит исповедывать безначальность Отца, то не допытывайся какого–либо определенного указания началу жизни Сына, с которого начав бытие, отделяется Он от жизни, какая по другую сторону сего указания; но достаточно представлять, что Отец прежде Сына в значении только причины, не предполагая, что жизнь Отца была отделенною и особою когда–либо до рождения Сына, чтобы с сим понятием не вошло вместе некое представление о протяжении, до явления Сына измеряемом жизнью Родшего, необходимым следствием чего будет предположение некоторого начала в жизни Отца, на котором остановится вымышленное ими протяжение времени, пока Отец не был Отцом, простирающееся вверх и определяющее собою начало умопредставляемой ими предшествующей жизни Отца. Но исповедуя то, чтб от Отца, хотя покажется это и смелым, не отрицаем, что оно с Отцом, путеводимые к сему понятию Писанием. Ибо, слыша от премудрости о сиянии вечного света (Евр. 1:3), вместе с вечностью созерцаем сияние первообразного света, и представляя себе причину сияния, и не допуская старейшинства. И таким образом сохраняется у нас учение благочестия: и у Сына нет недостатка в высшей части жизни, и вечность Отца не умаляется предположением определенного начала у Сына.
26. Но кто–нибудь из противников сего положения скажет, может быть, что и тварь, как признано, имеет начало, однако же сотворенное не умопредставляется совечным Создателю и собственным своим началом не вводит определения в неопределимую Божию жизнь, как исследование о Сыне и об Отце показало в этом несообразность. И потому следует или тварь признать совечною Богу, или без страха утверждать о Сыне, что Он позднее Отца. Ибо мысль о расстоянии одинаково оказывается несообразною, когда и от твари прилагается к Сотворшему.
Но делающий такое возражение, не точно, может быть, вникнув в смысл догмата, оспаривает сказанное с помощью того, что чуждо предложенному и вовсе не имеет с ним ничего общего. Ибо если бы указал нечто высшее твари и имеющее начало осуществления в некоей отстоящей точке, и всеми признавалось это возможным, то есть чтобы понятие о протяжении времени мыслимо было прежде творения, то, может быть, открывался бы возражающему случай, доказанную в изложенном доселе вечность Единородного попытаться опровергнуть такими доводами. Поелику же по общему приговору всех благочестивых признается, что, если взять все существа, то иное произошло творением, а другое было до творения, и мы веруем, что Божественное естество не создано, и, как слово благочестия учит, в Нем одно есть причина, другое неотступно от причины имеет Ипостась, тварь же усматривается в некоем протяженном расстоянии, то весь временной порядок и ряд сотворенного объемлется веками, предвечное же естество избегло сих разностей — быть старше или моложе, — потому что в Божественной и блаженной жизни не усматривается ничего того, что разум видит собственно в твари. Ибо всякая тварь, как сказано, приводимая в бытие в некоем последовании по порядку, измеряется расстоянием веков; и если кто по ряду сотворенного взойдет разумом к началу приведенного в бытие, то изыскание свое ограничит основанием веков. Превысшая же твари сущность, как далекая от всякого представления о протяжении, избегла всего временного ряда, ни от какого подобного начала, никаким способом, находимым по какому бы то ни было порядку, не поступая ни к какому пределу или не заключая своего течения сим пределом. Ибо кто преходит века и все совершившееся в них, тому созерцание Божественного естества, предъявившись его помыслам, как некое обширное море, не дает никакого в себе знака, указующего на какое–либо начало, как бы ни простирал он вдаль удобопостигающее воображение, так что допытывающийся о том, что старше веков, и восходящий к началу вещей ни на чем не может остановиться помыслом, потому что искомое всегда убегает и пытливости ума нигде не указывает места к остановке.
Но учение сие ясно хотя сколько–нибудь вникавшему в естество существ, а именно, что Божественной и блаженной жизни ничто не может быть мерою, ибо не она во времени, но время от нее; тварь же непременно от какого–либо признанного начала стремится к собственной своей цели, идя временными расстояниями; так что можно, как где–то говорит Соломон, усматривать ее «начало и конец и средину» (Прем. 7:18), временными отделами означающие ряд происходящего в ней. Но превысшая и блаженная жизнь, так как не сопровождается никаким протяжением, не имеет ничего ни измеряющего, ни объемлющего ее. Ибо все сотворенное, ограничиваемое собственными своими мерами, как угодно сие премудрости Сотворшего, как бы пределом каким, объемлется приличною сему мерою, сколько сие нужно для благоустройства вселенной. Посему, хотя по немощи человеческому рассудку не доступно истолкование усматриваемого в твари, однако, несомненно то, что все силою Сотворшего приведено в совершенство и находится в пределах, свойственных твари. Творящая же существа сила, описующая в себе естество сотворенного, сама не имеет объемлющего ее; всякая мысль, устремляющаяся взойти к началу божественной жизни, заключается в себе самой, превышает всякую меру пытливости и любознательности усиливающихся достигнуть предела в ^определимом. Ибо всякое восхождение ума выше веков, и поступление вдаль до того только возвысится, что можно будет видеть неисследимость искомого, и по–видимому, как бы мерою какою и пределом движения и деятельности человеческих помыслов служат время и бытие во времени, а что выше сего, то остается непостижимым и неприступным для рассудка чистым от всего, что может подходить к человеческому разумению. Ибо в чем не представляется ни вида, ни места, ни величины, ни меры времени, ни другого чего умопостигаемого, в том постигающая сила ума, ищущая, за что ей взяться, по необходимости, как сродного и близкого себе, взыщет времени и твари во времени, так как непостижимое естество повсюду от нее ускользает.
Всякому, сколько–нибудь вникавшему в существа, известно, думаю, это, что Создатель всяческих, основав веки и в них место, как бы вместилище какое, принимающее в себя сотворенное, уже в них творит все; потому что невозможно чему–либо из пришедшего или приходящего в бытие посредством сотворения иметь бытие иначе, как только в месте и во времени. Естество же, ни в чем не имеющее нужды, вечное, в себе содержащее все существа, — и не в месте, и не во времени. Оно прежде них и выше их; по неизреченному закону, одною верою созерцается в Себе Самом, не измеримое веками, не протекающее со временами, но на Себе Самом остановившееся, в Себе Самом водруженное, не с прошедшим и не с будущим вместе созерцаемое. У Него и вне Его нет ничего такого, из чего, в продолжение прохождения, одно уже проходит, другое будет проходить. Ибо случайности сии свойственны тварям, у которых жизнь сообразно делению времени делится для надежды и для памяти. В оной же высокой и блаженной силе, в которой все равно всегда присуще как настоящее, усматривается, что и ожидаемым непременно обладает всеобъемлющая сила.
Посему Она есть та самая сущность, в которой, как говорит Апостол, «всяческая в Нем состоятся» (Кол. 1:17), и мы, каждый особо причащаясь бытия, «живем и движемся и есьмы» (Деян. 17:28); Она выше всякого начала, не представляет признаков собственного своего естества, познается же единственно из того, что не может быть постигнуто. Ибо наисобственнейший признак ее тот, что естество ее выше всякого представления об отличительных свойствах. Потому тварь, так как не имеет одного и того же значения с несозданным, не входит в сравнение и общение с Сотворшим по этому самому, то есть по разности сущностей, и потому что в себе самой заимствует собственный свой представительный вид естества, не имеющий ничего общего с тем, от чего произошла. Божественное же естество, как чуждое всех признаков, особенно усматриваемых в твари, ниже себя оставляет временные отделы, разумею: «старшее», «младшее», и все местные примышления, так что о Нем не говорится в собственном смысле и слово «выше». Ибо все умопредставляемое о несозданной силе есть самая высота и начало и удерживает значение сказанного в самом собственном смысле.
Итак, поелику сказанным приведено в несомненность, что не в числе при Единородный Сын и Божий Дух, а напротив того, веровать должно, что Они выше твари, то, может быть, тварь любознательностью усиливающихся изыскать подобное сему будет постигнута при каком–либо особом начале, а что выше твари, то нимало не соделается от сего более доступным ведению, потому что не находится в этом никакого указательного прежде веков знака. Поэтому если в несозданном естестве представляются чудные Лица и имена: Отец, Сын и Дух Святый, — то возможно ли пытливому любознательному уму, что постигает он в дольнем, одно на другом сравнительно основывая по какому–то расстоянию времени, тоже признавать и в сущности не созданной и предвечной, в которой Отец безначален, нерожден и умопредставляется всегда как Отец; а от Него непрерывно и неотлучно умопредставляется вместе с Отцом Единородный Сын; через Сына же и с Ним прежде, нежели мысль встретит какую–то пустоту и неосуществленную среду, немедленно и соединенно постигается и Дух Святый не позднее Сына по бытию, так чтобы Единородный некогда был умопредставляем без Духа; но и Он от Бога всяческих, и причиною бытия имея то самое, от чего и Единородный есть свет, воссиявший от истинного света, ни расстоянием каким, ни инаковостью естества не отделяется от Отца или от Единородного. Ибо в предвечном естестве нет расстояния, и никакая разность в сущности невозможна, потому что невозможно и представить себе разность несозданного с несозданным; а Дух Святой не создан, как доказано в предшествующих словах.
Поелику так понимают это все приемлющие простей смысл просто выраженной проповеди, то кстати ли сколько–нибудь будет покуситься по понятию о твари расторгать союз Сына с Отцом, как будто бы есть некая необходимость и твари быть совечною, или признать, что Сын рожден после? Ибо и рождение Единородного — не в продолжение веков, и сотворение — не прежде веков, а посему ни коим образом не следует делить на части естество непротяженное и в творящую причину всего вносить мысленный некий промежуток, говоря: не имел некогда бытия Даровавший бытие всему.
Итак, истинно сказанное прежде слово, что с нерожденностью Отца умопредставляется и вечность Единородного в рождении. А если допустит кто, какое–либо промежуточное расстояние, которым рождение Сына отсекается от жизни Отца, то сим определится и начало жизни сущего над всеми Бога, что нелепо. Но тварь, которая по собственному своему естеству есть нечто иное с Сотворшим, ничто не препятствует умопредставлять имеющею некое свое особенное начало, но сказанному нами, как нимало не сходную с пречистым и предвечным естеством. Сказать, что из несуществующего или, как говорит Апостол, «от неявляемых» (Евр. 11:3) пришли в бытие небо или земля, или иное что видимое в числе тварей, не делает никакого бесславия Творцу всяческих, так как и из божественного Писания дознали мы, что твари не от вечности существуют и не вечно пребудут. Если же нечто из того, что, по вашему верованию, есть в Святой Троице, признано будет не вечно сущим с Отцом, а напротив того, по еретическому учению, придет кому–либо на мысль Сущего над всеми Бога лишить на время славы Сына и Святаго Духа, то не иное что окажется, а только то, что Бог, по еретическому учению, далек от всякого блага, от всего, что на самом деле и по понятию божественно. Но если вечно славен Отец, существующий прежде веков, а слава Отца — предвечный Сын, равно и слава Сына — Дух Христов, вечно созерцаемый купно с Сыном и Отцом, то откуда, и из какого заимствовав учения, этот мудрец утверждает, что между сущими не во времени есть старейшее и между досточтимыми по естеству досточтимейшее, сравнительно ставя одно выше другого, и предпочтением одного бесчестя прочих? Ибо, без сомнения, очевидно, к чему ведет это различение досточтимости.
27. А что присовокупляет Евномий к сказанному, и каково последующее за тем? «Одни и те же действования, — говорит он, — производят тожество дел, а различные дела указывают на различные действования». Прекрасно этот неробкий приступил к непреоборимой защите своего слова! «Одни и те же действования, — говорит он, — производят тожество дел». Посему проверим сказанное делами. Действование огня при согревании одно; посмотрим же, какое согласие имеют дела? Медь плавится, глина крепнет, воск выгорает; прочие животные, если бывают в огне, гибнут, а саламандра плодится; хлопок горит, каменный лен вымывается в пламени, как в воде. Таково тожество дел от одного действования! А солнце? Не одно ли и то же оно, и не одною ли и тою же силою все одинаково согревая, одно из растений возращает, а другое иссушает, изменяя конец действования сообразно с подлежащею ему силою? Растущее на камне сушит оно, а что выросло на глубокой почве, то увеличивает во сто крат. А если вникнешь в дела природы и посмотришь, сколько многохудожного производит она в телах, то еще более познаешь осмотрительность утверждающего, что одно и то же действование производит тожество дел: причина зачатья есть одно действование, но многообразен состав устрояемого внутри, так что никто не будет в состоянии легко перечислить разности качеств в теле. Одно опять действование у младенцев — сосание молока, но изобразит ли какое слово разнообразные произведения таковой пиши. Как бы по трубе расходится она из уст в отделяющие протоки; претворяющая же сила естества сообразно с каждым членом проводит к нему молоко, перевариванием раздробляя пищу на тысячи разностей, и соразмерно потребности каждого члена преобразуя ее в однородное с ним. Ибо одною и тою же снедью питаются бьющиеся и кровеносные жилы, головней мозг, мозговая оболочка, костяной мозг, кости, чувствительные жилы, связки, сухие жилы, плоть, наружность, хрящи, жир, волосы, ногти, пот, испарина мокрота, желчь и все прочее излишнее и негодное от одной же зависит причины. И если переименуешь члены, и орудные, и чувствительные, и все прочее, наполняющее собою телесный состав, то относительно к пище одним и тем же действованием изменяется это во столько разностей. И если кто обратит внимание на искусства, то и в них найдет исследованное о догмате; ибо у делающих что–либо руками во всяком искусстве видим большей частью одно и то же действование, разумею же одно и то же движение рук. Но посмотрим, что общего в произведениях? Что, например, общего в построении храма и в приготовлении одежды, тогда как в том и другом случае искусство действует движением руки? Руку приводит в движение кто и ломает стену; ее же двигает кто роет колодезь, и из земли добывает металл, и смерти предается человек; все это — дела движения рук; и воин в битве совершает рукою поражение врагов, и земледелец рукою опять при помощи заступа размягчает земную глыбу. Посему как же наш установитель догматов утверждает, что одни и те же действования производят тожество дел? Но если допустить, что в сказанном есть несколько и правды, то сим еще более подтверждается сродство по сущности и Сына с Отцом, и Духа с Сыном. Ибо если была бы какая–либо разность в действованиях, так что иначе действовал бы Отец, и иначе по благоусмотрению Сын, то справедливо было бы по разности действований заключать о разности действовавшей при каждом действований сущности. Если же каким образом действует Отец, подобно сему творит все и Сын, по слову Самого Господа и по требованию разума (потому что действует не бесплотно один, а другой с помощью тела, не из одного вещества один, а из другого другой, не в иное каждый время и не в ином месте совершает угодное ему, да и разности самих орудий не производят различия, но достаточно одного движения воли и устремления произвола, которому сопутствует и которое сопровождает в приведение в бытие существ все осуществляющая сила), и во всем одинаково одним родом действования действуют и Отец, «из Него ж вся», и Сын, «Имже вся» (1 Кор. 8:6), то почему же этот Евномий из различия действования Отца и Сына, отделяющего их одного от другого, думает доказать разность Сына и Духа по сущностям? Ибо, как сказали мы, оказывается противное сему, потому что в Отце и Сыне не усматривается каком–либо роде различия действований; и что нет никакой постепенности в сущеностях Сына и Духа, сие открывается из тожества осуществившей силы, как подтверждает слово наше и свидетельство этого писателя, так читаемое буквально: «как действования, — сказано у него, — производят тожество дел». Поэтому если тожество дел производится одинаковостью действований, а, по их же словам, дело Отца есть Сын, и Сына Дух Святый, то однообразность действования Отца и Сына, без сомнения, будет доказывать тожество произведшей сущности.
Евномий присовокупляет: «различные дела показывают и различные действия». Посему рассмотрим опять и это, в чем состоит твердость сего положения, и, если угодно, представим на сие ясные примеры. Не одно ли действование повеления единым Своим хотением Осуществившего весь мир и все, что в мире? «Яко Той рече, и быша, Той повеле, и создашася» (Пс. 148:5). Не во всем ли одинаково осуществилось повеление, и не достаточно ли было единого изволения к приведению в бытие несуществовавшего? Почему же, когда следствием одного действования, состоявшего в повелении, усматривается столько разности: Евномий, как бы не видя совершившегося, говорит, что различие дел доказывает разность действования? Должно было бы, напротив того, всему, что в мире, быть однообразным, если, по словам установителя догматов, в различии дел обнаруживается и разность действований. Или все это видит он подобным и только в Отце и Сыне усматривает неподобие?
Итак, если не обратил, внимая прежде, пусть посмотрит теперь на разность стихий, и на то, как в мире каждая вещь, входящая в состав целого, по естеству направлена к противоположному. Иное легко и стремится обыкновенно вверх, другое тяжело и готово упасть вниз; одно всегда неподвижно, другое непрестанно движется; и из движимого иное имеет движение неизменное, по одному направлению, как то: небо и подвижные звезды, течение которых возвращается всегда на прежний путь; а иное, будучи разлито повсюду, несется всегда, куда случится, как–то: воздух, море и всякое естество жидкой сущности. Что же скажет кто о противлении теплого холодному или о разности влажного с сухим, о расстоянии верхнего и нижнего? Сколько естественных несходств у животных? И какое человеческое слово исчислит разности растений по виду и величине, но плодам и качествам?
28. Но этот мудрец доказывает нам, что для разных дел и действования разные, или не дознав еще того образа Божественного действования, о котором говорит Писание, что словом повеления вся «создашася», или оставаясь слепым к усмотрению разностей в сотворенном; и говоря нам так не осмотрительно, постановляет закон о божественных догматах, ни от кого еще, может быть, не слыхав, что все утверждаемое решительно, если не вообще, то в рассуждении известного предмета, должно быть бесспорным и общепризнанным. А кто свободно догматически утверждает то, в чем не согласится с ним никто из людей осмотрительных, тот нисколько не отличается от рассказывающих на пиру сны или басни. И поелику в сказанном у Евномия такая несообразительность, то, как признающее действительным что в сонном мечтании видят нечто озабочивающее их наяву, с жаром привязываются к несуществующему в действительности и полагают, что владеют желаемым, потому что пожелание видимого удостоверяет в этом обманчивым видением, так и Евномий, вследствие этого, подобного сну, отпечатления догматов, возмечтав, что сказанное им имеет силу, утверждает что это действительно так и этим самым старается доказать остальное. Место сие у Евномия стоит того, чтобы привести его здесь; буквально же читается оно так: «поелику же сие действительно так, и взаимным отношением одного к другому соблюдается непременная связь, то производящим исследование в сродном вещам порядке и не усиливающимся смешивать и сливать все вместе, если возбуждено будет какое сомнение о сущности, надлежит из первых и непосредственно принадлежащих сущностям действований производить удостоверение в доказываемом и разрешение сомнения, сомнение же о действованиях разрешать из сущностей».
29. Итак, думаю, что для показания нелепости сказанного достаточно самих речений нечестия. Ибо как изображающий в слове обезображенное страданием лицо всего лучше покажет болезнь, сняв покрывала, так что смотрящим на видимое ничего не будет должно познавать в словесном изображении, так для способных прозревать душою достаточно, думаю, обнаружатся безобразие и искажение еретического учения, будучи открыто через одно чтение. Но поелику, как бы перст какой, на гнилость учения наведя указующее слово, надлежит в большей ясности представить для многих заключающийся в учении вред, то снова повторю по порядку сказанное. «Поелику, — говорить он, — это действительно так». Что такое высказывает сновидец? Что такое «это»? И что значит: «так»? То, что одна собственно так называемая и превышая сущность — сущность Отца; а поэтому, без сомнения, не собственно так называется следующая за нею, и еще менее собственно — третья сущность; вот что постановил он законом в сказанном! Потому ли, что за первою сущностью следует некое действование, произведением и делом которого есть Единородный Сын, связанный мерою действования Его произведшего? Или потому, что сущности представляются меньшими и большими, поелику как–то заключены одна в другой, и меньшая объемлется более обширною, что бывает с сосудами, вкладываемыми друг в друга, вследствие чего Евномий усматривает большими и меньшими те сущности, которые не имеют ограничивающего их конца и предела? Или потому, что разности созданий показывают знаковость и создателей, так что невозможно от одинаковых действований произойти разным созданиям? Итак, ужели у кого чувствилища души погружены в столь глубокий сон, что, услышав подобные учения, немедленно согласится с утверждающим: «поелику же это таково, и по взаимному отношению соблюдается в этом неразрывная связь». Ибо, думаю, что признак совершенного помешательства в уме — и говорить подобное этому, и без исследования выслушивать утверждающих, будто бы, по взаимному отношению, какою–то связью поправляется разъединенное между собою несходством в естестве. Ибо, по нашему разумению, соединяется оно или сущностью, и в таком случае по взаимному отношению блюдет неразрывную связь, или отделяется одно от другого по знаковости естества, как думает он. И в том, что чуждо друг другу, какое найдется отношение по связи, соблюдающее неразрывность? Что же это за сродный вещам порядок, по которому Евномий узаконяет производить исследование? Если бы имел он пред очами у себя учение истины и вследствие того рассуждал о разности, касающейся одного порядка в том, что составляет предмет верований в святой Троице, то, поелику этот, как говорит Евномий, сродный порядок различение ипостасей делает не слитным, так что признаются они и имеющими общение по сущности, и разделенными по понятию ипостаси, и Евномий, конечно, не был бы причислен к противникам, говоря то, что стали бы защищать и мы. Теперь же все его сочинение, клонясь к противному, делает, что трудно уразумение понимаемого им здесь порядка. Весьма большая разность между тем, что произвольно, и тем, что невольно, по какой–то естественной необходимости, достигает конца. Огню естественна теплота, лучу — светлость, воде — течение, камню — падение вниз; и подобных примеров можно указать множество. Но если кто построил дом или принял на себя начальство, или завел торговлю, или предпринял другое какое занятие, и, обдумавши дело и приготовившись к нему, то о нем нельзя сказать в собственном смысле, что в сделанном им есть некий сродный этому порядок, потому что согласно с хотением избирающего и с пользою совершаемого дела вводится порядок производителями каждого дела. Итак, поелику здесь еретическое учение отделяет Сына от естественного свойства с Отцом, и той же мысли держится о Духе, как отчужденном от единения с Сыном и Отцом, и во всем сочинении доказывается, что Сын есть дело Отца, и Дух — дело Сына, все же это дела произволения, а не произведения естества, то почему Евномий определяет, что дело воли есть некий сродный порядок дел?
Не знаю, что разумел Евномий в сочинении сем: то ли, что Бог всяческих, создав сие естество Сына и Духа Святаго, соделал такую постепенность сущностей, что один подчинен другому? И если это разумеет, то почему не объяснил сказанного, на каком основании представляет себе, что знает это о Боге, будто бы в малости дел открывается большая Его сила? Но кто согласится на это, что в малости произведений усматривается великая причина и сила, а не скажет напротив того, что не всему от Него происшедшему мог дать совершенство? И как засвидетельствует Евномий, что Богу принадлежит наивысшее и в самом собственном смысле восписуемое превосходство, если докажет, что сила меньше произволения? Или скажет, что происхождением от Него не подано причины к совершенству, чтобы, конечно, не умалились честь и слава по превосходству чтимого? Но кто столько жалок, что и божественного и блаженного естества не представит себе чистым от страсти зависти? Посему, какая благовидная причина Богу всяческих такой установить порядок для Единородного и Духа? Но не от Бога всяческих это, говорить он. От кого же иного, если в имеющих сродство по естеству не усматривается сродного им порядка? Но, может быть, низшую степень сущности в Сыне и Духе называет сродною порядку? Впрочем, имею нужду дознать причину и этому самому, почему Сын умаляется по сущности, тогда как сущность и действование познаются с равными, даже одними и теми же, признаками и отличительными свойствами. Если же понятие сущности и действования не одно и то же, но означаемое тем и другим словом различно, то почему доказательства искомого заимствуются в постороннем и чуждом? Если кто, когда любопытствуют знать о человеческой сущности, спрашивают: не смешливое ли или не способное ли учиться грамматике животное есть человек, — в доказательство представленного возьмет устройство дома или корабля, произведенное строителем того или другого, потом подтвердит это таким мудрым словом: сущности познаем по действованиям; дом же и корабль есть действование человека, а из сего заключаем, недогадливый, что человек есть животное с тупыми ногтями и смешливое, — на такой ответ скажет иной: не о том был вопрос, имеет ли человек какое движение и действование, но о том, что такое по природе своей само действующее, — вот что особенно нужно дознать мне из ответа. Если бы хотелось мне узнать что–нибудь о ветре, то, указав на груду песка, нанесенную ветром, или на кучу соломы, или на поднятую пыль, не дал бы ты дельного ответа на вопрос, ибо иное понятие о ветре, а ты вместо искомого указываешь на другое. Посему, как же Евномий доказывает сущности действованиями и основание бытия самого существа представляет из производимого существом.
Потом рассмотрим и сие: какое это дело у Отца, по которому, говорит Евномий, постигается сущность действовавшего? Конечно, наименует Сына, если поведет обычную речь. Но Сын, по твоему рассуждению, премудрейший, будучи измеряем произведшим Его действованием, указывает на него одно; а искомое тем не менее остается в неизвестности, если только действование, как и тобою засвидетельствовано, есть нечто из последующего за первою сущностью, потому что оно, как ты говоришь, простирается до той же меры, как и дело им совершенное, и в произведении обнаруживается действование не таковым, каково оно по природе, а только, в какой мере усматривается оно в деле. Ибо как у медника не вся сила была подвигнута, чтобы сделать бурав, но в какой соразмерности требовалось для сделания снаряда, в такой и действовало искусство ремесленника, имеющее возможность произвести много разнообразных вещей, так меру действования показывает в себе кто им произведен. Но вопрос, у нас не о количестве действования, а о самой сущности действовавшего. На том же основании, если скажет, что посредством Духа (а Духом именует он дело за Сыном последующего действования) постигается естество Единородного, то в слове Его нет никакой состоятельности, потому что и здесь опять действование простирается не далее произведения, и произведенным не показывает, каково естество и у него самого, и у делающего.
Но чтобы не спорить и в этом, согласимся, что сущности познаются по действованиям. Итак, первая сущность познается по делу ее, и вторую сущность также показывает дело, ею совершаемое. Посему, скажи мне, мудрец, о третьей, что служит ее указанием? Никакого подобного дела не усматривается у третьей сущности. Если сущности постигаются, как говоришь, по действованиям, то должен будешь признать, что естество Духа непостижимо, не имея подобного непосредственно за Ним следующего действования, по которому бы, остановись на этом, можно было заключать о естестве Духа. Посему, или покажи какое–либо существенное дело Духа, по которому, как говоришь, постигается сущность Духа, или вся ваша паутинная ткань распадется от прикосновения слова. Ибо, если, по вашему разумению, сущность познается по непосредственно следующему действованию, а у Духа нет никакого существенного действования, тогда как делом Отца называет Сына, и делом Сына — Духа, то сим самым признается, что естество Духа, конечно, непознаваемо и непостижимо, как не–обнаруживаемое никаким действованием, умопредставляемым ипостасио. Если же Дух избегает постижения, то как постигается сущность, превышая непостигнутого? Ибо, если не познаваемо дело Сына, которое, как говорят они, есть Дух, то, конечно, не может быть познаваем и Сын, прикрываемый недоведомостью Того, Кто должен быть свидетельством о Нем. И если в таком случае сокрыта сущность Единородного, то как сокровенною сущностью явлена будет «самая высшая и собственно так называемая» сущность, когда недоведомость Духа в обратном порядке через Сына передается Отцу; а по этому и по свидетельству врагов ясно открывается, что совершенно непостижима сущность Отца? Посему, на каком же основании этот прозорливец, видя несуществующее, и сам естество неявленных и непостижимых видит одно посредством другого и нам повелевает видеть, утверждая, что по делам постигаются сущности, а по сущностям — дела?
Но рассмотрим и продолжение речи. «Сомнение о действованиях, — говорит Евномий, — разрешать по сущностям». Возможно ли кому избавить его от этих пустых предположений? Сомнения о действованиях, думает он, возможно разрешать постижением сущностей! Как сомнительное посредством непостигнутого приводит в веру? Ибо если сущность постигнута то какая потребность любопытствовать о действований, будто бы им будем приведены к постижению искомого? Если же исследование действования необходимо потому, что путеводимся им к познанию производящей его сущности, то как не познанное еще нами естество возможет разрешить сомнение о действованиях? Доказательства всякой сомнительной вещи заимствуются в том, что признано всеми. А когда то и другое в искомом одинаково неизвестно, как, по словам Евномия, вещи сами по себе неизвестные постигаются одна посредством другой? При недоумении о сущности Отца, утверждает он, искомое делается явным из следующего за Отцом действования и совершаемого им дела. И опять при вопросе, что такое есть сущность Единородного, Которого Евномий называет то действованием, то произведением действования (ибо пользуется тем и другим речением), по сущности произведшего, говорит он, не трудно разрешить недоумение о Единородном.
30. Желал бы я дознать от Евномия и следующее: о Божием ли одном естестве утверждает он, что недоумение о действователях разрешается по действующей сущности, или касательно всякой вещи, для которой есть некая творящая сила, по сущности творящего познает он естество сотворенного? Если такое учение преподается о единой Божией силе, то пусть покажет Евномий, как недоумение о делах Божиих разрешает он естеством Совершившего. Ибо вот несомненное Божие дело — небо, земля, море, целый мир. Пусть же предположительно спрашивается о сущности чего–либо одного из исчисленного, и пусть воззрению разума предложено будет небо. Итак, поелику сущность неба сомнительна по причине разнообразных о нем мнений, различно рассуждавших о том естествословов, как представлялось каждому, то как умозрение о Сотворшем небо доставит нам разрешение недоумения об искомом? Создатель невеществен, невидим, не имеет видимого образа, не рожден, вечно пребывает, остается недоступным тлению, превращению, изменению и всему, что подобно тому. Посему, как же приобретший такое понятие о Соделавшем приведен сим будет к познанию естества неба? Как по невидимому уразумеет видимое, по нетленному — подлежащее тлению, по сущему нерожденно — состоявшееся времени, по пребывающему вечно — получившее себе бытие временное, по всему противоположному составит себе представление об искомом? Пусть скажет сие с точностью вникающий в существа, пусть скажет, как несходное по естеству может быть познаваемо одно посредством другого. Но тем самым, что говорит Евномий, если бы умел он оставаться верным собственному слову своему, был бы он приведен к согласию с церковным догматом. Ибо если естество Сотворшего показывает сотворенное Им, как он говорит, а Сын, по их же словам, есть произведение Отца, то, конечно, уразумевший естество Отца познал через Него и естество Единородного, если только естество действовавшего служило указанием и произведенного.
31. Как и через это по самому неравенству Единородный устраняется от дел промысла, то рождение да не будет предметом пытливого изыскания, и тем да не обличается с усилием неравенство Единородного. Ибо и разности произволений достаточно к тому, чтобы обнаружить инако–вость естества. Поелику первая сущность, по согласному с нами признанию даже и противников, проста, то необходимо представлять себе со–путственное естеству произволение. А как доброе произволение доказывается промыслом, то им же доказывается и благость естества, у которого произволение; а как один Отец творит благое, Сын же не имеет на сие произволения (говорю предположительно ради противников), то очевидна будет разность в сущности, свидетельствуемая различием произволений. Если же Отец промышляет обо всем, а также промышляет и Сын; ибо что видит творящего Отца, «сия и Сын такожде творит» (Ин. 5:19), то сие тожество произволений, конечно, указывает на общность естества в имеющих одно и то же произволение. Почему же не ценится понятие о промысле как бы ни мало не содействующее к решению вопроса, хотя наше слово подтверждают многие примеры, встречающееся в жизни, — разумею же примеры известного всем? Кто видел свет огня, и испытал его теплотворную силу, тот, если приблизится к другому такому свету и к другой такой же теплоте, очевидно, приведен будет к понятию об огне, сходством явлений возводимый к мысли о сродстве естества, произведшего сии явления; ибо, что не огонь, то не производит всего, свойственного огню. Так если усматриваем в Отце и в Сыне подобным и равным один и тот же закон промысла, то по достигшему до нашего ведения гадаем и о превышающем наше разумение, что не инородно по естеству познанное по равным и сходным произведениям. Ибо, в каком взаимном отношении состоят внешние признаки каждой вещи, так по необходимости относятся между собою и самые сии подлежащие. И если внешне признаки противоположны между собою, то противоположными, конечно, надлежит признать и вещи, по сим признакам открывающиеся. И если признаки одинаковы, то не противоположны и вещи. И Господь в притче говорит, что плоды суть знаки естества дерев, так что плоды разнятся не вопреки естеству дерев, и дурным деревам не приличны плоды хорошие, и наоборот, хорошим деревам — дурные плоды; по плодам, сказано, познаются дерева (Мф. 7:20). Так, поелику и плод промысла не имеет никакой разности; то одно усматриваем естество, возрастившее сии плоды, хотя плод спадает с разных дерев. Посему вследствие известного нашему разумению (известно же нам разумное начало промысла, одинаково усматриваемое и в Отце и в Сыне), несомненными делаются и сходство по естеству, и общность Единородного с Отцом, познаваемые по тожеству плодов промысла.
32. Но, чтобы не подумали сего, Евномий, как бы вынуждаемый какою необходимостью, говорит, что оставляет рассуждения о делах промысла, а обращается к образу рождения, «потому что, — говорит он, — образу рождения последует и образ подобия». Какая убедительность доводов! Как сильно это обилие Евномиева искусства в слове заставляет нас согласиться со сказанным! Образу рождения, говорит Евномий, последует и образ подобия. Сколько искусства и осмотрительности в этом положении! Посему, если познан будет образ рождения, вместе с этим откроется и образ подобия. Посему, так как у всех или у большей части животных, рождающихся плотски, образ рождения один и тот же, образу же рождения, по учению евномиан, последует образ подобия, то все, рождаемые одним и тем же образом, конечно, будут в подобном отношении к рожденным подобно. Итак, если образ рождения, как говорит еретическое слово, себе уподобляет рождаемое, а сей образ при многоразличных разностях животных ничем у них не разнится, но у большей части один и тот же, то окажется, что общее, без всякого ограничения сделанное положение, по причине подобного рождения, подобными друг другу представляет всех: человека, пса, верблюда мышь, слона, барса и всех других животных, которые обыкновенно рождаются подобным образом. Или Евномий подобными друг другу называет не всех рождаемых сходно, но разумеет подобие каждого рождаемого с тем одним, от кого рождается? Но если это хотел он выразить, то должен был подобным назвать рождаемое рождающему, а не образ подобия — образу рождения. Но хотя это справедливо, и усматривается в природе, а именно, что рождаемое однородно с рождающим, однако же не принимается так безусловно, чтобы нечего было обратить в возражение положению. Ибо если скажет, что рождаемое подобно рождающему, то напрасным и несостоятельным облачится все, что с такою тщательностью сочинено Евномием о неподобии сущностей.
Теперь же говорит он, что образу рождения последует образ подобия, это для умеющих с точностью разбирать основание мысли не окажется и совершенно невразумительным? Ибо услышавший выражение «образ рождения» придет в великое затруднение, что должно разуметь ему. О наружном ли виде рождающего говорит Евномий? Или о направлении, или о расположении, или о месте, или о времени? Или о том, что зародыш зачатием приводится в усовершение? Или упоминается о самих местах зарождения? Или говорит не об этом, а о чем–то ином, касающемся до рождения? И как дознаем значение сказанного? Ибо неточность и неясность речения «образ», приводит нас к сомнению в означаемом, потому что все значения равно приходят на мысль, и каждое в равной мере не имеет связи с подлежащим. А также, что называет образом подобия, представляем себе чуждым всякого смысла, имея в виду примеры, известные всякому из обычая. Ибо не виду или образу рождения уподобляется рождаемое; порождение в рождении плотском есть отделение тела, изводящее наружу образованием в утробе доведенное до совершенства живое существо; а рождаемое есть или человек, или конь, или вол, или что бы то ни было, приведенное в бытие рождением. Как же поэтому образ подобия рождаемого последует образу рождения, пусть скажет сие сам Евномий, или если кто другой научился у него повивальному искусству. Ибо иное есть порождение и иное, происходящее от порождения, и понятия того и другого разны. А посему, что сказанное Евномием и в рассуждении рождаемых по плоти ложно, не будет этому противоречить никто из имеющих ум.
Если же сделать и приготовить вещь Евномий называет образом ее рождения, которому, по словам его, следует образ подобия рождаемого, то и в таком случае слово его далеко от справедливости. Посмотрим же на это в следующих примерах. Под ударами преобразуется железо, от обделывающего принимая вид чего–либо полезного для жизни. Итак, если взять резец, то в чем его наружный вид уподобляется руке ремесленника или образу приготовления, например, молотам, углям, мехам, наковальне, с помощью которых обделывающий привел его в данный вид, — этого никто не в состоянии сказать. Но сказанное в рассуждении одного примера имеет приложение ко всему, что выделывается посредством какого–либо производства, именно же: произведенное нимало не уподобляется образу произведения. Ибо что общего у склада одежды с веретеном или прялкой, или челноком, или вообще с образом приготовления ткани? или у скамьи — с обделкой дерева, или у другого какого произведения — с наружным видом работавшего? Но, что положение это не имеет силы в чувственном и телесном, согласятся, думаю, и сами противники.
Остается посмотреть, не прилагается ли чего этим к составу хулы. Посему что же требовалось узнать? Как должно исповедовать о Сыне, подобен или не подобен Он по сущности Отцу? Поелику, говорит Евномий, невозможно догнать сего из понятий о промысле, то обратился он к образу рождения, чтобы из сего познать не то, что рожденный подобен родившему, но что есть у него некоторый образ подобия. И как многим сие недоведомо, то Евномий вдается в толкования о родившей сущности. Почему забывает уже о собственных своих определениях, в которых говорит, что сущности должны быть познаваемы из дел? И тогда, как о рожденной сущности, которую именует он делом сущности высшей, не открыто еще, что она такое по естеству, почему он, миновав, по собственным словам его, низшее и потому доступнейшее понятию ищущих, берется за сущность, в самом собственном смысле так называемую и высочайшую? И доказывая в слове своем, что в точности знает божественные изречения, теперь и им мало оказывает уважения, как бы не зная, что не иначе возможно прийти в познание Отца, как только приблизившись к оному через Сына. Ибо сказано: «ни Отца кто знает, токмо Сын, и ему же аще волит Сын открыты» (Мф. 11:27). Напротив того, Евномий, когда намеревается осмеять благочестивые и боголепные понятия об Единородном, без всяких доказательств утверждает, что Он — меньше, а в примышленном им учении о ведении божественного, сам того не примечая, доказывает, что — больше; как скоро сущность Отца, признав более доступною к уразумению, посредством ее покушается выследить и познать естество Сына.
33. Он восходит к сущности родившей и через нее рассматривает рожденную, потому что, как говорит, естественным достоинством родившего показуется образ рождения. И это положение, бросив опять просто и неопределенно мысль вопрошающего, ведет к тому, чтобы равно распространили оное на все. Ибо таково свойство всеобщих определений, что смысл их должен относиться ко всему, и ничто не исключается из–под всеобъемлющего приговора. Итак, если образ рождения непременно делается известным по естественному достоинству рождающего, многочисленны же рождающих разности по достоинствам и притом понимаемы им во многих смыслах (ибо рождается иудей, еллин, варвар, скиф, раб, свободный), то что же сим доказывается? То, что сколько в рождающих разности по естественными достоинствам, столько, но всей вероятности, окажется и образов рождения, так что не одним и тем же образом для всех совершается рождение, но с достоинствами рождающих изменяются и естества, и для каждого из рождающихся, по разности достоинств, должен быть изобретаем особый некий образ рождения. Ибо во всяком отдельно взятом существе непременно усматриваются некие сродные ему достоинства, но разнящиеся одно от другого степенью совершенства или несовершенства; так что у каждого найдутся род, чин, вера, отечество, властвование, Рабство, богатство, бедность, свобода, подчиненность, все, что производит житейские разности в достоинствах. Посему, если естественным достоинством рождающего, как говорит Евномий, указуется образ рождения, а разностей по достоинствам много, то, конечно, по мнению сего учителя, найдется много и образов рождения, так как разность в достоинстве узаконяет естеству порождение.
Если же не примет Евномий, что таковые достоинства суть естественные, как усматриваемые вне естества, то и мы не противоречим. Хотя, конечно, согласиться должно с тем, что жизнь человеческая, без сомнения, отличается от бессловесной жизни естественным неким достоинством, однако же образ порождения от разности по естественному достоинству не имеет никакого различия, потому что естество и словесных, и бессловесных однообразно вводит в жизнь рождением. Если же Евномий сродное достоинство понимает об оной только одной, как он именует, собственно так называемой и высочайшей сущности, то посмотрим, что разумея, говорит он это. Ибо, по нашему рассуждению, сродное Богу достоинство — самая божественность, премудрость, сила, также то, чтоб быть благим, судьею, справедливым, крепким, долготерпимым, истинным, творцом, владыкою, невидимым, нескончаемым, и если еще что в богодухновен–ном Писании изречено в Его славословие; и все сие в собственном смысле принадлежащим и сродным усматривается и Единородному Сыну, как утверждаем мы, признавая разность в одном только понятии о безначальности. Но и это понятие не во всяком его значении признаем непринадлежащим Единородному. Никто да не преследует слова сего клеветою, будто намереваемся доказывать, что истинный Сын не рожден! Ибо утверждаем, что говорящие подобное сему нечествуют ничем не меньше учащих о неподобии. Но поелику слово «начало» много имеет значений и ко многому прилагается мысленно, то утверждаем, что в некоторых отношениях наименование безначальным не неприлично и Единородному Сыну. Ибо когда под словом ««безначальный»« разумеется — иметь ипостась не от какой–либо причины, тогда признаем оное свойственным только Отцу. Но когда идет исследование о прочем, что означается словом ««начало»«, поелику разумеется начало и творения, и времени, и порядка, то в этих случаях свидетельствуем и об Единородном, что Он выше начала, так как веруем, что выше всякого начала твари и понятия о времени и последовательности порядка. То, чем все приведено в бытие. А посему не безначальный в рассуждении ипостаси во всем прочем исповедуется имеющим безначальность; и потому, как Отец и безначален, и нерожден, так Сын, хотя безначален в сказанном смысле, однако же не нерожден.
Итак, какое сродное достоинство Отца имея в виду, по оному заключает Евномий об образе рождения? Конечно, скажет: нерожденность. Итак, если все прочие имена, какие изучили мы для славословия Бога всяческих, назовем для тебя не служащими к делу и ничего не значащими, то чем–то излишним и ненужным будет перечисление таковых речей, предлагаемое в пустом списке, как скоро ни одно из прочих названий не дает понятия о естественном достоинстве сущего над всеми. Если же с каждым из сказанных речений познается особая некая и приличная представлению о Боге мысль, то, очевидно, по числу наименований усматривается и число сродных Божиих достоинств, и ими доказывается подобие сущностей, если только сродные сущностям достоинства служат к познанию подлежащих. Поелику же в каждом из них достоинства видимы те же то одними и теми же достоинствами подлежащих ясно показывается тожество их по сущности. Ибо, если различие в одном имени почитается достаточным к тому, чтобы показать разнородность сущности, то не гораздо ли паче тожество тысячи имен будет сильно к показанию общности естества? Какая же это причина, по которой прочие имена оставляются без' внимания и одним только указуется рождение? И почему учат о единственном сродном достоинстве, о нерожденности Отца, не касаясь прочих достоинств? Чтобы противопоставлением нерожденного рожденному извратить понятие об образе не подобия, что самое, в приличное тому время будучи рассмотрено, равно сказанному прежде сего, окажется слабым, несостоятельным и ничего не значащим.
34. А что к этому клонятся все приготовления, показывает представляемое Евномием, где хвалит сам себя, как бы по надлежащему воспользовавшийся тем путем к уготовлению хулы, не вдруг обнаруживший предначертание учения и не предлагавши нечестия не приобученному еще слуху до приведения лжи в связное устройство; и не в начале своих слов называет нерожденность сущностью и провозгласил инаковость сущности. Говорит же буквально так: «или, как узаконяет Василий, должно было начать тем самым, о чем идет вопрос, бессвязно называя нерожденность сущностью, и провозглашая инаковость или тожество сущности»? И вставив в средину множество насмешек, ругательств и оскорбительных выражений (так этот мудрец умеет подвизаться за собственные свои догматы), снова возвращается к прежней речи и, продолжая ее к противнику и на него слагая вину произносимого, говорит следующее: «поелику в сих погрешностях прежде других виновны вы, одну и ту же сущность отдавшие в удел и родшему, и рожденному, то посему изготовили себе за это укоризну, как бы неизбежную какую сеть, по произнесении вами справедливого суда над вами же самими, ибо точно собственным своим подлежите укоризнам, признавая, что сущности сии безначально одна от другой отделены, одну же из них через рождение вводя в чин Сына, и о безначально сущем усиливаясь доказать, что Он рожден от Сущего, ибо кого представляете нерожденным, Тому присвояете рождение от другого; или исповедуя, что единая и единственная сущность безначальна, потом рождением заключая ее в Отце и в Сыне, утверждаете, что нерожденная сущность рождена сама от себя».
Посему написанное Евномием прежде прочитанного теперь перейду молчанием, как отличающееся чистым бесстыдством перед нашим учителем и отцом, и нимало не служащее к предположенной цели. Но поелику в сказанном, с двух сторон закалив сии обоюдоострые обличения, ужасно нападает на нас примышлением дилемм, то необходимо и нам, не в молчании принять нападение на догмат, но, сколько есть у нас сил, побороться словом и доказать, что этот страшный и обоюдоострый меч, который изострил он на истину, слабее видимого на картине.
В двояком образе представления осуждает он общность сущности и говорит, что или два нерожденные начала, противопоставленные одно другому, называем одно Отцом, другое Сыном, утверждая, что сущий рожден сущим, или одну и ту же сущность умопредставляем приемлющею на себя отчасти каждое из наименований, так что сущность бывает и Отцом, и Сыном, происходя сама от себя посредством рождения. Пишу это своими словами, не перетолковывая мысль Евномия, но исправляя напыщенность и сбивчивость в выражении, чтобы по раскрытии мысли в ясных словах, намерение его сделалось для всех очевидным. Ибо он бранит наше невежество и отзывается о нас, что без достаточного приготовления приступили к слову, и так прикрашивает речь свою блистательностью выражений, до того ногтем выглаживает, как сам выражается, речения, изукрашая свое писание этим излишним красноглаголанием, что тотчас увлекает слушателя приятностью речи, каково, кроме многого другого, и прочитанное нами ныне, что, если угодно, прочту снова: «посему изготовили вы себе за это укоризну, как неизбежную некую сеть, по произнесении вами справедливого суда над вами же самими».
Посмотри на эти цветы древней Аттики! Как блещет словосочинением эта гладкая и вылощенная речь! Как изящно и разнообразно цветет красотою слова! Но это пусть остается для каждого, каким ему кажется. А наше внимание пусть обратится снова к смыслу сказанного, и, если угодно, начнем собственными словами писателя: «ибо точно признавая, что сущности сии безначально одна от другой отделены, одну же из них через рождение вводя в чин Сына, и о безначально Сущем усиливаясь доказать, что Он рожден от сущего…». Довольно этого. Евномий говорит, что признаем две нерожденные сущности. Как же утверждает сие жалующийся на нас, что все смешиваем и сливаем, потому что исповедуем одну сущность? Если бы и наше учение, наравне с учащими о неподобии, признавало два естества, по бытию одно другому чуждые, то справедливо было бы признать, что разделение естества на два подает мысль о каких–то двоих нерожденных. Если же исповедуем единое естество в разных ипостасях, и в Отца веруем, и Сына прославляем, то почему противники клевещут, будто бы таковой догмат признает два начала? Потом из двух таковых начал одно, говорит Евномий, возводится нами в чин Сына. Пусть укажет, кто начальник сего учения, и мы умолкнем, если обличит какое–нибудь лицо, что было сказано им это, если даже знает, что слово сие просто повторяется в церкви. Ибо кто же столько безрассуден и малосмыслен, чтобы именовать Отца и Сына и опять признавать двоих нерожденных, и в тоже время почитать одного рожденным от другого? Да и какая необходимость вынуждает наше учение к таким предположениям? И какие представлены им доказательства, что необходимо было возникнуть этой несообразности? Ибо если бы представил он нечто исповедуемое нами, потом из этого или посредством софизмов или какою–либо силою доводов вывел подобную клевету, то, может быть, имел бы право в охуждение догмата представить что–либо подобное. Если же нет и быть не может в церкви такого учения, никто не обличен разглашавшим оное, никто не указан слышавшим и не открывается никакой необходимости, вследствие чего–либо вынуждающей такую несообразность, то не вижу, чем нравится Евномию эта борьба с тенью. Как если бы кто, сумасбродствуя в помешательстве ума, представил себе, что сражается с кем–то, тогда как никто не вступал с ним в сражение, и потом, сам себе усердно нанося удары, воображал, что бьет сражающегося с ним. Подобное нечто потерпел и этот мудрый писатель, измышляя и приписывая нам такие мнения, каких мы не знаем и, сражаясь с тенями, которые составил в собственных своих помыслах.
Ибо пусть скажет, какая нужда исповедующему, что Сын рожден от Отца, вдаваться в предположение о двоих нерожденных?
Кому свойственнее признавать двоих нерожденных: тому ли, кто доказывает, что Сын лжеименно называется так, или тому, кто утверждает, что наименование Сыном есть самое истинное. Кто не принял истинного рождения Сына, вообще же исповедует бытие Его, о том справедливее подозревать, что нерожденным называет, хотя существующего, но имеющего бытие не через рождение. А кто отличительным признаком ипостасей Единородного полагает то самое, что Он рождением исходит от Отца, тот чем будет побужден признавать Его нерожденным? Хотя по вашему учению, мудрецы, пока в силе положение, что Сын не рожден от Отца в одном некоем значении слова «нерожденный», и Он будет именоваться в собственном смысле нерожденным. Поелику иное приходит в бытие как рождаемое, а иное — как устрояемое искусством, то о происшедшем не посредством рождения ничто не препятствует сказать, что произошло нерожденно, относительно только к значению слова «рождение». Но к этому ведет ваше учение о Господе, признающее Его тварью. Итак, по вашему, премудрые, вследствие такого положения, а не по нашему догмату, Единородный будет именоваться нерожденным и окажется, что осуждение,, как ты и называешь сие осуждением, произносится у вас над нами вследствие ваших положений.
Ибо время уже тиною тамошних речей оплевать мерзость этого учения. И другая часть изложенного Евномием в дилемме одержима равным тупоумием. «Исповедуя, — говорит Евномий, — что единая и единственная сущность безначальна, и потом, рождением заключая ее в Отце и в Сыне, утверждаете, что нерожденная сущность рождена сама от себя». Что это опять за новая и за странная речь? Как кто–то сам от себя рождается, себя самого имея Отцом и опять сам себе будучи Сыном? Какое головокружение? Какое помешательство ума? Разве потолок повернулся у них вниз, и пол стал над головою? Что представляют себе, у кого голова отяжелела от упоения, кричат, всякого уверяют, что и земля нетверда у них под ногами, и стены бегут, и все идет кругом, и ничто видимое не стоит на месте; в таком же кружении имея душу, написал сие, может быть, и этот сочинитель, и надлежит паче жалеть о написанном им, нежели гнушаться этим. Ибо кто столько несведущ в божественных догматах, кто столько далек от таинств церкви, чтобы вопреки вере допустить такую мысль? Лучше же сказать (и мало, может быть, будет выразиться таким образом), что никто вопреки вере не помыслит сей несообразности, но и о человеческом естестве или о чем–либо ином, постигаемом чувствами, кто, как скоро услышит об общности сущности, или признает безначальным все, что в отношении к сущности одно с другим сходится, или скажет, что оно само собою приходит в бытие, само себя рождает и само от себя рождается?
Первый человек и происшедший от него получили бытие, каждый различно: один — от сочетавшихся родителей, другой — от создавшего Христа, — и по отношению к сущности двоими признаем их и не делим друг от друга, и не говорим, что две безначальные сущности вводятся одна другой противоположно, и два человека не были никогда представляемы одним, не употреблялось таких странных выражений, будто бы они признаются отцом себе и опять сыном своим. Ибо и тот, и другой — человек, понятие сущности общее для обоих. Каждый из них смертен, одинаково разумен, равно способен владеть мыслью и знанием. Посему, если понятие человечества в рассуждении Адама и Авеля от различия в рождении не различается, так как ни порядок, ни образ осуществления не производят никакого различия в естестве, но по общему согласию людей здравомысленных признается оно одинаковым, и никто не станет этому противоречить, если только не вовсе лишен ума, то какая необходимость построевать такое странное понятие о божественном естестве? От самой истины слыша имена «Отец» и «Сын», научены мы в двух сих лицах единству естества, сими именованиями естественно означаемого по взаимному их отношению одного к другому и опять по тому же слову Господа. Ибо изрекший: «Аз и Отец едино есьма» (Ин. 10:30) не иное что выражает исповеданием Отца, как Свою небезначальность, а единством с Отцом — как общность естества. А посему, думаю, сказанным учением веры соблюдает себя чистым от совращения в ту и другую ересь: ни Савеллий не имеет права тождество ипостасей доводить до слияния, потому что Единородный сам явно отличает себя от Отца, говоря: «Аз и Отец», ни Арий не в силах доказать, что естество чуждо, так как единство не допускает разделения по естеству. Ибо в изречении сем в рассуждении Отца и Сына не иное что означается единством, как единство по самой сущности. О всех же прочих благах какие усматриваются в естестве, если кто скажет, что общи они всем, даже приведенным в бытие посредством сотворения, то он не погрешит. Например, щедрым и милостивым (Пс. 102:8) называется Господь у Пророка. Угодно же еще Господу, чтобы этим и были, и именовались мы: «будите убо милосерди» (Лк. 6:36) и: «блажени милостивии» (Мф. 5:7); есть и другие подобные места. Посему, если кто, внимательностью и тщательностью сообразовав себя воле Божией, стал благ, щедр, милостив или кроток и смирен сердцем, как о многих святых засвидетельствовано, что они достигли сих преимуществ, то ужели поэтому он един с Богом или соединен с Ним которым либо из сих качеств? Нет. Не по всему тожественное не может быть едино с различным по естеству. Посему, человек с человеком делается едино, когда произволением, как сказал Господь, бывают «совершени во едино» (Ин. 17:23), между тем как единству по произволению предшествует естественный союз. И Отец, и Сын «едино» суть (Ин. 17:22), потому что общее и по естеству, и по произволению сходятся воедино. А если бы, будучи соединен одною волею, Сын был отделен по естеству, то как засвидетельствовал бы о единстве Своем с Отцом, когда разделен с Ним в самом собственном смысле сего слова?
35. Итак, слыша: «Аз и Отец едино есьма», изречением сих слов научены мы и исхождению Господа от Виновника, и безразличию Отца и Сына по естеству; понятия о Них не сливаем в одну ипостась, но как свойство ипостасей сохраняем раздельными, так единства сущности не разделяем с Лицами, чтобы под словом «начало» не стал кто разуметь двоих разнородных и через это не открыл входа учению манихеев. Ибо созданное и несозданное по значению одно другому решительно противоположно. Посему если два лица возведены будут в начала, то неприметно у нас в Церковь Божию внесет яд свой манихейство. Говорю же сие, по ревности с большим вниманием исследуя учение противников. И никто, может быть, не возразит, что этот взгляд не близко направлен, к чему следовало, потому что если созданное существо сильно наравне с Несозданным, инородное некоторым образом воспротивится тому, что по естеству с ним не одинаково. И пока ни в котором из них не оскудеет сила, оба в несогласном каком–то состоянии будут противиться друг другу. Ибо, по всей необходимости, должно признать, что они согласны между собою, что произволение согласно с естеством и что, если не имеют подобия по естеству, то не подобны и воли. А как силы достаточно у того и другого, то ни одно не будет немощно к исполнению собственной своей воли. И если каждое столько и возможет, сколько хочет, то быть началом для каждого сделается предметом спора, при недостатке силы переходящим к противнику. И таким образом вторгается учение манихеев, между тем как под именем начала появятся некие два противоположные одно другому существа, различием естества и произволения разделенные до противоположности. И у них доказательство меньшинства делается началом манихейских учений, ибо несогласность сущности, как показало слово, приводит учение к двум началам, разделенным на созданное и несозданное.
Но многие, может быть, станут жаловаться, что доказательство нелепости изложено здесь вынужденно, и изъявят желание, чтобы вовсе не было это и писано наряду с прочим. Пусть будет так, и мы сему не противоречим. Ибо не по собственному желанию, но противниками доведены мы до того, что вслед за ними попустили слову ринуться в это разыскание. Если же не надлежало говорить сего, то гораздо прежде надобно было умолкнуть слову противников, служащему поводом к таковому опровержению. Ибо возражающему невозможно иначе удержаться от худых речей, как по уничтожении того, что требует возражения. По крайней мере, с охотою посоветовал бы я имеющим такие расположения держаться сколько–нибудь подалее от любви к спорам и не слишком горячо защищать свои предположения, которыми они уже предзаняты, и не повсюду домогаться того, чтобы иметь преимущество перед противниками, но, так как дало идет о душе, прилепляться только к тому, что полезно, и победу уступать истине. Посему, если кто, оставив любовь к спорам, рассмотрит Евномиево слово, каково оно само по себе, то ему нетрудно будет найди открывающуюся в учении несообразность.
Ибо предположим, что уступлено сие нами, то есть по учении противников, нерожденность есть сущность, и опять также рождение принимается за сущность. Посему, если кто с точностью будет следить мыслью за тем, что говорится, то сим путем возобновится у них манихейское учение, если только манихеям нравится учить противоположности зла — добру, света — тьме и всего подобного — противному по естеству. И что говорю это справедливо, согласится в этом, думаю, кто не без внимания пробежит сочинение. Так и будем рассматривать. В каждом предмете усматриваются, без сомнения, некие сродные ему признаки, по которым познается особенность естества в предмете, будет ли подлежать исследованию учение о разности животных или обо всем ином. Ибо не одними и теми же свойствами отличается дерево и животное, и у человека не общи с животными признаки, отличающие его от естества бессловесного. И опять не одно и то же показывает и жизнь, и смерть, но одним словом во всем, как сказано, есть некое несмешиваемое и несообщимое различие предметов, нимало не сливаемое в видимых признаках по какой–либо общности. Посему, согласно с этою последовательностью в мыслях, пусть будет исследовано учение противников. Нерожденность, говорят они, есть сущность, и рождение возводят также в сущность. Но как у человека и у камня инаковы, а не одни и те же отличительные признаки, ибо, определяя, что такое одушевленное и, неодушевленное, не припишешь тому и другому одного и того же понятия так конечно, евномиане согласятся, что по иным признакам познаваемо нерожденное, и по иным — рожденное. Итак, рассмотрим те отличительные свойства нерожденного Бога, какие благочестиво о Нем изрекать и мыслью представлять научены мы святым Писанием.
Итак, какие же это свойства? Ни один, думаю, христианин не не знает, что Бог благ, что Он добр, что Он свят, праведен, преподобен, невидим, бессмертен, недоступен тлению, превратности и изменению, могущ, премудр, благодетель, Господь, Судья и все тому подобное. Ибо должно ли продолжать слово, останавливаясь на исповедуемом всеми? Посему, если представляем себе это в естестве нерожденном, а быть рожденным, по понятию, противоположно тому, чтобы быть нерожденным, то определяющим, что нерожденность и рожденность есть сущность, необходимо согласиться относительно к противоположности рожденного и нерожденного, что отличительные признаки рожденной сущности противоположны усматриваемому в естестве нерожденном. Ибо, если скажут, что признаки сии одни и те же, то по тожеству усматриваемого не состоится инаковость естества в подлежащем, ибо в инаковых, без сомнения, надобно и отличительные признаки полагать инаковыми, а то, что относительно к сущности одинаково, очевидно, отличается одними и теми же признаками. Посему, если то же приписывают и Единородному, то, как сказано, не представляют себе никакой разности относительно сущности. Если же останутся при хульных своих речениях и будут доказывать различие естества разностью рожденного и нерожденного, то, конечно, весьма удобно увидеть открывающееся вследствие сего, а именно: поелику по противоположности имен признаются состоящими в противоположности и естества, означаемых именами, то, по всей необходимости, и усматриваемому в каждом естестве должно различаться до противоположности; так что Единородному будет приличествовать противоположное сказуемому об Отце, — Его Божественности, святости, благости, нетлению, вечности, и если что иное, по благочестивым понятиям, представляется нам о сущем над всеми Боге. Посему, все не приличное и противоположное каждому признаку, признаваемому в наилучшем, должно будет почитать свойственным рожденной сущности.
Но для объяснения должно остановиться на сем месте. Как в тепле холоде, противоположных по своей природе (пусть в слове представлены будут огонь и лед), каждое из них есть именно то, чем не есть другое представляющиеся в каждом из них свойства, без сомнения, различны между собою, потому что льду свойственна прохлада, а огню — теплота; так если по противоположности имен нерожденного и рожденного, и естество, означаемое именами, доходит до противоположности, то силам противоположного по естеству невозможно быть между собою подобными, как невозможно в огне произойти прохладе и во льду — разгорячению. Посему, если в нерожденной сущности умопредставляется благость, а нерожденность в отношении к естеству, как они говорят, отлична от рожденной сущности, то, без сомнения, и свойственное нерожденному будет отлично от служащего свойством рожденного. Посему, если в первом умопредставляется благое, то в последнем должно быть умопредставляемо противное благому. И, таким образом, при помощи премудрых сих учителей снова оживет у нас Манес, Благому противополагающий естество злобы и инаковостью сущностей научающий противоположности в их силах.
Если же надобно, ничего не скрывая, говорить свободно, то справедливо будет подумать, что извинительнее евномиан Манес, о котором говорят, что он, как первый осмелившийся ввести манихейские учения от себя дал имя ереси. Говорю же это, как бы выбирая, кто человеколюбивее: ехидна или аспид? Но, впрочем, как и в зверях есть различие, так и рассматриваемые учения манихеев и евномиан не показывают ли, что одни сноснее других? Манес думал защитить самого Виновника благ, говоря, что от Него не ведет начала ни одна причина зол. И потому другому особому началу приписывал причину всего причисляемого к худшему, как бы оправдывая Бога всяческих, потому что не позволительно в Источнике благ видеть причину, что погрешают против закона. По низости души не понимал он, что можно и не признавать Бога создателем зла и не представлять себе что–то иное безначальное, кроме Бога. Об этом речь длинна и не ко времени была бы теперь. И почему упомянули мы сказанное? Потому что, и по мнению Манеса, начало порока должно представлять далеким от Бога всяческих, а евномиане уготовляют свою более тяжкую, нежели ма–нихеи, и нелепую хулу против Бога. Ибо сходно с манихеями учат, что естество зла определяется противоположностью сущности, но при этом утверждают еще, что Создатель такового произведения есть Бог всяческих, которым, говорят они, совершенное рождение по естеству имеет сущность инаковую с Сотворившим и сим самым (сравнительно с упомянутыми манихеями) впадают в большее нечестие, потому что не только приписывают ипостась тому, что по естеству противоположно благому, но утверждают еще, что благой Бог есть виновник отличного по естеству другого Бога, и едва не в явь вопиют в этом догмате, что есть нечто сопротивное естеству Благого, имеющее Ипостась от самого Благого. Ибо когда, по нашему верованию, сущность Отца есть благая, а сущность Сына, как это угодно ереси, в рассуждении естества не одинакова с сущностью Отца и вследствие сего оказывается ей противоположною, тогда что приуготовляется этим? То что есть нечто противоположное благому и что от самого Благого произошло противоположное Ему по естеству. Это же, разумею, ужаснее манихейской нелепости.
Если же евномиане отрицают, что в их словах заключается хула, которая оказывается следствием их учения, но говорят, что Единородный наследовал блага Отца, не будучи, по мнению сих нечестивцев, в действительности Сыном, но как сотворенный, имея сию Ипостась, то опять исследуем еще и сие, можно ли по справедливому разумению допустить такое мнение. Ибо если, по рассуждению еретиков, уступить, что Господь всех наследовал, не будучи в действительности Сыном, но как сотворенный и поставленный начальствовать над однородными с Ним, то как принять это и не возмутиться прочей твари, низводимой в подчинение из единоплеменной, если она, будучи ничем не меньшею по естеству (ибо так же сотворена, как и Он), потом осуждается быть в рабстве и покорности у единоплеменного? Ибо на самоуправство походит подобное сему дело, то есть когда не превосходству сущности уделяется владычество, но хотя естество твари остается равночестным, однако же она отделяется, одна — в рабство, а другая — в господство; так что в одной и той же твари часть начальствует, а часть пребывает подчиненною, потому что по жребию, случайно выпавшему на достоинство, вместе со жребием дается предпочтение пред подобными. Ибо и человек не как равночестный с подчиненным ему естеством наследовал начальство над бессловесными, но, первенствуя по разуму, господствует над другими, будучи поставлен над ними, потому что естество его преимуществует совершенствами. Человеческие же власти подлежат быстрым превратностям по тому самому, что равночестное по естеству не соглашается иметь неравную часть в лучшем; напротив того, во всех вложено естественное какое–то желание сравниться в обладании с единоплеменным.
Как же будет истинным, что все через Сына приведено в бытие, если истинно, что и сам Сын есть один из приведенных в бытие? Ибо или будет Он сотворившим Себя самого, чтобы не оказалось ложным написанное: «вся Тем быша» (Ин. 1:3) — и в таком случае нелепость, ухищренно изобретенная еретиками против нашего учения, возымеет силу против них — они должны будут сказать: Сын Сам Себя привел в бытие; или, если это странно и неестественно, то, конечно, несостоятельным окажется и первое. Утверждено же будет, что вся тварь Им приведена в бытие. Ибо исключение одного ложным делает слово о всех. Посему вследствие определения, что Единородный есть тварь, и слово, конечно, не избежит которой либо из двух погрешностей и нелепостей: или что Сын не виновник всех приведенных в бытие, если из всех исключен будет сам Он, по утверждаемому ими, будучи одним из произведений или что Сын окажется Творцом Себя самого, если не лжет проповедавший, что из получившего бытие ничто не приведено в бытие без Него. Посему таковы учения евномиан.
36. Если же кто, внимая здравому учению, верует, что Сын от Божественного и самого чистого естества, то с догматом благочестия окажется согласным все: и что Господь есть Творец всего, и что Он царствует над существами, не по жребию или по самоуправному какому–то владычеству поставленный над соплеменными, но по превосходству Своего естества, имея над всеми державу. И еще сверх этого, что учение о единоначалии не допускает деления на разные начальства, разделяемые инаковостью естества, но требует верования, что одно Божество, одно начальство, одна над всеми власть. Божество созерцаемо в согласии подобных, и от подобного к подобному ведет разумение, как начало всего (а это есть Господь), через Святого Духа воссиявает в душах. Ибо действительно созерцать Господа, по слову Апостола, невозможно иначе, как «точию Духом Святым» (1 Кор. 12:3). А через Господа, Который есть начало всего, обретается нами, что выше всякого начала «Сый над всеми Бог» (Рим. 9:5), ибо первообразное благо может быть познаваемо не иначе, как являемое в образе «Невидимаго» (Кол. 1:15). Но как бы идя обратным каким поприщем, после главного в боговедении разумею самого сущего над всеми Бога, посредством близкого и свойственного Ему востекая мыслю, от Отца через Сына приступаем к Духу. Ибо вступив в постижение нерожденного Света, отсюда уразумели еще, по взаимной их близости, сущий от Него Свет, подобно некоему лучу, соприсущему с солнцем, как причина бытия его в солнце, так самое существование вместе с солнцем, не в последствии со временем наступает, но появляется вместе с ним, как скоро сделается видимым солнце. Лучше же сказать (ибо нет нужды, раболепствуя всякому образу, давать клеветникам случай к возражению недостатком силы в примере): представим себе не луч от солнца, но от нерожденного Солнца другое Солнце, вместе с представлением первого рождено от него осиявающее и одинаковое с ним по всему: по красоте, по силе, по светлости, по величине, по ясности, — одним словом по всему, что усматривается в солнце, и еще другой подобный Свет таким же образом, никаким временным расстоянием не отделяемый от рожденного Света, но через Него осиявающий, причину же ипостаси имеющий в первообразном Свете, Свет, который и сам по подобию с умопредставляемым прежде светом, сияет, просвещает и производит все иное свойственное свету. Ибо в этом самом у одного Света нет различия с другим Светом, когда является не имеющим ни малого недостатка или умаления в просвещающей благодати, но во всем совершенстве превознесенный на самую высшую степень, с Отцом и Сыном умосозерцается, по Отце и Сыне счисляется и Собою всем способным стать причастниками дарует «приведение» (Еф. 2:18) к умопредставляемому свету, сущему в Отце и Сыне. Но о сем довольно.
37. Поелику же Евномий весьма обилен в злословиях, приуготовле–нием к началу всякого дела служит ему оскорбление, а всякое доказательство заменяется злословием, то вот перескажем кратко, сколько оскорбительного, клевеща на учителя нашего, по поводу речения «Нерожденный» написал он и на него самого, и на его слово. Привел он изречение об этом учителя, в котором говорится так: «а я бы сказал, что по справедливости достойно умолчания и самое наименование «Нерожденный», которое, хотя весьма близко к нашим понятиям, однако же нигде в Писании не употребляется и служит первым основанием их хулы, потому что слово «Отец» равнозначительно слову «Нерожденный». Ибо истинный и единый Отец ни от кого иного не происходит. А ни от кого не происшедший то же значит, что и нерожденный». Итак, выслушаем, какое доказательство представляет Евномий на то, что будто бы сказано это худо. «Посему несоответствие слов не менее по опрометчивости, как и по бесстыдному лукавству, примешивает к своим доводам, колеблясь в ту и другую сторону при нетвердости мысли и при слабости рассудка». Посмотрите на верность Евномиева ответа, с каким искусством, по этой разумной своей попечительности, как сокрушает силу сказанного, так на место сего вводит в мысль более благочестивое понятие. Называет Василия не соблюдающим соответствия в слове, не менее опрометчивым, как и лукавым в образе мыслей, нетвердым, по слабости рассудка колеблемым в ту и другую сторону. Откуда это, какой возбудившись причиной говорит твердый в образе мыслей и здравый рассудком? Что наипаче осуждает в сказанном у Василия? То ли, что принимает понятие, заключающееся в слове «Нерожденный», самое же слово, как худо, принятое извращающими его смысл, называет достойным умолчания? Ибо что? Не от речений ли и произношения терпит опасность неколебимость веры, а о точности в смысле нет и слова? Или не предварительною ли чистотою сердца от лукавых мыслей приуготовляется слово истины; для обнаружения же душевных движений употреблять должно речения, которыми может быть открыто сокровенное в уме без мелочных разысканий об известном звуке слова? Ибо сказанное так, или иначе, не делается причиною составившейся в нас мысли, а напротив того, сокровенное помышление сердца подает причину к произнесению известных слов. Ибо, по сказанному, «от избытка сердца уста глаголют» (Мф. 12:34).
И истолкователем помышленного делаем мы слово, а не наоборот, из тою, что говорим, собираем мысли, хотя сходятся между собою оба сии действия, и помыслить правильно, и истолковать, человек же совершен при том и другом. Но если недостает второго, человеку необразованному в слове не большой от сего вред, как скоро душевное его видение направлено к благу. Сказано: люди сии «устнами чтут Мя: сердце же их далече отстоит от Мене» (Мф. 15:8). Что же означает сие? То, что перед Богом Судьею, Который слышит неизрекаемые воздыхания, расположение души к истине предпочтительнее словесного благолепия в речах. Ибо они могут быть употребляемы и для противоположной цели, так как язык, по власти говорящего, удобно служит, чему угодно, а душевное расположение, каково оно на самом деле, таким и видит его презирающий сокровенное. Итак, почему же несоблюдшим соответствия, опрометчивым, не меньше как и лукавым стал тот, кто, хотя благочестиво разумеемое под словом «Нерожденный» и понимает, и приемлет, но, поколику слово сие подает повод к нечестию людям несправедливо толкующим догматы, повелевает умалчивать оное? Если бы сказал он, что Бога не должно представлять себе нерожденным, то Евномий имел бы, может быть, право обратиться к нему с этим и еще с большим злоречием. Если же исповедует он согласно с общим верованием благочестивых, но как бы подает и свое мнение, приличное учительскому сану: удерживайся от употребления этого слова, поколику в нем находит себе начало предлог к превратному учению; это же понятие о Боге, что Он нерожден, повелевает соблюдать под другими именованиями, то за сие нимало не заслуживает этих укоризн. Не так ли поступать научены мы самою Истиною, то есть не удерживать при себе и очень дорогого, если что–либо из этого ведет к худшему; так, повелевая одинаково правый глаз и ногу, и руку отсекать, когда что–нибудь это соблазняет человека, сею притчею не иное что научает делать, как и хорошее по видимости, если это по нерассудительности пользующихся вовлекает человека во что–либо худое, оставлять в пренебрежении и не приводить в исполнение, потому что полезнее человеку руководствующее ко греху отсечь и самому спастись, нежели удерживать это при себе и погибнуть.
Что же подражатель Христов Павел? И он во глубине премудрости учит тому же. Сказав наперед, что все «добро, и ничтоже отметно», если с «благодарением» приемлется (1 Тим. 4:4), в ином случае за совесть немощного отмещет опять нечто из дозволенного и повелевает удаляться от сего. Ибо говорит: «Аще же брашна ради брат твой скорбит» (Рим. 14:15), «не имам ясти мяса во веки» (1 Кор. 8:13). Посему это делает и подражатель Павлов, который, видя, что по злоупотреблению ереси речением «Нерожденный» усиливается обман посредством сего слова учащих неподобию Лиц, советовал сохранять в душах благочестивый смысл сего слова «Нерожденный», но не слишком стоять за самое речение, как для гибнущих служащее напутием ко греху. Ибо наименование «Отец» своим значением дает нам достаточное понятие и слова «Нерожденный». Слыша слово «Отец», немедленно представляем себе виновника бытию всего, который если бы имел другую какую высшую Себе причину, не назывался бы Отцом в собственном смысле, потому что название Отца в собственном смысле принадлежало бы представленной выше причине. Если лее Он–виновник всего и «из Негоже вся», как говорит Апостол (1 Кор. 8:6), то, очевидно, ничто не может быть представляемо предшествующим Его бытию, а это и значит веровать, что Он нерожден.
38. Но что справедливо это, не уступает не соглашающийся даже признать, что истина достовернее его самого, напротив того, спорит, возражает и осмеивает (Василиево) слово. Если угодно, рассмотрим эти неисходные умозаключения и разнообразные извороты лжеумствований, которыми думает он опровергнуть сие слово. Но боюсь, чтобы неприличие и гнусность сказанного Евномием не послужили некоторым образом к осуждению в этом и сказанного напротив. Ибо взрослым людям, если связываются с детьми, вызывающими на борьбу с ними, в укор более обращается усердие в таком деле, нежели в похвалу сама победа. Но, по крайней мере, таково, что говорит Евномий, сказанное им для нашего оскорбления с тем обычным благозвучием, с каким свойственно ему выражаться, и нам для показания опытов нашего великодушия предлагаемое, признаем достойным умолчания и забвения. Ибо не почитаю благоприличным, смешными его изречениями испещряя нешуточное свое рассуждение, заботливость об истине оканчивать безобразным и грубым смехом. А при чтении этого не возможно остаться не смеющимся, если послушаем, с каким высоким и величественным краснословием говорит Евномий. Когда прибавление слов производит приращение хулы, тогда умалчивать слова сии в половину легче, нежели выговаривать. Но над этим пусть смеются знающие, что стоит одобрения и что достойно смеха. Мы же рассмотрим силу умозаключений, которыми он поражает наше учение.
Евномий говорит: «Если имя Отец равносильно с именем «Нерожденный», а имена, имеющие ту же силу, без сомнения, и означают одно и то же, имя же «Нерожденный» значит у них, что Бог не от иного кого имеет бытие, то и имя «Отец» по необходимости значит то, что Бог не от иного кого имеет бытие, а не то, что Бог родил Сына». Ужели не означается сие словом «Отец», если это же наименование выражает нам собою и безначальность Отца? Если одним исключается другое по свойству противоположностей, то положение одного необходимо ведет к исключению прочего. Если же ничто не препятствует одному и тому же быть и Отцом, и Нерожденным, если под именованием Отца по какому–либо разумению представляем себе и нерожденность, то какая необходимость тому, чтобы отношение к Сыну уже не было познаваемо из слова «Отец»? Ибо и все прочие имена, которые имеют между собою нечто общее, не по всему сходны в понятиях. Царя называем как самодержцем и никому неподвластным, так его же самого — властителем подданных; и не будет лжи сказать о нем, что слово «царь» означает и неподвластность. И утверждаем, что, если самодержавие и безначалие означаются одним и тем же словом, то нет уже необходимости заключать, что владычество над покорными не означается уже словом «царская власть». Ибо слово «царская власть», означая нечто среднее между тем и другим понятием, указывает частью на неподвластность, а частью — на начальствование над подвластными. Посему и в сем случае, если у Отца Господа нашего есть другой прежде него представляемый мысленно Отец, то пусть покажут то хвалящиеся сокровенною мудростью, и тогда согласимся, что понятие о нерожденном не может заключаться в именовании Отца. Если же первый Отец не имеет высшей причины Своего происхождения (а вместе с именованием Отца подразумевается, конечно, и Ипостась Единородного), то для чего стращают нас намеревающиеся искусственными сими сплетениями лжеумствований убедить, лучше же сказать, ввести в заблуждение, что, если с наименованием «Отец» исповедуется нами нерожденность сущего над всеми Бога, то сим отъемлется понятие об отношении Отца к Сыну.
Но, презрев это детское и легкомысленное предприятие еретиков, мужественно исповедуем оглашаемое ими нелепым, а именно, что имя Отца означает одно и то же, как и слово «Нерожденный», и слово «нерожденность» показывает, что Отец не от иного кого имеет бытие, и имя «Отец» указанием отношения к нему совокупно с Собою привносит понятие о Единородном. Ибо изречение, предложенное в слове учителя (Василия), страшный и непреоборимый сей борец (Евномий) выкрал из написанного, исключением неопровержимо сказанного делая нетрудным для себя возражение. Ибо сказанное учителем слово в слово читается так: «а я бы сказал, что по справедливости достойно умолчания и самое наименование «нерожденный», которое, хотя весьма близко к нашим понятиям, однако же нигде в Писании не употребляется и служит первым основанием их хулы; потому что слово «Отец» равнозначительно слову «Нерожденный» и сверх того, через указание отношения, совокупно с собою привносить понятие и о сыне». Этот же неустрашимый поборник истины в предосторожность присовокупленное к слову, разумею изречение: «и через указание отношения совокупно с собою привносит понятие и о Сыне», по сродной себе смелости, исключил. И вникнув в основание написанного, вступает в состязание с остальным; и расторгнув связь целого, соделав, как полагал, более уступчивым ему и удобнейшим к опровержению, неосновательным и слабым лжеумствованием обольщает своих последователей, утверждая, что почему–нибудь общее, и во всем по значению имеет общность, и склоняя на свою сторону неразборчивый слух их. Поелику сказали мы, что слово «Отец» по некоему значению удерживает и значение нерожденного то Евномий, из обыкновенного значения имен сделав полный объем означаемого, уличает слово в нелепости, как будто наименование сие не показывает уже отношения к Сыну в том случае, если им же означалась и мысль о Нерожденном. Так, если кто, приобретая два понятия о хлебе, что он составлен из пшеницы и что употребляющему служит пищею, станет оспаривать говорящего это, пользуясь против него подобным способом лжеумствований, а именно, что иное дело состав из пшеницы, и опять иное пища; почему, если будет уступлено, что хлеб из пшеницы, то сие же самое не назовется еще в собственном смысле пищею, — таков смысл и Евномиева умозаключения. Ибо, если нерожденность, говорит он, означается наименованием Отца, то слово сие не показывает еще, что от Отца рожден Сын». Но благовременно, может быть, нам этот достойный уважения разделительный период обратить против говорящего. Ибо подобное, конечно, прилично подобным; и Евномий имел бы более права казаться целомудренным, если бы в совершенном молчании поставлял безопасность. Ибо кому присовокупление слов служит приращением хулы (лучше же сказать — крайнего безумия), тому молчать, не в половину, но в полной мере легче, нежели говорить.
Может быть, иного сказанное о самом Евномий скорее приведет к истине того, о чем у нас речь. И подлинно, оставив извитость сплетения лжеумствований, побеседуем о своем предмете, держась понятий более простых и общих. Твой отец, Евномий, конечно, был человек, но он самый стал виновником и твоего бытия. Ужели и в рассуждении его пользовался ты этою мудростью, а именно, что отец твой, если взять определение его природы тем, что он человек, не может еще означать отношения его к тебе? Ибо, конечно, надобно быть одному из двух: или что он человек, или что отец Евномиев. После сего и тебе непозволительно не по свойству значения произносить имена свойственников; но, хотя, как на оскорбление, будешь жаловаться на иного, кто, смеясь над тобою, в шутку изменяет имена, сам ты не содрогнешься и, смеясь над таинственными догматами, смеешься ненаказанно? Ибо название «твой отец» показывает и свойство его с тобою, и это нимало ему не препятствует быть человеком. И никто из здравомыслящих вместо того, чтобы родившего тебя назвать отцом твоим, не станет составлять определения, что такое человек и опять, будучи спрошен роде и признавшись, что он человек, не скажет, что сие самое признание возбраняет ему быть и отцом твоим. Так и о Боге всяческих благочестивый не будет отрицать, что наименование Отцом означает и нерожденное Его бытие, свойство же с Сыном показывается другим значением. А кто смеется над истиною, тот говорит, что наименование Отцом не значит еще, что рожден Сын, хотя и научаемся сим словом бытию нерожденного.
В обличение нелепости сказанного возьмем еще и то, что знает, как утверждаю, даже малый ребенок, который у грамматика и приставника начинает только обучаться именовательному искусству. Ибо кому неизвестно, что из имен одни отрешенны и неотносительны, другие же даются в каком–либо отношении? Опять из сих имен иные, по изволению пользующихся ими, способны к тому и к другому и произносимые сами по себе показывают в себе простую силу, а в приложении к чему–либо нередко заимствуют силу от того, к чему прилагаются. И чтобы не продлить слова, приводя примеры из чего–либо далекого от предмета наших рассуждений! из самих догматов объяснится утверждаемое мною.
Бог называется и Отцом, и Царем, и в святом Писании именуется тысячами иных имен. Поэтому из имен сих иное, упоминаемое так просто само по себе, можно употреблять отрешенно, таковы, например: нетленный (1 Тим. 1:17), вечный (Рим. 14:25), бессмертный (1 Тим. 6:16) и всякое другое сим подобное имя. Они, хотя и не подразумевается никакого другого понятия, заключают в себе совершенную некую мысль о Боге. Другие же имена означают только полезное для чего–нибудь, как то: помощник, защититель и заступник (Пс. 17:3) и все прочие, сколько их найдется подобного значения, которые таковы, что, если не будет имеющего нужду в помощи, в бездействии останется выражаемая именем сила. Но есть и такие, как сказано прежде, имена, которые и сами по себе, и в отношении к чему–либо употребляются, например, «Бог», «благий» и все, сему подобные. Ибо мысль не всегда остается при отрешенном их значении. И Бог всяческих нередко делается собственным Богом призывающего, как можно слышать от святых, что себе собственно присвояют Естество неподвластное. «Свят Господь Бог», доселе сказанное не относительно, но присовокупивший к сказанному: наш (Пс. 98:9) дает уже разуметь имя не в нем самом по себе, но относительно к себе, своею собственностью признав означаемое. И еще: «Авва Отче» (Рим. 8:15), — взывает Дух, вот изречение, отрешенное от частного отношения. Но и нашим Отцом повелено нам называть Отца, сущего на небесах (Мф. 6:9), — вот опять значение относительное. Посему, как Бога всяческих соделавший своим Богом, нимало не унизил этим Его над всеми превысшего достоинства, так нет никакого препятствия указавшему на Отца и на Сущего из Него, перворожденного всей твари (Кол. 1:15) наименованием Отца означить вместе, что родил Он Сына, и тем же словом объяснить, что Сам Он не от высшей причины. Кто наименовал первого Отца, тот указал умопредставляемого прежде всего. Это — Тот, Кто за пределами всего, Тот, для Кого нет ничего, что видел бы Он прежде Себя, Кто не имеет Себе конца, которым бы прекратилось Его бытие, но равно всегда отовсюду сый, и как конечный предел, так и понятие начала преступая беспредельностью жизни, во всяком своем именовании дает подразумевать вечность.
Но сильный в умозрениях непостижимого Евномий не принимает простого сего учения и не полагает, что означаемое словом «Отец» двояко–одно его значение — что все от Отца и прежде всего единородный Сын, Которым все; другое же значение — что нет ни одной высшей Его причины Но, хотя с презрением отвергает наше слово Евномий, в ничто вменяя исполненный презорства смех, мы смело отвечаем, что говорили уже, а именно: слово «Отец» то же, что и «Нерожденный» и значит, что Он родил Сына, и подтверждает, что Он не от иного кого имеет бытие.
Но Евномий вступает в спор со сказанным, начинает речь, и слово снова делает оборот к противоположному. «Если Бог есть Отец, потому что родил Сына, а по тому же значению Отец есть и Нерожденный, то Бог, потому что родил Сына, есть Нерожденный». Итак, рассмотрим и основание извращения, сделанного Евномием, почему состав первого лжеумствования разлагая в противоположное, и этим ставит нас опять в неизбежные затруднения. Первое умозаключение представляло сию несообразность: «если слово «Отец» означает, что Бог не от иного кого имеет бытие, то сим не показывается еще, что необходимо родил Он Сына». Это же умозаключение извращением в противоположное извещает нас о другой несообразности в нашем учении. Посему, какое же решение показанного там? «Если, — говорит Евномий, — Бог есть Отец, потому что родил Сына». Этого не представляло нам первое умозаключение; напротив того, хотя следствие умозаключения именно показало бы возможность именем Отца, если бы оно означало нерожденность Отца, означить иотношение Его к Сыну, однако же этим, что Бог есть Отец, потому что родил Сына, нимало не определяло построение первого умствования. Посему, что же значит это извращение с диалектическою и искусственною тонкостью, еще недоразумеваю.
Но всмотримся, по крайней мере, в смысл сказанного. «Если Бог есть Нерожденный, потому что родил Сына, то до рождения Сына не был нерожденным». Опять на сказанное готово и при том простое слово истины, а именно: название Отцом показывает, что родил Он Сына, как нами показано это в сказанном прежде, и что Родивший представляется непроисшедшим от какой–либо причины. Ибо если обратишь внимание на сущее от Него, то с наименованием Отца познается Ипостась Единородного. Если же исследуешь, что прежде Него, то название Отца показывает безначальность Того, Кто родил Сына. Утверждать же, что Бог до рождения Сына не был нерожденным, — сие–то два обвинения готовит писателю в клевете на нас и в оскорблении догмата. Ибо охуждает он, что и учителем нашим не сказано и нами теперь не выдается за признаваемое, и говорит: Бог в последствии когда–то соделался Отцом, быв прежде чем–то иным, а не Отцом. Ибо чем осмеивает Евномий несообразность нашего учения, тем самым провозглашает свое беззаконие в рассуждении догмата. Ибо, полагая признаваемым, что Бог, будучи прежде чем–то иным, после того по преуспеянию соделался и наименован Отцом, Евномий говорит следующее: «пока не родил Сына и не назван за то Отцом, не был нерожденным, если нерожденность делается познаваемою из понятия «Отец»». Сколько в этом неразумия не должно, думаю, и говорить о сем обличающему, потому что достаточно сие само собою представляется для имеющих ум. Ибо если Бог, пока не соделался Отцом, был чем–то иным, то что скажут защитники сего учения? В каком состоянии, по их словам, представлялся Бог? Какое имя дадут тогдашнему образу жизни? Имя ли отрока, младенца, новорожденного или юноши? Или не скажут ничего такого, стыдясь, может быть, явной несообразности, не будут же отрицать, что Он из начала совершенен? После этого как же совершенен, если не мог еще быть Отцом? Или не лишат Его сей возможности, но скажут, что неприлично Ему вместе с бытием быть и Отцом? И если нехорошо и неприлично Ему из начала быть Отцом такого Сына, то почему, поступая вперед, приобрел, что не хорошо? Но теперь хорошо, и Величию Божию прилично стать Отцом такого Сына. Итак, еретики ведут к той мысли, что Бог в начале не имел доли в хорошем; они скажут, что, пока Бог не имел Сына (да не прогневается Бог за это слово!), не было у Него ни премудрости, ни силы, ни истины, ни всего другого, чем в разных понятиях наших и есть, и именуется Единородный Сын.
Но да обратится сие на голову виновных! А нам должно еще возвратиться к тому, с чего начали. «Если, — говорит Евномий, — Бог — Отец, потому что родил, а Отец означает нерожденность, то пока Он не родил, не был нерожденным». Если бы говорилось это сообразно с тем, что обыкновенно для людей, которым невозможно за один раз приобрести какой–либо навык ко многим занятиям, не изучив каждого из предметов занятия в порядке и последовательности с течением какого–либо времени, если бы так должно было рассуждать и о Боге всяческих, что теперь имеет нерожденность, после же сего восприемлет силу, потом — нетление, потом — разумение, а, поступая далее, делается Отцом, и еще — правдивым, и вслед за сим — вечным, и в некоторой последовательности приобретет и все то, что умопредставляется свойственным Богу, то, может быть, было бы не очень нелепо думать об именах Божиих, что одно предшествует другому, и сперва именовался Бог нарожденным, а после того сделался Отцом. Теперь же кто столько беден смыслом, так малосведущ в величии божественных догматов, что, объяв мыслью Причину существ, не объемлет вместе и связно совокупным разумением всего благочестиво умопредставляемого о Боге, но думает, что одно превзошло в Нем в последствии, другое — в начале, иное же по какому–то последовательному порядку — в средине? Кто постиг помыслом что–нибудь благочестиво сказуемое о Боге, тому не встретить какой–либо вещи или какого–либо понятия, которые бы могли древностью превзойти сказанное. Напротив того, всякое имя Божие, всякая велелепная мысль, всякое речение и мнение, сообразное с понятиями о Боге между собою связаны и соединены; и все представления о Боге: Его отчество, нерожденность, могущество, нетление, благость, власть и все прочее, — постигаются неразрывно связанными и совокупленными между собою, потому что каждое из них не особо в отдельности от прочих само по себе представляется в каком–то временном расстоянии как предшествующее или последующее другому, но, какое бы ни нашлось велелепное и благочестивое именование, оно появляется вместе с вечностью Божиею. Посему, как нельзя сказать, что Бог когда–нибудь не благ или не могуществен, или не нетленен, или не бессмертен, — точно также нечестиво не всегда приписывать Ему отчество, но говорить, что оно превзошло в последствии. Ибо кто действительно отец, тот отец всегда. Если же к исповеданию не будет присоединено это ««всегда»«, но какое–нибудь наперед понапрасну придуманное понятие усечет и убавит сверху мысль об Отце, то не будет уже исповедуемо, что Он подлинно Отец в собственном смысле, так как оное придуманное понятие о Нерожденном еще Сыне уничтожает вечность и непрестанное бытие отчества. Ибо как возможно, чтобы то, что совершилось когда–либо после, было представляемо умом под тем именем, которым называется ныне? Посему, если, сперва будучи нерожденным, после того сделался и наименован Отцом, то, конечно, не всегда был тем, чем именуется теперь. Но Бог, Который и теперь, и всегда существует, не делаясь ни худшим, ни лучшим от приращения, не приемлет от иного чего–либо иного, не изменяется, но всегда сам с Собою тожествен. Посему, если не был в начале Отцом, то не соделался им и после. Если же исповедуем, что Он — Отец, то опять повторю то же слово, — что, если Отец теперь, то и всегда был Отцом, и если был всегда, то и всегда будет. Следовательно, Отец всегда Отец, и как вместе с Отцом умопредставляется, конечно, и Сын, потому что невозможно стать твердым названию «Отец», если не оправдывает наименования «Сын», то все, умопредставляемое в Отце, усматривается и в Сыне. Ибо все, что имеет Отец, принадлежит Сыну, и все, принадлежащее Сыну, имеет Отец. Отец имеет принадлежащее Сыну, сказал Сын, не для того, чтобы клеветнику пришло на мысль в насмешку над всем совокупить воедино, что и Сын нерожден, по сказанному: «все, принадлежащее Отцу, имеет Сын», — или еще, что и Отец рожден, потому что все, принадлежащее Сыну усматривается в Отце. Ибо если все, что у Отца, имеет Сын, то це Отец ли Он? И обратно, если все, что у Сына, усматривается в Отце, то не Сын ли Он?
Итак, если что принадлежит Отцу, все то — в Единородном, а Он — в Отце, отчество же не отдельно от нерожденности, то об Отце прежде понятия о Сыне может ли что быть представляемо отдельно само по себе в некоем расстоянии? Не вижу сего. Посему небоязненно должно отважиться и вступить об этом в борьбу с возражениями, какие нам делает лжеумствование, и нимало не пугаясь ужасного умозаключения, измышленного для приведения в трепет детей, сказать, что Бог и свят, и бессмертен, и Отец, и нерожден, и вечен, и все это в совокупности, и если предположительно уступит, что нет чего–либо одного из утверждаемого о Нем благочестиво, то одним уничтожается все. Ибо если не бессмертен, то невозможно быть и прочему. Но что сказано о части, то разумей о целом. Посему нет в нем ничего ни старшего, ни младшего, или иначе окажется, что Он Сам себя и старше, и моложе. Ибо, если Бог не всегда есть все, но в некоем порядке и последовательности одним Он есть, а другим делается, сложности же нет в Нем никакой, но, чем Он есть, тем есть весь, а по словам ереси, будучи прежде нерожденным, после сего делается Отцом, то, поелику не представляется в Нем никакой множественности действований, не иное что происходит, а только то, что весь Он делается старше и моложе всего Себя, по нерожденности предваряя Себя, а по понятию об Отце делаясь вторым по Себе. Если же Бог, как говорит о Нем Пророк, «тойжде еси» (Пс. 101:28), то неразумен утверждающий, что пока не родил, не был Он нерожденным, потому что ни которое из сих имен: ни имя Отца, ни имя нерожденного, — не встречается одно без другого, но два сии понятия в совокупности, и одно с другим появляются в умах благочестиво рассуждающих, потому что Бог от вечности Отец и вечный Отец, и все, что благочестиво сказуется о Боге, именуется вместе, так как временная эта последовательность и временный порядок, как сказали мы, в рассуждении превечного естества не имеют места.
Посмотрим и на остатки диалектической изворотливости, которые и сам он осмеивает и вместе называет жалкими. И хорошо говорит он это, потому что действительно неудержимый смех возбуждается сказанным, лучше же сказать, великий плач одержащим душу обольщением. Поелику слово «Отец» по некоторому значению заключает в себе понятие нерожденного, как утверждает наше учение, то Евномий, превращая собственное значение слова «Отец» в понятие нерожденности, говорит следующее: «если одно и то же сказать: «Нерожденный» или «Отец», то нам, оставив слово «Отец» и вместо его взяв название «Нерожденный», можно будет сказать: «Нерожденный есть Нерожденный Сына», ибо как Нерожденный есть Отец Сына, так, наоборот, Отец есть Нерожденный Сына». Приходится мне, наконец, дивиться благоискусному мужу, его многовидной и разнообразной учености в рассуждении догматов и почесть его превышающим силою многих. Сказанное учителем нашим выражено кратко одним словом, а именно: и наименованием Отца можно означить нерожденность, а Евномием наговорено так много, и множество состоит не в разных мыслях, а в обороте и превращении подобных речений. Ибо как с закрытыми глазами бегающие около жернова по совершении длинного пути, остаются на одном и том же месте, так и Евномий всегда обращается около того же и стоит в том же.
Однажды в насмешку сказал он, что слово «отец» значит не то, что рождать, но не быть от кого–либо другого; опять ведет подобную же цепь: если слово «Отец» значит «Нерожденный», то пока не родил, не был Он нерожденным. Потом в третий раз возвращается к тому же, ибо говорит: нам, принимающим слово «Нерожденный» в таком смысле, можно сказать: «Нерожденный есть Нерожденный Сына», и тотчас повторяет, что изрыгал уже многократно, и говорит: как Нерожденный есть Отец Сына, так наоборот, опять Отец есть Нерожденный Сына. О сколько раз возвращается на изрыгнутое им! Сколько раз берется за прежнее! Сколько раз оказывает обилие в том же! И не сделаемся ли и мы обременительными для многих, пустотою предлагаемого Евномием позволяя увлекаться своему слуху? В подобных случаях приличнее, может быть, молчать. Но чтобы не подумал кто, будто бы по бессилию в слове прекращаем слово, ответим на сказанное следующим: не можешь сказать, что Отец есть Нерожденный Сына, хотя бы наименование Отца и означало, что родивший не от причины. Как по представленному нами примеру, услышав о царском сане, из имени царя уразумеваем две вещи, а именно: что преимуществующий властью никому не подчинен и что обладает он подчиненными, — так и наименование Отцом относительно к Богу представляет нам двоякое значение, одно, разумеемое о Сыне, и другое, что Бог не зависит ни от какой предварительно умопредставляемой причины. Посему, как о царе невозможно сказать, что, если одним сим названием, означается и обладание подданными, и неимение над собою начальника, то можно называть его князем народа, но не имеющим над собою царя между подданными; не согласимся также сказать о царе таким образом: как называется он царем народа, так может быть назван и не имеющим над собою царя в народе; таким же образом к слову «Отец», которое указывает на Сына, и дает понятие о нерожденном, переложив значение не по надлежащему, невозможно к свойству с Сыном смешным образом привязать понятие о нерожденном, говоря: Нерожденный Сына.
Но, выразившись таким образом, как бы достигнув истины и изобличив нелепость сопротивных, Евномий горделиво произносит: «кто когда из здравомыслящих признавал справедливым умолчать о естественном понятии и уважил неразумие»? Никто, о премудрый; посему не виновно в сем и наше слово, утверждавшее, что наименование «Нерожденный» согласно с понятиями, и что должно содержать его в сердцах неподвижным, вместо же извращенного у нас слова достаточно именование «Отец» и ведет к оному же понятию. Ибо, помнишь, какие слова приводил ты сам. А именно: Василий не признавал справедливым умалчивать естественное понятие, а уважил, как сам называешь, неразумие; напротив того, одно именование «Нерожденный», то есть произношение слогов как дурно выбранное и притом неупотребительное в Писании, советует безопасно умалчивать, а об означаемом им говорит, что оно всего более согласно с нашими понятиями.
Но утверждаемое нами таково; а он, клевещущий, что мы софисты, вооружающий слово истиною, осуждающий наши прегрешения, не краснеет при рассуждений о догматах, рядясь лжеумствованиями и подражая тем, которые на пирах какими–то сладкими речами извлекают смех. Посмотрите на это страшное и обработанное сплетение умозаключения, ибо опять припоминаю то же: «ежели сказать «Нерожденный» и «Отец» есть одно и то же, то нам, оставив слово «Отец» и приняв вместо него слово «Нерожденный», можно сказать: «Нерожденный есть Нерожденный Сына», потому что, как Нерожденный есть Отец Сына, так наоборот, Отец есть Нерожденный Сына». А сие походит на то, как если бы кто по справедливому и здравому разумению сказал об Адаме: нет разности, назвать ли его отцом всех людей или первым человеком, созданным от Бога, потому что тем и другим означается одно и то же; потом кто–либо из подобных Евномию диалектиков, встав, начал бы подражать такому ухищрению в сказанном: если одно и то же сказать об Адаме, или что первый создан он Богом, или что он отец после него происшедших людей, то нам, оставив слово «отец» и заменив оное словом «первозданный», можно будет сказать: Адам не отец, но первозданный Авеля, потому что как первозданный есть отец сына, так наоборот, отец есть первозданный сына. Если бы это сказано было в корчме, то сколько рукоплесканий и смеха раздалось бы у пьющих, обрадованных изяществом находки! В таковых рассуждениях находит себе подкрепление против нас премудрый богослов и нападает на догмат, подлинно имея нужду в каком–нибудь пестуне и жезле, чтобы научиться, что не все, о чем–нибудь сказуемое, непременно относится к одному означаемому, как показывает это в представленном нами примере об Авеле и Адаме; ибо об Адаме справедливо сказать, что один и тот же — и отец Авеля, и дело Боже, но поелику он то и другое, то не следует из сего, что и в рассуждении Авеля имеет два значения. Так и о Боге всяческих наименование Отцом дает видеть и собственно означаемое таковым словом, то есть что Он родил Сына, и показывает, что никакая причина не умопредставляется прежде Отца, взятого в истинном смысле. Однако же, когда упоминаем о Сыне, нет необходимости Отца не Отцом именовать, но называть нерожденным Сына; и еще: если бы в отношении к Сыну умолчано было о безначальности, нет необходимости в нашем разумении отрицать у Бога нерожденность. Но Евномий отвергает такое употребление имен и подобно шутам смеется над сказанным нами, странностью лжеумствования производя смех над догматами.
Ибо опять приведу на память сказанное им: «если одно и то же сказать «Нерожденный» или «Отец», то нам, оставив слово «Отец», и приняв вместо него слово «Нерожденный», можно будет сказать: «Нерожденный есть Нерожденный Сына», потому что как Нерожденный есть Отец Сына, так наоборот, Отец есть Нерожденный Сына». Но, если угодно, и мы ответим ему смешным, лжеумствование это обратив ему в противоположное. Если не одно и то же Отец с Нерожденным, то Сын Отца не будет Сыном Нерожденного, потому что, к одному Отцу имея сие отношение, конечно, чуждым по естеству будет Тому, Кто есть нечто иное и по понятию не сходствует с Отцом, так что, если Отец есть что–либо иное с Нерожденным, и именование «Отец» не объемлет собою и означаемого словом «Нерожденный», то Сын, будучи единым, не может делиться на отношения к двоим, чтобы одному и тому же быть Сыном и Отца, и Нерожденного. И как признано нелепым назвать Бога Нерожденным Сына, так, без сомнения, в превращенной речи окажется равною нелепостью наименовать Единородного Сыном Нерожденного. Посему что–либо одно из двух: или Отец есть одно и то же с Нерожденным, чтобы Сыну Отца быть Сыном, и Нерожденного, и напрасно осмеивается наше учение, или, если Отец есть нечто другое с Нерожденным, то Сын Отца чужд отношения к Нерожденному. И если одержит верх эта мысль, что Единородный не от Нерожденного, то, конечно, вследствие сего учения окажется, что у Него Отец рожден, потому что сущее, но сущее не нерожденно, без сомнения, имеет рожденную Ипостась. Посему, если Отец как что–то иное с Нерожденным, по мнению их, рожден, то где же эта пресловутая нерожденность? Где основание и опора еретического столпотворения? Исчезли и обратились в ничто по нетвердости лжеумствований; у думавших, что, по–видимому, держатся пока за рукоятку, ускользнула нерожденность, и доказательство неподобия, подобно чьему–то сновидению рассеявшись, бежало от прикосновения слова, улетев вместе с нерожденностыо. Так, когда какая–нибудь ложь почитается за истину, хотя вследствие обмана имеет она силу на малое время, но скоро сама собою падает, и разоряется собственными своими построениями. Это предложено нами, чтобы посмеяться только над тонкостями, какими награждает Аномей. Но время опять привести слово в должный порядок.
39. Евномий не хочет, чтобы в слове «Отец» заключалось и значение слова «Нерожденный», ему нужно подготовить ту мысль, что Единородного никогда не было. Ибо у его учеников часто повторяется вопрос: «Как рождается сущий»? Причиною же сего полагаю то, что им не желательно, помышляя о Божественном, отступиться от человеческого употребления имен. Но мы доброхотно погрешительное это мнение выведем на прямой путь, сказав, что знаем о сем.
Иное, Евномий, означают имена у нас, другое же значение представляют о превысшей силе. Ибо и во всем прочем Божеское естество великим средостением отделено от человеческого; и опыт не показывает здесь ничего такого из всего, о чем делаются в оном заключения по каким–то догадкам и предположениям. Таким же образом и в означаемом именами, хотя есть некая подобоименность человеческого с вечным, но по мере расстояния естеств и означаемое именами раздельно. Так, например, Господь в притче именует Бога человеком домовитым (Мф. 20:1), но это именование часто употребляется и в жизни. Посему, одинаково ли достоинство человека, подобного нам, и человека, разумеемого в притче, и таков ли наш дом, каков оный великий дом, в котором, как говорит Апостол, «сосуды злати ы сребряни», и какие еще перечисляются из прочих веществ (2 Тим. 2:20)? Или инаковы те, которые иному не легко и познать, умопредставля–емые в нетлении и блаженстве, и инаковы те, которые у нас сделаны из земли и в землю разлагаются? Точно так же и во всех почти прочих вещах есть некая подобоименность Божественного с нашим, при тожестве имен показывающая большую разность означаемого. Почему и именования членов и чувствилищ можно находить сходно распределенными как у нас, так и для Божественной жизни, которую все люди признают сверхчувственною. «Персты», «мышца», «рука», «око», «вежди», «слух», «сердце», «ноги», «сапоги», «кони», «яжденые» (Авв. 3:8), «колесницы» и тысячи подобных слов из человеческой жизни внесены Писанием к гадательному выражению Божественного. Посему, как из сих имен каждое говорится по–человечески, но не человеческое им означается, так и имя «отец», хотя одинаково говорится и о нашем, и о Божием естестве, но по мере разности именуемых предметов и означаемое словами различно, потому что иначе представляем себе рождение у людей, и иначе гадаем о рождении Божественном. Человек рождается во времени, и, конечно, какое–либо место принимает в себя жизнь его, а без этого и естество его состоять не может. Поэтому в жизни человеческой необходимо находятся временные отделы, разумею: что прежде него, что вместе с ним и что после сего. Ибо о ком бы то ни было из рожденных верно можно сказать, что, не быв некогда, теперь он существует и также опять некогда перестанет существовать, а о предвечном рождении эти временные понятия, как с оным естеством не имеющие никакого сродства, рассуждающим трезвенно не приходят и на мысль Ибо рассуждающий о Божественной жизни, став выше речений: «некогда», «впоследствии», «прежде» и всех других, которыми означается временное это протяжение, с высоты обозревать будет превыспреннее, и что видит в рождении человеческом, тому не почтет порабощенным и рождение неподвластное.
В здешнем естестве происхождению человека предшествует страдание, для устроения живого существа полагаются телесные некие основы, и по изволению Божию держится это на совершающем таковые чудеса естестве, которое отовсюду собирает свойственное и приличное усовершению рождаемого: из стихий мира (из каждой сколько достаточно), из содействия времени свою меру, и из питания образующих рождаемое, сколько сие бывает свойственно образуемому; кратко сказать, естество, которое, проходя все, что служит к устройству человеческой жизни, таким образом несуществующее приводит к рождению, почему говорим, что несуществующее приходит в бытие, так как чего в некоторое время не было, то в другое время начинает бытие. Понятие же о Божественном рождении не допускает ни услужливости естества, ни совершения времени для сбора приношений, нужных приводимому в бытие, ни всего того, что разум усматривает в дольнем рождении, и ни в одно из низких помышлений не впадает приступающий к Божественному не с плотскими понятиями. Напротив того, ищет он какого–либо понятия приличного величию означаемого, потому что не представит себе страдания в бесстрастном, не помыслит, что Создатель всякого естества имеет нужду в естественном содействии, и не допустит временного протяжения в жизни вечной; напротив того, представив себе Божественное рождение чистым от всего этого, согласится только, что из значения имени «Отец» открывается не безначальное бытие Единородного, так что, хотя в Отце имеет Он причину бытия, однако же не умопредставляемо в Нем начало ипостаси по невозможности представить себе какой–либо признак искомого. Ибо в представлении давно бывшего и новейшего и во всех таковых представлениях, имеющих место во временных расстояниях, если отымешь мысленно время, вместе с тем отъемлются все таковые признаки и похищаются со временем.
Итак, поелику неизреченно прежде веков Сущий с Отцом не допускает сего представления, — «некогда», — то Он, хотя существует рожденно, однако же не начинает когда–либо бытия, потому что и не во времени, и не в простраинстве имеет жизнь, а по отъятии и пространства, и времени, и всякого подобного представления об ипостаси Единородного, умопредставляемое прежде Него есть единый Отец. Но в Нем сущий и Единородный, как сам Он говорит (Ин. 10:38), невозможным делает допустить предположение о небытии Его когда–либо. Ибо, если бы не было некогда и Отца то небытием Отца необходимо усекалась бы сверху и вечность Сына. Если же всегда есть Отец, то как не быть когда–либо Сыну, Который не может быть умопредставляем сам по Себе без Отца, но даже и умалчиваемый всегда именуется с Отцом? Ибо название Отца равно имеет значение двух лиц, так как мысль о Сыне при этом слове приходит сама собою. Когда не было Сына? В чем заключено было Его небытие? В пространстве ли? Но пространства не было. Во времени ли? Но Господь прежде времен. Посему, если был прежде времени и пространства, то когда же не был? И если был в Отце, то в чем же не был, скажите вы, видящие невидимое, какую среду вообразил ваш помысел? Что представляете себе лишенным Единородного? Вещь ли какую или понятия, которые, будучи спротяженны с Отцом, показывают, что жизнь их долговечнее Единородного? И к чему говорю это? Ибо и о человеке нельзя сказать в собственном смысле, что рожден кто–либо несуществующий. Левий за много родов до своего рождения по плоти дал десятину Мельхиседеку, ибо так говорит Апостол: «Левий», приемлющий «десятины, десятины дал есть» (Евр. 7:9), и в доказательство сказанного присовокупляет, что он был в чреслах отца своего, когда Авраам встретился со священником Вышнего. Посему, если человек рождается некоторым образом существующий, по апостольскому свидетельству, по общей сущности предсуществовав в родившем его, то как осмеливаются о Божием естестве произносить это слово, что, не существуя, Сущий в Отце родился, как говорит Господь: «Аз во Отце, и Отец во Мне» (Ин. 14:11), именно сказуя сим, что каждый из Них в другом, один по одному, а другой по другому понятию: Сын в Отце, как лепота изображения в первообразном зраке, а Отец в Сыне, как первообразная лепота в Своем изображении. Но в рукотворенных изображениях промежуточное время, без сомнения, принятый образ отделяет от первообраза, а там невозможно отделить одно от другого: ни образ от ипостаси, ни сияние от Божественной славы, как говорит Апостол (Евр. 1:3), ни изображение от благости, но помысливший о чем–либо из сего приемлет мыслью умопредставляемое совокупно с этим. Ибо сказано: «Сый сияние славы; Сый», а не соделавшийся, так что Апостол ясно отстраняет этим все, что есть нечестивого в том и другом предположении, и не признает как того, что Единородный нерожден, сказав: «сияние славы», потому что сияние от славы, а не наоборот, от сияния слава, так и того, что некогда начал Он бытие, потому что свидетельство слова ««Сый»« дает разуметь всегдашнее существование Сына, Его вечность и превосходство над всяким временным значением.
Посему благовременно несколько представить этот неудачный вопрос противников, составленный ими во вред благочестию, и который, как непреоборимый, предлагают они нам в доказательство собственного своего учения, спрашивая: «Рождается ли Сущий»? Им отвечать можно смело что Сущий в Нерожденном от Него рожден, в нем имея причину бытия, ибо говорит: «Аз живу Отца ради» (Ин. 6:57). О начале же говорить нельзя, когда нет ничего посредствующего, ни представления, ни временного расстояния, — ничего такого, чем отличается и отделяется бытие Сына от Отца, и не представляется признака, показывающего, что Единородный, отрешившись от жизни Отца, приемлет какое–то особое начало. Посему, если нет никакого другого начала, предводящего жизнью Сына, напротив того, учение благочестия усматривает; что пред Ипостасью Сына — неотступно единый Отец, Отец же безначален и нерожден, как исповедует вместе и свидетельство противников, то как приемлет начало бытия созерцаемый в Безначальном?
Какой же вред учению благочестия от согласия со словами противников, которые выставляют они, как нелепые, говоря: «Рожден ли Сущий»? Ибо не то говорим, что, по грубому недоумению Никодима, какое высказал он Господу и по которому полагал, что существующему невозможно прийти во второе рождение (Ин. 3:4), так и Сущий приемлет рождение; напротив того, говорим, что имеющий свое бытие соединенным с всегда и безначально Сущим, неотступающий от любоведения о старейшем и предваряющий в превышающем любоведение ума, и не отделимый от всякой мысли об Отце, и бытия не начинает, и не рожден, но и родился, и всегда был, относительно к причине признавая рождение от Отца, а по вечности жизни не допуская, чтобы когда–либо не иметь бытия.
40. Но сказанному противится до излишества умудряющийся и сущность Единородного отделяет от естества Отца, потому что один родился, а другой — нерожден; и, когда столько есть имен, показывающих благочестивый взгляд на естество Божие и в которых не усматривается никакого видоизменения относительно к Сыну, но все равно приличествуют и Сыну, и Отцу, Евномий, не упомянув ни об одном из других имен, которыми обозначается общность, привязывается к одному имени — «нерожденность», — да и то принимает не в обыкновенном и признанном значении, но вводит новое понятие нерожденного, отвергая общие предположения сем слове. Какая же причина этому? Ибо не без важного какого–нибудь побуждения отступает в речи от обыкновенного смысла имен и странничает изменением значения слов. В точности знал он, что если употребление имен будет сохранено по обычаю, то не найдет он никакого подкрепления к извращению здравого учения; если же речения не удержат при себе общих и признанных за ними понятий, то сим извращением слов легко будет можно извращать и догматы. Например (перейдем к самим речениям, с которыми поступлено так худо), если бы, по общему разумению догматов, Евномий согласился, что Бог называется нерожденным, потому что не родился, то рушилось бы у них целое здание ереси с лжеумствованием о нерожденности, лишенное своей опоры. Ибо, если бы вследствие этого по сходству почти всего введенного в употребление в церкви Божией, убедился, что сущий над всеми Бог умопредставляется как невидимым, бесстрастным и бестелесным, так и нерожденным, соглашаясь, что каждым из сих имен означается, чего вовсе нет у Бога, как–то: тела, страсти, цвета и того, чтобы иметь бытие от причины; если бы признал, что это действительно так; то не имело бы никакой силы их учение о неподобии, так как во всем прочем, что умопредставляется о Боге всяческих, и противники уступают Единородному равенство с Отцом.
Но чтобы не произошло сего, из всех Божьих имен, разумею имена, указующие на верховное могущество, Евномий предпочитает имя нерожденности и его делает убежищем для произведения нападений на наше учение, противоречие рожденного нарожденному в выговоре слова перенося на лица, которым приданы имена, и посредством сих имен из различия их ухищряется познавать инаковость сущностей, соглашаясь, что рожденным называется кто–либо не потому, что родился, и нерожденным не потому, что не рождался, — напротив того, потому что рожденный, так сказать, осуществлен рождением (не знаю, какою мудростью руководим был он к такому разумению). Ибо если кто дознает значение имен, каковы они сами по себе, в отвлечении от Лиц, от которых, по–видимому, имеют свой вес, то найдет пустоту мысли в сказанном Евномием. Не потому, что Отец по истинному учению веры умопредставляется прежде Сына, и порядок имен да признает всякий согласующимся с достоинством и порядком Лиц, означаемых сими именами, но пусть смотрит на имена, какое из них, взятое само по себе, предпоставляется другому относительно к его составлению (опять разумею имя, а не вещь, означаемую именем), какое из сказанных имен показывает положительную мысль о чем–нибудь, и какое — отрицание положительной мысли. Например (для ясности, думаю, надобно представить в слове примеры подобные), возьмем образованность и необразованность, страсть и бесстрастие и прочие такого же рода имена, какие из них могут быть умопредставляемым прежде других? Те ли, которые представляют отрицание положения, или те, которые выражают положение предлежащего? Я утверждаю последнее, ибо прежде умопредставляется образованность, гнев и страсть, а потом отрицание умопредставленного; то же сказать должно о рождении и о нерожденности. И никто по самочинному благочестию да не охуждает слова сего, будто бы Сын предпочитается им Родшему, ибо не утверждаем, что Сын поставляется выше и умопредставляется прежде Отца, если в слове разбирается значение имен «рожденный» и «Нерожденный». Посему рождение означает положение какой–либо вещи или мысли, а нерожденность, как сказал я, отрицание положенного, так что во всяком случае имя «рождение» представляется уму прежде имени «нерожденность». Почему же, что в числе мен по порядку есть второе, то усиливаются как свойственное из этих понятий приспособить к Отцу, а представление отрицающее что бы то ни было, признают указательным и объемлющим собою сущность имени и на обличающих нетвердость их учений негодуют и раздражаются?
41. Ибо вот как злопамятен он на обличившего его нетвердость и бессилие злоухищрения и как мстит ему, чем может; может же одним злословием и оскорблением, и богатство такой возможности у него через меру изобильно. Ибо как у искусных переписчиков книг какие–то соединительные знаки наполняют собою пробелы в строках, сообщая собою благозвучие и стройность складу речи, так Евномий в большей части своих произведений испещряет сочинение злоречием, как бы украшаясь переизбытком силы оскорблять, потому что, по словам его, опять мы суетны, опять погрешаем против здравого рассудка, без достаточного в нужде приготовления приступаем к словопрению и не постигаем смысла в словах говорящего. Ибо все это и еще большее сего учителю нашему восписуют невозмутимые сии уста, и, может быть, не неразумна причина гнева, но справедливо раздражается борзописец. Ибо сколько должен был огорчить его обличающий недуги слова сего, обнажить и сделать явною и для простых хулу, прикрытую вероятностью лжеумствований? Почему же не прикрывает он молчанием того, что не твердо в догмате, но выставляет на позор сего жалкого, когда надлежало бы пожалеть и прикрыть безмолвием неприличие слова? А он обличает и выводит на зрелище человека, как бы то ни было уважаемого своими учениками за мудрость и тонкость ума. Евномий где–то в словах своих сказал, что за Богом следует нерожденность. О сем изречении учитель наш заметил, что следующее есть нечто усматриваемое со вне, а слово «сущность» показывает значение не чего–нибудь внешнего, но самого бытия, поколику вещь существует. Негодует на это благодушный и неодолимый Евномий и обильно источает укоризны, потому что, услышав сказанное, ощутил и смысл. Чем же погрешил Василий, если внимательно следовал за смыслом написанного? Если неправильно понимал он сказанное, то упреки твои справедливы, и мы забудем их. Если же краснеешь от обличения, то почему не изгладишь в написанном, но злословишь обличающего? «Да, — говорит он, — но он не постиг цели слова». В чем же наша неправда, если как люди по сказанному догадываемся о смысле, не имея никакого понятия о сокровенном в сердце? Богу принадлежит и незримое видеть, и черты ни коим образом не постигаемого рассматривать, и познавать несходство в невидимом, а мы судим единственно по тому, что слышим.
Посему сказано: «следуют за Богом», — и в числе следующих, по гаданию нашему, Евномий разумеет нерожденность; еще сказано: «лучше же сказать, самая нерожденность и есть сущность». Связи этого не в силах мы были уже уразуметь, представив себе большую, по–видимому, разность и странность в означаемом. Ибо, если следует за Богом нерожденность, нерожденность же есть сущность, то, конечно, слово сие приводит к понятию о двух сущностях в одном и том же, так что Бог и существует вместе, каким существовал некогда и каким, по верованию нашему, доныне существует, но имеет и следующую за Ним иную сущность, которую называют нерожденностью и которая есть нечто другое с Тем, Кому служит сопровождением, как говорит наставник. И если так повелевает разуметь это, то да простит нам, невеждам, неспособным дойди до этой тонкости взглядов.
Если же Евномий отвергает это учение и не соглашается, что говорит о двоякой сущности в Боге, из которых одна познается в самом Божестве, а другая — по нерожденности, то пусть посоветует сам себе этот неопрометчивый и нелукавый муж не много вдаваться в злоречие в состязании за истину, но объяснить нам, неученым, почему не иное что есть последующее, а иное предыдущее, но то и другое делается одним. Ибо и в том, что говорит теперь в защиту своего учения, остается, как и прежде, несообразным и, как сам говорит, присовокупление оных строго высчитанных речений не поправляет разногласия в сказанном, потому что какое можно найди в них наставление — не мог я доискаться сего. Но скажем от слова до слова, что именно написано им. «Сказали мы, — говорит Евномий, — лучше же сказать, само нерожденное есть то, что, по доказанному, последует. Сказали, не в бытие включая это, но прилагая, что последует к наименованию, а что есть само в себе, — к сущности». Если сложить это воедино, то полная речь будет такова: последует имя «нерожденность», потому что само именуемое есть Нерожденный. Посему кого представим истолкователем сказанного? «Не в бытие включая, что, по доказанному, последует», — говорит Евномий. Но слово «включая», скажут, может быть, иные из любителей выражаться загадочно, употреблено Евномием в смысле слова «соединяя». А кто дознается смысла и последовательности прочего? Открывшееся последовательно, говорит Евномий, состоит в связи не с сущностью, но с наименованием. А что такое наименование, премудрый? Разногласит ли с сущностью или сходится с нею по понятию? Если имя не в связи с сущностью, то какие отличительные черты сущности означаются наименованием «Нерожденный»? Если же, как сам именуешь, сущность естественно соединена с нерожденностью, то почему отделяется здесь. «И имя сущности следует за одним, а самая сущность за другим». Как же слагается вся речь? За Богом, говорит, следует имя «нерожденность», по тому что Сам Он нерожден. Утверждает ли, что за Богом, так как Он не что иное с нерожденностью, следует это имя? И как Божество определяет нерожденностью, но говорит, что за Богом, существующим нерожденно, следует опять нерожденность? И кто разрешит нам сеть этих загадок? Нерожденность предшествующую и нерожденность последующую, и наименование сущности, то естественно приспособленное, то опять последующее, как чуждое? А что же это у него за великое изумление при имени «нерожденность», так что ей приписывает все естество Божества; и если так будет оно наименовано, то не окажется никакого недостатка в благочестии; если же нет, то подвергнется опасности все учение веры. Если не почтет кто излишним и непринадлежащим к делу краткого о сем рассуждения, то рассудим так.
42. Вечность Божественной жизни, если кто станет описывать, заключив ее в некое определение, такова: всегда объемлется бытием, не допускает и мысли, что некогда ее не было и некогда ее не будет. Как об очертании круга, поелику черта в равном расстоянии от средоточия сама по себе изгибается, измеряющие земные плоскости говорят, что начало чертежа неопределенно, потому что черта не тянется ни к приметному концу, ни к явному началу, но везде в равных расстояниях от средоточия соединена сама с собою, избегает того, чтобы показать какое–либо начало и окончание, так (и никто да не клевещет, будто бы в слове сем ограниченному очертанию уподобляем беспредельное естество), не на окружность круга смотря, но взирая на сходство жизни, повсюду необъятной, говорим, что это есть понятие вечного. Ибо от настоящего мгновения, как от средоточия и какого–то знака, простираясь и пробегая повсюду мыслью в беспредельность жизни, и, как в круге, равно и одинаково увлекаемся необъятностью, везде встречаясь с Божественной жизнью, которая не прекращается и сама с собою неразрывна, и бываем не в состоянии познать какой–либо предел и какую–либо часть. Сие именно говорим о вечности Божией, что слышали и в пророчестве: Бог и Царь предвечный (Пс. 73:12), и царствует в веках «и на веке, и еще» (Исх. 15:18); потому определяем Его древнейшим всякого начала и позднейшим всякого конца. Посему, имя — это понятие о Боге всяческих, как приличное Ему, умопредставленное нами выражаем двумя наименованиями, беспредельность, непрекращаемость и вечность жизни жиеи изображая словами «нерожденный» и «бесконечный», ибо если которое–либо одно из них включено в это понятие, а прочее умолчано, то, без сомнения, и означаемое будет хромать в недосказанном, так как невозможно одному которому–либо из сих именований вполне представить значение тогшо и другого. Кто назовет бесконечным, тот покажет только, что чужд конца, а ничего не скажет о начале; и кто наименует безначальным, тот покажет, что означаемое выше начала, но вопрос о конце оставит нерешенным.
Итак, поелику имена сии, как сказал я, равно означают вечность Божественной жизни, то кстати нам исследовать, почему еретики, рассекая означаемое словом «вечный», о том умопредставлении, которым отрицается начало, говорят, что есть сущность, а не одно из свойств Вечного, то же, которое не допускает конца, полагают вне сущности, не знаю, по какому разумению делая такое распределение, по которому не иметь начала признается сущностью, а не иметь конца — исключается из сущности. Поелику об одном и том же имеем два эти представления, то надлежало или то и другое принять в понятие сущности, или, если одно признали непринадлежащим, с ним вместе изринуть и остальное. Если же разделившим понятие вечности непременно угодно одно отнести к сущности Божественного естества, а другое не полагать в числе существенного (потому что о подобных вещах хотят судить низким рассудком, подобно птицам, утратившим перья, не возносясь на высоту умопредставлении о Боге), то посоветовал бы я им превратить учения свои в противоположные, так чтобы бесконечность причислить к сущности, безначальность же почитать менее уважительною, нежели бесконечность, восписуя первенство будущему, исполненному надежд, а не прошедшему и тому, чем уже воспользовались. Ибо (говорю же это для малых душами, произвольно низводя слово до детского разумения) так как прошедшая часть жизни прожившими оную вменяется ни во что и все попечение у живущих обращено на будущее и ожидаемое, то бесконечность должна быть досточестнее безначальности, потому что бессмертное стремится к будущему и ожидаемому. Поэтому или умопред–ставления еретиков об естестве Божием пусть будут боголепны и возвышенны, или, если о подобном сему судят они человеческим рассудком, то будущее пусть будет для них досточестнее прошедшего. И им пусть определяют Божию сущность. Ибо все прошедшее с истечением времени уже исчезает, а ожидаемое осуществляется надеждою.
Но хотя это смешное и детское предлагаю вам, как детям, которые сидят и забавляются на площади (ибо кто всмотрится в низость и оземленелость еретических учений, тому невозможно, конечно, не перенестись мыслью в какую–нибудь детскую игру), однако же утверждаю, что хорошо будет присовокупить к слову и это; значение слова «вечный», по сказанному выше, восполняется тем и другим, отчуждением как начала, так и конца. Если сущность Божию ограничат одним, то половинным и усеченным окажется у них понятие сущности, заключаемое в одно безначальное, но не имеющее в себе бесконечного по сущности. Если же, соединив то и другое, из того и другого составят понятие сущности, то увидим опять открывающуюся при сем несообразность в слове. Ибо найдется, что понятие сие у них не согласуется не только с понятием о Единородном, но и само с собою. Речь же ясна и не имеет нужды в большой разборчивости. Ибо понятия качала и конца одно другому противоположны, и означаемое тем и другим различно, как имеет сие место и в прочих предметах, прямо друг другу противоположных и между которыми нет ничего среднего. Спрошенный о начале, что оно такое, не ответит на сие определением конца а в противоположность тому приведет определенное понятие начала. Посему и противоположное каждому из сих понятий в равной противоположению мере сделается одно с другим различно, и иное нечто будет признано безначальным, именно же — что противополагается являющемуся с началом, и иное нечто — бесконечным, именно же — что не допускает конца. Потому, если сущности Божией припишут, соединив вместе два сии понятия, разумею бесконечность и безначальность, то Бога своего представят стечением двух неких противоположных и несогласных качеств. Ибо противоположность конца началу сам собою обнаруживает смысл, противополагаемый каждому из них. Вещи противные противополагаемым, без сомнения, и сами взаимно одна другой противны. Справедливо же положение, что все вещи, противопоставляемые другим, по естеству, между собою противным, и сами взаимно одна другой противны, как можно видеть из примеров. Огню противопоставлена вода. Поэтому и силы, для них истребительные, будут одна другой сопротивляться. Ибо если к угашению огня служит влажность, а к истреблению воды — сухость, то сопротивление воды огню сохраняют в себе и противополагаемые им качества, как влажность признается супротивного сухости. Так поелику и начало, и конец противоположны между собою, то и противополагаемые им именования, разумею безначальность и бесконечность, по понятию состоят во взаимной борьбе. Итак, если по определению еретиков, которое либо одно из сих наименований указует на сущность (ибо возвращаюсь к прежней речи), то в таком случае они свидетельствуют, что бытие Богу принадлежит только в половину, утверждая, что сущность Его ограничивается одною безначальностью, и не простирая оной даже до бесконечности. Если же то и другое внеся в понятие сущности, не иное что сделают, как сложат ее из противоположностей, то, по сказанному выше, противоположности конца с началом покажут, что сущность разделена бесконечностью и безначальностью. И в таком случае Бог у них окажется чем–то разнообразным, сложным, составленным из каких–то противоположностей.
Но нет и не будет такого учения в церкви Божией, по которому бы утверждалось, что простой и несложный не только многовиден и разнообразен, но даже составлен из противоположностей. Ибо простота догматов истины, уча тому что такое Бог, предполагает, что не может Он быть объемлем ни наименование, ни помышлением, ни иною какою постигающею силою ума, пребывает выше не только человеческого, но и ангельского, и всякого премирного, постижения, неизглаголен, неизречен, превыше всякого означения словами, имеет одно имя, служащее к познанию Его собственного естества, именно, что Он один «паче всякаго имене» (Флп. 2:9) которое даровано и Единородному, потому что все то принадлежит Сыну «елика имать Отец» (Ин. 16:15). А что речения сии, разумею нерожденность и бесконечность, означают вечность, а не сущность Божию, сие исповедует учение благочестия; и нерожденность показывает, что выше Бога нет ни начала какого, ни причины какой, а бесконечность означает, что царство Его не ограничится никаким пределом. Ибо Пророк говорит: «Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют» (Пс. 101:28), словом ««еси»« означая, что не от причины какой произошло сие бытие, а следующею речью показывая непрекращающееся и бесконечное блаженство жизни.
Но, может быть, иной даже и из числа благоговейных, остановившись на том, что исследовано нами о вечном, скажет: вследствие сказанного учению об Единородном трудно не встретить себе преткновения. Из двух различно представляющихся догматов необходимо согласиться с одним. Ибо или будем доказывать, что и Сын нерожден, что нелепо, или не уступим Ему и вечности, что свойственно богохульствующим. Если вечность познается по безначальности и бесконечности, то, по всей необходимости, будем или нечествовать, не признавая вечности Сына, или в мнениях об Единородном увлекаться в предположение нерожденности. Посему что же сделаем? Если призрак какой времени предпоставитъ ипостаси Единородного, кто Отца умопредставляет прежде Сына только как причину, то понятием о вечности Сына может у нас подвергнуто быть опасности понятие о Сыне. Ныне сие, что никогда не будет, равно и одинаково не признается в предвечном естестве и о жизни Отца, и о жизни Единородного, и об исповедании Святаго Духа. Ибо где нет времени, там исключается вместе и ««никогда»«. Если же Сын, умопредставляющийся вместе с мыслью об Отце, всегда постигается сущим в бытии, что страшного свидетельствовать о вечности Единородного, не имеющего ни начала дней, ни конца жизни. Ибо как от света свет, от жизни жизнь, от благого благой, премудрый, правдивый и сильный, а также и все иное, от подобного подобный, так и от вечного непременно вечный.
Но любитель противоречий и споров хватается за это слово и говорит: эта связь речи заставляет предположить, что и от нерожденного нерожденный. Впрочем, пусть отрезвится сердцем и твердо стоит в собственном своем слове этот возражающий. Признавая, что Единородный от Отца, отдалил он и мысль о нерожденности. И никакого нет страха, будто бы одного и того же называет и вечным, и не нерожденным, потому что никаким промежутком времени не ограничивается бытие Сына, напротив того, и прежде веков, и после них беспредельность Его жизни льется всюду, и в собственном смысле Сын именуется вечным. И потому что опять, будучи и называясь Сыном, совокупно с Собою дает умопредставлять и Отца, сим самым избегает возможности подать о Себе мысль, будто бы существует нерожденно, всегда существуя вместе с сущим всегда Отцом, как изрекло и богодухновенное слово нашего учителя: «рожденно будучи соединен с нерожденностью Отца». То же у нас учение и о Святом Духе, имеющее разность в одном только порядке. Ибо как Сын соединяется с Отцом, и от Него имея бытие не позднее Его по началу бытия, так опять и Дух Святый относится к Единородному, Который только мысленно относительно к причине умопредставляется прежде ипостаси Духа. Временным же продолжениям нет места в предвечной жизни, так что за исключением понятия причины ничего несогласного с собою не имеет Святая Троица. Ей подобает слава!
Книга вторая
Содержание второй книги
1. Вторая книга излагает учение о воплощении Бога Слова и о вере, преданной Господом ученикам, и сказует, что еретики, извращающие сию веру и измыслившие иные имена, ведут начало от отца своего диавола.
2. Потом пространно изъясняет учение о вечном Отце и Сыне и Святом Духе.
3. После сего объясняет непоименованное имя Святой Троицы, взаимное между собою отношение Лиц, а также — недоведомость сущности, снисхождение к нам Бога Слова, Его рождение от Девы, второе пришествие, воскресение из мертвых и воздаяние.
4. После этого весьма разумно обличает пустое и хульное изложение Евномиева мнения о сущем.
5. Потом чудным образом низлагает неудобовразумительность Евномиевых рассуждений о том, что сущность Отца не может ни отделяться, ни делиться, ни делаться чем–либо иным.
6. После сего доказывает единство Сына с Отцом и также Евномиево незнание Писаний и незнакомство с оными.
7. При сем доказывает, что Единородный не от Отца только, но и от Девы, Духом Святым рожденный бесстрастно, не разделил сущности. Да и человеческое естество, рождаемое с рождающими не делится или от них не отделяется, как весьма умно доказано сие Адамом и Авраамом.
8. Вслед за сим излагает весьма приличное истолкование слова «единородный» и слова «первородный» четырехкратно употребленного Апостолом (Рим. 8:29; Кол. 1:15; Кол. 1:18; Евр. 1:6).
9. Потом, еще разобрав выражение «рождение Единородного», также иные разные вещественные и невещественные рождения, боголепно доказывает, что Сын есть сияние славы, а не тварь.
10. Потом, различно исследовав, прекрасно истолковал, изречение: «Господь созда Мя» (Притч. 8:22) и слово о начале Сына, также обман, сокрытый в словах Евномиевых, и изречение, в котором сказано: «славы Моея иному не дам» (Ис. 42:8).
11. Потом, объяснив достоинство Вседержителя, вечность Единородного и изречение: «послушлив быв» (Флп. 2:8), доказывает неразумие Евномия в сказанном у него, что не за послушание получил Христос то, чтобы Ему быть Сыном.
12. После сего предлагает прекрасное изъяснение слов: «Ходатай», «подобный», «нерожденный» и «рожденный», — также объясняет речение «образ и печать деятельности и дел Вседержителя».
13. После сего толкует евангельское изречение: «Отец бо не судит никомуже» (Ин. 5:22). Еще же, сказав о человеке, восприятом на себя Господом с душою и телом, объясняет Адамово преступление, смерть и воскресение из мертвых.
14. Сверх сего излагает мнения, какие о Святом Духе имеют Церковь и Евномий, и доказывает, что не три Бога, но один Отец и Сын, и Святый Дух. При сем излагает разные степени покорности и здесь показывает покорность всех Сыну и покорность Сына Отцу.
15. Потом, показав во многом невразумительность Евномия, то утверждающего, что Дух Святый есть тварь и превосходнейшее произведение Сына, то исповедующего, что Он по действованиям Своим есть Бог, оканчивает сим книгу.
1. Христианская вера, всем народам по повелению Господа проповеданная учениками, «ни от человек есть, ни человеком, но» самим Господом нашим «Иисусом Христом» (Гал. 1:1), Который, будучи Словом и жизнью, и светом, и истиною, и Богом, и премудростью, и всем, что Он по естеству по сему самому наипаче в «подобии человечестем» был (Флп. 2:7), и причастился естества нашего «по всяческим по подобию, разве греха» (Евр. 4:15), по подобию же так как воспринял на Себя целого человека с душою и телом, почему тем и другим совершается наше спасение. Он «на земли явися и с человеки поживе» (Вар. 3:38), чтобы люди думали впредь о Сущем, не своими водясь суждениями и по каким–либо догадкам составляющиеся у них понятия обращая в догмат, а напротив того, убедившись, что Бог истинно явился во плоти уверовали мы в ту одну истинную тайну благочестия, которая предана нам Самим Богом Словом, глаголавшим Своими устами апостолам. Учение же о превысшем Естестве, почерпаемое из ветхозаветных писаний, из закона и пророчеств, также из приточных наставлений, каким–то «зерцалом в гадании» (1 Кор. 13:12), да приемлем как свидетельство открытой нам истины, благочестно постигая смысл речений, как согласный с верою изложенною Владыкою всяческих, которую до буквы храним, как приняли, — чистою и неизменною, крайнею хулою и нечестием признавая даже малое извращение преданных речений. Посему веруем, как Господь изложил, веру ученикам, сказав: «Шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Вот учение таинства, которым естество наше в рождении свыше преобразуется из тленного в нетленное, из ветхого человека обновляемое во образ Создавшего в начале боговидное подобие. Поелику сия вера предана апостолам от Бога, то не делаем в ней ни сокращения, ни изменения, ни прибавления, ясно зная, что осмеливающийся извращать божественное слово злонамеренными лжеумствованиями есть от отца своего диавола, который, оставив слова истины, стал отцом лжи и «от своих глаголет» (Ин. 8:44). Ибо все, что говорится не по истине, без сомнения, есть ложь и неправда.
ак, поелику учение сие излагается самою Истиною, то, если изобретатели лукавых ересей придумывают что–либо в опровержение божественного сего слова, как например, Отца именуют не Отцом, но Создателем, творцом Сына, а Сына — не Сыном, но делом, тварию и произведением Отца, и Святаго Духа — не Духом, но делом дела, творением твари и всем, что угодно сказать о Нем богоборцам, — все подобное сему именуем отрицанием открытого нам в учении сем Божества и преступлением. Ибо однажды навсегда научены мы Господом, на что надлежит обращать внимание мыслью, Кем совершается претворение естества нашего из смертного в бессмертное, — это есть Отец и Сын, и Святый Дух. Посему утверждаем, что страшно и пагубно перетолковывать божественные сии глаголы и отыскивать придумываемые к их опровержению, как бы в исправление Бога Слова, узаконившего нам принимать глаголы сии с верою. Ибо каждое из сих названий, понимаемое в свойственном ему значении, для христиан служит правилом истины и законом благочестия. Много и других именований, которыми означается Божество в истории, в пророчестве и в законе; Владыка Христос, оставив все те имена, какими мог привести нас к вере в Сущего, предлагает сии глаголы, давая сим разуметь, что нам достаточно остаться при названии Отца и Сына, и Святаго Духа для разумения действительно сущего, который один и не один. По понятию сущности Сущий — един, почему и Владыка узаконил взирать на единое имя, а по отличительным свойствам, служащим к знанию ипостасей, вера в Него делится на веру в Отца и Сына, и Святаго Духа, неотлучно разделяемых и неслиянно соединяемых. Ибо, когда услышим слово «Отец», дадим в себе место той мысли, что имя сие не только само в себе разумеется, но означает собою и отношение к Сыну, потому что Отец не был бы умопредставляем отдельно Сам по Себе, если бы с произнесением слова «Отец» не соединялось с ним понятие о Сыне. Посему, познав Отца сим самым словом научены мы и вере в Сына. Посему, так как Божество по естеству, что Оно есть и как Оно есть, таково же точно и всегда, не когда–либо стало тем, что Оно теперь и не будет когда–либо чем–то таким, чем не есть теперь, Отцом же наименован в Писании истинный Отец, а вместе с Отцом является и Сын, то необходимо веруем, что, не допуская никакого превращения или изменения в естестве, чем Он теперь, тем непременно был и всегда; или если когда не был чем, то непременно не есть тем и теперь. Посему, так как истинное Слово именует Отцом, то всегда непременно и был Отцом, и есть, и будет, как был. О Божием и пречистом естестве не позволительно сказать, что Оно не всегда прекрасно. Ибо если не всегда было тем, что Оно теперь, то, конечно, превратилось или из лучшего в худшее или из худшего — в лучшее. Но равно нечестиво в этом то и другое, что ни будет сказано о Божием естестве. Божество не допускает превращения и изменения. Все, что есть прекрасного и доброго, всегда умопредставляется в источнике прекрасного. Прекрасен же и выше всего прекрасного «Единородный» Бог, «Сый в лоне Отчи» (Ин. 1:18). А «Сый в лоне» — не рожденный ли?
2. Итак, доказано этим, что Сын — в Отце, в Котором Он от вечности умопредставляется жизнью, светом, истиною, всяким добрым наименованием и всякою доброю мыслью, а все сие таково, что утверждать, будто бы Отец существует иногда без этого, Сам по Себе, — есть признак крайнего нечестия и вместе безумия. Ибо если Сын, как говорит Писание, есть сила Божия, премудрость, истина, свет, святость мир, жизнь и подобное сему, то прежде бытия Сына, которое отрицать угодно еретикам, конечно, и сего не было у Отца. А если сего не было, то, без сомнения, не имеющим таковых благ признают Отчее лоно. Посему, чтобы и Отец не был представляем лишенным своих благ, и учение не впало в сию несообразность, по слову Владыки, с вечностью Отца необходимо умопредставляется и вера в Сына. Почему все именования, употребляемые для показания превысшего естества, отлагаются в сторону, предлагается же нашей вере, как всего яснее показующее истину, название Отца, которое, по сказанному, в относительном смысле показует вместе с собою и Сына. А как Сын, Который в Отце, по сказанному в предыдущих словах, всегда есть то, что Он есть, потому что Божество по естеству не допускает приращения до большего и вне себя не усматривает какого–либо иного блага, по причастии которого приобрело бы большее, но всегда одинаковый, не отмещет того, что имеет, и не приемлет, чего не имеет, да и не имеет ничего отметного, и если что блаженно, пречисто и истинно благо, то непременно уже и окрест Его и в Нем; необходимо посему видим, что не вследствие приобретения присущ Ему Дух благой и Святый, Дух правый, владычный, животворящий, содержащий и освящающий всю тварь, Который «вся и во всех» действует, «якоже хощет» (1 Кор. 12:6; 12:11), так что невозможно и представить какого–либо промежутка между помазанником и помазанием или между царем и царством, или между премудростью и духом премудрости, или между истиною и духом истины, или между силою и духом силы, но как в Отце от вечности умопредставляется Сын, Который есть премудрость и истина, и совет, и крепость, и ведение, и разум, так и в Сыне от вечности умопредставляется Дух Святый, Который есть Дух премудрости и истины, и совета, и разума, и все прочее, чем есть и именуется Сын. Посему–то говорим, что соединенно и вместе раздельно предана святым ученикам сия тайна благочестия, а именно: что должно веровать во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Ибо особенность Ипостасей ясною и неслиянною делает раздельность Лиц. Одно же имя, поставленное в изложении веры, ясно объясняет нам единство сущности Лиц, в Которые веруем, разумею Отца и Сына, и Духа Святаго. Ибо по сим названиям дознаем не разность естества, но одни свойства, служащие к познанию ипостасей, по которым знаем, что Отец — не Сын, и Сын — не Отец, или Отец или Дух Святый — не Сын, но каждое Лицо познается по особой отличительной черте ипостаси, в неопределимом совершенстве само по себе представляемое и не отделяемое от Лица, с Ним соединенного.
3. Посему что же значит непоименованное имя, о котором Господь, сказав: «крестяще их во имя», не присовокупил того самого слова, которым бы показывалось значение имени? Мы имеем о нем следующее понятие, все, существующее в твари, постигается по значению имен. Кто скажет «небо», тот разумение слышащего приводит к твари, сим именем означаемой, и о человеке или каком–либо живом существе упомянувший по имени немедленно в слышащем отпечатлевает образ существа, а также и все прочее приданным вещи именем живописуется в сердце того, кто посредством слуха принял в себя название, какое имеет вещь. Но одно несозданное естество, в которое веруем в Отце и Сыне, и Духе Святом, выше всякого в имени заключенного значения. Посему–то Слово, когда научило вере изрекши имя, не присовокупило, какое это имя. Да и как нашлось бы имя тому, что выше всякого имени? Но нам предоставлена власть, сколько достанет сил у нашего благочестно подвигнутого разумения найти какое–либо имя, указующее на превысшее естество, и одинаково приложит оное к Отцу и Сыну, и Святому Духу, будет ли сим именем благой или нетленный, что только признает каждый достойным того, чтобы взять оное для указания пречистого естества. И сим изложением, кажется мне, законополагает Слово, что должно нам убедиться в неизреченности и непостижимости Божией сущности. Ибо ясно, что название «Отец» не сущность выражает, но означает отношение к Сыну. Посему, если бы можно было человеческому естеству познать сущность Божию, то, Иже «всем человеком хощет спастися, и в разум истины прийти» (1 Тим. 2:4), не умолчал бы о ведении сего. Теперь же тем самым, что не сказал ничего о сущности, показывает, что ведение оной невозможно, но дознав, что вместимо для нас, не имеем нужды в невместимом, достаточною для спасения своего имея веру в преданное учение. Ибо совершеннейшее учение благочестия дознать, что Он есть действительно Сущий, — Тот, в Ком по относительному понятию открывается величие Сына, — Сына, Который, как сказано, в единении с Собою показует Духа жизни и истинного, потому что Сам есть и жизнь и истина.
Представив сие в такой раздельности и предавая анафеме всякое еретическое предположение в божественных догматах, веруем, как научены Словом Господним, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, исповедуя с сею верою и домостроительство, совершенное в роде человеческом Владыкою твари, «Иже во образе Божии сый, не восхищением непщева быти равен Богу: По Себе умалил, зрак раба приим» (Флп. 2:6–7), и воплотившись в святой Деве, искупил нас от смерти, которою держими бехом проданные под грех (Рим. 7:6; 7:14), взамен на искупление душ наших дав драгоценную кровь вою, которую излил, претерпев крест и самим Собою проложив нам путь воскресению из мертвых. Ибо в свое время во славе Отца придет судить всякую душу по правде, когда «вси сущии во гробех услышат глас Его, И изыдут сотворшии благая в воскрешение живота: а сотворшии злая, в воскрешение суда» (Ин. 5:28–29). Почему, чтобы еретическое разногласие, рассеваемое ныне Евномием, кем–либо из людей простых будучи принято без расследования, не повредило в нем чистоты веры, по необходимости предложив здесь распространяемое еретиками изложение, попытаемся обличить негодность их учения.
4. Учение их читается так: «Веруем в единого и единственного истинного Бога, по учению самого Господа, не лживым словом чествуя Его потому что Он не лжив, но как действительно по естеству и по славе сущего единого Бога, безначально, вечно, бесконечно единственного». Кто обещал веровать по учению Господа, тот изложения веры, сделанного Владыкою всяческих, да не извращает в другое, ему самому угодное, но да последует глаголам истины. Посему, когда там учение веры содержит в себе имя Отца и Сына, и Святаго Духа, какое согласие с глаголами Владыки имеет сочиненное ныне, так чтобы с их учением сравнивать такой догмат? Где в Евангелиях сказал Господь, что должно веровать в одного и единственного истинного Бога? Не указать им сего, разве есть у них какое–либо новое Евангелие. Ибо какие издревле и до ныне по преемству читаются в церквах, в тех нет сего изречения, в котором говорится, что должно веровать или крестить в единого и единственного истинного Бога, как говорят еретики, а, напротив того, говорится: во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Мы же, как научены Владычним словом, утверждаем, что слово «единый» не Отца только означает, но вместе с Отцом показует и Сына, потому что Господь сказал так: «Аз и Отец едино есьма» (Ин. 10:30). Подобно сему и имя «Божество» одинаково придается и началу, в котором Слово, и Слову сущему в начале; ибо Господь сказал: «и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово» (Ин. 1:1), так что в означаемом именем «Божество», вместе с Отцом одинаково умопредставляется и Сын. Сверх же сего и слово «истинный» не может быть разумеемо о чем–либо ином, кроме истины. А что Господь — истина, никто, без сомнения, не будет сему противоречить, если не чужд он истины. Посему, если Слово в едином, и Оно есть Бог и истина, как проповедуется в Евангелиях, то с каким учением Господа может быть сравнен догмат употребившим эти отличительные речения? Ибо отличение единственного от неединственного есть то же, что и отличение Бога от не Бога и истинного от неистинного. Посему, если, имея в виду идолов, в отношении к ним делают сие разделение речений, то с этим согласны и мы, потому что имя «Божество» по одноименности придается и языческим идолам. Ибо «еси бози язык бесове» (Пс. 95:5). И еще Писание отличает единственного от множества и истинного от ложного, и не сущих богов от сущего Бога. Если же делается отличение от Единородного Бога, то пусть знают мудрецы, что истина имеет отличие от одной только лжи, и Бог отличен от не сущего Бога. А в догмате о Господе, Который есть истина сущего Бога, сущем в Отце и сущем едино с Отцом, отличительные сии речения не имеют места. Ибо действительно верующий в Единого в Едином видит и соединенного с Ним во всех отношениях истиною, Божеством, сущностью, жизнью, премудростью, одним словом, всем. Или, если не видит в Едином Того, Кто есть все сие, то вера его ни во что, потому что Отец без Сына не Отец и не называется Отцом, как и без силы не силен и без премудрости не премудр, ибо Христос — Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1:24). Посему вне силы или истины, или премудрости, или жизни, или истинного света мечтающий видеть или ничего не видит, или непременно видит зло. Ибо отъятие благ делается положением и осуществлением зла. «Не лживым словом чествуя Его, потому что Он не лжив», — говорит Евномий. Сим–то словом умоляю его пребывать свидетельствующим об Истине, что Она не лжива.
Ибо если будет держаться такого образа мыслей, что все, сказуемое Господом, далеко от лжи, то убедится, конечно, что истинствует Сказавший: «Аз во Отце, и Отец во Мне» (Ин. 14:11), без сомнения же, целый в целом, так что ни Отец в Сыне не имеет избытка, ни Сын в Отце не умаляется; и Сыну так надлежит быть чтимым, «якоже чтут Отца» (Ин. 5:23). Истинствует Сказавший: «видевый Мене виде Отца» (Ин. 14:9), и что «никтоже знает Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо Сын» (Мф. 11:27). Вследствие всего этого принявшими изречения сии как истинные не предполагается никакого различия у Отца и Сына ни в славе, ни в сущности, ни в чем–либо ином. «Действительно по естеству и по славе сущего единого Бога», — говорит Евномий. Действительно сущее отличается от не действительно сущего. Действительно же сущим есть каждое из существ, поколику оно существует. А что, хотя в каком–то призраке и предположении кажется имеющим бытие, однако же не имеет, то не существует действительно, как, например, сонная греза, привидение или человек, изображенный на картине. Сии и подобные сим призрачные существа не имеют действительного бытия. Посему, если утверждают согласно с иудейским понятием, что Единородный Бог вовсе не существует, то хорошо делают, об одном Отце свидетельствуя, что Ему только действительно принадлежит бытие. Но если не отрицают, что существует и Творец вселенной, то пусть убедятся действительного бытия не лишат сего Сущего, Который при богоявлении, бывшем Моисею, Сам Себя наименовал сущим, сказав: «Аз есмь Сый» (Исх. 3:14), как Евномий соглашается с сим в следующих словах, говоря, что Он есть явившийся Моисею. Потом называет Отца «по естеству и по славе единым Богом». Посему, если возможно, чтобы был Бог, не будучи Богом по естеству, то пусть и ведает Его утверждающий это. А если не Бог, Кто не Бог по естеству, то пусть дознают от великого Павла, что служащие «не по естеству сущим богом» не Богу служат (Гал. 4:8). Мы же, как говорит Апостол, работаем Богу «живу и истинну» (1 Фес. 1:9); Тот, Кому служим, есть Иисус Христос. Ибо служением Ему хвалился и Апостол Павел, говоря: «Павел раб Иисус Христов» (Рим. 1:1). Посему мы, не служащие уже не сущим по естеству богам, познали сущего по естеству Бога, Которому «всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних» (Флп. 2:10). Но не служили бы, если бы не уверовали, что Он есть живой и истинный Бог, о Котором «всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца» (Флп. 2:11).
Бога единого, говорит Евномий, безначально, вечно, бесконечно единственного. Еще «уразумейте, незлобивии, коварство», говорит Соломон (Притч. 8:5), чтобы не обольститься вам никогда и не впасть в отрицание Божества Единородного. Не допускающее до себя смерти и тления бесконечно. А также и вечным называется не временное. Посему, что не вечно и не бесконечно, то умопредставляется непременно в естестве тленном и временном. Поэтому кто бесконечность усвояет единому и единственному Богу, значения же бесконечности и вечности не распространяет и на Сына, тот подобным сему оборотом речи доказывает, что Сын, отличаемый от вечного и бесконечного, тленен и временен. Но мы, когда услышим, что Бог «един имеет бессмертие» (1 Тим. 6:16), под бессмертием разумеем Сына, потому что жизнь есть бессмертие. И когда говорится, что Бог «во свете живет неприступным», опять под истинным светом, который не доступен лжи, не сомневаемся, разумеет Единородного, в Котором Отец, как дознали мы от самой Истины. Слушатель же пусть сам изберет из сего, что более благочестиво, — по сказанному ли теперь боголепно славословить Единородного или утверждать, что Он тленен и временен, как толкует ересь. «Что до сущности, по которой Бог един, неразделяемого на многих, — продолжает Евномий, — или как иначе не делающегося иным, или не изменяющего образ бытия, какой имеет, и из одной сущности не преобразующегося в троякую Ипостась. Ибо по всему и на всегда есть един, в том же самом и одинаково пребывая единственным». Но в сей предложенной здесь речи разумному слушателю надлежит сперва пустые речения, внесенные в речь без смысла, отличить от тех, которые кажутся имеющими смысл, а после сего рассмотреть смысл сказанного, открывающийся в остальном, согласен ли он с благочестивою мыслью о Христе.
5. Итак, первая часть предложенного вполне далека от всякого и хорошего, и дурного смысла. Ибо, какой смысл в этом: «но что до сущности, по которой Бог един, не разделяемого на многих, или как иначе не делающегося иным, или не изменяющего образ бытия, какой имеет»? И сам Евномий не скажет, а думаю, и никто из поборников его не будет в состоянии найти в сказанном хоть тень какого смысла. «Что до сущности, по которой един, неразделяемого». Говорит ли, что Сам не отделяется от своей сущности или утверждает, что сущность Им не делится; эта не имеющая значения речь есть какой–то шум и пустой напрасно поднятый звон. И какая надобность останавливаться на исследовании сих невразумительных речений? Ибо, кто бы то ни было, как останется в бытии, отделившись от своей сущности? Или как чья–либо сущность, разделившись, показуется сама к себе? Или как возможно исшедшему из того, в чем существует сделаться иным, став вне себя самого? Но «из одной сущности не преобразующегося в три ипостаси», — говорит Евномий. «Ибо по всему и на всегда совершенно есть един, в том же самом и одинаково пребывая единственным». Невразумительное в сказанном явно, думаю, всякому и прежде наших замечаний. Но пусть возражает на них, кто думает, что в предлагаемом есть какая–нибудь мысль или какой–либо смысл. Ибо положивший основательно судить о силе речи не удостоит и заняться тем, что несостоятельно. Да и какую силу против нашего догмата имеет сказанное: «что до сущности, по которой Он един, не разделяемого, или не раздробляемого на многих, или как иначе не делающегося иным или не изменяющего образ бытия, какой имеет, и из одной сущности не преобразующегося в три ипостаси»? Так у христиан не говорят и не веруют, и на мысль не придет сего вследствие исповедуемого нами. Ибо кто когда сказал или слышал сказавшего в церкви Божией, что Отец или отделяет, или делит сущность, или иначе делается иным, выходя сам из Себя, или преобразуется в три ипостаси? Евномий говорит это сам с собою, не с нами препираясь, но оплетая собственные свои бредни и, к нечестию, примешав в сказанном великое неразумие. Ибо равно нечестивым и безбожным называем как Владыку твари признавать сотворенным, так думать, что Отец, поколику Он Отец, делится или рассекается, или Сам из Себя выходит, или в три ипостаси преобразуется, как глина какая или воск, принимая на Себя разные образы.
Но рассмотрим следующие за сим слова. «Ибо по всему и навсегда есть един, в том же самом и одинаково пребывая единственным». Если говорит об Отце, то согласны с этим и мы. Ибо Отец, как и действительно, един, единственный во всем и навсегда, то же самое в той же мере и одинаково имеет, и не есть иногда то, чем дотоле не был и впредь не будет. Посему, если к Отцу относится подобная речь, то Евномий пусть не препирается с догматом благочестия, согласуясь с Церковью в этой части. Ибо кто исповедует, что Отец всегда одинаков, един и единствен, тот подтверждает учение благочестия, в Отце видя Сына, без Которого Отец не Отец и не именуется Отцом. Если же творит иного какого Бога, кроме Отца, то пусть имеет дало с иудеями или с так называемыми ипсистианами, у которых разность с христианами в том, что исповедуют они какого–то Бога, которого именуют высочайшим (υψιστον), или вседержителем, но не признают Его Отцом. Христианин же, если не верует в Отца, уже не христианин.
6. Но что Евномий присовокупляет вслед за сим, состоит в следующем. «Бог, — говорит он, — не имеет сообщника в Божестве, соучастника в славе, соискателя власти, сопрестольника в царстве, потому что Он един и единственный Бог, Вседержитель, Бог богов, Царь царствующих, Господь господствующих». Не знаю, кого имя в виду, свидетельствует Евномий, что Отец не допускает до общения с Собою в Божестве. Если ведет такую речь против суетных идолов и против погрешительного мнения идолослужителей, как и Павел взывает, что нет согласия «Христовы с Велиаром», ни сложения «церкви Божией со идолы» (2 Кор. 6:15–16), то согласны с ним и мы. Если же в сказанных словах Единородного Бога отлучает от Отчего Божества, то пусть знает, что дилемма ему самому готовит обвинение в его нечестии. Ибо или совершенно отрицает, что Единородный Божий есть Бог, чтобы сохранить Отцу несообщимость в Божестве с Сыном, и этим изобличает себя, что он отступник, отрицающийся Бога христианского, или, если согласится, что Он есть Бог, по естеству не сходный с истинным Богом, то, по всей необходимости, признается, что чтит богов, по разности естеств между собою раздельных. Пусть изберет из сего, что угодно ему: или отрицает Божество Сына, или вводит в учение многих богов, — но что ни изберет из сего, равно это нечестиво. А мы, тайноводствуемые богодухновенными словесами Писания, в Отце и Сыне видим не общение, но единство Божества, чему собственным словом Своим научил Владыка, когда сказал: «Аз и Отец едино есьма» (Ин. 10:30), и: «видевый Мене виде Отца» (Ин. 14:9). Ибо если бы не был того же естества, то как или имел бы в Себе чуждое, или показывал бы на Себе неподобное, когда естество стороннее и чуждое не приемлет отличительной черты инородного? Но Евномий говорит, что Бог «не имеет соучастника в славе». А то, как имеет, сказывает, хотя и не знает, что говорит. Ибо Сын не делит славы с Отцом, но имеет всю славу Отца, как и Отец имеет всю славу Сына. Он так говорит Отцу: «Моя вся Твоя суть, и Твоя Моя» (Ин. 17:10). Почему говорит еще, что «в славе Отца» явится и во время суда, когда «воздаст коемуждо по деянием его» (Мф. 16:27). А сими словами показывает единение естества. Ибо как «ина слава солнцу, и ина слава луне» (1 Кор. 15:41), потому что нет сходства в естественных свойствах составных частей их, а если бы слава обоих была одна и та же, то не полагалось бы никакой разности в их природе, так предрекший о Себе, что явится во славе Отца, тождеством славы показал общность естества.
А утверждать, что Сын не сопрестолен с Отцом на царстве, служит свидетельством великой внимательности к божественным словам в Евномий, который, через меру углубившись в богодухновенные Писания, не слыхал еще сказанного: «Горняя мудрствуйте, идеже есть Христос одесную Бога» Отца «седя» (Кол. 3:2; 3:1), и: «одесную же престола Божия седе» (Евр. 12:2) и других подобных сим мест, множество которых нелегко перечислить, и которых не зная еще, Евномий воспрещает Сыну быть сопрестольником Отцовым. Выражение же «соискатель власти» лучше прейти молчанием, как неразумное, нежели изобличать, как нечестивое. Ибо какой смысл имеет речение «соискатель» (συγκληρος), невозможно найти из общего словоупотребления. Об одежде Господней мещут жребий как говорит Писание (Ин. 19:23–24), не захотевшие раздирать хитон Владычний, но пожелавшие сделать оный достоянием одного из них, кому подарит жребий (κληρον). Посему мещущие между собою жребий о хитоне все равно могут быть названы соискателями (συγκληροι). Здесь же идет речь об Отце, и Сыне, и Святом Духе, и власть их в естестве. Ибо Дух Святый, «идеже хощет, дышет» (Ин. 3:8), «вся и во всех» действует, «якоже хощет» (1 Кор. 12:6; 12:11); и Сын, Которым приведены в бытие «всяческая яже на небеси, и яже на земли, видимая и невидимая» (Кол. 1:16), «вся елика восхоте, сотвори» (Пс. 113:2), и «ихже хощет, живит» (Ин. 5:21); и Отец «во Своей власти положи времена» (Деян. 1:7), со временами же и все происшедшее во времени признаем подвластным Отцу. Итак, если, по замеченному, доказано, что творить, что хотят Отец, и Сын, и Святый Дух, в их власти, то какой смысл имеет выражение «соискатель власти»? Невозможно усмотреть это. Ибо наследник «всем» (Евр. 1:2) Создатель веков, со Отцом сияющий славою Его, изображающий в Себе Ипостась Отца, имеет все, что имеет Сам Отец, и есть Господь всякой власти; между тем как достоинство не переносится с Отца на Сына, но остается у одного и есть у другого. Ибо сущий в Отце, без сомнения, в Нем со всею Своею силою, и имеющий в Себе Отца объемлет в Себе всю Отчую власть и силу, потому что имеет в Себе всецелого Отца, а не часть Его, а имя всецелого Отца, без сомнения, имеет и власть Его. Посему, что разумея, Евномий утверждает, что Отец не имеет соискателя власти? Скажут это, может быть, ученики его суетности. Ибо умеющий понимать слова признается, что не в состоянии выразуметь сказанное без смысла. Евномий говорит, что Отец не имеет соискателя власти. Но кто–либо скажет, что Отец и Сын спорят между собою о власти и решают это жребием; но вот священный Евномий, по дружеской снисходительности вступая между Ними в посредство, преимущество власти без жребия уделяет одному Отцу!
Смотрите, сколько смешного и ребяческого в этом не поднимающемся с земли изложении догматов. Кто носит «всяческая глаголом Силы Своея» (Евр. 1:3), Кто изъявит о чем желание, чтобы это произошло, и силою повеления творит, что Ему угодно, у Кого сила сопутственна изволению, и мерою силы служит воля Его, ибо сказано: «Той рече, и быша, Той повеле, и создашася» (Пс. 148:5), Кто сам Собою создал и в себе Самом осуществил все, без Кого ни одно существо не приходило в бытие и не пребывает в бытии, — ужели Тот от какого–либо жребия ожидает, чтобы возыметь Ему власть? Судите, слышащие, состоятелен ли у того ум, кто утверждает это? Единый и единственный есть Бог вседержитель, говорит он. Посему, если именованием «вседержитель» указывает на Отца, то наше, а не чужое излагает учение. Если же, кроме Отца, иного какого разумеет вседержителя то пусть, если угодно, и обрезание проповедует этот поборник иудейских догматов. Ибо вера христианская имеет пред очами Отца. Отец же есть все: Всевышний, Вседержитель, Царь царствующих, Господь господствующих — и все, что близко к высокому значению, принадлежит собственно Отцу. А что принадлежит Отцу, все то принадлежит и Сыну, так что если действительно так разумеет Евномий, то принимаем его слова. Но если, оставив Отца, иного именует вседержителя, то иудейское излагает учение или следует Платоновым положениям. Ибо и этот философ, сказывают, утверждает, что есть некий верховный творец и содетель каких–то низших богов. Посему, тот, кто, держась иудейских и Платоновых учений, не приемлет Отца, не есть христианин, хотя в исповедуемом учении и чтит какого–то вседержителя, так и Евномий обманывает наименованием, иудействуя в своем мудровании или чествуя чтимое еллинами, прикрываясь же именем христианина. Но и об изложенном по порядку вслед за сим будет то же слово. Евномий говорит: «Бог богов», присовокупив имя «Отец», речь сию присвояет себе, зная, что Отец есть Бог богов. А все, принадлежащее Отцу, без сомнения, принадлежит и Сыну. «И Господь господствующих». То же и об этом слово. «И всевышний над всею землею», ибо кого ни представишь мысленно, Он всевышний над всею землею. Подобно надзирают над земным свыше и Отец, и Сын, и Святый Дух. Но что и вслед за сим прилагает Евномий к сказанному: «Всевышний на небесах, всевышний во всевышних, пренебесный, истинно Сущий тем, что Он есть и чем пребывает, истинный в словах, истинный в делах», — все это око христианское равно усматривает в Отце, и Сыне, и Святом Духе. Если же Евномий присвояет это только которому–либо одному из Лиц, исповедуемых по преданию веры, то пусть осмелится назвать не истинным в словах Изрекшего: «Аз есмь путь и истина» (Ин. 14:6), или Духа истины, или пусть не соглашается признать истинным в делах Творящего суд и правду или Духа, действующего «вся во всех, якоже хощет» (1 Кор. 12:6; 12:11). Ибо если не припишет сего исповедуемым по преданию веры Лицам, то совершенно отвергается христианская вера. Ибо как почтет кто достойным веры того, кто лжив в словах и не истинен в делах своих?
Но приступим к продолжению речи. Ибо говорит: «выше всякого начала, подчинения, власти». Наше это учение и собственно принадлежащее вселенской Церкви — веровать, что естество Божие выше всякого начала и имеет в подчинении у себя все умопредставляемое нами в числе существ. Но естество Божие — Отец, и Сын, и Святый Дух. Если же одному Отцу приписывает силу сию, если Его одного признает свободным от превратности и преложения, если Его одного называет пречистым, то очевидно, что сим уготовляется — именно же: Кто не имеет сего, тот непременно превратен, тленен, прелагаем, скорогибнущ. Итак, вот чему учит Евномий о Единородном Боге и о Святом Духе! Не употребил бы он противоположения, отличая тем Отца, если бы не имел сей мысли о Сыне и о Духе. Рассудите наконец, братья, не гонитель ли христианской веры кто держится сего образа мыслей? Ибо кто согласится признать для себя досточтимым превратное, удобопрелагаемое, скорогибнущее? Итак, у доказывающего подобные мнения вся цель — изгнать из Церкви веру в Сына и Святаго Духа, когда доказывает, что не пречисты, не непревратны, не непреложны или Сама Истина, или Дух истины.
7. Посмотрим же, что еще присовокупляет Евномий к сказанному. «Не разделяя в рождении, — говорит он, — собственной своей сущности не один и тот же и рождающий и рождаемый, или не один и тот же делающийся Отцом и Сыном, потому что нетленен». Подобно сему, может быть, что Пророк говорит о нечестивых: «постав паучинный ткут» (Ис. 59:5). Как паутина имеет наружный вид ткани, но под этою наружностью нет самостоятельности, ибо прикасающийся к паутине не касается ничего состоятельного, паутинные нити от прикосновения пальцев пропадают, подобна сему и несостоятельная ткань пустых речений. «Не разделяя в рождении, — говорит, — собственной своей сущности, не один и тот же и рождающий, и рождаемый». Словом ли надлежит назвать сказанное или скорее куском какой–то мокроты, выплевываемой при усилившейся водянке? Ибо что значит — делить в рождении свою сущность, одному и тому же быть и рождающим, и рождаемым? Кто столько расстроен умом, чтобы выговорить слово, с которым, по–видимому, борется Евномий? Церковь верует, что истинный Отец есть истинно Отец Своего, а не чужого Сына, как говорит Апостол, ибо в одном из посланий так сказал решительно: «Иже убо Своего Сына не пощаде» (Рим. 8:32), присовокуплением слова «Своего» отличая от сподобившихся сыноположения по благодати, а не по естеству. Что же говорит охуждающий сие наше предположение? «Не разделяя в рождении сущности Своей, не один и тот же и рождающий, и рождаемый, или не один и тот же делающийся Отцом и Сыном, потому что нетленен». И тот, кто слышит о сущем «в начале Слове», о сущем «Боге Слове», о Слове, исшедшем от Отца, так оскверняет пречистый догмат этими срамными и зловонными мыслями говоря: в рождении не разделяет сущности! Какая мерзость этих гнусных и нечистых понятий! Как же выражающийся подобно этому не разумеет, что Бог, явившийся во плоти, при составлении Своего тела не допустил страсти в человеческом естестве, но «Отроча родися нам» (Ис. 9:6) от Духа Святаго и от силы Вышнего (Лк. 1:35), и Дева не изведала страсти, и Дух не умалился, и сила Вышнего не разделилась? Ибо и Дух всецел, и сила Вышнего пребывает неумаленною, и Отроча родилось всецелым, и нерастленность матери не повреждена; потом плоть без страсти рождена плотию. Но Евномию не угодно, чтобы сияние славы было от самой славы, потому что не умаляется и не делится слава, родившая Свет! И человеческое слово неотделимо от ума рождается им. А Божие Слово если не разделена сущность Отца, не может родиться от Отца! Но кто столько малоумен, чтобы не уразуметь бессмысленности сего учения? «Не разделяя в рождении, — говорит, — собственной своей сущности». Но у кого собственная своя сущность разделяется в рождении? Сущность у людей — естество человеческое, а у бессловесных в родовом понятии — естество бессловесное, в частности же у волов, у овец, у всех бессловесных — естество, представляемое по разностям отличительных свойств. Посему какое из сих существ разделяет собственную свою сущность рождением? У каждого из животных естество рождаемых по преемству не остается ли всегда неизменным? Потом человек, рождая от себя человека, не разделяет естества; напротив того, и в родившем, и в рожденном оно всецело. Не часть отделяется и перемещается от одного к другому, не терпит утраты в одном, когда совершенным делается в другом, — но, все будучи в одном, все также находится и в другом. Ибо человек, прежде нежели родил от себя другого, был живое существо, словесное, смертное, способное обладать разумом и сведениями; и когда родил такого человека, чтобы в нем оказались все отличительный свойства естества, и человек, родивший от себя человека, не теряет бытия, но чем был прежде, тем остается и после, рождением от себя человека ни в чем не умалив своего естества. И, хотя человек рождается от человека, однако же естество рождающего не разделяется.
О Единородном же Боге, сущем «в лоне Отчи», Евномий не соглашается, что бытие Его действительно от Отца, боясь Ипостасью Единородного превратить неизменное естество Отца. Но сказав: «не разделяя сущности в рождении», — присовокупил: «не один и тот же рождающий и рождаемый, или не один и тот же делающийся и Отцом, и Сыном». И думает несвязными речениями лишить твердости истинное слово благочестия или доставить какую–нибудь силу нечестию, не зная, что, чем придумывает доказать нелепое, в этом самом выказывается смыслящим истину. Ибо и мы утверждаем, что имеющий все, принадлежащее собственному Его Отцу, всецело есть это самое, кроме одного: что Он — не Отец; и имеющий все принадлежащее Сыну, показывает в Себе всецелого Сына, кроме одного, что Он — не Сын, так что построение нелепости, каковую построевает ныне Евномий, споборает истине по мере того, как при истолковании евангельского слова мысль о сем представляется нами яснее. Ибо, если увидевший Сына видит Отца, то Отец родил другого Себя, не перестав быть Собою и всецелым являясь в рожденном, так что вследствие сего сказанное, по–видимому, вопреки благочестию, оказалось споборствующим здравому догмату.
«Но не разделяя в рождении собственной своей сущности, — говорит Евномий, — не один и тот же есть и рождающий, и рождаемый, или не один и тот же делающийся и Отцом и Сыном, потому что нетленен». Какое вынужденное заключение! Что говоришь, о мудрейший? Поелику нетленен, то не делит собственной своей сущности, рождая Сына. Не Себя самого рождает, и не сам от Себя рождается, не делается вместе и Отцом, и Сыном самого Себя, потому что нетленен. Следовательно, если кто тленного естества, то он рассекает сущность в рождении, от самого себя рождается, сам себя рождает, один и тот же делается отцом и сыном самого себя, потому что не нетленен. Но если это действительно так, то Авраам, как тленный, не родил Измаила и Исаака, но от рабыни и от законной супруги имел чадом себя самого, или по другому затейливому способу выражаться, разделил на рожденных сущность свою, и сперва при рождении от Агари разделенный на две части, в одной из половин делается Измаилом, а в другой остается половиною Авраама, после же этого остаток Аврамовой сущности разделен на двойное порождение Исаака, так что в каждом из внуков делается восьмая часть. Как же иной, дробя эту восьмую долю, разложит на части в двенадцати патриархах или в семидесяти пяти душах, в числе которых Иаков пришел в Египет? И что говорю это? Обличение неразумия в сказанном начать должно с первого человека. Ибо если одному нетленному свойственно не разделять естества в рождении, тленен же был Адам, которому сказано: «земля еси, и в землю отъидеши» (Быт. 3:19), то, по Евномиеву слову, без сомнения, разделил он сущность свою, усекаемый на рождающихся от него. При множестве же потомков, поелику находимая в каждом доля сущности необходимо разделена по числу рожденных, то сущность Адамова, раздробленная неисчетным тысячам происшедших от Адама в мелких и неделимых оных частицах, истощается прежде, нежели появился на свет Авраам, и не находится уже остатка Адамовой сущности, отделенной Аврааму и его потомкам, потому что в несчетных тысячах оывших прежде него раздроблением на мелкие части доль истрачено естество. Видите неразумие человека, не знающего «ни яже глаголет, ни о нихже утверждает» (1 Тим. 1:7)! Ибо сказав: поелику нетленен, то не делит сущности, не рождает сам Себя, не делается Себе Отцом, — вследствие сего о всем подлежащем тлению дал разуметь, что при рождении происходит то, чего по доказанному им, не бывает у одного нетленного. Но, когда много есть и иного, чем можно доказать пустоту утверждаемого Евномием, думаю, и сказанного достаточно в доказательство неразумия. Без сомнения же, людьми сведущими наперед признано необходимым обращать внимание на последствия. Евномий, одному Отцу приписав нетление, обо всем умопредставляемом после Отца в отличие от нетленного доказывает, что оно тленно, чтобы даже и о Сыне доказать, что Он не свободен от тления. Посему, если Сына отличает от нетленного, то не только определяет, что Он тленен, но доказывает, что принадлежит Ему и иное, чего, по словам Евномия, нет у одного нетленного. Ибо если один Отец ни Себя Самого не рождает, ни Сам от Себя не рождается, то необходимо всему, что не нетленно, и самому себя рождать, и от себя самого рождаться, и одному и тому же делаться и отцом, и сыном самого себя, приспособительно к тому или другому в сущности. Ибо, если Отцу только принадлежит быть нетленным, нетленному же свойственно не быть этим, то, по словам ереси конечно, Сын не нетленен, и непременно есть в Нем все это: то есть и сущность делит, и себя самого рождает, и сам от себя рождается, один и тот же делается Отцом и Сыном самого Себя.
8. Или, может быть, напрасно останавливаться долее над неразумными речами. Перейдем к продолжению слова, ибо Евномий присовокупляет к сему: «при творении не нуждаясь в веществе или частях, или естественных орудиях, потому что ни в чем не имеет нужды». Мысль сию, хотя Евномий буквально выражает ее слабее, не исключаем однако же из учения благочестия, ибо дознав, что «Той рече, и быша, Той повеле, и создашася» (Пс. 148:5), знаем, что Слово — творец веществу, вместе с веществом творящий и качества, так что Ему принадлежит все и прежде всего то, к чему устремлена всемогущая воля: вещество, орудие, место, время, сущность, качество, — все умопредставляемое в твари. Ибо вместе восхотел, чтобы пришло в бытие, чему должно, и этой мысли сопутствовали сила, производящая существа, изволение обращающая в дело. Так о божественной силе любомудрствует в миробытии великий Моисей, каждому повелительному речению приписав сотворение появляющихся в твари существ, ибо говорит: «рече Бог: да будет свет. И быстъ свет» (Быт. 1:3), а также, говоря и о других творениях, Моисей не упомянул ни о веществе, ни о содействии орудий. С этой стороны Евномиево слово не заслуживает охуждения, потому что Бог, творя все, что творением приведено в бытие, для устройства этого не имел нужды ни в каком–либо готовом веществе, ни в орудиях. Не нужна чужая помощь Божией силе и Божией премудрости, а Божия сила и премудрость есть Христос, Им вся «быша, и без Него» нет ни одного из существ, как свидетельствует Иоанн (Ин. 1:3). Посему, если Им приведено в бытие все видимое и невидимое, а для сообщения самостоятельности существам достаточно было одного хотения, потому что хотение есть сила, то Евномий, хотя в слабых выражениях, но наше высказал учение. Ибо носящий «всяческая глаголом силы Своея» (Евр. 1:3) в каком орудии или в каком веществе возымел бы нужду, чтобы всемогущим глаголом носить самостоятельное бытие существ? Но если, чему веруем о Единородном в рассуждении твари, то Евномий доказывает в рассуждении Сына, будто бы Его сотворил Отец подобно тому, как Сыном приведена в бытие тварь, то и теперь повторяем опять сказанное прежде слово, а именно: что таковое мнение есть отрицание Божества Единородного. Ибо великим Павловым словом научены мы, что идолослужителям свойственно воздать чествование и послужить «твари паче Творца» (Рим. 1:25), и Давид говорит: «Не будет тебе бог нов, ниже поклонишися богу чуждему» (Пс. 80:10). Будем же пользоваться сим правилом и указателем в познании достопоклоняемого и останемся убежденными, что действительно быть Богом — значит не быть новым и чуждым. Итак, поелику научены мы веровать, что единородный Бог есть Бог, то веруя, что Он есть Бог, исповедуем вместе, что Он не новый и не чуждый. Посему, если Бог, то не новый; не новый же непременно вечен. Посему не нов вечный, не чужд истинного Божества Сый от Отца, Сый в лоне Отчем, в Себе имеющий Отца. Поэтому, кто отделяет Сына от естества Отчего, тот или вовсе отмещет поклонение, чтобы не поклоняться «Богу чуждему», или чтит идола, тварь, а не Бога избрав для своего поклонения и идолу придав имя Христово.
Что касается до сего разумения Евномиевых предположений об Единородном, то явственнее будет из тех мест, где Евномий излагает мысли свои о самом Единородном именно же следующим образом: «веруем и в Сына Божия, единородного Бога, перворожденного всея твари (Кол. 1:15), Сына истинного, не нерожденного, истинно рожденного прежде веков, именуемого Сыном, не без рождения предшествующего бытию, рожденного прежде всякой твари, не несотворенного». Достаточно, думаю, прочесть только изложенное здесь и без нашего исследования ясно увидеть нечестие учения, ибо, назвав Сына перворожденным, чтобы не оставить слушающих в некотором сомнении, сотворен ли Он или нет, немедленно присовокупил: не несотворенного, — чтобы иначе значение слова «Сын», понятого в обычном ему смысле, не породило в услышавших какого–либо благочестивого о Нем понятия. По этой причине, признав сначала Сыном Божиим и единородным Богом, вскоре потом привносимыми понятиями совращает разум слушающих к еретическому пониманию благочестивого представления, ибо услышавший названия «Сын Божий» и «единородный Бог», руководимый значением сих речений, необходимо возводится к высшим умопредставлениям, так как именем «Бог» и значением слова ын» не привносится никакой мысли о разности естества. Ибо что иное кроме Отчего естества может быть представляемо в Том, Кто действительно Божии есть Сын, и Сам есть Бог? Но, чтобы именами сими в сердцах слушающих не были предварительно напечатлены благочестивые мысли, Евномий немедленно говорит, что Сын перворожден твари, именуется Сыном не до рождения, предшествующего бытию, рожден прежде всей твари, не несотврен; а из сего открывается, что и первые речения злоухищренный предлагает людям вместо приманки, чтобы и яд принят был ими как бы медом каким, подслащенный благочестивыми именованиями. Остановимся на сем ненадолго в слове. Кто не видит, какая разность в значении слов «единородный» и «перворожденный»? Ибо не умопредставляемы ни единородный с братьями, ни первородный без братьев, напротив того, перворожденный не единороден, потому что первороден, конечно в числе братьев, а у единородного нет брата, ибо не будет единородным счисляемый одним из братьев; и еще сверх сего, какой сущности братья перворожденного, такой непременно будет и перворожденный. И словом сим означается не только это, но еще, что от одного и того же имеют бытие и сам перворожденный, и родившийся после Него, и что перворожденный ничего не привносит от Себя к рождению следующих, а сие наводит на мысль лживым признать Иоанново слово, свидетельствующее что «вся Тем быша». Ибо если перворожден, то, без сомнения, с рожденными после него разнится одними только временными преимуществами между тем, как есть другой, кем и ему, и прочим сообщена сила прийти в бытие. Но, чтобы кому из клеветников не подать мысли, будто бы, не принимая богодухновенных изречений, настаиваем в этом, сперва предложим, какое наше разумение сих именований, и потом уже присовокупим для слушателей суждение о лучшем понимании. Великий Павел, зная, что единородный Бог, во всем первенствующий, есть началовождь и виновник всего доброго, свидетельствует о Нем, что не только Им совершено творение существ, но что, поелику древнее сотворение в человеке обветшало и дошло до нетления (Евр. 8:13), как он именует сие, произошла же иная новая тварь о Христе (Гал. 6:15), то и в сем не иной кто предводительствовал, но во всей твари, совершенной у людей Евангелием, Он есть перворожденный. И, чтобы мысль о сем сделалась более ясною, изложим речь в таком порядке. Божественный Апостол четырехкратно упоминает сие речение: однажды сказав так: «перворожден всея твари» (Кол. 1:15); еще: первородный «во многих братиях» (Рим. 8:29); в–третьих: «перворожден из мертвых» (Кол. 1:18), — и после употребляет слово сие отрешенно, не в сопряжении с другими словами, сказав: «Егда же паки вводит Первороднаго во вселенную, глаголет: и да поклонятся Ему вcu Ангели Божии» (Евр. 1:6). Посему, в каком смысле разуметь будем сие имя в других его сопряжениях, тот же самый смысл по справедливости приспособим и к выражению: «перворожден твари» . Ибо, как слово одно и то же, то, по всей необходимости, одно и понятие, им означаемое. Посему как делается первородным во многих братьях? Почему первороден из мертвых? Или это, без сомнения, явно? Поелику мы стали кровью и плотию, как говорит Писание (1 Кор. 15:50), то ради нас соделавшийся нам подобным, приобщившийся плоти и крови, чтобы нас претворить из тления в нетление в рождении свыше водою и духом, сам предшествовал в таковом рождении, собственным своим крещением привлекши Святаго Духа на воду, так что Сам соделался перворожденным всех возрождаемых духовно и наименовал братьями причастников одинанакового с Ним рождения водою и Духом. А поелику должно ему было вложить в естество и силу воскресения из мертвых, то делается еще начатком умерших (1 Кор. 15:20) и перворожденным из мертвых, первый прекративший Собою болезни смертные, чтобы и нам проложить путь к пакибытию от смерти по прекращении Господним воскресением той болезни смертной, которою были мы одержимы. Посему, как участник в бане возрождения делается первородным в братьях и еще, соделав себя начатком воскресения, именуется перворожденным из мертвых, и так во «всех Той первенству» я (Кол. 1:18), после того, как, по словам Апостола, вся «древняя мимоидоша» (2 Кор. 5:17), делается перворожденным новой во Христе твари — человеков, сугубым пакибытием и воскресение, как по святом крещении, так и из мертвых, и в том, и другом став для нас начальником жизни и начатком, и перворожденным. Поэтому перворожденный сей имеет и братьев, о которых говорит Марии: иду «ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17). Ибо сказанным кратко, но вполне изображает цель домостроительства о человеческом роде. Род человеческий, отступив от Бога, работал не сущим по естеству богам, и сущие чадами Божиими стали своими лукавому и лжеименному отцу. Посему «Ходатай Бога и человеков» (1 Тим. 2:5), восприяв на Себя начаток всего естества человеческого, не от Божия, но от нашего лица посылает извещение братьям Своим, говоря: пойду, чтобы Мне самим Собою соделать Отцом вашим истинного Отца, от Которого вы удалились, и чтобы Мне самим Собою соделать Богом вашим истинного Бога, от Которого вы отступили, потому что начатком, который восприял Я на Себя, все человечество привожу в Себе к Богу и Отцу.
Посему, поелику Начаток Богом Своим соделал сущего Бога и Отцом благого Отца, то всему естеству заслужено благое и посредством начатка делается Отцом и Богом всех человеков: «аще ли начаток свят, сказано, то и примешение» (Рим. 11:16). Где начаток Христос (а Христос действительно начаток), там и Христовы, как говорит Апостол (1 Кор. 15:23). Посему, где у Апостола сделано упоминание о слове «перворожденный», поставленном в сопряжении при воспоминании о мертвых, о твари, о братьях, там внушается разуметь сказанное пред сим и подобное сему; но, где говорит без такового присовокупления: «Егда же паки вводит Первороднаго во вселенную, глаголет» (Евр. 1:6), — то присовокупление слова ««паки»« предвозвещает то пришествие Владыки всяческих, которое будет при конце. Ибо как «о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних» (Флп. 2:10), и Сын не имеет человеческого имени, потому что «паче всякого имене», так сказует Апостол, что вся премирная тварь поклонится первородному, так именуемому ради нас, паки входящему во вселенную, «судити имать вселенней в правду, илюдем в правоте» (Пс. 9:9). Так в слове благочестия различается означаемое словами «перворожденный» и «единородный» с сохранением значения, тому и другому из сих имен соответствующего. Но кто имя первородного возводит до предвечного существования, тому как соблюсти понятие единородного? Пусть разумный слушатель рассмотрит сам, возможно ли в именах сих взаимное соглашение, когда ни первородного невозможно представить себе без братьев, ни единородного при братьях. Когда Евангелист сказал: «в начале бе Слово», при сем представляем себе Единородного. А когда присовокупил: «Слово плоть бысть», рождается у нас мысль о Перворожденном. Так слово благочестия пребывает неслитным, каждому из имен сохраняя сродное ему значение, так что в слове «единородный» видим предвечное, а в слове «перворожден твари» — явление предвечного в плоти.
9. Возвратимся опять к буквальному чтению Евномиева слова. «Веруем и в Сына Божия, единородного Бога, перворожденного всей твари, Сына истинного, не нерожденного, истинно рожденного прежде веков». Итак, что Евномий понятие рождения распространяет на означаемое словом «творение», сие явствует из того, что Сына Божия открыто назвал сотворенным, сказав, что Он приведен в бытие и не несотворен. Но чтобы наиболее обнаружились его неосмотрительность и невежество в догматах, отложив жалобы на явную хулу, изложим слово о сем с искусственным неким разбором. Ибо хорошо, кажется мне, будет с тщательнейшим исследованием рассмотреть в слове то самое, что означается речением «рождение». Хотя всякому явно, что имя сие означает бытие от какой–либо причины, и нет, думаю, надобности спорить об этом; однако же, поелику разные бывают отношения состоявшегося от причины, то надлежит, полагаю, уяснить это в слове неким искусственным разбором. Посему в происшедшем от какой–либо причины примечаем следующие разности. Иное происходит от вещества и от искусства, как то: устройство зданий и прочих работ, производимое из пригодного к тому вещества под управлением некоего искусства, делающего, что предложенное вещество достигает особой цели. А иное — от вещества и природы, ибо рождения живых существ одного от другого устрояет природа, совершающая дело свое посредством вещественной самодеятельности в телах. А еще иное — от вещественного истечения, причем и производящее остается тем, что оно есть, и истекающее от него само по себе видимо, как это бывает с солнцем и лучом или с светильником и светлостью, или с благовонными веществами, с мирами и издаваемым ими от себя качеством; ибо вещества сии, сами в себе оставаясь не умаляемыми, в тоже время имеют сопровождающую каждое из них и им издаваемую естественную особенность, например, солнце — луч, светильник — светлость, благовонные вещества — порождаемое ими в воздух благоухание. Есть и другой кроме сих вид рождения, которого причина невещественна и нетелесна, хотя самое рождение ощутительно и совершается с помощью тела, разумею слово, рождающееся от ума, ибо ум, будучи сам в себе нетелесен посредством чувственных орудий рождает слово. Столько разностей в рождениях приметили мы по некоей как бы прирожденной нам способности воззрения.
По таком нашем разборе образов рождения время обратить взор на то, как человеколюбивое домостроительство Святаго Духа, преподавая нам божественные тайны, посредством вместимого для нас научает превышающему всякое слово. Ибо все виды рождения, какие знает человеческий разум, богодухновенное учение берет для изображения неизреченной силы, не принимая с тем вместе телесного значения имен. Когда говорит об устрояющей силе, хотя действование сие называет рождением, потому что слово должно снизойти до малости нашей силы, но вместе не показывает при этом того, что усматривается у нас при сем устроительном рождении, ни места, ни времени, ни заготовления вещества, ни сродства орудий, ни цели для рождаемого, но оставляя сие нам, величественно и возвышенно приписывает Богу приведение в бытие существ, когда говорит: «яко Тойрече, и быша, Той повеле, и создашася» (Пс. 148:5). Опять когда изъясняет неизреченное и превосходящее слово исхождение Единородного от Отца, тогда, поелику нищета человеческая не вмещает в себе превосходящих слово и понятие учений и здесь пользуется нашими названиями, и именует Сыном (это же имя, по нашему обычаю дается существу, рождающемуся от вещества и природы), но как о рождении посредством творения слово Божие, сказав, что оно совершается при посредстве некоего вещества, не указало сущности вещества, места, времени и всего, тому подобного, определив, что есть сила воли Божией; так и здесь, сказав «Сын», оставило все иное, что в дольнем рождении видит человеческое естество, разумею страсти и расположения, содействие времени, потребность места, а прежде всего — вещество, так как без всего этого не совершается естеством рождение дольнее. Поелику же всякая таковая вещественная и пространственная сущность не включается в значение слова «Сын», то остается одно только естество, и поэтому словом Сын объясняется близость и верность указания в Отце на Единородного. И как такового вида рождения не довольно к тому, чтобы произвести в нас достаточное представление о неизреченном исхождении Единородного, то слово Божие к означению богословия Сына и другой вид рождения заимствует от вещественного истечения, и называет Сына «сияние славы» (Евр. 1:39), и «воню мира» (Песн. 1:3), и «пара Божия» (прем. 7:25), чем, по изложенному нами искусственному словозначению рождений, укоренившийся у нас обычай именует вещественное истечение.
Но как в сказанном выше и понятие о рождении твари, и значение слова «сын» не заключали в себе или времени, или вещества, или места или страсти, так и здесь слово Божие, предпочтительно всякому вещественному понятию взяв одно значение сияния или одного из прочих упомянутых образов, боголепно представляющих подобный вид рождения, показывает, что должно по буквальному значению слова «сияние» представлять себе из Него и вместе с Ним. Ибо и «пара, представляет не разлияние какое в воздухе предложенного вещества, и воня» — не перехождение в воздух чего–либо из качества мира, и «сияние» — не истечение солнечного тела, совершающееся посредством лучей; но из всего, как сказано, подобным образом рождения объясняется одно то, что Сын — от Отца и с Ним умопредставляется без всякого расстояния, посредствующего между Отцом и сущим от Отца. Поелику же по великому человеколюбию благодать Святаго Духа домостроительствовала, чтобы многократно сообщаемы нам были божественные умопредставления об Единородном, то Писание присовокупило и остальной вид усматриваемого в рождении, — а именно в рождении от ума и слова. И в этом большую осторожность наблюдает возвышенный Иоанн, чтобы слушатель по бессилию и малодушно не ниспал до обыкновенного понятия о слове и не представил себе Сына звуком исшедшим от Отца. Посему, приписывает Слову бытие по сущности в самом первом и блаженном естестве, так возгласив проповедь: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу» (Ин. 1:1), и Бог — свет и жизнь, и все, чем есть Начало, и Он был. Сей–то способ рождения всего, имеющего бытие от причины, познаваемого обычным для нас образом и святым Писанием представленного в учении о превысшем, в каждом из этого может быть, как и следует, благочестно приемлем к изложению божественных умопредставлений.
Время вникнуть, в каком значении принимается слово «рождение» по Евномиеву учению. «Сына, — говорит он, — истинного, не нерожденного и истинно рожденного прежде веков». О сем злоухищренном соответствии имен в различении Лиц, как приметном всякому, надлежит, думаю, умолчать; ибо кому не известно, что есть противоположность в именах Сына с Отцом и рожденного с нерожденным, а Евномий, умолчав об Отце, противопоставляет Сыну нерожденного. Должно же было, если только заботился он об истине, не извращать относительного соответствия в речи, но сказать: истинного Сына, а не Отца. Таким образом последовательностью речи спасено было бы и благочестие, так как разделением Лиц не было бы разделяемо естество. Но Евномий, изменив истинное и в Писании принятое в употребление имя «Отец», преданное самим словом в учений веры, вместо Отца наименовал Нерожденного, чтобы, лишив Отца естественной, в названии Отца усматриваемой близости к Сыну, поставить в общее отношение ко всему видимому в твари, что равно противопоставляется Нерожденному. «Истинно, — говорит, — рожденного прежде веков». Пусть скажет: кем рожденного? Конечно, если не постыдится истины, ответит: Отцом. Но поелику вечному Отцу не свойственно отнимать вечность у Сына, так как значение имени «Отец», конечно, указует вместе и на Сына, то поэтому Евномий, отринув название «Отец», вводить в речь Нерожденного, потому что означаемое сим именем не имеет отношения к Сыну и общения с Ним; и через это, приучая слушателей вместе с Отцом не умопредставлять Сына, переменою имени дает свободный ход ухищрению, вставкою имени «Нерожденный» пролагая путь нечестью. Ибо, по заповеди Владыки, имеющие веру в Отца, как скоро слышат об Отце, восприемлют умом и мысль о Сыне, потому что ум не проходит никакого промежуточного расстояния между Отцом и Сыном; когда же от имени Отца переходят к названию «Нерожденный», получают одно голое понятие сего имени, научаемые только тому, что Он не рожден, а не тому, что Он и Отец. От сего же у слушающих разумно и при этой мысли вера остается невозмущенною, потому что о несотворенном естестве говорится также «быть нерожденным»; не сотворены же равно Отец, и Сын, и Дух Свитый; ибо всякая тварь, и чувственная, и премирная, как веруют следующие божественному слову, имеет самостоятельное бытие от Отца, и Сына, и Духа Святаго. Кто слышит, что «Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их» (Пс. 32:6), тот не разумеет под Словом речения и под Духом — дыхания, но вследствие сказанного опечатлевает в мысли Бога Слово и Духа Божия. Но одно и то же не может и творить, и быть творимым; напротив того, существа делятся на две части: на творящих и на произведенных, — и одна часть отлична от другой естеством, так что непроизведенное не может быть несотворенным, ни то, которым совершается естество существ произведенных, — сотворенным, Итак, по Владычному изложению веры, уверовавшие во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа равно исповедуют, что ни которое из сих Лиц не сотворено, и означаемое словом «нерожденный» нимало не вредит здравой их вере. Но грубым и необразованным имя сие служит началом совращения от здравого учения, ибо, не понимая истинного значения имени, именно, что слово «нерожденный» значит только «не быть приведенным в бытие», и что не быть приведенным в бытие есть общее свойство всего, что выше твари, и оставив веру в Отца, имя Отца заменили словом «нерожденный». И как, по сказанному, в сем имени не видна Ипостась Единородного, то определяют определенное некое начало бытию Сына, говоря то же, что ныне Евномий присовокупил к сказанному: «не без рождения, предшествующего бытию именуемого, Сыном».
Какое это опять новое помрачение! Не знает разве, что ведет речь о Боге? «В начале сущего и в Отце сущего, и невозможно представить, когда не сущего». Не знает, что говорит, и о ком утверждает, но, как бы пиша родословие кого–либо из людей, что собственно говорится о дольнем естестве, того покушается приложить к Владыке всякого естества. Ибо, например, Измаила не было прежде рождения в бытие, но, конечно, прежде рождения их было, как разумею, временное расстояние. В рассуждении же сияния славы не имеет места ни прежде, ни после. Ибо прежде сияния не было, конечно, и славы, но как скоро есть слава, вместе с нею озаряет, конечно, и сияние, и разлучить одно с другим нет возможности. Невозможно видеть славу отдельно прежде сияния; кто говорит это, тот утверждает, что слава сама по себе темна и слепа, потому что вместе с нею ее озаряет сияние ее. Но в этом и состоит злоухищрение ереси, чтобы тем самым, что представляем и говорим о человеке, единородного Бога устранить от единения с Отцом. Поэтому Евномий говорит: прежде рождения в бытие не был Сыном. Но и «сыны овни», о которых упоминает Пророк (Пс. 28:1), и те не по рождении ли называются сынами? Посему, что разум усматривает в сынах овнов, а именно, что прежде рождения в бытие они не сыны еще овнов, то досточтимый богослов приписывает ныне Творцу веков и всякой твари, Тому, Кто имеет в Себе вечного Отца, умопредставляем нами в вечности Отца, как Сам говорит: «Аз во Отце, и Отец во Мне» (Ин. 14:10). Но неспособные усмотреть злоухищрения в слове и не обученные какому–либо уразумению последовательности мыслей соглашаются на сии несвязные учения, принимая за последовательное, что присовокупляется к сему.
10. Ибо Евномий говорит: «рожденного прежде всей твари», — и, как бы изречения сего недостаточно было к показанию нечестия, помещает хулу в следующем за тем слове, сказав: «не несотворенного». Посему, как же не несотворенного называет истинным Сыном? Ибо если сотворенного надлежит называть истинным Сыном, то, конечно, и небо есть истинный сын, потому что и оно не несотворено. Так и солнце есть истинный сын, и все, что в творении есть малого и великого, без сомнения, достойно названия истинным сыном. Как же созданного называет Единородным? Ибо все созданные, конечно, братья между собою по самому, как разумею, понятию: быть созданным. Кем же и создан? Ибо все, что только приведено в бытие, конечно, приведено Сыном, так свидетельствует Иоанн, говоря: «вся Тем быша» (Ин. 1:3). Поэтому, если, по словам Евномия, и Сын приведен в бытие, то и Он, конечно, состоит в естестве созданных существ. Итак, если все созданное приведено в бытие Словом, Оно же есть одно из существ созданных, то кто столько несмыслен, чтобы не видеть нелепости положения, будто бы, как утверждает новый сей догматовводитель, Владыка твари стал произведением Себя Самого. Евномий же ясно говорит, что Господь, Создатель всей твари, не несотворен. Пусть скажет, откуда у него такая смелость? В каком богодухновенном изречении почерпнута? Какой евангелист, какой апостол изрек подобное сему слово? Какой пророк или законодатель, или патриарх, или иной кто из вдохновенных Святым Духом, и которых речи преданы письмени, был вводителем такового изречения? Отца, и Сына, и Святаго Духа дознали мы в предании веры от самой Истины. Или надлежало веровать, что Сын сотворен? Почему же истина, предающая нам тайну, узаконила веру в Сына, а не в тварь? Почему божественный Апостол, поклоняясь Христу, о служащих твари вместо Творца определенно говорит, что служат они идолам? Или не поклонялся бы сам Апостол, если бы Христос был сотворен, или служащих твари не причислял бы к идолослужителям, чтобы, принося поклонение сотворенному, и самому не быть признанным идолослужителем. Но знал он, что Тот, Кому он поклоняется, есть над всеми Бог, ибо так в слове к римлянам именует Сына (Рим. 9:5). Посему не присвояющие Сыну сущности Отца и называющие Его сотворенным для чего в посмеяние уступают Ему лжеименное название, чуждому истинного Божества восписуя напрасное имя Бога, как Ваалу, или Дагону, или дракону? Поэтому утверждающие, что Он сотворен, пусть или не исповедуют Его Богом, чтобы явно быть иудействующими, или если сотворенного исповедуют Богом, не отрицаются, что они идолослужители. Но, конечно, представят они приточное изречение, в котором сказано: «Господь созда Мя начало путий Своих в дела Своя» (Притч. 8:22).
Чтобы привести сие в возможную ясность, следовало бы изложить пространней; однако же благомыслящим можно передать мысль и не в многих словах. Ибо некоторые, в точности изучавшие божественные Писания, говорят следующее: у евреев не написано: ««созда»« (εκτισε), и в древнейших книгах читали мы вместо ««созда мя»« написано ««стяжа»« (εκτησατο). А творение в приточном и загадочном смысле означает, конечно, раба, ради нас приявшего на Себя «зрак раба» (Флп. 2:7). Но если кто в рассуждении сего места противопоставит нам и преобладающее в церквах чтение, то не отвергаем и слова ««созда»« . Ибо и оно служит к означению раба в приточном смысле, так как вся тварь в работе, по слову Апостола (Рим. 8:21). Потому утверждаем, что и это слово дает благочестивую мысль. Ибо истинно сотворен на последок дней Тот, Кто ради нас соделался подобен нам, Кто, в начале будучи Словом и Богом, после сего стал плотию и человеком, отворено же естество плоти, которую Он воспринял «по всяческим по подобию, разве греха» (Евр. 4:15), но сотворено по Богу, а не по человеку, как выражается Апостол, новым неким образом, а не как обычно у людей. Ибо научены мы, что Духом Святым и силою Вышнего однако же сотворен сей новый человек, облечься в которого повелевает и нам истолкователь неизреченных тайн Павел, двояко называя сие одеяние, то говоря: облекитесь «в нового человека, созданаго по Бог» у (Еф. 4:24), то: «облецытеся Господем нашим Иисус Христом» (Рим. 13:14), ибо в таком случае для нас, облекшихся в Него, делается началом путей спасения Изрекший: «Аз есмь путь» (Ин. 14:6), да сотворит нас делом рук Своих, из худого здания греха претворив опять в собственный Свой образ. Сам же делается для нас и основанием прежде будущего века, по слову Павла, который говорит, что «основания бо инаго никтоже может положити паче лежащаго» (1 Кор. 3:11), «и прежде неже бездны соделати, прежде неже произыти источником вод, прежде неже горам водрузитися, прежде же всех холмов раждает Мя» (Притч. 8:24–25). Каждое из сих выражений, по обычаю приточной речи понятое в переносном смысле может быть приноровлено к Слову. Ибо великий Давид горы Божия именует правдою, а суды — бездною (Пс. 35:7), источниками же — учителей в церквах, говоря: «В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых» (Пс. 67:27), и холмами — незлобие, которое изобразил скаканием агнцев (Пс. 113:6). Посему прежде них рождается в нас ради нас сотворенный человек, чтобы нашло в нас место сотворение и того, что подобно Ему. Но отложить, думаю, надлежит слово о сем, так как для благомыслящих достаточно доказана истина в немногих словах.
Поступим же к следующим словам у Евномия. «В начале сущего, — говорит он, — небезначального». Так–то понимает божественные изречения думающий о себе, что всех превосходит разумением! В начале Сущий, по его толкованию, имеет начало. И не знает он, что, если имеет начало в начале Сущий, то непременно и начало имеет у себя другое начало. Ибо что можно сказать о начале, то по необходимости признает, без сомнения, и о сущем в начале. Как сущее.в начале отделится от начала? Как то, чего не было, представит себе кто–либо прежде того, что было? Что бы кому–либо, возводя мысль свою к умопредставлению начала, простереть ее далее, для сего, без сомнения, представит он, что сущее в начале Слово не может быть отделено от начала, в котором оно, как не начинающее и не перестающее быть в начале. Но никто поэтому да не делит догмата на два начала. Ибо одно, как и действительно, есть начало, в котором неотлучно умопредставляется Слово, по всему состоящее в единении с Отцом. Держась сего образа мыслей, Евномий не даст никакого доступа ереси повредить благочестию новизною имени «нерожденный». Но в изложенном далее слово его походит на хлеб, в котором большая примесь песку. Ибо, к сказанному здраво примешав еретические понятия, делает и пищу негодною ко вкушению по причине примешанного камня. Называет Господа «живою премудростью, действенною истиною, существенною силою, жизнью» — это еще пища, но Евномий влагает в сказанное и яд ереси, ибо, наименовав жизнь рожденною, противопоставлением жизни нарожденной дает разуметь нечто другое и не предполагает действительной жизни — Сына. Потом говорит: «как Сына Божия, животворящего мертвых, «свет истинный», свет просвещающий «всякого человека, грядущаго в мир» (Ин. 1:9), благого и подателя благ». Все это вместо какого–то меда подавая простодушным, под сладостью сих лов скрывает отраву. Ибо немедленно присовокупляет к сказанному тлетворную свою мысль, говоря: «не с Родшим разделившего достоинство и не с другим кем отеческую сущность, но от рождения соделавшегося славным и Господом славы, и приявшим славу от Отца, а не переявшим у Него славу, потому что несообщима слава Вседержителя, как сказал Он: «славы Моея иному не дам» (Ис. 42:8). Вот те смертоносные составы, которые распознаются только упражнявшими чувствилища души.
Смертельный вред их яснее открывается из окончательных слов сказанного. «Приявшим, — говорит он, — славу от Отца, а не переявшим у Него славу, потому что несообщима слава Вседержителя, как сказал Он: «славы Моея иному не дам» ». Кто этот иной, которому, сказал Бог, «славы Моя не дам» ? Хотя Пророк говорит о противнике; однако же Евномий переносит пророчество на Самого Единородного Бога. Пророк, сказав от лица Божия: «славы Моея иному не дам», присовокупил: «ниже добродетелей Моих истуканным» (Ис. 42:8). Поелику люди должное Богу служение и поклонение по обольщению воздавали противнику, в храмах посвященных истуканам чествуя врага Божия, во многих видах представляемого у людей идолами, то врачующий недужных, пожалев о человеческой гибели, какое человеколюбие оказал Он напоследок времен уничтожением идолов, предрек о том устами Пророка, говоря: когда явлена будет истина, тогда слава Моя не будет воздаваема иному и добродетели Мои не будут приписываемы истуканам, потому что люди, познав Мою славу, не станут служить не сущим по естеству богам. Итак, что Пророк от лица Господня говорит о сопротивной деятельности то самое этот богоборец относит к Самому Господу, изрекшему сие через Пророка. Упоминается ли о каком мучителе, что соделался он подобным гонителем веры? Кто навел на эту мысль, будто бы явившийся во плоти для спасения душ наших не истинный Бог, как мы веровали, но противник Богу, в истуканных и в идолах производящий обольщение человеков? Ибо что о сем противнике сказано у Пророка, то Евномий перелагает на единородного Бога, не уразумев того самого, что провещавший это в Пророке есть Сам Единородный, как сам вномий говорит впоследствии, что Он глаголал в пророках.
11. Надобно ли мне рассуждать о сем более? Ибо к той же принадлежит хуле и сказанное перед этим. «И приявшим славу от Отца, сказано у Евномия, а не переявшим у Него славу; потому что несообщима слава Вседержителя Бога» А я, если бы шла речь и о Моисее, прославившемся в служении закону, не так произнес бы подобное сему слово. Моисей, хотя он у себя самого не имел никакой славы, по приятому им от Бога дару, вдруг в славе явился израильтянам. Ибо эта, бывшая у законодателя, слава принадлежала не иному кому, но самому Богу, и ее Господь в Евангелии повелевает искать всем, когда обвиняет поставляющих в великое славу человеческую, и не ищущих славы «от единого Бога» (Ин. 5:44). А тем самым что повелел искать этой от единого Бога славы, обетовал Он, что возможно улучить искомое. Поэтому как же несообщима слава Вседержителева если надобно просить славы, «яже от единаго Бога», и «всяк бо просяй», по Господнему слову «приемлет» (Мф. 7:8)? Но утверждающий о Сиянии славы, что имеет славу прияв, не иное что говорит, а то, что Сияние славы само по себе не славно; потребно же Ему приять славу от другого, чтобы в таком случае и самому со временем стать Господом некоей славы. Посему, где дадим место словам истины, и когда сказуется, что Христос явится в славе Отчей (Флп. 2:11), и еще: «Вся, елика имать Отец, Моя суть» (Ин. 16:15)? Кому должен внимать слушающий? Тому ли, кто говорит, что не причастен Отчей славы Наследник «всем» во Отце (Евр. 1:2), как называет Апостол? Или исповедующему, что все, что имеет Отец, имеет и Он? В числе же всего, без сомнения, заключается и слава. Но Евномий говорит, что несообщима Вседержителева слава. Сего не подтверждают ни Иоиль, ни великий Петр, в речи к иудеям усвоивший себе сие пророческое слово. Ибо от лица Божия говорит и Пророк, и Апостол: «излию от Духа Моего на всяку плоть» (Ис. 44:3; Деян. 2:17). Посему, ужели непоскупившийся на сообщение Духа Своего всякой плоти не сообщает собственной славы своей Единородному Сыну, сущему «в лоне Отчи», имеющему все, что имеет Отец? Или, может быть, скажет кто–нибудь, что Евномий в этом, и не хотя, говорит правду? Ибо о неимеющем у себя славы употребляется в собственном смысле слово «сообщение»; у него обладание начинается не по природе, но со стороны. Где одно и то же естество, там не имеет потребности в сообщающем ему каждый раз Сущий по естеству тем, чем, по нашему верованию, есть Отец. Но лучше сказать о сем яснее и прямее. Какая потребность в славе Отчей Тому, Кто имеет в себе всецелого Отца, не исключая ничего, умопредставляемого в Отце? Да и какое это достоинство Вседержителя, не причастен которого, по Евномиеву утверждению, Сын? Посему пусть скажут «мудри в себе самих и пред собою разумни» (Ис. 5:21), «от земли», как говорит Пророк, глася земные учения свои (Ис. 19:3); однако же все мы, которые поклоняемся Слову и пребываем учениками истины, лучше же сказать, о том молимся, чтоб быть ими, и это слово не оставим необозренным. Ибо знаем, что из всех именований, которыми означается Божество, иные, сами по себе произносимые и умопредставляемые, указуют на величие Божие, а иные придаются деятельностям, и нас и всю тварь превышающим. Ибо когда божественный Апостол говорит: «нетленному, невидимому, единому премудрому Богу» (1 Тим. 1:17) и подобное сему, тогда сими именами указует понятия, представляющие превысшую Силу. Когда же говорится в Писании: милосердый, милостивый, многомилостивый, истинный, Христос, Господь, врач, пастырь, путь, хлеб, источник, царь, творец, создатель, защитник, Тот, Кто над всеми и через всех, Кто все во всех, — сии и подобные сим именования заключают в себе означение действий в твари Божия человеколюбия. Посему имя «Вседержитель» точные исследователи находят не иное что означающим в рассуждении божественной силы, как следующее: словом «Вседержитель» показывается, какая и к чему относится деятельность, державствующая над видимым в твари. Как не был бы врачом, если бы не нужно то было для больных, не именовался бы милосердым и милостивым и подобными сему именами, если бы не было имеющего нужду в милосердии и милости, так не был бы и вседержителем, если бы вся тварь не имела потребности в содержащем и соблюдающем ее в бытии. Посему, как врачом бывает для нуждающегося во врачевании, так и вседержителем — для требующих поддержки. Как во враче имеют потребность не здоровые, но чувствующие себя худо, так на сем основании справедливо можно сказать, что и в поддерживающем нет потребности Тому, в Ком естество непогрешительно и неизменно. Посему, когда услышим слово «Вседержитель», будем разуметь, что все, и мысленное, и вещественное по естеству, содержит в бытии Бог. Ибо для этого содержит «круг земли» (Ис. 40:22), для этого имеет «вруце Его вси концы земли» (Пс. 94:4), для этого объемлет «небо пядию», для этого измеряет «горстию воду» (Ис. 40:12), для этого всю умную тварь в Себе содержит, чтобы все содержимое всеобъемлющею силою пребывало в бытии.
Посему исследуем, кто есть действующий «вся во всех» (1 Кор. 12:7)? Кто все сотворил, и ни одно существо не пришло в бытие без Него? Кто есть Тот, в Ком все создано и в Ком имеют пребывание все существа? О Ком «живем и движемся и есьмы» (Деян. 17:28)? Кто имеющий в Себе все, что имеет Отец? Ужели не узнаем еще по сказанному сущего над всеми Бога, так именуемого у Павла (Рим. 9:5), Господа нашего Иисуса Христа, Который, имея в руке все принадлежащее Отцу, как Сам говорит, без сомнения, много вмещающею Своею дланью объял все и содержит объемлемое, и никто не возьмет из руки Его, содержащего рукою все? Посему, если се имеет, а что имеет, то содержит, конечно, Содержащий все не иной Кто, как Вседержитель? Если же ересь скажет, что Отец содержит и Сына, и Духа, то пусть сперва покажут, что Сын и Дух Святый изменяемого естества, и тогда уже к превратному приставляют Содержащего, чтобы при помощи, подаваемой свыше, содержимое пребывало непреклонным к злу. Если же естество Божие недоступно пороку, непревратно, неизменно, всегда одинаково — на что ему потребуется Содержащий? Оно по собственной силе Своей обладает всею тварию, само же не имеет нужды в содержащем по своей непревратности. Поэтому о имени Христове «всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних» (Флп. 2:10). Ибо не поклонилось бы, если бы не познало несомненно, что Он содержит во спасение Сказать еще, что Сын рожден по благости Отца, не иное что значит, как представить Его равночестным последней из тварей. Ибо что не по благости Сотворившего пришло в бытие? Кому вменяется устройство естества человеческого: лукавой силе или благости Творца? Кому — рождение животных, естество растений и прозябаний? Нет ничего такого, что имело бы свое бытие не по благости Сотворившего. Посему что разум усматривает во всех существах, то Евномий по человеколюбию уступает Сыну. А что Сын не делит с Отцом сущность или достоинство, или все сему подобное, что Евномий перечисляет шутя, отвергнуто уже нами в словах об Отце, так как Евномием брошено сие ни к чему и без мысли, потому что разделения сущности не бывает и у нас, рождаемых друг от друга. В каждом, в рожденном и в родившем, мера сущности остается целою; ни в рождающем умаления, ни в рождаемом приращения не приемлет мера сущности. Разделение же достоинства или царства имеющим все, что у Отца, не содержит в себе никакой мысли и служит только обличением нечестия. Поэтому излишним будет делом до безмерности продолжать речь, толкуя о подобном сему.
Поступим же к последующему за сим. Евномий говорит: «прежде веков прославленного у Отца». Доказано учение истины, поддерживаемое свидетельством врагов. Ибо главизна нашей веры в том, что Сын от вечности прославляется у Отца. А выражение «прежде веков», по понятию одно и то же со словом «в вечности»; так пророчество толкует нам вечность Божию, когда говорит: «Сый прежде век» (Пс. 54:20). Посему, если быть прежде веков значит быть вне всякого начала, то усвоивший Сыну предвечную славу гораздо прежде засвидетельствовал этим о бытии Его от вечности. Ибо прославляется, без сомнения, не то, чего нет, но что существует. После же сего Евномий полагает себе семена хулы на Духа Святаго, не для того, чтобы Сына прославить, но чтобы поругать Духа Святаго; ибо, намереваясь доказать, что Дух Святый есть часть ангельской силы, прибавил это, сказав: «прославляемого в век Духом и всякою разумною и рожденною сущностью»; так что у Духа Святаго нет никакой разности со всем сотворенным, если только Дух Святый так прославляет Господа, как и все иное, перечисляемое Пророком: «ангели, силы, небеса небес», премирная «вода», все, что «от земли, змиеве, бездны, огнь, град, снег, голоть, дух бурен, горы и еси холми, древа плодоносна и еси кедри, зверие и еси скоти, гади и птицы пернаты» (Пс. 148:2–4; 148:7–10). Посему, если Евномий говорит, что с сими славит Господа и Дух Святый, то богоборный язык утверждает, что и Он, без сомнения, в том же состоит числе.
А что приложено далее без связи с этим, о том, рассуждаю, не должно (что и хорошо будет) и распространяться, не потому, что сие ни в чем не укоризненно, но потому что может быть читаемо и благочестивыми, если только не будет сопряжено с злонамеренными намеками. Ибо у Евномия, если и прилагается что, относящееся к благочестию, то все подобное сему предлагается простодушным вместо приманки, чтобы вместе с этим поглощена была и уда нечестия. Сказав нечто такое, что можно было бы сказать и принадлежащему к церкви, присовокупляет он: «послушлив в создании и приведении в бытие существ, послушлив во всяком распоряжении, не вследствие послушания восприяв то, чтоб Ему быть Сыном — Богом, но потому, что Сын и родился единородным Богом, соделавшись послушливым в словах, послушливым в делах». И кто из занимавшихся Божиим словом не знает, когда сказано у великого Павла, и притом однажды, о Сыне, что «послушлив» был? Когда пришел исполнить крестную тайну, истощив Себя в рабьем зраке и смирив Себя «в подобии человечестем, и образом обретеся якоже человек» в смиренном естестве человеческом, тогда бывает «послушлив» (Флп. 2:7–8), и наши восприяв на Себя немощи, наши понесши болезни, преслушание человеческое врачуя собственным Своим послушанием, чтобы Его язвою исцелен был наш струп, и собственною Своею смертью уничтожить Ему общую смерть человеков; тогда ради нас бывает послушлив, как по домостроительству о нас соделался грехом (2 Кор. 5:21) и клятвою (Гал. 3:13), не по естеству будучи этим, но делаясь по человеколюбию. Но из какого писания Евномий узнал этот список послушаний? Вопреки сему все богодухновенное Писание приписывает Ему полную и самодержавную власть, говоря: «Той рече, и быша, Той повеле, и создашася» (Пс. 148:5). Ибо явно, что Пророк говорит это о Носящем «всяческая глаголом силы Своея» (Евр. 1:3), Которого власть единым движением воли создала всякую сущность, всякое естество, все умопредставляемое и видимое в твари. Поэтому чем подвигнутый Евномий Царю твари в тысячи видах жалует послушание, называя послушливым во всяком создании, послушливым во всяком распоряжении, послушливым в словах и делах, хотя таково положение известное всякому: послушливым другому в словах и делах бывает тот один, кто не приобрел еще себе навыка соблюдать в делах точность и в словах непогрешительность, но, смотря на своего учителя и руководителя, по его урокам учится точности в словах и делах. Но думать, что Премудрость имеет нужду в приставнике и учителе, который бы в соблюдении порядка или справедливости направлял ее, к чему должно, свойственно Евномиевой только сообразительности. И об Отце он говорит, что верен в словах и верен в делах; Сыну же не приписал верности в делаемом и сказуемом, но определил быть Ему послушливым, а неверным в словах чтобы во всем, что говорит, хула на Сына была равная. Странность же и невразумительность вставленных между сим речений прилично, может быть, прейти молчанием, чтобы кто по неосмотрительности не стал смеяться пустословию, когда плакать должно о гибели самих душ, а не смеяться странности слов. Ибо мудрый и осмотрительный этот учитель говорит: «не вследствие послушания восприемлет он, чтоб быть ему Сыном». Какая тонкость ума! Как необходимо было сказать нам об этом определенно! Не прежде стал Он послушливым, а потом и Сыном, не надобно думать, что послушливость старше Его рождения. А если бы Евномий не определил нам этого наперед, кто был бы столько глуп и прост, что подумал бы, будто и рождение в награду за послушание дано Отцом Ему, до рождения еще показавшему благопокорность и послушливость? Но чтобы неразумием сказанного не был кто тотчас же вовлечен в смех, пусть размыслит, что в этой странной речи есть нечто и достойное слез. Ибо Евномию угодно привести этим к такой мысли, будто бы послушание — естество Сына, так что, если бы и хотел, не может сделаться непослушным.
12. Ибо таким уготован Сын, говорит Евномий, «чтобы естество Его было способно только к послушанию», как и орудие, получившее наружный вид для какого–нибудь изображения, по необходимости на веществе, подлежащем его действию, изображает этот вид, какой при уготовлении орудия придал ему медник, но невозможно ему на приемлющем след его веществе или произвести прямую черту, если действование его будет по окружности, или показать в изображении круг, если наружный вид орудия пригоден для изображения прямой черты. Но сколько хульного в этой мысли, надобно ли открывать в нашем слове, когда еретическое слово само вопиет о нелепости? Если послушлив потому, что таким рожден, то, без сомнения, не равняется и с естеством человеческим. У нас душа свободна и не имеет над собою властелина, самовластно на свободе избирая вожделеваемое. А связанный необходимостью естества всегда действует из послушания, лучше же сказать, страждет от послушания, потому что, если бы и не хотел сего сделать, не дозволяет естество. Вследствие того, что Сын и родился так, стал Он послушливым в словах и послушливым в делах. Какое малосмысленное учение! Слову послушным делаешь Слово, и прежде сущего Слова примышляешь иные Слова, и в начале сущему Слову посредником служит другое Слово, сообщающее Ему изволение начала. И не одно Слово сие, напротив того, многие некие Слова, вставленные Евномием среди начала, и Слова, и в угодность себе пользующиеся послушливостыо Его. Но какая надобность тратить время над этою пустотою сказанного Евномием? Ибо всякому явно, что когда Павел сказал о Сыне, что соделался послушлив, слово «соделался» употребил в таком же смысле, как и говоря о Нем, что ради нас стал плотию и рабом, клятвою и грехом, и что тогда Господь славы, о «срамоте» не радевший (Евр. 12:2) и приявший страдание плотью (1 Пет. 4:1), не лишил Себя полновластия, говоря: «разорите церковь сию, и треми деньми воздвигну ю» (Ин. 2:19), и еще: «никто же возьмет душу Мою от Мене: область имам положити ю, и область имам паки прияти ю» (Ин. 10:18). И когда в ночь перед страданием приближались к Нему вооруженные мечами и дрекольми, всех их обратил вспять, сказав: «Аз есмъ» (Ин. 18:6). И еще когда разбойник просил помянуть его, показал власть Свою над всем словами: «днесь со Мною будеши в раи» (Лк. 23:43). Посему, если во время страдания не слагает с Себя власти, когда же ересь видит Царя славы подвластным? Да и что это за многообразное ходатайство, которое провозглашает в Боге, называя ходатаем в учениях, ходатаем в законе? Не этому обучены мы высоким словом Апостола, который говорит, что «закон заповедей ученьми упразднив» (Еф. 2:15), Он есть Ходатай Бога и человеков. Сказав это изречение: «Един бо есть Бог, и един Ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5), Апостол открыл здесь нам всю цель таинства, заключив ее в слове «ходатай». А цель следующая: человечество по злобе сопротивника стало некогда отступником, поработившись греху и соделавшись чуждым действительной жизни. После сего снова призывает к Себе тварь Свою Господь твари и делается человеком, будучи вместе Богом, и Богом будучи всецело, и человеком делаясь всецело; и таким образом человечество срастворено было Богом, когда совершил ходатайство человек во Христе, в Котором от воспринятого у нас начатка все смешение срастворилось силою. Посему, так как Ходатай не возможен при одном, а Бог один и неразделен в Лицах, о Которых предано нам верою, ибо одно Божество в Отце, Сыне и Духе Святом, то Ходатаем Бога и человеков однажды навсегда делается Господь, Собою сопрягая человека с Божеством. Но и понятием о Ходатае научены мы благочестивому учению веры. Ибо Ходатай Бога и человеков, как вступил в общение с естеством человеческим, соделавшись не мнимым, но Действительным человеком, так, и будучи истинным Богом, не одним именованием только почтен Божества, как это угодно Евномию.
А что прилагает он к сказанному, то отличается тем же скудоумием, вернее же сказать, — злоумием. Ибо, назвав Сыном Того, о Ком в сказанном незадолго перед тем ясно утверждал, что Он сотворен, и наименовав единородным Богом, Кого причислял к прочим посредством творения приведенным в бытие, сказал, что Он «один подобен Родшему преимущественным подобием в особом смысле сего слова». Посему надлежит сперва разобрать значение слова «подобный», в каких случаях употребляется оно по обычаю неточно, а потом уже приступить к исследованию предложенного. Ибо, во–первых, все те вещи, которые обманывают наши чувства, не по природе будучи между собою теми же, но от чего–нибудь сопровождающего, разумею очертание, цвет, звук и все, что вкусом, обонянием, прикосновением приводит к ложному заключению, хотя иное они по природе но не такими почитаются, каковы они по природе, — все эти вещи обычай называет подобными. Например, когда неодушевленному веществу придано подобие живого существа искусством, резьбою, живописью, лепленьем, подражание называется подобным первообразу. Ибо здесь иное естество животного, а иное у того, что обманывает зрение одним цветом и очертанием. Того же рода подобие имеет изображение в зеркале, которое представляет ясные черты первообразного вида, не будучи однако по естеству тем, что есть первообраз. Так же и слух может в равной мере подвергнуться этому, когда кто, собственным своим голосом подражая пенью соловья, уверит слух в том, что слушает он птицу. В подобное же обольщение впадает и вкус, когда сок из винных ягод представляется имеющим приятность меда, потому что в соке этого плода есть некоторое сходство со сладостью меда. Так иногда и обонянию можно обмануться подобием, когда запах травы ромашки, сходный с благоуханием самого благовонного яблока, обманывает чувство. А таким же образом в разных случаях подобие и для осязания ложно показывает истину. Ибо серебряная или медная монета, равная с золотою по величине и по весу имеющая с нею сходство, признается за золотую, потому что зрение не разбирает истины.
Сие сказано вообще в кратких словах о случаях, в которых производится в чувствилищах ложное представление по какому–нибудь подобию и вещь признается чем–то иным, а не тем, что она в действительности. Но по тщательнейшем исследовании можно распространить слово и на такие вещи, которые разнородны между собою, но по чему–нибудь, сопровождающему их, почитаются одна другой подобными. Ужели же Евномий такой род подобия приписывает Сыну? Но не дойдет он до такой меры тупоумия, чтобы видеть обманчивое подобие в истине. Еще иному подобию научены мы в богодухновенном Писании Изрекшим: «сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1:26). Но не думаю, чтобы Евномий сей род подобия видел в Сыне и Отце, и тем единородного Бога признавал за одно и то же с человеком. Знаем и другой род подобия, какой Писание в книге миробытия приписывает Сифу, а именно, что Адам «роди» Сифа «по виду своему» и по подобию (Быт. 5:3); и если бы о сем подобии говорил Евномий, не отринули бы слова сего и мы, потому что здесь и естество друг другу уподобляемых не разное, и отличительное их свойство и вид имеют между собою общение. Сие–то и подобное сему уразумели мы касательно разностей подобного. Посему посмотрим, что имея в виду, Евномий свидетельствует о преимущественном оном подобии Сына Отцу, говоря: «один подобен Родшему преимущественным подобием, в особом смысле, не как Отец Отцу, потому что не два Отца». Обещавшись показать преимущественное подобие Сына Отцу, доказывает в слове, что не надлежит представлять Его себе подобным. Ибо сказав, что уподобляется не как Отец Отцу, этим словом привел к мысли, что не уподобляется. И еще присовокупляет: «и не как нерожденный нерожденному», и сим воспрещает думать о подобии Сына Отцу. Потом прибавляя: «ни как Сын Сыну», представил третье понятие, вследствие которого вовсе устраняется мысль о подобии. Итак, Евномий следует собственным своим законам, доказательством подобия делая показание неподобия. Однако же исследуем его мудрость и простоту, какую высказывает в определениях. Ибо сказав, что Сын подобен Отцу, обезопашивает слух и прибавляет: не должно думать, что Сын уподобляется, как Отец Отцу. Кто же из людей столько малоосмыслен, что, дознав о подобии Сына Отцу, увлечется помыслами к подобию Отца Отцу? «Ни как Сын Сыну», — продолжает Евномий. Опять в определении — равной меры тонкость. Сказав, что Сын подобен Отцу, определяет при сем, что не должен быть подобным, как другому Сыну. Вот тайны досточтимых учений Евномия, от которых ученики его делаются премудрейшими других, дознав, что Сын, уподобившись Отцу, не уподобляется Сыну, потому что Сын не Отец, и не уподобляется как нерожденному нерожденный, потому что Сын не нерожденный! А наше таинство, когда нарекает Отца, без сомнения, повелевает разуметь Сыновнего Отца, и когда именует Сына, учит представлять себе Отцова Сына. И доныне не имели мы никакой нужды в этой излишней мудрости, чтобы в Отце и Сыне предполагать двоих Отцов и двоих Сыновей, двоицу Нерожденных.
Но к чему у Евномия клонится великая тщательность о Нерожденном, многократно уже было сие открываемо, да и теперь еще кратко будет о сем сказано. Поелику значение слова «Отец» не показывает никакой по естеству разности с Сыном, то, если бы на сем остановилось слово, не возымело бы силы нечестие, потому что естественный смысл имен не допускает отчуждения в сущности. Но теперь, говоря «нерожденное» и «рожденное», поелику между сими именами есть непосредственная противоположность, как между речениями «смертный» и «бессмертный», «словесные» и «бессловесные» и между всеми, подобным сему образом произносимыми, которые по противоположности означаемого ими одно другому противопоставляются, — Евномий сими именами проложил путь хуле, чтобы в отношении рожденного к нерожденному усматривать разность смертного с бессмертным; и как иное естество у смертного и иное — у бессмертного, и существенные свойства словесного и–бессловесного не согласны, так Евномию угодно доказать, что иное естество нерожденного, а иное — рожденного, чтобы, как бессловесное естество создано подручным естеству словесному, так доказать что рожденное по естественной необходимости подчинено нерожденному. Потому с именем «Нерожденный» сочетает имя «Вседержитель», под которым Евномий не разумеет промыслительную деятельность, как предварительно показало сие слово, но толкует, что словом «Вседержитель» означается власть самоуправная, чтобы и Сына соделать частью и начальствующего, и подчиненного естества, вместе со всем, служащим Тому, Кто по своей самоуправной власти преобладает равно над всеми. И что, сие имея в виду, пользуется подобными различениями слова, объясняется это из последующего. Ибо, сказав мудрые эти и обдуманные слова, что не уподобляется ни как Отец Отцу, ни как Сын Сыну (хотя, без сомнения, никакой нет необходимости уподоблять Отца Отцу и Сына Сыну, ибо один отец у эфиопов, а другой — у скифов, и у каждого из них есть сын, у эфиопа — черный, а у скифа белый с золотистыми волосами, и при всем этом, по той причине, что каждый из них отец, и скиф не делается черным ради эфиопа, и у эфиопа не меняется тело на белое ради скифа); сказав все это в угодность себе, Евномий присовокупил: «подобен, как Сын Отцу».
Поелику же такое положение показывает близость по естеству, как богодухновенное учение свидетельствует о Сифе и об Адаме, то преподаватель догматов, мало позаботившись о разумных слушателях, приложил пустое истолкование именования «Сын», определив его образом и печатью Вседержителевой деятельности. Ибо говорит: «Сын есть образ и печать Вседержителевой деятельности». «Имеяй уши слышати» (Мф. 11:15), пусть рассмотрит сперва это самое: какая это печать деятельности? Ибо всякая деятельность умопредставляется в трудящемся над обрабатываемым, по окончании же обрабатываемого сама по себе не существует; например, деятельность в пути есть движение ног, по прекращении же сего движения нет уже и деятельности, отдельно в себе самой взятой. Так равно можно сказать и о всяком занятии, что с усилием трудящегося над чем–либо оканчивается и деятельность. А сама по себе не существует она, когда какой–либо действующий или не предположит себе употребить усилие или прекратить усилие свое. Да и чем, по словам Евномия, будет сия деятельность, сама по себе взятая, не будучи ни сущностью, ни отличительным свойством, ни неделимым? Следовательно, Сына назвал он подобием неосуществленного, а подобие несуществующего, конечно, и само не существует. Вот странность пустых ученей — веровать в несуществующее! Ибо что подобно несуществующему, того, без сомнения, нет. О Павел, Иоанн и прочий лик евангелистов и апостолов! И против вашего слова иные вооружают ядоносные языки свои! И против небесных ваших громов возвышают свои лягушечьи голоса! Итак, что говорит сын громов? «В начале ое Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово» (Ин. 1:1). Что же следующий за ним, этот другой, бывший внутри небесных святилищ, посвященный в неизглаголанные тайны в раю? «Сый», говорит он, «сияние славы и образ Ипостаси Его» (Евр. 1:3). Что же после них сказует этот чревовещатель? «Печать деятельности Вседержителя», — говорит он, третьим делает Его по Отце, при посредстве несуществующей оной деятельности, лучше же сказать, мнимым отпечатлением несуществующего. Печать есть деятельности — Сый в начале, Бог Слово, умопредставляемый в вечности начала существ, единородный Бог, «Сый в лоне Отчи» (Ин. 1:18), «нося же всяческая глаголом силы Своея» (Евр. 1:3), Творец веков, из Него же всяческая (Рим. 11:36), «и Имже всяческая» (Евр. 2:10), «содержай круг земли» (Ис. 40:22), объявший «небо пядию», измеряющий «горстию воду» (Ис. 40:12), объемлющий дланью все существа, «на высоких живый» и «на смиренныя призираяй» (Пс. 112:5–6), вернее же сказать, призревший, чтобы подножием своим соделать целую вселенную, запечатленную следами Слова! Печать деятельности — образ Божий! Следовательно Бог — деятельность, а не Ипостась, хотя Павел, толкуя сие самое, говорит: «образ», не деятельности, но «Ипостаси» (Евр. 1:3). Или «сияние славы» есть печать деятельности Божией? Какое нечестивое невежество! Какая же среда между Богом и вечным образом? Что посредствует между ипостасью и ее образом? Что умопредставляется в промежутке славы и сияния? Но при таких и столько многочисленных свидетельствах, в которых величие Владыки твари проповедуется уверовавшими в проповедь, что повествует о Нем этот предтеча отступничества? Что сказует он? «Как образ, — говорит, — и печать всякой деятельности и силы Вседержителя». Почему же извращает слова великого Павла? Тот говорит, что сила Божия есть Сын (1 Кор. 1:24), а этот называет его печатью силы, а не силою.
И опять возвращаясь к той же речи, что присовокупляет к сказанному? Называет «печатью дел и советов Отца». Каким же делам Отца подобен Он? Без сомнения, Евномий укажет на мир и на все, что в нем. Но что все это — дела Единородного, засвидетельствовало Евангелие. Посему, каким делам Отца уподобился Он? Каких дел соделался печатью? И какое писание наименовало Его печатью Отчих дел? Но если кто уступит Евномию и это — невозбранно сочинять слова, какие угодно, хотя Писание не соглашается на это, то пусть скажет, какие дела у Отца, отдельные от совершенных Сыном, дела, которых печатью, по сказанному Евномием, соделался Сын? Дела Слова — все видимое и невидимое; в видимом — целый мир и все, что в нем, в невидимом — премирная тварь. Посему, какие же Отчие Дела остаются, кроме видимых и невидимых, усматриваемые сами по себе, которых печатью, говорит он, соделался Сын? Или, может быть, в такой тесноте снова возвратится к зловонному извержению ереси и скажет, что Сын есть дело Отца? Посему, как же Сын делается печатью сих дел, Сам будучи делом, как говорит Евномий? Ужели одного и того же называет и делом, и подобием дела? Пусть будет уступлено это. Пусть скажет прочие дела, создателем которых называет Отца и которым уподобился Сын, если под печатью разумеет Евномий подобие. Какие же иные слова Отчий знал он кроме Слова, всегда во Отце сущего, Которое именует печатью, Слова в собственном смысле истинно и первоначально, и сущего, и именуемого Словом? Какие же разумеет Евномий советы, отдельные от Божией премудрости, которым уподобляется Божия премудрость, делаясь печатью советов? Посмотрите на эту без разбора и без осмотрительности сложенную кучу слов; к какому ведет таинству Евномий, не зная, и что говорит, и о чем ведет речь? Ибо имеющий в Себе всецелого Отца и всецело сущий во Отце, как Слово, и Премудрость, и Сила, и Истина, и Образ, и Сияние, Сам во Отце есть все, не делаясь образом и печатью, и подобием чего–либо иного, умопредставляемого во Отце прежде Него. Потом Евномий уступает ему истребление при Ное людей водою, одождение огня на Содом, справедливое наказание египтян, как нечто великое усвояя сие Содержащему в длани концы вселенной, Тому, в Ком, как говорит Апостол, «всяческая в Нем состоятся» (Кол. 1:17); и как будто не зная, что все содержащему, ведущему и направляющему, куда Ему угодно, и что уже было, и что будет, два или три напомянутые чуда не сделают такого приращения славы, какое умаление и какой ущерб произведет умолчание прочих чудес. Но если и умолчаны они будут, то достаточно единого Павлова слова, которое, объ–емля собою все, показует сие и говорит, что Он «над всеми и через всех и во всех» (Еф. 4:6).
13. Потом Евномий говорит: «узаконяет по повелению вечного Бога». Кто этот вечный Бог? И кто служащий Ему в законоположении? Но всякому явно это, что через Моисея Бог дает закон приемлющим его. Поелику же сам Евномий признает, что Вещающий Моисею есть единородный Бог, то почему настоящее его слово в чине Моисея поставляет вместо него Владыку вселенной? А означаемое словом «вечный» Богусво–яет одному Отцу, разностью с Вечным думая доказать, что Творец веков не вечный, а недавний единородный Бог. Но забыл, кажется мне, этот любо–ведущий и памятливый, что все это о себе самом говорит Павел, возвещая людям проповедание благовествования «по повелению вечнаго Бога» (Рим. 14:24–25). Посему, что Апостол сказывает о себе, то Евномий не стыдится приписать Владыке пророков и апостолов, чтобы Господа представить равночестным Павлу, собственному Его рабу. И какая мне надобность, обличая одно за другим подробно, вводить в слово многое? О чем из написанного Евномием читающий в простоте подумает, что говорит он согласно с Писанием, о том способный каждую мысль исследовать с разбором докажет, что все это нисколько не далеко от еретического злоухищрения. Ибо и принадлежащий к церкви, и еретик говорят: «Отец бо не судит никомуже, но суд весь даде Сынови» (Ин. 5:22), но тот и другой не одинаково разумеют сказанное: принадлежащий к церкви под сими речениями разумеет власть над всем, а еретик доказывает ими недостаточность и подчиненность.
Но к сказанному надлежит присовокупить то, из чего делают они какое–то основание нечестия, в слове о домостроительстве определяя, что не целый человек спасен Господом, но половина человека, разумею тело. А цель такового злоухищрения над догматом у еретиков — показать, что унизительные речения, которые Господь заимствует от человечества, произошли, по–видимому, от самого Божества, и через это придать большую силу хуле, подтверждаемой собственным признанием Господа. Для сего–то Евномий говорит, что «в последние дни Соделавшийся человеком, не из души и тела восприял на Себя человека». А я, исследовав все богодухновенное и святое Писание, не вижу, где было бы написано сие изречение, что Сотворивший все во время домостроительства о человеке восприял на Себя одну плоть без души. Посему, по необходимости попытаюсь изобличить уготовляемое в сей части нечестие, имея в виду цель нашего спасения, отеческие догматы и богодухновенные изречения. «Прииде» Господь «взыскати и спасти погибшаго» (Лк. 19:10); погибало же не тело, но гиб всецелый человек, срастворенный душою. И если надлежит сказать слово справедливее, то прежде тела гибла душа, потому что преслушание есть грех произволения, а не тела; произволение же, от которого возымело начало все бедствие естества, есть собственность души, как неложная Божия угроза свидетельствует, сказав: «в онъже аще день» коснутся запрещенного, за вкушением без замедления последует смерть (Быт. 2:17). Поелику же состав человеческий двояк, то смерть, соответственно тому и другому, производит лишение двоякой жизни, действующей в умерщвляемом. И как есть смерть телесная, угашение чувствилищ и разложение стихий на сродное им, так, по сказанному, «душа же согрешающая, та умрет» (Иез. 18:20). А грех есть отчуждение от Бога, сей истинной и единственной жизни. Посему многие сотни лет по преслушании жил первозданный, но не солгал Бог, сказав: «в онь же аще день снесте от него, смертию умрете» (Быт. 2:17), ибо по причине отчуждения его от действительной жизни в тот же самый День утвержден над ним смертный приговор, а после сего в последствии времени последовала с Адамом и телесная смерть. Посему Пришедший для того, чтобы взыскано и спасено было погибшее, что Пастырь в притче именует овцою и находит погибшее, и восприемлет на собственные рамена Целую овцу, а не одну только кожу овцы (Лк. 15:4–5), да совершенным соделает Божия человека (2 Тим. 3:17), и по душе и по телу введенным в единение с Божеством. И таким образом, ничего в естестве нашем не оставил воспринятым Искушенный «по всяческим по подобию, разве греха» (Евр. 4:15). Но душа — не грех, соделалась же приемлющею грех по безрассудству. Посему освящает ее Господь единением с Собою, да начатком осветится все «примешение» (Рим. 11:16). Посему–то и ангел, возвещая Иосифу о погибели врагов Господних, говорит: «изомроша бо ищущий души Отрочате» (Мф. 2:20). И Господь сказует иудеям: «ищете Мене убити, человека, иже истину вам глаголах» (Ин. 8:40), человеком же называется не тело человеческое, но сложенное из того и другого. И еще спрашивает их: «на Мя ли гневаетеся, яко всего человека здрава сотворих в субботу» (Ин. 7:23)? Понятие же целого объяснил Господь в других евангелиях, спущенному с одром на среду сказав: «оставляютися греси» (Лк. 5:20), что есть исцеление души, и: «востани и ходи» (Лк. 5:23), что относится к плоти. А в Евангелии от Иоанна после того, как дарует здравие телу, и душу освободил от свойственной ей болезни, когда говорит: «здрав еси: ктому не согрешай» (Ин. 5:14), с этого времени уврачеванный по тому и другому, разумею по душе и по телу. Ибо так говорит и Павел: «да оба созиждет Собою во единого нового человека» (Еф. 2:15). И таким образом, во время страдания предрекает Господь, что добровольно разлучает душу Свою с собственным телом, говоря: «Никтоже возьмет» душу Мою «от Мене: но Аз полагаю ю о Себе. Область имам положити» душу Мою, «и область имам паки прияти ю» (Ин. 10:18). Да и Пророк Давид, по изъяснению великого Петра, провидя о Христе, сказал: «Яко не оставиши души моея во аде, ниже даси преподобному твоему видети нетления» (Деян. 2:27), так Апостол Петр протолковал изречение сие: «яко не оставися душа Его во аде, ни плоть Его виде истления» (Деян. 2:31), потому что Божество и до плоти, и во плоти, и по страдании всегда одинаково, как неизменно сущее и вовек пребывающее, чем было по естеству, а во время страдания естества человеческого привело в исполнение домостроительство о нас, разлучив на время душу с телом, но не отделившись ни от той, ни от другого из принятого Им однажды в единение, и снова сочетав разлученное, чтобы всему человеческому естеству дать возможность и начало к воскресению из мертвых, да «тленное» все «облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие» (1 Кор. 15:53), потому что начаток наш единением с Богом претворен в Божественное естество, как сказал Петр, «яко и Господа и Христа Его Бог сотворил есть, сего Иисуса, Егоже вы распясте» (Деян. 2:36). И из святых Евангелий можно заимствовать многое в защищение такового догмата, а именно, как Господь, человеческим естеством во Христе мир примиряя Себе (2 Кор. 5:19), совершаемое Им людям благодеяние уделил душе и телу, душою изволяя и телом касаясь самого дела. Но излишним будет, распространяясь обо всем, производить беспорядок в слове.
Но перейду к дальнейшему, приложив к сказанному еще следующее: «разорите церковь сию, и треми деньми воздвигну ю» (Ин. 2:19). Как мы из души и тела составляем собою Церковь Вселяющегося и Ходящего в нас (2 Кор. 6:16), так Господь душу и тело, взятые вместе, именует церковью разорение которой означает разрешение души от тела. Если же представляют изречение Евангелия: «Слово плоть бысть» (Ин. 1:14), и тем, что не упомянуто о душе, думают доказать, что плоть воспринята без души, то пусть дознают, что святому Писанию обычно под частью разуметь целое. Ибо сказавший: «к Тебе всяка плоть приидет» (Пс. 64:3), говорит не то, что плоть, отрешенная от душ, предстанет Судие. И слыша в истории об Иакове «в седмидесятих и пяти душах» снисшедшем «во Египет» (Втор. 10:22), вместе с душами разумели мы и плоть. Так и Слово, став плотию, восприяло с плотию всецелое естество человеческое. Потому и алкать, и жаждать, и приходить в боязнь и в страх, и вожделевать, и спать, и смущаться, и плакать, и быть во всяком подобном сему состоянии — имело в Нем место. Ибо ни Божество по собственному Своему естеству не допускает до Себя какого–либо подобного страдания, ни плоть сама по себе не бывает в оном, если с телом не сопряжена душа.
14. Вот наше слово о хуле на Сына; посмотрим же, что говорит Евномий и о Святом Духе. «После сего, — говорит он, — веруем в Утешителя, Духа истины». Но всем читающим, думаю, явно, что имея в виду, в словах о Сыне и Отце извращает изложение веры, преданное Господом. Хотя несообразность сия обличена, однако же и теперь попытаюсь в немногих словах представить на вид цель этого Евномиева злоухищрения. Как там не назвал Отца, чтобы вечностью Отца не указать и на Сына, не именовал и Сына, чтобы этим речением не утвердить вместе и свойства по естеству, так и теперь не говорит «Святый Дух», чтобы сим именем не исповедать величия Его славы и единства во всем с Отцом и Сыном. Поелику в Писании Отцу и Сыну равно прилагается название и Духа и Святого («Дух есть Бог» (Ин. 4:24), и: «Дух» перед лицом нашим «помазанный Господь» (Плач. 4:20), и: «свят еемь Господь Бог» (Лев. 20:26), и: «един свят, един Господь, Иисус Христос» ), то, чтобы в слышащих о Святом Духе не произошло от этого какого–либо благочестивого предположения, порождаемого общностью славного сего названия с именами Отца и Сына, Евномий для сего самого, обольщая слух неразумных, переиначивает речения в предании таинства изложенной Богом веры, как бы вслед за сим пролагая путь нечестию в Учении о Духе Святом. Ибо если бы сказал: веруем в Духа Святаго; дух же есть Бог, — то обученный ведению божественного подсказал бы: если надлежит веровать в Духа Святаго, а Духом именуется Бог, то Он не иное что по естеству, как то самое, что именуется в собственном смысле теми же именами. Ибо все то, что не ложно, и не по злоупотреблению, но в собственном смысле представляется под одними и теми же именами, по всей необходимости, должно признавать одним и тем же естеством, означаемым одними и теми же именами. Посему–то, умолчав речение, узаконенное Господом в изложении веры, говорит: «веруем в Утешителя». А я дознал, что то же самое имя в богодухновенном Писании есть общее Отца и Сына, и Духа Святаго. Ибо Сын равно и Себя, и Духа Святаго именует Утешителем. Отец же тем самым, чем производит утешение, присвояет, без сомнения, Себе имя Утешителя, ибо, совершая дело Утешителя, не отвергает и имени, принадлежащего делу. А Давид говорит Отцу: «яко Ты Господи, помогл ми и утешил мя еси» (Пс. 85:17), и великий Апостол тоже излагает об Отце, говоря: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, утешаяй нас о всякой скорби нашей» (2 Кор. 1:3–4). А Сына Иоанн в одном из соборных посланий прямо именует Ходатаем (1 Ин. 2:1) и сам Господь, когда, говоря о Духе, сказал, что «иного Утешителя» (Ин. 14:16) пошлет нам, без сомнения, наперед признал тем, что имя сие принадлежит и Ему самому. Поелику же значение слова «призывать в помощь» (παρακαλειν) двояко: одно — почтительными речениями и положениями тела приводить в сострадательность того, в ком имеем какую–либо нужду, а другое — находить врачебное пособие от душевных и телесных страданий; то святое Писание свидетельствует, что Божию естеству понятие призванного на помощь (παρακλητος) в каждом из сих значений равно прилично. И Павел, то врачующую нас силу Божию представляет нам под видом утешения, говоря: «утешаяй смиренныя, утеши нас Бог пришествием Титовым» (2 Кор. 7:6), то опять в другом смысле, пиша к коринфянам, говорит так: «по Христе (посольству ем), яко Богу молящу (παρακαλουντος) нами: молим по Христе, примиритеся с Богом» (2 Кор. 5:20).
Поелику же сие действительно так, то как ни будешь о Духе разуметь именование «Утешитель» в том и другом значении, не отступишь от общения с Отцом и Сыном. Посему, в этом отношении Евномий, если бы и хотелось ему, не мог умалить славу Святаго Духа, приписывая Ему то, что в святом Писании присвояется Отцу и Сыну. Но назвав Духом истины, Евномий сам, как думаю, хотел таковым речением выразить подчиненность Духа, потому что Христос есть истина, а Духа наименовал он духом истины, как бы сказал кто: Он достояние истины и ее подчиненный, не зная того, что Бог называется правдою, и однако же не разумели мы Бога достоянием правды. Посему, услышав о Духе истины, с сим речением прияли мы боголепное разумение, руководясь к лучшему присовокупленным словом. Ибо Господь, сказав «Дух истины», немедленно присовокупил: «иже от Отца исходит» (Ин. 15:26). А сего Господне слово не засвидетельствовало ни о чем, умопредставляемом в числе тварей: ни о видимом, ни о невидимом, ни о престолах, ни о началах, ни о властях, ни о господствах (Кол. 1:16), ни о другом каком имени, именуемом «не точию в веце сем, но и во грядущем» (Еф. 1:21). Посему, чего непричастна вся тварь, то, как очевидно, непременно составляет свойство и преимущество естества несозданного. А Евномий велит веровать в «наставника благочестия». Посему, пусть верует в Павла, Варнаву, Тита, Силуана, Тимофея и всех тех, которые путеводят нас к вере. Ибо надлежит веровать, как в Отца и Сына, так и в наставляющих в благочестии; все пророки, законодатели, патриархи, проповедники, евангелисты, апостолы, пастыри и учителя должны быть равно чествуемы, как и Святый Дух, потому что соделались наставниками благочестия для живших после них. «Получив бытие, — говорит Евномий о Духе, — от единого Бога через Единородного». В этих словах воедино сводится все нечестие Евномия. Опять Отца именует единым Богом, употребившим Единородного в орудие к произведению Духа. Какую же тень подобной мысли нашедши в Писании, отваживается говорить это? От какого начала по порядку довел он нечестие до такового предела? Кто из евангелистов утверждает сие? Какой апостол? Какой пророк? Совершенно вопреки сему все богодухновенное Писание, написанное по вдохновению Духа, свидетельствует о Божестве Духа. Так, например (ибо лучше доказать слово самими свидетельствами), приявшие «область чадом Божиим быти» (Ин. 1:12) свидетельствуют о Божестве Духа, ибо кто не знает изречения Господня, что рожденные от Духа суть чада Божий. Господь Духу Святому точными словами приписывает рождение чад Божиих, сказав: как «рожденное от плоти, плоть есть», так и «рожденное от Духа, дух есть» (Ин. 3:6). Все же, которые родились от Духа, наречены чадами Божиими. Так и о Господе, Который дуновением даровал ученикам Духа Святаго, Иоанн говорит: «от исполнения Его мы еси прияхом» (Ин. 1:16), в «Том живет всяко исполнение Божества», свидетельствует великий Павел (Кол. 2:9). Да еще и через Пророка Исайю о бывшем ему богоявлении, когда видел он «седяща на престоле высоце и превознесение» (Ис. 6:1), древнейшее предание сказует, что виденный им есть Отец. Евангелист же Иоанн относит пророчество к Господу, говоря о неверовавших иудеях словами, изреченными о Господе у Пророка: «Сия рече Исайя, егда виде славу Его, и глагола о Нем» (Ин. 12:41). А великий Павел сие же самое слово приписал Святому Духу во всенародной речи, произнесенной им к иудеям в Риме, когда сказал: «добре Дух Святый глагола» о вас, «слухом услышите, и не имате разумети» (Деян. 28:25–26), из самого святого Писания, как думаю, доказывая, что всякое божественное видение, всякое богоявленное и всякое слово, от лица Божия произносимое, могут быть разумеемы об Отце, и о Сыне, и о Святом Духе. Посему–то Давид сказал: «преогорчиша» Бога «в пустыни, прогневаша Его в земли безводней, и раздражиша» (Пс. 77:40–41), а Апостол к Духу Святому сит учиненное израильтянами против Бога, так выразив сие словом: «Темже, якоже глаголет Дух Святый: Не ожесточите сердец ваших, якоже в невании, во дни искушения в пустыни: Идеже искусиша Мя отцы ваши» (Евр. 3:7–9), и все прочее, что пророчество относит к Богу, приписует лицу Святаго Духа. На основании же таковых догматов толкующие, что три у нас Бога, должно быть, не научились еще и считать. Ибо если Сын и Отец не делятся один от другого в двойственное значение, потому что, по гласу Господа, Он» и Отец едино «(Ин. 10:30), а не два, едино же и Дух Святый, то почему по приложении к единому делится на число трех богов? Или не явно ли, без сомнения, что никто не укорит нас в числе трех богов, не признавая сперва сам в собственном своем догмате двоицы богов? Одно Божество, прилагаемое к двум, составляет троицу богов. А которые под именем Отца, и Сына, и Святаго Духа поклоняются единому Богу, тех касается ли обвинение в признании трех богов?
Но повторим всю речь Евномия. «Получив бытие, — говорит он и о Духе, — от единого Бога через Единородного». Посему в чем же доказательство тому, что и Дух есть один из приведенных в бытие Единородным? Без сомнения, скажут: в том, что «вся Тем быша» (Ин. 1:3), а в слове «вся» заключается и Дух. Ответим им: «вся Тем быша» ; но «быша», как говорит Павел, «видимая и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти» (Кол. 1:16), силы, из сих же исчисленных престолами и силами у Павла названы херувимы и серафимы; сим ограничивается слово ««вся»« . А о Духе Святом, как высшем естестве приведенных в бытие существ, в сем перечислении оных Павел умолчал, не показывая нам в словах своих ни того, что приведен Он в бытие, ни того, что подчинен, а напротив того, как Пророк именует Духа Святаго благим (Пс. 142:10), правым, владычним (Пс. 50:12; 50:14), словом ««владычный»« указуя на Его начальство, так и Апостол, утверждая, что Дух «вся» во всех «действует, якоже хощет» (1 Кор. 12:11), достоинству Его приписывает самодержавную власть. А Господь о свободной Его силе и деятельности объявляет в беседе с Никодимом, говоря: «Дух, идеже хощет, дышет» (Ин. 3:8). Посему, как же Евномий утверждает, что и Дух есть один из получивших бытие от Сына и осужден на вечное подчинение? «Однажды навсегда, — говорит он, — Дух подчинен», не знаю, каким родом подчинения связав владычественного и начальственного, ибо таковое речение в святом Писании много имеет значений и многоразлично понимается и употребляется. Ибо и о неразумном естестве Пророк говорит, что оно покорено (Пс. 8:7), и тех, которые одолены на брани, подводит под то же именование (Пс. 17:48), и Апостол рабам поставляет в закон «своим господем повиноватися» (Тит. 2:9) и предстоятелям во священстве повелевает «чада» иметь «в послушании» (1 Тим. 3:4), потому что производимое ими бесчиние, как и чад священника Илия, переходит на отцов. Да и покорность всех людей Богу, когда все, соединившись друге другом посредством веры, делаемся единым телом сущего во всех Господа, Апостол называет покорностью Сына Отцу (1 Кор. 15:28), потому что единодушно всеми: небесными, земными и преисподними — совершаемое поклонение Сыну переходит в славу Отца, как говорит Павел, что Сыну «всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, И всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:10–11). А что по совершении сего сущий во всех Сын покорностью всех, в ком есть Сын Сам покорится Отцу, сие утверждает великая мудрость Павлова. Посему, какую однажды навсегда покорность назначает Духу Евномий? Из сказанных им наперед сего слов нельзя узнать, покорность ли неразумных, или военнопленных, или домочадцев, или целомудренных чад, или спасаемых за покорность, потому что покорность людей Богу есть спасение для покарающихся, по слову Пророка, в котором сказано: Богу «повинется душа», потому что за повиновение бывает «от Того бо спасение» (Пс. 61:2), так что повиновение есть предохранительное врачевство от погибели. Посему, как врачебное искусство уважается больными, так и покорность — имеющими нужду во спасении. Дух же Святый всеоживотворяющий, в какой жизни имеет нужду, чтобы покорностью приобретать себе спасение? Итак, поелику Евномий не имеет ни одного божественного изречения, на основании которого мог бы разглашать подобное сему о Духе и вследствие справедливых умозаключений дойти до этой хулы на Духа Святаго, то для имеющих ум будет явно, что он изъявляет пред Духом ничем не оправдываемое нечестие, не подтверждаемое каким–либо свидетельством Писания, ни последовательности умозаключений.
Присовокупляет к сему Евномий: «ни по Отце, ни с Отцом несо–числим Дух, потому что един и единствен Отец, сый над всеми Бог, ни с Сыном не сравним, потому что Сын единороден, не имеет ни одного Ему сродного». А я, если бы Евномий присоединил к слову только это, что Дух Святый не Отец Сыну, признал бы напрасным делом останавливаться над тем, о чем никто не спорит, воспрещая думать о Духе, чего не подумает даже никто из крайне неразумных. Но поелику Евномий и тем, что несвойственно и не идет к делу предприемлет утвердить нечестие и когда говорит, что Дух Святый не Отец Единородного, думает сим доказать, что Дух подчинен и подвластен, то посему в обличение сего неразумия его привел я на память слова сии. Он думает доказать подчиненность Духа Отцу тем, что Дух не Отец Единородного. Какою необходимостью доказывается такая мысль, что, если не Отец, то без сомнения, подчинен? Если бы доказано было, что слова «Отец» и «самоуправный властитель» значат одно и то же, следовало бы, умопредставляя в Отце самоуправство, сказать, что ДУХ подчинен преимуществующему властью. Но если под словом «Отец» Разумеется одно отношение к Сыну и сим речением не привносится никакой мысли о самоуправстве и властительстве, то как из того, что Дух не Отец Сыну, следует, что он подчинен? «Ни с Сыном несравним», — говорит Евномий. А почему говорит он это? Подлинно «несравним». Ибо непревратность, непременное недопущение зла, всегда одинаковое пребывание в добре ничем не разнятся и в Сыне, и в Духе: и нетление Духа равно чуждо тления, и благость по естеству столько же удалена от противного ей, и совершенство во всяком добре одинаково не имеет нужды в большем.
Все же сие говорить о Духе учит богодухновенное Писание, присвоил Духу название благого, премудрого, нетленного (Прем. 12:1), бессмертного и всякое высокое и боголепное о Нем понятие и имя. Если же ни в чем из сего не умален Дух, то в чем вымеряет Евномий неравенство Сына и Духа? «Потому что, — говорить он, — Сын единороден, не имеет сродного Ему брата». Но о том, что Единородного не должно представлять имеющим братьев, рассуждали мы в слове о Перворожденном всей твари. Теперь же злонамеренно вставленного в слово Евномием не следует проходить без исследования. Ибо церковный догмат провозглашает, что в Отце, и Сыне, и Святом Духе — одна сила, одна благость, одна сущность, одна слава, таково же и все прочее, исключая разность ипостасей. А Евномий, когда хочет сущность Единородного обобщить с тварью, называет Его, по предвечному бытию, перворожденным всей твари, сим речением утверждая, что все умопредставляемое в твари — в братском родстве Господу, потому что первородный первороден, конечно, не среди инородных, но среди однородных. Когда же отделяет Духа от союза с Сыном, тогда называет Сына единородным, не имеющим однородного брата не для того, чтобы представлять его неимеющим братьев, но для того, чтобы доказать сим о Духе, что по сущности чужд он Сыну. Как Духа Святаго не называть братом Сыну научены мы Писанием, так нигде не показано в Божием слове, что не должно называть Духа и однородным с Сыном. Если животворящая сила, какая в Отце и Сыне, по евангельскому слову, оказывается и в Духе Святом (Ин. 6:63), если нетление, непревратность, недопущение до себя всякого зла, благость, правота, владычественность, возможность действовать вся во всех, «якоже хощет» (1 Кор. 12:11), — если все сему подобное одинаково можно видеть в Отце, и Сыне, и Святом Духе, то как при тожестве в этом представить себе инородность? Поэтому учение благочестия соглашается в том, что у Единородного не должно видать какого–либо братства, а последовательностью учения ясно доказывается, что еретическому злоумию принадлежит мысль, будто бы не однородны Дух с Сыном, правый с правым, благий с благим, животворящий с животворящим.
Посему, в чем же через это терпит ущерб величие Духа? Ибо ни одно из боголепных понятий не может произвести преувеличения или умаления. Поелику все они в святом Писании равно прилагаются к Сыну и к Духу, то в чем Евномий видит неравенство? Не может он сказать этого. Напротив того, ничем не прикрытое, не складное, нисколько не связное учение нечестия произносит о Святом Духе. «Ни с кем другим, — говорит Евномий, — не состоит Дух в одном чину, потому что всякое произведение, приведенное в бытие Сыном, превзошел происхождением, естеством, славою ведением, как первое и существенное, величайшее и прекраснейшее дело Единородного». Но другим предоставляю осмеивать невежественность и грубость сего выражения, признавая неприличным для старческой седины невежественные речения ставить в укор нечествующему перед достопоклоняемым Словом, присовокуплю же к исследованию следующее. Если Дух превзошел все произведения Сына (употреблю это неправильное и малосмысленное речение еретика, лучше же сказать, яснее выражу мысль сию собственным своим словом), если преимуществует пред всем, получившим бытие от Сына, то Дух Святый не может быть поставляем в одном чине с прочею тварью. И если, как говорит Евномий, «преимуществует тем, что приведен в бытие прежде других», то совершенно необходимо признать ему и о другой твари, что предшествующее в порядке приведения в бытие предпочтительнее последующего. Но устроение человека предварено естеством бессловесных; следовательно, Евномий, конечно, ведет сим к тому, что неразумная сущность предпочтительнее сущности разумной. Так и Каин, по Евномиеву учению, окажется лучшим Авеля, по рождению предупреждая временем. Так покажется и естество звезд ниже и недостаточнее всех произрастений земных, потому что первые произошли из земли в третий день, а светила великие и все звезды, по сказанию Моисееву, сотворены в день четвертый (Быт. 1:16; 1:19). Однако же не будет никто столько неразумен, чтобы по старейшинству времени траву земную предпочесть чудесам небесным или Каину отдать верх пред Авелем, или бессловесным подчинить человека, сотворенного после них. Следовательно, никакого склада не имеет то, что говорит Евномий, будто бы Дух, потому что приведен в бытие прежде других, имеет естество, которое предпочтительнее пришедшего в бытие после Него.
Но посмотрим, что приносит в дар славе Духа отделивший Его от общения с Сыном. «И Он, — говорит Евномий, — есть единый первый, единственный по сущности и естественному достоинству преимуществующий пред всеми произведениями Сына, всякое действие и учение совершающей Угодность Сыну, Им посылается, от Него приемлет, возвещает поучаемым и возводит к истине». По словам Евномия, Дух Святый «совершает всякое действие и учение». Какое действие? То ли которое, по слову Господа, производят Отец и Сын, «доселе» содевающий спасение людей (Ин. 5:17), Другое какое, кроме этого? Если производит одно и то же с Сыном, то, конечно, имеет одну и ту же с Ним силу и то же естество, и инородное с Богом не имеет места в Духе. Как если что производит свойственное огню, также светя и грея, то сие, конечно, есть огонь, так, если Дух творит дела Отца, то сим, без сомнения, признается, что Он одного с Отцом естества Если же содевает Он что–либо иное, а не спасение наше, и если оказывает деятельность на чем–либо противоположном, то из сего будет явствовать что иного Он естества и иной сущности. Но само Слово свидетельствует что Дух животворит подобно Отцу и Сыну. Следовательно, из тожества действий открывается, что Дух, без сомнения, по естеству не чужд Отцу и Сыну. И мы не спорим, что Дух в угодность Сыну совершает действие и учение Отца. Ибо одно общее естество свидетельствует, что одно хотение у Отца, и Сына, и Святаго Духа. Посему, если Дух Святый хочет того, что угодно Сыну, то общая воля ясно показывает единство сущности. Но Евномий говорит: «Им посылается, от Него приемлет, возвещает поучаемым и возводит к истине». Если бы Евномий наперед не сказал сего о Духе, то, конечно, слушатель подумал бы, что говорится это о каком–либо учителе–человеке. Ибо посланным быть значить то же, что идти с поручением, не иметь ничего от себя, но получать по милости посылающего, учащимся служить словом, заблуждающихся возводить к истине. Ибо и нынешним пастырям и учителям свойственно все это: быть посылаемыми, принимать, возвещать, учить, внушать истину, — все, что Евномий уступает в дар Духу Святому. Но сказав перед этим: «и есть единый, первый, единственный, преимуществующий пред всеми», — если бы остановил на сем речь, то показался бы защитником догматов истины. Ибо, действительно, един неотлучно созерцаемый в Едином, первый в первом, единственный в единственном. Как «дух человека», который «в нем», и сам человек суть один человек: «такожде и Дух Божий» (1 Кор. 2:11) — Тот, Который в Боге, и сам Бог единым в собственном смысле может быть наименован Богом, и первым, и единственным, таким, что не возможно его отделить от Того, в Ком Он. Но теперь присовокупив: «преимуществующий перед всеми произведениями Сына», — Евномий показал, что хульное его учение есть мутное извращение, в котором Тому, Кто «идеже хощет, дышет» (Ин. 3:8) и «вся во всех» действует (1 Кор. 12:6), предоставляется предпочтение сравнительно с прочими тварями.
Посмотрим же, что и еще приложил к этому: «освящает святых», — продолжает Евномий. Кто скажет это об Отце и Сыне, тот скажет истину. Ибо в ком бывает Святый, тех делает святыми, как и Благой делает благими. Но свят и благ, по доказанному, и Отец, и Сын, и Дух Святый. «Тайноводствует приступающих к таинству», — говорит еще Евномий. Это хорошо сказать об Аполлосе, напаяющем Павлово насаждение (1 Кор. 3:6), потому что Апостол учением насаждает, а Аполлос напаяет, крестя таинственным возрождением, оглашенных Павлом приводя к таинству. Итак Евномий возводит Духа в равночестие с Аполлосом, как совершающего людей крещением. «Удаляет всякий дар», — говорит еще. С этим согласны и мы, ибо все, что ни есть доброго, составляет часть даров Святаго Духа: «содействует верным, — говорит далее, — к обозрению и уразумению установленного». Но, не присовокупив, кем установлено, сделал он речь сомнительною, признать ли ее правильною, или какою иною. Мы же сказанное небольшим добавлением приблизим к благочестию. Поелику «слово» ли «премудрости, слово ли разума, вера» ли (1 Кор. 12:8–9), заступление ли, правление ли (1 Кор. 12:28) или другое что причисляется к спасительному для нас, «вся сия действует един и тойжде Дух, разделяя властью коемуждо, якоже хощет», то посему не отвергаем слова, сказанного Евномием, что Дух содействует верным в обозрении и уразумении установленного самим Духом, потому что все добрые наставления преподаны нам Им. «Дает отголосок молящимся», — присоединяет Евномий. Глупо было бы со тщанием изобличать смысл сего изречения, потому что для всякого само собою равно видно, как смешно и бессмысленно сие выражение. Ибо кто столько расстроен в уме и потерял смысл, чтобы стал он ждать от нас, не научим ли, что Дух Святый не звонок или не пустая бочка, которая голосом молящегося, как бы ударом каким, приводится в содрогание и дает отголосок? «Путеводит к полезному», — говорит Евномий. Это и Отец, и Сын также делает, ибо наставляет на путь, «яко овча Иосифа» (Пс. 79:2), и: «наставил еси яко овцы люди» Своя (Пс. 76:21), и: «Дух Твой благий» наставляет нас «на землю праву» (Пс. 142:10). «Укрепляет, — говорит, — для благочестия». Божиим делом называет Давид — укреплять человека в благочестии, ибо Пророк говорит: «утверждение (κραταιωσις) мое и прибежище мое еси Ты» (Пс. 30:4), и: «Господь утверждение людей Своих» (Пс. 27:8), и Он «силу и крепость людем Своим даст» (Пс. 28:11). Посему, если сказано это в смысле пророческом, то служит свидетельством Божества Духа. Если же противно пророчеству, то сим самым обвиняется хула, потому что вводит мысль, противную святым пророкам. Потом Евномий говорит: «просвещает души светом ведения». Этот благодатный дар учением благочестия приписывается Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ибо Господь просвещением именуется у Давида (Пс. 26:1) и от Него «свет ведения» в просвещаемых (Ос. 10:12). А также и «очищение» помыслов, как говорит слово Божие, свойственно силе Господа, потому что Он, «сияние славы и образ Ипостаси, очищение» сотворил «грехов наших» (Евр. 1:3). «Изгонять демонов» Евномий называет свойственным Духу; сие и единородный Бог, Который говорит демону: «Аз ти повелеваю» (Мк. 9:25), приписывает силе Духа, говоря: «Аще ли же Аз о Дусе Божии изгоню бесы» (Мф. 12:28). Поэтому низложение демонов служит не уничижением славы Духа, но доказательством Его Божественной и превысшей силы. «Врачует болящих, — говорит еще Евномий, — исцеляет недужныз, утешает скорбящих, укрепляет ослабевших, восстановляет в силах утружденных». Это изречения о Святом Духе благочестивых, ибо каждого из сих действий никто не припишет никому иному, кроме Бога. Посему если ересь утверждает, что силою Духа совершается, чего никто не может сделать, как только один Бог, то, значит, и от врагов имеем свидетельство о том, что заботимся доказать. Почему у Бога Пророк ищет исцеления, говоря: «Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко смя–тошася кости моя» (Пс. 6:3)? Исайя говорит Богу: «роса бо, яже от Тебе, исцеление им есть» (Ис. 26:19). И обращение заблуждающихся есть дело Божие, о сем свидетельствует пророчество, ибо говорит: «Заблудиша в пустыни безводней» (Пс. 106:4), и присовокупило: «и настави я на путь прав, внити во град обительный» (Пс. 106:7), и: «Всегда возвратити Господу плен Сион» (Пс. 125:1). А также и утешение скорбящих возводится к Богу, потому что так говорит Павел: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Утешаяй нас о всякой скорби нашей» (2 Кор. 1:3–4), и Пророк от лица Божия говорит: «В скорби призвал Мя еси», и обрел я Тебя (Пс. 80:8). А укрепление ослабевших, на что тысячи способов показывает Писание, состоит в силе Господней: «Отриновен превратихся пасти, и Господь прият мя» (Пс. 117:13), и: «Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его» (Пс. 36:24), и: «Господь возводит низверженныя» (Пс. 145:8). И восстановление в силах утружденных приводит к исповеданию Божия человеколюбия, если только Евномий заметил, чему научены мы пророчеством, как говорит слово Божие: «положил еси скорби на хребте нашем. Возвел еси человеки на главы наша, проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покои» (Пс. 65:11–12).
Так доселе свидетельством врагов доказывается величие Духа. Но в последующем за сим чистота благочестия снова оскверняется еретическою тиною. Ибо Евномий говорит о Духе: «восклицаниями содействует подвизающимся». За это обвинить должно в крайнем неразумии и нечестии. Ибо на поприщах иные назначают подвиги намеревающимся показать подвижническую крепость; иные, превосходя других силою и искусством, состязаются о победе, вступая во взаимные борьбы друг с другом; прочие же, разделяясь между собою своими чувствами к борцам, во время борьбы, сколько у каждого есть усердия и расположения к кому–либо из подвиЖников, восклицаниями дают ему знать, чтобы или предусматривал вредили припоминал употребляемые в борьбе хитрости, или искусно сохранял себя от падения. Посему уразумейте из сказанного, в какой разряд Духа Святаго поставил Евномий? На поприщах, где одни распоряжаются под вигами, другие оценивают законную борьбу, иные борются, а иные восклицаниями сопровождают борющихся, последние признаются гораздо низшими борющихся. Евномий смотрит на Духа Святаго как на одного из толпы зрителей или как на кого–либо из прислуживающих подвижникам. Он ни подвигами не распоряжается, ни победы не оценивает, ни с противником не борется, да и восклицаниями нисколько не содействует победе, потому что не разделяет подвига, не придает сил на это самое, а только хочется Ему, чтобы тот, о ком Он заботится, не оказался вторым из противников. И у Павла борьба «к началом, и ко властем, и к миродержителем тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф. 6:12). А Дух силы (2 Тим. 1:7) не укрепляет подвижников, не раздает подвижникам дарований, «разделяя власти коемуждо якоже хощет» (1 Кор. 12:И), но имеет только силу вступивших в борьбу сопровождать восклицаниями.
Говорит Евномий еще: «придает смелость трепещущим от страха». Но хотя еретик в слове своем продолжает предыдущую хулу на Духа, однако же и в устах врага обнаруживается истина. Ибо придавать смелость боящимся не иному кому свойственно, как единому Богу, Который говорит боящемуся: «не бойся, с тобою бо есмь» (Ис. 41:10), нимало не приходи в робость, как говорит Пророк о себе: «Аще бо пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси» (Пс. 22:4). Да и Сам Владыка говорит боящимся: «да не смущается сердце ваше, ни устрашает» (Ин. 14:27), и: «что страшливи есте, маловери» (Мф. 8:26), и: «дерзайте, Аз есмь, не бойтеся» (Мк. 6:50), и еще: «дерзайте, яко Аз победих мир» (Ин. 16:33). Посему и против воли Евномия самим вражеским словом его дает о себе знать благочестие. Но с предыдущим Евномиевым словом согласно и последующее. Еретик говорит: «о всем печется, прилагает всю заботу и промышление». Имеет о всем заботу и попечение по истине свойственно единому Богу, потому что так говорит о сем великий Давид: «Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется о мне» (Пс. 39:18). Если же прочее у Евномия без смысла производит только шум пустыми речениями, то пусть никто не винит его, видя бессильным и невежественным в большей части всякого благоразумного понятия. Ибо, что разумея, говорит он: «к приведению благосмысленнейших и охранению более верующих», этого ни сам он не скажет, не скажут и те, которые неразумно дивятся словам его. О Христе Иисусе, Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Книга третья
Содержание третьей книги
1. Третья сия книга показывает третье падение Евномия, так как он сам себя обличает и иногда говорит, что Единородного как по естеству рожденного должно именовать Сыном, что, прибавляет он, свыше изъявлено святым Писанием, а иногда утверждает, что Его, потому что сотворен называть должно не Сыном, но тварию.
2. Потом прекрасно, складно и стройно исследовав, снова излагает изречение: «Господь созда мя» (Притч. 8:22).
3. После сего примерами, взятыми с Адама, Авеля и других, доказывает, что не чужды по сущности рожденный и нерожденный.
4. А таким образом дает видеть единство вечного с Отцом, тожество сущности, общее естество, при чем излагает естествословие о рождении вина и говорит, что при названии Единородного слова «сын» и «порождение» имеют родственную близость.
5. При сем представляет непостижимость Божией сущности и толкует сказанное самарянке: «Вы кланяетеся, егоже не весте» (Ин. 4:22).
6. А после сего объясняет названия «сын» и «порождение», также показывает множество разностей между сынами Божиими, человеческими, овними и еще сынами погибели, света, дня.
7. При этом, объяснив Божеские и человеческие наименования Единородного, исследовав слова «рожденный» и «нерожденный», заключает сим слово.
1. Для подвизающегося законно тот конец подвижнических трудов, что сопротивник или, совершенно отказавшись от трудов, добровольно уступает победу одержавшему верх, или, согласно с подвижническим законом, троекратно повергается на землю, после чего по суду ценителей с торжественным провозглашением при венце воздается победившему слава. Итак, поелику Евномий, дважды уже низложенный в предшествующих книгах, не дозволяет еще истине воспользоваться плодами победы над ложью, но и в третий еще раз на обычном поприще лжи возметает пыль словопрения против благочестия, напрягая силы свои устоять в обмане, то по необходимости и ныне к низложению лжи противопоставляем ей слово истины, на самого Победодавца и Подвигоположника возложив надежду победить и вместе почерпая силы в неверных приемах борьбы у противника. Ибо без стыда признаемся, что к борьбе сей не приготовлено нами ни одного слова изощренного риторическим искусством, к преодолению сделанных возражений не употреблено никаких ухищрений диалектической тонкости, которыми неопытные бывают нередко заставлены и в истине подозревать ложь. Напротив того, в слове, которое у нас, одна сила стоять против лжи. Во–первых, само истинное Слово, сила нашего слова повелевает, чтобы сперва происходило обучение, но обучение мудрое, следующее за предварительным обучением, а потом имело место наставление заимствованное из притчи. Ибо говорит Писание, что притчи суть «словеса мудрости», открывающие цель извитием (Притч. 1:2–3), потому что не прямо разумеемое для уразумения сокровенного имеет нужду в некотором извитии. И как Павел, намереваясь историю предложить воззрению в виде иносказания, обещал «изменити глас» свой (Гал. 4:20), так и здесь обнаружение сокровенного называется у Соломона «извитием» слова, как будто было бы не возможно уразуметь красоту мыслей, если бы кто не усмотрел сокровенного сияния мысли, видимое в слове извратив в нечто другое, как бывает это с пером, которым у павлина убран хвост. Ибо кто увидит у него зад пера, по некрасивости и безобразию не обратит, конечно, и внимания на сие зрелище, как ничего нестоящее. А если кто, оборотив его, сделает видною другую сторону, то увидит разнообразную живопись природы, половину круга сияющую посредине багряным цветом и около круга злато–видный воздух, опоясанный по краям и блистающий многоцветными радугами. Итак, поелику в доступном всякому смысле речений никакой нет красоты, потому что, по сказанному, «вся слава Дщере Царевы внутрь» (Пс. 44:14), в золотых мыслях сияет сокровенным убранством, то Соломон читающим книгу сию по необходимости предлагает извитие слова, чтобы из него уразумели «притчу и темное слово, речения же премудрых и гадания» (Притч. 1:6).
А как это и содержит в себе приточное сие учение, то всякий здравомыслящий ничего предлагаемого в этой книге не примет без исследования и без рассмотрения, хотя читает что–либо с первого взгляда всего более ясное и знакомое. Ибо и на то, что, по–видимому, явно, непременно возможно некое высшее воззрение. Если же и доступные разумению места сего Писания необходимо требуют тончайшего исследования, то кольми паче требуют того те места, где самое уразумение представляет много неясного и необозримого. Почему по связи речи в сем месте исследуем, есть ли что ясное в предлежащем нам чтении. Слово изображает, что премудрость изглашает некоторые речения от собственного своего лица. А кто любознателен, тому, конечно, известно, о чем говорится в том месте, где «премудрость вселяете совет, призываете разум и смысл» (Притч. 8:12), говорит, что имеет у себя «стяжание, разум и крепость», сама же именуется разумением, умеет ходить в «путех правды», и жить «посреде стезь оправдания» ; говорит о себе, что ею «царие царствуют и сильнии пишут правду», и «властитилие мною держат землю» свою (Притч. 8:18; 8:14; 8:20; 8:15; 8:16). Ибо для всякого явно, что рассудительный ничего в сказанном не примет без исследования по готовому значению слов. Ибо если ею цари вводятся во владычество, от нее имеет силу властительство, то, по всей необходимости, премудрость представится нам виновницею самовластья и на себя примет укоризны, заслуженные дурно правящими царством. Но мы знаем царей, которые под руководством премудрости действительно достигают нескончаемо продолжающегося начальства; это — «нищии духом», стяжанием которых «есть царствие небесное», как возвещает Господь, Который есть евангельская премудрость (Мф. 5:3). Таковыми же признаем тех властителей, которые владычествуют над страстями, не порабощены владычеству греха, которые, как бы на листе каком, в собственной жизни своей пишут правду. Так и похвальное самовластье при содействии мудрости, многовластие страстей обратив в единовластие ума, порабощает необузданно стремящееся к худой свободе, разумею все плотские и земные мудрования. «Плоть бо похотствует на духа» (Гал. 5:17), и восстает против начальства души. Сию–то землю держит таковой самовластитель, поставленный ее начальником при первом сотворении Словом.
2. Посему, как, по признанию всех здравомыслящих, лучше читать в подобном смысле, нежели в смысле представляющемся в словах с первого взгляда, так на сем основании справедливо здравомыслящим не просто и не без исследования принимать в связи с этим оное написанное изречение. «Аще возвещу вам», говорить Премудрость, «бывающая на всяк день, помяну, яже от века, исчести. Господь созда Мя» (Притч. 8:21–22). Что скажет мне на это изречение раб буквы, по–иудейски останавливающийся на звуке слогов? Ужели это словосочинение не представляется вносящим странность в слух более вникательных? «Аще возвещу вам бывающая на всяк день. Господь созда Мя» . Как будто, если не возвестит бывающего на всяк день, то духа, став тяжелой каплей. Посему, какая же крепость в том, чем не производится никакого ощущения в прикасающемся? Ибо разреженность и текучесть воздуха можно видеть и в облаке. Как же еще на непостоянном естестве ветров «отлучается» Божий «престол» ? А сказанному: быть сперва созданным, под конец быть рожденным и в середине между тем быть основанным, — укажет ли кто какое–либо основание, согласное с понятиями общими и представляющимися с первого взгляда? И прежде сего сомнительно в слове, почему возвещение бывающего на «всяк день», напоминание об изочтении, «яже от века», делается как бы некою причиною тому, что премудрость сказуется сотворенною от Бога.
Итак, поелику сказанное ясно дает видеть, что в представленных выражениях нет ничего такого, что без рассмотрения и без исследования могло бы принято быть в слове, то хорошо было бы, подобно прочему, и сие «Господь созда мя» истолковать не в том смысле, какой сам собою представляется нам в изречении, но со всем вниманием и тщанием поискать благочестиво разумеемого в сказуемом. Но в точности постигнуть смысл предложенного свойственно тем одним, которые Духом Святым испытуют глубины и о божественных тайнах умеют глаголать духовно. Наше же слово займется предложенным в такой мере, в какой нужно, чтобы не вовсе осталась не рассмотренною невидимая ясно в этом цель. Посему, какое же наше слово? Невозможно, думаю, чтобы Божественным просвещением сообщенная кому–либо премудрость пребывала одна без прочих дарований духа; напротив того, непременно надобно прийти с нею вместе и пророчественной благодати. Ибо если премудрости собственно принадлежит постижение истины существ, а пророчество содержит в себе уяснение будущего, то не будет обладать полным дарованием премудрости, кто и будущего не будет обнимать ведением при содействии пророчественного дара. Итак, поелику не о человеческой какой премудрости свидетельствует в себе Соломон, сказавший: «Бог же научи мя премудрости» (Притч. 30:3) и всякое слово им произнесенное восписавший Богу, когда говорит: «Моя словеса рекошася от Бога» (Притч. 31:1), то хорошо будет исследовать в этой части притчей к премудрости примешанное пророчество. Посему утверждаем, что Соломон, в предыдущих словах сказав: «Премудрость созда себе дом» (Притч. 9:1), дает в слове сем гадательно разуметь устроение плоти Господней. Ибо не в чуждом здании обитала истинная премудрость, но сама из девического чрева создала себе обитель. А здесь Соломон придает Слову, что соединено из того и другого, разумею дом и премудрость, создавшую дом, то есть человечество и срастворенное с человеком Божество, к каждому же из них приноровляет соответствующие и приличные речения, что, как можно видеть, делается и в евангелиях, где приспособление слова применительно к подлежащему высшим и боголепнейшим значением указует на Божество, а низким и неподъемлющимся от земли — на человечество.
Так можно видеть, что Соломон и в этой части подвигнут пророчески и всецело предал таинство домостроительства. Ибо сперва представляет предвечную силу и деятельность премудрости, при чем некоторым образом и в самих словах согласуется с Евангелистом. Ибо как Евангелист многообъемлющим речением одного и того же провозглашает виновником и зиждителем всех, так и Соломон говорит, что Им поодиночке приведено в бытие все исчисляемое во вселенной. «Бог», говорит он, «премудростию основа землю, уготова же небеса разумом» (Притч. 3:19), и все, что по порядку за сим следует сказанного в том же смысле. И чтобы не подать мысли, будто бы дар добродетели в людях оставляет не упомянутым, опять от лица Премудрости описывает, говоря упомянутое нами несколько прежде: «вселих совет, иразум и смысл» (Притч. 8:12), и все, что свойственно учению умственному и расширяющему сведения.
Изложив сие и подобное сему, Соломон присовокупляет учение о домостроительстве касательно человека, для чего «Слово плоть бысть» (Ин. 1:14). Ибо так как для всех явно, что сущий над всеми Бог не имеет в Себе ничего сотворенного или вводного: ни силы, ни премудрости, ни света, ни слова, ни жизни, ни истины, ни вообще чего–либо умопредставляемого в полноте Божественного лона, — все это есть «Единородный» Бог, «Сый в лоне Отчи» (Ин. 1:18), то ни к чему, умопредставляемому в Боге, не может по справедливости приложено быть имя твари, так что Сыну в Отце или Слову в начале, или свету в свете, или жизни в жизни, или премудрости в премудрости прилично было бы сказать: «Господь созда мя» . Ибо если создана Богом премудрость, Христос же — Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1:24), то, конечно, Бог возымел премудрость вводную, в последствии из приуготовленного восприяв то, чего не имел сначала. Но однако же Тот, Кто в лоне Отчем, не позволяет нам представлять себе Отчее лоно когда–либо праздным от Него, следовательно, не есть нечто, приходящее в лоно совне. Напротив того, Сущий вначале, будучи полнотою всякого блага, конечно, представляется во Отце, не ожидающим прийти в Нем в бытие посредством сотворения, потому что Отец не может быть представляем не имеющим когда–либо в себе благ. Но представляемый сущим в вечности чего Божества, всегда в Нем, как сила и жизнь, и истина, и свет, и премудрость и тому подобное. Поэтому изречение «созда мя» не Божеством и нетленным изглаголано, но тем, что, по сказанному, срастворено по домостроительству с нашим тварным естеством.
Посему, как же одно и то же, как называемое премудростью и разумом, и божественным чувством и полагает основание земли, и уготовляет небеса, и разверзает бездны, и здесь созидается в начале дел? Не без важной причины, сказано, приемлется в содействие такое домостроительство. Напротив того, поелику люди, прияв заповедь о том, что надлежит нам соблюдать, изринули из памяти благодать, по причине преслушания пребывая в забвении благ, то поэтому, да «возвещу вам» снова «бывающая на всяк день» к вашему спасению и «помяну, яже от века», исчислив, что вы забыли (потому что не новое какое евангелие возвещаю теперь, но тружусь над восстановлением вашим в первобытное состояние), поэтому–то создана я всегда сущая, и для того, чтобы иметь бытие, нимало не имеющая нужды в создании, чтобы стать мне началом «путей в дела Божии», разумею людей. Поелику поврежден был путь первый, то должно было для заблудших обновиться опять пути новому и живому, мне самой, которая есмь путь. А что смысл слов «созда мя» относится к человечеству, яснее представляет нам это божественный Апостол в собственных словах своих, в которых повелевает: «облецытеся Господем нашим Иисус Христом» (Рим. 13:14), сверх этого, где, повторяя то же самое слово, говорит: облецытеся «в новаго человека, созданаго по Богу» (Еф. 4:24). Ибо если спасительное облачение одно, и это есть Христос, то никто не скажет, что новый человек, созданный по Богу, есть кто другой, кроме Христа; напротив того, явно, что облекшийся во Христа облекся в нового человека, созданного по Богу. Ибо тот един в собственном смысле именуется человеком новым, Кто явился в человеческой жизни неизвестными и обычными путями естества. Напротив того, в нем одном обновлено какое–то отличное и особенное создание. Посему–то Апостол одного и того же, имея в виду необычность рождения, именует новым человеком, созданным по Богу, а взирая на Божеское естество, сотворенное в творении сего нового человека, называет его Христом, так что одному и тому же приданы два наименования, разумею наименование Христа и наименование нового человека, созданного по Богу.
Итак, поелику Премудрость есть Христос, то разумный слушатель пусть разберет слово и противоборствующих нам, и наше и решит, чье благочестивее. Кто в изречении паче сохраняет боголепные понятия: тот ли, кто утверждает, что Творец и Господь вселенной сотворен, и доказывает, что Он равночестен служебной твари, или тот, кто взирает паче на домостроительство и сохраняет приличествующее понятию о Божестве и понятию о человечестве. Учение сие подтверждает и великий Павел, который в новом человеке видит тварь, а в истинной Премудрости — обладание тварию. С сим воззрением на учение согласен и порядок слова. Ибо, если бы не создано было в нас начало путей, то не было бы положено основание ожидаемым векам; Господь не соделался бы для нас отцом «будущаго века», если бы, по слову Исайи, «отроча» нам не родилось (Ис. 9:6), и не было наречено имя Его, и не наречены были все другие имена, какие нарек Пророк, вместе же со всеми и имя отца «будущаго века» . Посему сперва совершились таинство девства и домостроительство страдания, потом мудрые здатели веры положили основание веры. А это есть Христос, «отец будущаго века», на нем домостроительствуется жизнь нескончаемых веков. Поелику же совершается сие, чтобы в каждом из уверовавших пришли в исполнение Божественные изволения евангельского закона, и воздействовали многоразличные дарования Святаго Духа (все же это божественное Писание в сродном некоем значении иносказательно именует горами и холмами, горами Божиими именуя правду, безднами же называя суды, а землею — землю засеваемую Словом и приносящую обильный плод, или, как в другом месте у Давида под именем гор узнаем мир, а под именем холмов правду (Пс. 71:3), то в верных необходимо рождается премудрость и истинное слово. Ибо Сущий в приявших Его не родился еще в неверных. Посему, чтобы произошло сие и в нас, необходимо в нас родиться Зиждителю сего. Так и следующее за сим будем разуметь по связи с этим. Ибо если рождена в нас премудрость, то в каждом уготовляется тогда Богом «страна» и страна «ненаселенная, страна» — сердце, приемлющее всеяние и возделание слова, страна «ненаселенная» — сердце, лишаемое лукавых обитателей. И таким образом, вселение наше будет на концах земли. Поелику на земле иное есть глубина, а иное — поверхность, то, когда кто не делается ни подземным, ни пещерным по мудрованию о дольнем (какова жизнь живущих во грехе, погрязших в зыбкой тине глубины, для которых жизнь настоящая действительно есть кладезь, по слову псалмопения, которое говорит: «ниже сведет о мне ровенник уст своих» (Не. 68:16)), поэтому, если кто после рожденной к нему премудрости начинает держаться горнего образа мыслей, столько касаясь земли, сколько это необходимо, тогда он вселяется на концах поднебесной, не углубляясь в земное мудрование. Ему, вместо земли уготовляющему в себе небо, соприсуща премудрость. И когда учение «вышних облаков» творит он для себя «крепким», приводя в исполнение заповеди, а великое и пространное море порока ограничивая строгим житием, как бы берегом каким, препятствует возмущенной воде идти мимо «уст», и если дарованием учения низведен к источникам, с осторожностью изливая струю слова, чтобы вместо чистой воды в питие кому не подать смутной смеси, и если, став выше всякого земного шествия, сделается по жизни воздушным, пожив духовным жительством, которое в слове наименовано «утрами» (Притч. 8:27), чтобы отлученным быть в престол восшедшему нем, каким был отлученный в благовестие Павел, чтобы стать сосудом избранным «пронести имя» Божие (Деян. 9:15), то как бы новым престолом для Слова соделался носящий на себе восшедшего на нем. Когда с успехом достигнуто сие и подобное сему, так что веселится уже совершивший в себе «вселенную» (Притч. 8:31) Божию, веселясь, что стал отцом не зверей каких и бессловесных, но человеком, ими же будут Божественные промыслы, по Божиему образу образуемые верою в созданного в нас и рожденного, а под именем веры, по слову Павлову, разумеется основание; при ней верным рождается премудрость и производится все сказанное, когда–то действительно блаженною делается жизнь преуспевшего. С ним согласна Премудрость: и веселится «на всяко время» о нем, на «всяк же день» веселящемся о ней одной (Притч. 8:30). Ибо Господь веселится о преподобных своих и «радость бывает» на небеси о спасаемых (Лк. 15:10), и Христос отец празднует при спасении сына. После же сего, кратко нами сказанного, трудолюбивый читатель, вникнув в основания божественного Писания, к сим воззрениям да приспособляет загадочные речения, рассудив, не гораздо ли лучше думать, что смысл загадок заключается в этой мысли, а не в той какая представляется с первого взгляда. Ибо невозможно признать истинным Иоаннова богословия, провозгласившего, что все созданное есть дело Слова, если поверим, что именуемый здесь создавшим премудрость и все прочее сотворил вместе с нею, ибо тогда не все будет через нее, но и она причислится ко всему, пришедшему в бытие.
А что к сему клонятся загадочные речи, сие ясно открывается в продолжении слова, которое говорит: «ныне убо, сыне, послушай мене» (Притч. 8:32), и: блажен, «иже пути Моя сохранит» (Притч. 8:34), путями, очевидно, называя стези к добродетели, началом которых бывает приобретение премудрости. Посему, кто же, взирая на божественное Писание, не согласится, что враги истины и нечестивы, и вместе — клеветники? Нечестивы, потому что, сколько им возможно, уничижив неизреченную славу единородного Бога, ставят Его в один ряд с тварию, усиливаясь доказать, что один из приведенных им в бытие есть Сам Господь, единородность Которого есть владычество над всем. Клеветники же потому, что, когда Писание не подает им никакого предлога к таким предположениям, они, как будто из Писания приводя свидетельство, вооружаются против благочестия. Итак, поелику ни в одном из святых Писаний не могут показать какого–либо речения, которое на предвечную славу единородного Бога советовало бы взирать как и на славу подчиненной твари; то, когда доказано сие уже нами, хорошо будет слову благочестия приписать победу над ложью и, отвергнув все сии ухищренные их именословия, которыми приводят в сходство тварь с Сотворшим и создание с Создавшим, исповедать, как учит небесное Евангелие, Сына возлюбленного, неложного, неподкинутого; и под словом «сын» разумея всякое естественное сродство, Того, Кто от истинного Бога, назвать Богом истинным, и веровать, что и в Нем также есть все, что усматривается в Отце; потому что оба суть едино, и в едином умопредставляется и другой непревосходящим и неума ленным, ни по одному боголепному и доброму отличительному качеству не отменным и не инаковым.
Итак, поелику явною сделалась борьба Евномия с самим собою, когда он обличен в противоречии самому себе (разумею же противоречие в том, что одному и тому же должно то, как рожденному по естеству, именоваться Сыном, то опять, как созданному, называться уже не Сыном, но тварию), то разумно и основательно понимающему дело, так как при двух тиворечащих одно другому понятиях не возможно равно находиться истине в том и другом, прилично, думаю, отринуть в обоих нечестивое и хульное, разумею слова «создание» и «тварь», остановиться же на одном, имеющем в виду благочестие и признающем, что наименование Сына по естеству приличествует единородному Богу, чтобы и по словам врагов учение благочестия имело состоятельность.
3. Говорю же опять, повторяя Евномиево слово, которое предложил я в начале: «Сына, как рожденного, — говорит Евномий, — не отказываемся назвать и рождением, потому что сама рожденная сущность и наименование «Сын» требуют такого соотношения имен». Посему, кто с рассуждением слушает слова сии, пусть помнит, что Евномий говорить пока о рожденной сущности, как еще не принимающий вместе слова «сущность», ни слова «нерожденность», ни слова «рождение», но отдельно берет сущность и отдельно по усматриваемым в ней свойствам разумеет, что она рождена или не рождена. Выразумеем же тщательнее сказанное о сем слово. Евномий говорит, что сущность рождена, а Сын есть имя рожденной сущности. Но наше о сем учение обличит слово его двумя возражениями, из которых одно есть обвинение в злонамеренном предприятии, а другое — обличение в бессилии сего против нас предприятия. Ибо злонамеренно поступает, говоря о рождении сущности, чтобы доказать противоположность сущностей, рожденным и нерожденным разделенных между собою до инаковости естества. А бессилие предприятия обличается тем самым, чем пользуется злонамеренность. Ибо сказавший, что сущность рождена, ясно тем определяет, что рождение есть нечто иное с сущностью, так что значение рождения неприменимо к понятию сущности. Ибо в рассуждении сего не сделал он того же, что доказал во многом другом, не сказал, что рождение есть самая сущность, напротив того, признает, что сущность рождена, чтобы в слушающих составилось Раздельное понятие о каждом речении. Ибо иная некая мысль происходит в слышащем, что нечто рождено, и иная при имени «сущность». Но яснее будет для нас слово сие из примеров. Господь сказал в Евангелии, что женщина, когда приближаются муки рождения, бывает в скорби, а после сего Радостью радуется, «яко родися человек в мир» (Ин. 16:21). Посему, как в этом случае узнаем из Евангелия, два разные понятия: одно чадорождение, Рое разумеем под словом «рождений», а другое — то самое, что бывает следствием чадорождения (ибо чадорождение — не человек, напротив того, век — произведение чадорождения); так и здесь, поелику Евномий признал, что сущность рождена, то предшествующим речением научены мы, что рождена от чего–то, а из следующего уразумели самое подлежащее, происшедшее от чего–то. Поелику, если иное есть означаемое словом «сущность», а иное предполагаем разуметь под словом «рождение», то распадаются внезапно мудрые их ухищрения, как глиняные сосуды, один с другим сведенные и один о другой сокрушенные, потому что им, разность рожденного с нерожденным переносящим на сущность Сына и Отца, не будет уже дозволено взаимное разногласие имен переносить и на самые предметы. Ибо, когда Евномий признал, что сущность рождена, то, как подобную сему мысль изъясняет евангельский пример, из которого дознав что рожден человек, не признали мы человека тожественным с рождением, но при каждом имени составили себе особое понятие, так, без сомнения, не будет иметь места ересь, учащая на основании подобных речений, признавать инаковость сущностей.
Но чтобы гораздо яснее раскрылось для нас понятие о сем, разберем еще подлежащее так: в начале человеческое естество сотворил вместе со всем прочим Устроитель всего, и после того, как приведен в бытие Адам, тогда уже узаконил людям рождение одного от другого, сказав: «раститеся и множитеся» (Быт. 1:28). Поэтому, так как Авель произошел рожденно, кто из здравомыслящих не скажет, что, по самому значению человеческого рождения, Адам произошел нерожденно? Но первый человек имел в себе всецелую меру человеческой сущности, и также и рожденный от него состоит в том же соотношении сущности. А если бы корме нарожденной сущности была создана какая–нибудь другая рожденная, то не приличествовало бы обеим одно и то же соотношение сущности. Ибо у кого сущности разные, у тех и соотношение сущности не одно и то же. Поэтому, так как сущность Адама и Авеля означается одними и теми же отличительными свойствами, то, по всей необходимости, должно согласиться, что хотя сущность обоих одна, однако же в одном и том же естестве видим то один, то другой. Ибо Адам и Авель, два человека, в рассуждении естества суть нечто единое, но по отличительным свойствам, усматриваемым в каждом из них, имеют неслитное между собою различие. Посему нельзя сказать в собственном смысле, будто бы Адам родил другую, кроме себя, сущность, но справедливее будет говорить, что Адам родил от себя другого себя, и в этом другом рождено вместе все то, что есть в сущности родившего. Посему, что дознали мы о человеческом естестве тем путем, какой наперед последовательно указан нам разумом, то самое, думаю, должно признать нам в путеводство и к непогрешимому уразумению Божественных догматов. Ибо, отринув всякое плотское и вещественное понятие о Божественных и высоких догматах, в оставшемся умопредставлении, когда оно будет очищено от подобных представлений, найдем самое безопасное руководство к высокому и недоступному. И противники исповедуют, что Сущий над всеми Бог и есть и именуется Отцом Единородного, да и единородного Бога сущего из Отца, называют рожденным, потому что рожден. Итак, поелику у людей имя «отец» имеет в себе некие сопряженные с ним значения, чуждые Естеству пречистому, то, оставив все вещественные представления, какие входят в плотское значение слова «отец», надлежит напечатлеть в себе некую боголепную мысль, показывающую одну близость к Богу Отцу. Поэтому, так как в понятии о человеческом отце заключается не только то, к представлению чего дает повод плоть, но в человеческом отчестве непременно подразумевается вместе понятие о каком–то промежутке, то хорошо будет в рассуждении о Божественном рождении вместе с телесного скверною отринуть и понятие о промежутке, чтобы превысшее рождество, будучи очищено во всем от свойственного веществу, стало чисто от всякого умопредставления не только о страстном, но и о промежуточном. Посему, кто Бога называет Отцом, тот в понятии, что Бог есть, сообъемлет и то, что такое Он есть. Ибо кому бытие принадлежит с какого–либо начала, для того, конечно, и быть чем–либо начинается с чего–либо. А в рассуждении чего не начал он бытия (если и иное что умопредставляется в Нем), то не с чего–либо имеет начало. Напротив того, Бог есть Отец, следовательно, от вечности Он то, чем есть, потому что не стал Отцом, но есть Отец. У Бога, что было, то и есть, и будет, а если чего когда–либо не было, того и нет, и не будет, потому что признаем Его Отцом не чего–либо такого, без чего сущим когда–либо в самом себе было бы благочестиво представить Бога. Ибо Отец есть Отец жизни, и истины, и премудрости, и света, и святыни, и силы, и всего тому подобного, что есть и чем именуется Единородный. Посему, когда противники доказывают, что нет иногда света, не знаю, кому более ущерба, самому ли свету, когда Он не свет, или не имевшему когда–либо у себя света. Так должно сказать и о жизни, и об истине, и о силе и обо всем прочем, чем наполняет Отчее лоно Единородный, сущий всем этим в собственной своей полноте; в рассуждении того и другого одинаковая открывается несообразность, и хуле на Сына равносильно нечестие перед Отцом. Сказав, что когда–нибудь нет Господа, не просто допустишь, что нет силы, но выразишь сим, что нет силы Божией, нет силы Отчей. Следовательно, утверждаемое в твоем слове о небытии некогда Сына, не иное что утверждает, как отсутствие всякого блага у Отца. Смотри, к чему обращается остроумие мудрых и сколько истины в Господнем о сем слове, которое говорит: «отметаяйся же Мене, отметается пославшаго Мя» (Лк. 10:16). Ибо чем отвергают вечное бытие Единородного, тем самым бесчестят Отца, словом своим отъемля у славы Отчей всякое доброе именование и представление о ней.
Посему, сказанным ясно обнаружено бессилие злоухищрения у писателя, который, намереваясь доказать противоположность сущности Единородного и сущности Отца наименованием одной нарожденною, а другой рожденною, изобличает себя в том, что усиливается утверждать несостоятельное. Ибо из слов его явствовало, во–первых, что иное есть имя сущности, а иное — рождения, а потом, что сущность в Сыне не какая–либо новая и отличная от сущности Отца. Напротив того, что есть Отец в отношении к естеству, то же есть и Тот, Кто от Него, потому что, по доказанной уже нами истине сего слова, естество в лице Сына не изменилось в инаковость. Сущность Авеля не произвела перемены естества, так, по чистому учению, Единородный Бог, нисшедши от Отца и во Отце пребывая, как говорит Евангелие (Ин. 16:28; 17:21), рождением Своим нимало не изменил в Себе сущности нерожденного, но, по простому и нехитрому слововыражению нашей веры, есть свет от света, Бог истинный от Бога истинного, Сущий всем тем, чем есть Отец, кроме сего единого, что Тот — Отец. О цели же, с которой Евномий рассуждает о сем так утонченно, не должно, думаю, и говорить в настоящем случае. Дерзко и опасно или позволительно и безопасно превращать из одного в другое речения, означающие естество Божие, и Рожденного называть рождением, — оставляю это без исследования, чтобы слово наше, сверх должной меры занявшись спором о мелочах, не вознерадело о важнейшем.
Но должно, как рассуждаю, в точности выразуметь, естественно ли то отношение, которым вводится употребление сих именований, ибо Евномий, без сомнения, утверждает, что со свойством наименований вводится вместе и существенное свойство. Он, конечно, не скажет, что одни наименования, сами по себе взятые отдельно от представления означаемого ими, имеют какое–либо соотношение и свойство между собою; напротив того, в значениях, выражаемых речениями, различаем, что сродно и что чуждо в наименованиях. Посему, если Евномий признает, что Сын имеет естественное отношение к Отцу, то, оставляя именования, выразумеем силу, заключающуюся в означаемом, что подразумевается при этом свойстве: то ли, что Они чужды по сущности, или то, что сродны и свои между собою. Сказать, что Они чужды, — признак явного безумия. Ибо как соблюсти связный и сродный порядок в именах того, что одному другому чуждо и одно с другим не имеет общения, когда сама рожденная сущность, как говорит Евномий, и наименование Сына усвояют себе такое отношение имен? Если же скажет, что сродное означается сими именованиями, то по свойству имен необходимо окажется защитником общей сущности. И доказывая, что сими менами означается связь подлежащих, многократно делая это в своем сочинении, не умеет сего сделать. Ибо чем предприемлет испровергнуть истину, тем самым против воли увлекается часто к защищению противных ему догматов. Подобное нечто знаем и из истории о Сауле, а именно, что, движимый гневом на пророчествующих, был некогда препобежден благодатью и стал одним из богодвижимых, потому что, думаю, пророческий Дух восхотел сам собою наставить отступников. Почему необычайность события в последующее время стала притчею для живущих, когда история на удивление рассказывала подобное: «еда и Саул во пророцех» (1 Ца.р. 10:11)?
4. Посему, в чем же Евномий соглашается с истиною? В том, что говорит: «Сам Господь, Сын Бога живого, не стыдясь рождения от Девы, в речах Своих часто именует Себя Сыном человеческим». Слово это приводим и мы в доказательство общей сущности, потому что имя Сына указует на одинаковую общность естества с тем и другим; как Сыном человеческим называется по сродству плоти Его с тою, от которой рожден, так, конечно, и Сыном Божиим умопредставляется по связи сущности Его с тою, от которой Он происходит. И это слово есть величайшее оружие истины. Ибо «Ходатай Бога и человеков», как наименовал великий Апостол (1 Тим. 2:5), ничто столько не указует, как имя Сына, равно прилагаемое к тому и другому естеству, и к Божескому, и к человеческому. Ибо один и тот же и есть Сын Божий и по домостроительству соделался Сыном человеческим, чтобы общением с тем и другим связать Собою, что расстоит по естеству. Посему если бы, соделавшись Сыном человеческим, был Он непричастен человеческого естества, то справедливо было бы сказать, что Он, будучи Сыном Божиим, не имеет общения с Божиею сущностью. Если же было в Нем все срастворение человечества (потому что искушен был «по всяческим по подобию, разве греха» (Евр. 4:15)), то, по всей необходимости, должно веровать, что в Сыне (так как слово Его одинаково приписует Ему то и другое: в человеке — человеческое, и в Боге — Божеское) есть всякое отличительное свойство превысшей сущности.
Итак, если наименования, как говорит Евномий, показывают свойство, свойств же усматривается в предметах, а не в простых звуках имен (под именем же предметов, которые умопредставляются сами по себе, если не дерзко так выразиться, разумею Сына и Отца), то станет ли кто оспаривать, что сам защитник хулы едва не увлечен, не примечая того, в защитники благочестивого учения, сам собою опровергая собственные свои слова и проповедуя в божественных догматах общность сущности? Ибо е лжет в этом невольно в пользу истины брошенное Евномием слово, что не назывался бы и Сыном, если бы не оправдывало названия естественное значение имен. Ибо скамья не называется сыном художника, и никто из здравомыслящих не скажет, что зодчий родил дом, и виноград не называем рождением виноградаря, напротив того, как сделанное человеком зовем его, так сыном человека называем рожденного им, чтобы, как думаю, именами означалось в подлежащих свойственное им. Так и Единородного Божия наученные именовать Сыном, вследствие сего наименования стали умопредставлять не творением Божиим, но тем, что действительно указует в означаемом слово «Сын». Если же в Писании и вино именуется порождением винограда, то от этой подобоименности не потерпит вреда учение о догмате благочестия. Ибо не называем вина порождением дуба или желудя — порождением виноградной лозы, напротив того, такое название имеет место, ежели у порождения с тем, из чего оно, есть что–либо общее по естеству. Ибо влага в виноградной лозе, основанием корня извлекаемая в сердцевину растения, по силе своей есть вода, но в некотором порядке проходя естественными путями и с нижних путей переливаясь в верхние части, качество влаги прелагает в вино при некоем содействии солнечного луча, который, теплотою извлекая влагу из глубины в растение свойственным и приличным перевариванием жидкости делает из нее вино! так что заключающаяся в виноградной лозе влага естественно не имеет никакой инаковости с вином, ею порожденным, потому что из одной влаги происходит другая влага, и никто не скажет, что иная какая–либо причина винной жидкости, а не влажность, естественно находящаяся в ветвях; разности же качеств происходят не от видоизменений влаги, но, поелику некое особое свойство винную влагу отличает от сгущенной в ветвях, или сладостью или водянистостью сопровождая ту или другую влажность, так что в подлежащем влаги суть одно и то же, различаются же разностями качеств. Следовательно, как слыша, что в Писании Единородный Бог называется Сыном человеческим, по отношению имени дознали мы близкое сродство с истинным человеком, так, если Сын, по учению противника, назван будет рождением, тем не менее и из сего дознаем сродство Его в сущности с Родшим, потому что вино, называемое порождением виноградной лозы, относительно к влаге найдено не чуждым естественной силе, заключающейся в виноградной лозе. Но утверждаемое противниками, если кто здраво исследует это, клонится к нашему учению; смысл слов их противоречит собственным их доказательствам, как ни стараются они повсюду утверждать разность по сущности. И вовсе не легко отгадать, чем приведены они к подобным понятиям. Ибо если наименование «Сын» означает не просто бытие от кого–нибудь, но означаемым указует собственно на естественную близость, как говорит сам Евномий, и вино не называется порождением дуба, и «порождения ехиднова», как говорит Евангелие, суть «змия» (Мф. 23:33), а не овцы, то явно, что и в рассуждении Единородного наименования «Сын» и «рождение» имеют свойство не с инородным. Но если, по словам противников, называется и рождением, и название Сыном, как и они признают, согласно с естеством, то, конечно, Сын из сущности Родшего, а не из чего–либо иного, представляющегося вне естества. Если же действительно из сущности, то, конечно, не чужд Того, из чего Он, как доказано и другими примерами, а именно, что всякое существо, от чего бы рождено ни было, непременно однородно с тем, от чего получило бытие.
5. Если же кто потребует какого–либо истолкования, описания и изложения Божией сущности, то не отречемся, что несведущи в такой премудрости, исповедуя только то, что беспредельное по естеству не может быть обнято каким–либо примышлением речений. А что Божие величие не имеет предела, о сем ясно гласит пророческое слово, проповедуя, что «великолепию, славе, святынь Его несть конца» (Пс. 144:3; 144:5). Если же свойства Его бесконечны, то гораздо паче Сам Он по сущности во всем, что Он есть, не объемлется ни каким пределом и ни в какой части. Посему, если истолкование посредством имен и речений значением своим объемлет сколько–нибудь подлежащее, беспредельное же объято быть не может, то несправедливо стал бы кто обвинять нас в невежестве, когда не отваживаемся, на что и отваживаться не должно. Ибо, каким именем объять мне необъятное? Каким речением высказать неизглаголанное? Итак, поелику Божество превосходнее и выше всякого означения именами, то научились мы молчанием чествовать превышающее и слово, и разумение. И если на сию осторожность в слове и нападает мудрствующий паче, нежели должно мудрствовать, и обращая в смех наше неведение непостижимого, в неизобразимом, неограниченном, неопределимом по величине и количеству, разумею Отца, и Сына, и Святаго Духа, познает разность в несходстве и представляет в обличение нашего невежества это, всегда сказуемое учениками прелести, изречение: «Вы кланяетеся, Егоже не весте» (Ин. 4:22), если не знаете сущности Поклоняемого, то, по совету Пророка, не убоимся «укоренил» безрассудных, по причине «похуления» их (Ис. 51:7) не отважимся на неизглаголанное, учителем превышающих ведение тайн делая простеца в слове Павла, который столько далек от мысли естество Божие признать доступным человеческому постижению, что и «судове» Божий называет неиспытанными и «путие Его» неисследованными (Рим. 11:33) и утверждает, что обещанное Богом любящим Его за преспеяния в настоящей жизни выше постижения, почему невозможно сего ни оком объять, ни слухом приять, ни в сердце вместить (1 Кор. 2:9). Посему, дознав от Павла, смело утверждаем, что не только суды Божий выше силы покушающихся исследовать их, но и пути ведения доныне остаются неположенными и непроходимыми. Ибо сие, как думаем, намереваясь означить, Апостол сказал, что «неисследовани путие», ведущие к Непостижимому, показывая сим выражением, что оное ведение недоступно человеческим помыслам, и никто еще не направлял своего разумения к таковому разумному шествию и не показывал какого–либо следа и признака, что постижением своим приступил он к непостижимому.
Итак, дознав от великой апостольской души, заключаем из сказанного что, если суды не могут быть испытываемы и пути не исследываются, и обетование благ превосходит всякое гадательное представление, то в какой паче сего мере по неизглаголанности и недоступности само Божество превосходнее и выше всего, умопредставляемого окрест Его, о чем никакого нет ведения, как утверждает наученный Богом Павел? И поэтому твердо содержим в себе самих осмеиваемое учение, исповедуя, что по ведению мы ниже превышающего ведение, и говорим, что действительно кланяемся «Его же вемы» . Ведаем же высоту славы Поклоняемого из того самого, что не можем обнять помыслами, заключая о несравнимом величии; и сказанное Господом самарянке, врагами же прилагаемое к нам, да будет скорее в собственном смысле сказано им. Ибо сие: «вы кланяетеся, Егоже не весте», — Господь говорит самарянке, в мнениях о Боге предзанятой плотскими понятиями, и чувствительно касается ее речь, потому что самаряне, думая поклоняться Богу и потом полагая, что Божество телесно пребывает на месте, чтут Бога только на словах, поклоняюсь чему–то иному, а не Богу. Ибо Божество не есть что–либо, умопредставляемое в очертании. Напротив того, Божеству свойственно быть везде, все проницать и ничем не ограничиваться. Посему, в обвинение христоборцев обращается слово, приводимое ими против нас. Ибо как самаряне, думая, что Божество объемлется местным неким очертанием, укорены были тем, что услышали: «вы кланяетеся, Егоже не весте» ; и служение, вами совершаемое перед Богом, делается бесполезным, потому что Бог, почитаемый пребывающим на каком–либо месте, не есть Бог; так в собственном смысле можно сказать и новым самарянам: именем нерожденности предполагая объять Божественную сущность как бы местом каким, «вы кланяетеся, Егоже не весте», совершая служение как Богу, но не зная, что беспредельность Божия не подходит ни под какое значение и ни под какой объем именований.
Но речь наша, следуя всегда за представляющимся по связи, далеко уклонилась от предположенного. Посему опять возвратимся к порядку, потому что представленное Евномием изречение достаточно, думаю, объяснено в сказанном, как противоречащее не только истине, но и самому себе. Ибо если по словам еретиков наименованием «Сын» устанавливается естественное отношение Сына к Отцу, рождения к родшему, так как, по какой–то грамматической вольности в слове, мудрость их выражения, означающего естество Божие, легко преобразует в виде имен, то никто уже не усомнится, что взаимное отношение имен, естественно составившееся, делается доказательством их близости, лучше же сказать, тожества по сущности. Но слово наше да не извращает речения противоположного, чтобы не показалось, будто бы учение благочестия почерпает силу в одном бессилии противоборствующих, а не в себе самом наипаче имеет силу. Поэтому, сколько можно, усильнейшею защитою пусть будет с нашей стороны подкреплено ими противопоставленное нам слово, чтобы превосходство силы могло быть дознано из великой уверенности, когда и опущенное противниками употребим в дело при точном испытании истины. Ибо утвердившийся в противном мнении, может быть, скажет, что названия «Сын» и «рождение», конечно, не доказывают непременно естественного сродства. И в Писании называется иной чадом гнева (Еф. 2 3), сыном погибели (2 Фес. 2:3), порождением ехидны (Мф. 3:7), и в таковых наименованиях не видно еще какой–либо общности естества. Ибо не одно и то же в подлежащем Иуда, названный сыном погибели, и самая, по умопредставлению, погибель; иное означается словом «Иуда», и иное — словом «погибель». Подобно сему такое же доказательство найдет себе речь и от противного. Ибо называемые сынами какого–то света и сынами дня в отношении к естеству не одно и то же со светом и с днем; и камни соделываются чадами Авраама (Лк. 3:8), когда верою и делами усвояют себе сродство с ним; и «Духом Божиим» водимые, как говорит Апостол, называются «сынове Божий» (Рим. 8:14), не будучи одним и тем же с Богом по естеству. И много подобного собрать можно в богодухновенном Писании, чем прикрывшись, обольщение подобно какой–то картине, испещренной свидетельствами Писания, ложно представляет из себя образ истины.
6. Итак, что же скажем на это мы? Божественное Писание умеет в обоих значениях употреблять речение «сын», так что у иных наименование сие от естества, а иными оно приобретено и усвоено. Когда Писание говорит о сынах человеческих и сынах овних, означает отношение по сущности рожденного к тому, кем он рожден. Когда же называет сынами силы или чадами Божиими, представляет близкое сродство, состоявшееся по произволению. И даже в противоположном смысле одни и те же наименованы и «сынове (же) Илии», и «сынове погибельнии» (1 Цар. 2:12), так как название сыновей весьма сообразно было с каждым из сих понятий. Название ««сынове Илии»« свидетельствовало о естественном их родстве с Илием, а наименованием ««сынове погибельнии»« обвиняемы они были в дурном произволении, в том, что не отцу соревновали в жизни, но произволение свое сроднили с пороком. Посему в отношении к дольнему естеству и к делам нашим по одинаковой склонности человечества к тому и другому, разумею к пороку и к добродетели, от нас зависит сделаться сынами или ночи, или дня, между тем как природа наша относительно к главному в ней остается в собственных своих пределах. И сделавшийся чадом гнева за свою порочность не стал чуждым человеческого рождения, и по произволению сроднивший себя с добром благопристойностью своих поступков не отверг того, что происходит от людей. Напротив того, природа остается тою же в том и другом, но разности в произволениях приемлют на себя свойственные тому дарования: одни за добродетель делаются чадами Божиими, другие за порочность — чадами противника.
В рассуждении же божественных догматов сохраняющий естественный порядок Евномий (употребляю собственные речения сочинителя), оставаясь на читанном выше, и Рожденного не переставая называть рождением, потому что, по словам Евномия, рождена сама сущность, и именование «сын» усвояет себе такое отношение имен, почему делает Рожденного чуждым сродства с Родшим по сущности? Ибо об именуемых сынами или порождениями в обвинение или еще о тех, кому таковыми наименованиями сопровождается какая–либо похвала, нельзя сказать, что такой–то называется чадом гнева, потому что действительно рожден гневом, или также, что своею матерью по телу имел светлость дня и потому наименован ее сыном; напротив того, разность произволений производит имена такового родства. Здесь же Евномий говорит: рожденного, действительного сына не отказываемся наименовать рождением, потому что, по словам его, урождена сущность, и название «сын» усвояет себе таковое отношение имен». Итак, если признает, что Сын, как действительное рождение, усвояет себе такое отношение имен, то имеет ли какой повод подобную причину наименований прилагать к называемым в смысле переносном, по несобственному словоупотреблению, и там, где, как говорит Евномий, естественное отношение при–свояет себе таковое название? Итак, действительно возможно этому подобное в рассуждении тех одних, у кого естество сопредельно и добродетели и пороку, от чего иной не редко принимает на себя противоположные именования, делаясь чадом то света, то опять тьмы, по сроднению своему с хорошим или с противоположным тому. А где не имеет места противоположное, там никто не скажет, что речение «сын» употребляется в переносном смысле, как и о том, чему название это усвояется по произволению. Ибо не дойдет до того, чтобы сказать: как человек, отложивший дела темные, вследствие благообразной жизни делается чадом света, так и единородный Бог за перемену из худшего восприемлет предпочтительнейшее. Ибо кто, будучи человеком, делается сыном Божиим, тот посредством духовного рождения вступает в единение с Христом; а кто сам собою делает человека сыном Божиим, тот сам не имеет нужды в ином сыне, дарующем Ему сыноположение, но что Он есть по естеству, тем и именуется. Человек сам себя изменяет, из ветхого превращаясь в нового; Богу же во что превратиться, чтобы приобрести, чего не имеет? Человек, совлекаясь себя самого, облекается в естество божественное, а Кто всегда одинаков, Тому что отложит или что восприять? Человек делается сыном Божиим, восприяв, чего не имеет, и, отложив, что имеет, но Кто никогда не имел порока, Тому нечего ни восприять, ни оставить. Еще человек может быть назван чьим–либо сыном, иногда действительным, когда называет его кто, смотря на естество иногда по неточному словоупотреблению, когда произволение жизни налагает на него имя. Но Бог, как единое благо, в простом и несложном естестве, имеет всегда одну и ту же цель и никогда не изменяется в стремлениях своего произволения, но всегда хочет тем быть, что Он есть, и всегда есть то самое, чем хочет быть. Вследствие сего в собственном смысле и действительно именуется Сыном Божиим по тому и по другому: и по тому, что естество в Себе самом имеет благо, и по тому, что произволение не отступает от лучшего, а посему и название сие придается ему не по неточному словоупотреблению. Следовательно, и возражение, какое сделали мы сами себе от лица противников о сродстве по естеству и ими будто бы произносимое на основании Писания, никакого не имеет места.
Но не знаю, почему или за что ненавидя истину и отвращаясь от нее, хотя именуют Единородного Сыном, однако же, как будто сим речением не может быть засвидетельствовано, что имеет с Отцом общее по сущности, и лишая слово значения, заключающегося в имени, оставляют Единородному пустое и ничего не значащее именование Сына, уступая Ему один звук речения. И что говорю это справедливо и не ошибаюсь в намерении противников, сие ясно можно дознать из того самого, что противопоставляют истине. Ибо вот что представляют они в сложение хулы, узнали мы из божественного Писания много имен Единородного, каковы: камень (λιθος) (1 Пет. 2:7), секира (Мф. 3:10), камень (πετρος) (1 Кор. 10:4), основание (1 Кор. 3:10), хлеб (1 Кор. 10:17), виноградная лоза (Ин. 15:1), дверь (Ин. 10:9), путь (Мф. 7:14), пастырь (Ин. 10:11), источник (Ин. 4:14), древо (Откр. 22:14), воскрешение (Ин. 11:25), учитель (Мф. 23:8), свет (Ин. 1:4), и многие иные, им подобные, но ни одного из сих имен, взятого в его значении, представляющемся с первого взгляда, не будет благочестиво употреблять, разумея о Господе, ибо весьма нелепо было бы думать, что бесплотное, невещественное, простое, не имеющее вида может быть изображено какими–либо видимо представляемыми значениями имен, так что, услышав о секире, не железо определенного вида представляем или не разлитый в воздухе свет, или не виноградную лозу среди ветвей растения, или иное что, как предлагает представлять себе обычай, напротив же того, значение этих имен перенося на боголепнейшее, хотя так именуем, но представляем себе нечто иное, не потому, что действительно таково что–либо из этого относительно к естеству, но потому что, хотя и называется это, однако же разумеемое есть нечто иное с называемым. Если же таковы имена, и они действительно придаются единородному Богу, и не заключают в себе указания на естество, то следует, говорят еретики, и значение именования «сын» не принимать, согласно с преобладающим обычаем, в показание естества, но искать в этом слове какого–либо другого значения, кроме общего и представляющегося с первого взгляда. Так и подобно сему любомудрствуют они для доказательства, что Сын не то, что Он есть и чем именуется. Но к иному близка была наша речь, и именно готова была доказать, что новое сочинение Евномия лживо и несостоятельно, несогласно ни с истиною, ни само с собою. Но поелику тем самым, чем обвиняем их учение, внесена в речь как бы некая защита хулы, то хорошо будет сначала кратко рассудить об этом, а потом уже возвратиться к порядку написанного.
7. Посему, что же сказав на подобное сему, можно не погрешить против надлежащего? То, что имен, которые Писание придает Единородному, как и они говорят, много, но ни одно из прочих имен, как утверждаем, не сродно так по отношению к Родшему. Ибо не в том отношении к Богу всяческих называем как Сыном Отца, так или камнем, или воскресением, или пастырем, или светом, или чем–либо иным. Напротив того, как бы с неким искусством и правилом Божеские имена по их значению делить должно на две части. Ибо одни содержат в себе указание высокой и неизреченной славы, а другие указуют на многообразность промыслительного домостроительства, так что предположительно, если бы не было пользующихся благодеяниями, то не приличны были бы в этом случае и сии речения, указующие на благодеяние. Те же речения, которые выражают боголепное, и без отношения к состоящим под домостроительством с полным приличием и в собственном смысле придаются Единородному Богу. Но чтобы в большей ясности раскрылось нам таковое учение, бросим взгляд на самые имена. Господь наименован виноградной лозою не ради чего иного, как ради возращения в Нем укорененных, не именовался бы пастырем, если бы не гибли овцы дома Израилевна, и врачом назван не ради чего, как ради болящих, не принял бы« на Себя и прочих имен, если бы по некоей промыслительной деятельности не присвоял Себе сих речений к пользе благодетельствуемых. Ибо должно ли, говоря о каждом речении отдельно, длить речь о том, что признается всеми? Сыном же, десницею, Единородным, Словом, Премудростью, силою и всяким подобным речением, каким нарицаем, имея что–либо в виду, нарицается как бы в некоем относительном сопряжении с Отцом всех с Ним вместе именуемый. Ибо именуется силою Божиею, десницею Божиею, Премудростью Божиею, Сыном Отчим, Единородным, Словом у Бога и подобными сему именами. Поэтому следует видеть соответственное и приличное подлежащему значение каждого из сказанных имен, чтобы уклонением от правого разумения не погрешить нам в учении благочестия. Посему, как в других именах, перелагая каждое из них в что–либо боголепное, отмещем первоначальное о них понятие, так что и свет разумеем не какой–либо вещественный, и путь не ногами протоптанный, и хлеб не из земли произращенный, и Слово, не из речений составленное, напротив того, вместо сего разумеем все то что представляет величие силы Слова Божия, так, если кто отринет обычное и естественное значение слова «Сын», из которого дознаем, что Именуемый из сущности Родшего, то, конечно, переложит имя сие в какое–либо боголепнее толкуемое. Ибо как делаемое преложение всякого иного имени в другое славнейшее служило к показанию Божеской силы, так конечно, следует и означаемому сим именем прелагаться в более возвышенное. Посему, какой же должен боголепнейший смысл заключаться в наименовании Сыном, если, по учению противников, отринуто будет естественное отношение к Родшему? Ибо, может быть, никто не будет столько дерзок на нечестие, чтобы в понятиях о Божием естестве низкое и по земле пресмыкающееся почесть более приличным, нежели возвышенное и великое. Посему, если находят какой–либо более величественный смысл сего имени, так что кажется им недостойным Единородного представлять себе о Нем, что Он от Отчего естества, то пусть скажут, знают ли они по невыразимой своей, мудрости что–либо высшее Отчего естества, чтобы до сего превознести Единородного Бога, поставить Его выше отношения к Отцу. Если же величие Божия естества превышает всякую высоту и превосходит всякую удивительную силу, то остается ли еще какое понятие, которым бы истолкование названия «Сын» возводилось к высшему еще смыслу? Итак, поелику признает Евномий, что всякое выражение, означающее Единородного, хотя именование сие берется из дольнего обычая, в понятиях преложенное в высшее значение, говорится в собственном смысле, доказывается же, что невозможно найти какого–либо понятия, которое было бы возвышеннее именования «Сын», представляющего естественную связь с Родшим, то нет, думаю, надобности замедлять долее на этом месте, достаточно доказав сказанным, что не надлежит толковать по подобию прочих имен и наименование «Сын».
Но взгляд свой снова должно обратить нам на книгу. Не одно и то же — не отказываться Рожденного называть рождением (ибо употреблять буду собственные их речения), потому что сама рожденная сущность и наименование Сыном присвояют себе таковое отношение имен, и еще естественные именования прелагать в переносные заменения, так что выходит одно из двух: или первый ряд доказательств у них распадается, и напрасно прибегают к естественному чину в подтверждение того, что Рожденного должно называть рождением, или, если утверждается это по надлежащему, разрушится другое основание доказанного прежде. Ибо именуемому у них рождением, потому что рожден, неестественно по сему самому называться произведением и тварию. Весьма большая разность в означаемом каждым из сих имен, и с рассудительностью пользующемуся речениями надлежит употреблять слова, имея в виду подлежащее, чтобы не произошло у нас слитности понятий, когда одни речения изменять станем в другие, несвойственные их значению. Посему делом художника именуем произведенное искусством, а сыном человека называем рожденного человеком. Но никто из здравомыслящих не назовет дела сыном, ни сына — делом, ибо сливающему и смешивающему истинное значение в погрешительном употреблении имен свойственно это. По сему одно из сих двух понятий по необходимости справедливо в рассуждении Единородного. Если Он Сын, то не может называться тварию, а если один из тварей, то чуждо Ему название Сына, как и небо, и земля, и море, и каждая но порядку тварь не приемлет на себя имени «сын». А поелику Евномий свидетельствует, что Единородный Бог рожден, свидетельство же врагов сильнее других в утверждении истины, то, сказав, что Он рожден, сим самым засвидетельствовал, что не сотворен. Но о сем довольно. Поелику много притекает у нас речей, то, чтобы множество их не дошло до безмерности, удовольствуемся сказанным о предложенном.
Книга четвертая
Содержание четвертой книги
1. Четвертая книга содержит в себе исследование о происхождении слова «порождение» и о бесстрастном рождении Единородного; ясно истолковывает сказанное: «В начале бе Слово» (Ин. 1:1) и еще — рождение от Девы.
2. После сего, обличив Евномия, что им об Единородном сказано приличное земному существу, показывает намерение его доказать, что Единородный изменяем и сотворен.
3. Потом чудесно излагает еще понятие о Первородном, четырехкратно упомянутое Апостолом.
4. После этого излагает опять бесстрастие Господня рождения и неразумие Евномия, как он сказал, что рожденной сущности принадлежит название «Сын», и опять забывает сие и отрицает отношение Сына к Отцу; между этим идет речь о Цирцее и о врачевстве Мандрагоры.
5. Еще доказывает, что Евн'омий, вынужденный истиною, делается защитником правого догмата, исповедующим в самом собственном смысле так именуемою и первою сущность не только Отца, но и Единородного.
6. Потом входит в рассуждение о рожденном, о произведении, и о твари и показывает у Евномия и Феогноста нечестиво сказанное о непосредственности и неделимости сущности и об отношении к Сотворшему и произведшему.
7. При сем показывает, что приведенное в бытие после Сына с Ним несравнимо, явственно и искусно обличает скрытное идолопоклонство, злонамеренно придуманное Евномием к обольщению слушающих именованием Единородного Сына.
8. А после сего доказывает, что сущность Отца и Сына неизменяема, причем объясняет многие виды различия и согласия, а также образ, и печать, и отличительное свойство.
9. После этого, объяснив речения «сущность» и «рождение», Евномия суесловие и пустословие называет похожим на гремушку. За сим, сказанное великим Василием о рождении Единородного и подвергнутое худому отзыву Евномием представив в ясном виде, заключает тем слово.
1. Полезно будет исследовать происхождение слова «порождение» таким любомудрием тщательно изложенное в сочинении Евномия. Итак, говорит Евномий (передаю буквально изукрашенное им слово против истины): «кто столько нерадив и так мало вникал в естество существ что о телах, которые исследуются на земле, когда рождают и рождаются, действуют и страждут, не знает, что рождающие передают собственную сущность, а рождаемые восприемлют обыкновенно сию сущность; посему так как вещественная причина общая, и отвне притекает содействие, и рождаемое рождается по страсти, и рождающее по естеству не имеет чистой деятельности, потому что естество сопряжено со страстями всякого рода» Смотрите, как благоприлично представляет в своем взгляде предвечное рождение сущего в начале Бога Слова, со тщательностью обозревающий естество существ, тела на земле и вещественную причину, и страсть рождающих и рождаемых и все, подобное тому, чего иной из имеющих ум постыдился бы, если бы говорилось сие и о нас, в слове выставлялось на позор наше страстное естество. Но блистательно подобное рассуждение писателя об естестве единородного Бога! А мы, отложив в сторону негодование (ибо стенание поможет ли нам сколько–нибудь к низложению злобы врагов?), сколько будем в силах, раскроем смысл сказанного.
На какое рождение предлежит взгляд: на рождение ли, происходящее по плоти, или на рождение единородного Бога? Поелику взгляд двояк и на жизнь Божественную, простую и невещественную, и на существо вещественное и страстное, и в обоих случаях речь идет равно о рождении, то необходимо сделать ясное и неслитное определение означаемого, чтобы подобоименность слова «рождение» не превратила истины в ложь. Посему, так как плотское вступление в бытие есть какое–то вещественное и сопровождаемое страстями, а бесплотное, не осязаемое, не имеющее вида, свободное от вещественного смешения чуждо всякого страстного расположения, то надлежит рассмотреть, о каком рождении был вопрос: о чистом ли и Божественном или о страстном и нечистом. Но никто не станет спорить, что обозрению слова предлежало предвечное осуществление единородного Бога. Посему, для чего же Евномий останавливается на сем телесном естествословии, украшая слово мерзостями, оскверняя естество и описывая страсти, действующие при человеческом рождении, а между тем оставляя предлежащий ему предмет? Нужно нам было изучить не это скотское, при посредстве плоти совершаемое рождение. И кто столько прост, что, смотря на самого себя, и разумея в себе человеческое, станет искать иного объяснения своему естеству и возымеет нужду догнать все те необходимые страдания, какие усматриваются при рождении тела, потому что, хотя рождает кто иначе, однако же и иначе рождаемое бывает в страдании, так что из сего учения человек дознает, что и сам рождает со страданием, и страдание началось у него с рождения? Ибо умолчано ли это или сказано, следствие одно и то же; напишет ли кто, разглашая сокровенное, или прикроет молчанием, о чем не должно говорить, не остаемся в неведении, что естество наше происходит путем страданий. Но мы домогаемся, чтобы объяснило нам слово то возвышенное и неизреченное осуществление Единородного, каким, как веруем, Он от Отца.
Итак, исследованию подлежит это, и новый богослов предлагает в слове и течение, и страдание, и вещественную причину, и какое–то действование, не очищенное от скверны, и содействие, притекающее отвне, и все тому подобное. Не знаю, в каком состоянии по преизбытку мудрости утверждающий о себе, что вне его ведения не остается ничего не постижимого, и обещающий объяснить неизреченное рождение Сына, отступив от предположенного, подобно угрю, погружается в грязную тину помыслов, по примеру оного ночью приходившего Никодима, который, когда Господь учил о рождении свыше, увлекался помыслами в недра матернего чрева и недоумевал, как можно в другой раз быть опять внутри ложесн, говоря: как может быть сие? Думая, что старцу невозможно быть снова зачатым в матерней утробе, духовное рождение обличал в несостоятельности. Но погрешительное мнение Никодима исправляет Господь, говоря, что свойства плоти и духа не должны быть смешиваемы. Пусть и Евномий, если угодно, исправится в подобных мыслях. Ибо думаю, что заботящемуся об истине должно рассматривать предложенное в свойственном ему, а не по суждению о вещественном клеветать и на невещественное. Ибо, если человек или вол, или другое что из рождаемого по плоти нечисто от страстей, когда рождает или рождается, то сие значит ли что для естества бесстрастного и чистого? Тем, что мы смертны, не отвергается бессмертие Единородного, удобопревратностью людей в порок не подвергается сомнению непревратность естества Божественного, и ничто другое, свойственное нам, не переносится и на Бога. Напротив того, особенные свойства человеческой и Божественной жизни суть нечто несмешиваемое и несообщимое, и отличительные свойства во всем различны, так что ни человеческие не заключаются в божественном, ни обратно божественные — в человеческом.
Итак, почему же Евномий, когда предположено говорить о Божественном рождении, оставив предположенное, описывает земное, хотя о сем нет у нас с ним ни малого спора? Но цель искусника очевидна–охуждением за страсть уничтожить рождение Господа. И в этом, не говоря о хуле, дивлюсь тонкости ума в человеке, как помнит, о чем у него забота, и сказанным прежде приводя к заключению, что Сыну должно быть и называться рождением, теперь спорит, что рождения о Сыне и представлять себе не надлежит. Ибо если всякое рождение, как думает Евномий, тесно связано с страстным расположением, то, по всей необходимости, вследствие сего признается, что чуждое страданию вместе с тем непременно чуждо и рождению. Если и страдание, и рождение представляются в мысли соединенными между собою, то непричастный одного из них не может иметь общения с другим. Посему, как же вследствие рождения называет порождением Того, о Ком, на основании сказанного теперь, самим же доказано, что Он нерожден? Из за чего же Евномий спорит с нашим учителем, который советует не осмеливаться на составление имен в Божественных догматах, но хотя признавать, что Сын рожден, понятие сего однако же не превращать в вид имени, так чтобы рожденного называть порождением, так как слово сие в Писании употребляется собственно о вещах неодушевленных или взятых в образ злости? Но когда говорится у нас, что слово «порождение» должно быть умалчиваемо, Евномий употребляет в дело неодолимую оную риторику, взяв в поборничество и грамматическую холодность речи, и с помощью искусственного или производства, или подбора имен, или, не знаю, как прилично назвать сие должно, делает из сего умозаключения, не запрещая Рожденного называть порождением. Когда же, приняв это, подвергнем рассмотрению понятие имени, чтобы доказывать из сего общность сущности, опять берет именования в особенном смысле и утверждает, что порождение не рождено, срамным естествословием телесного рождения уничижая чистое, божественное и бесстрастное рождение Господа, как будто в Боге невозможно сойтись вместе тому и другому, и истинному рождению от Отца, и бесстрастию естества; напротив того, если рождение бесстрастно, то не будет сие рождением, если же кто признает оное истинным, то вместе с рождением допускается непременно и страдание.
Не так таинство богословия проповедует возвышенный Иоанн, не так этот громовой глас, который и Сыном называет Божиим, и проповедь очищает от всякой страстной мысли. Ибо вот как предуготовляет слух в начале Евангелия! Сколько предупредительности в учителе, чтобы кто–либо из слушающих не впал в низкие мысли и по невежеству не поползнулся в какие–либо нелепые предположения! Чтобы неприобученный слух, сколько можно, далее отвести от понятия «страсть», не упомянул он в начале ни Сына, ни Отца, ни рождения с той целью, чтобы кто в первых словах или, услышав об Отце, не увлекся ближайшим значением имени, или дознав о проповедуемом Сыне, не понял имени по здешнему обычаю, или не пал при слове «рождение», как при камне преткновения. Но вместо Отца именует начало, вместо родился — «бе», вместо Сына — «Слово», и говорит: «В начале бе Слово» (Ин. 1:1). Скажи мне, какая страсть в сих речениях: «бе» и Слово. Страсть ли — «начало» ? В страсти ли «бе» ? От страсти ли «Слово» ? Или, поелику нет страсти в сказанном, то не выражается проповедью и родственного? Впрочем, как же иначе, а не сими речениями выразится лучше общность и близость сущности и совечность Слова с Началом? Иоанн не сказал: от Начала родилось Слово, чтобы понятием какого–либо протяжение разъединить Слова с Началом, но проповедал о Слове совокупно с Началом, вообще сказав о Начале и о Слове: «бе», — чтобы Слово не опоздало против Начала, но коснулось слуха проповедью прежде, нежели принято им одно начало, войдя с верою в начало. Потом говорит: «и Слово бе у Бога» . Еще убоялся Евангелист нашей неопытности, еще боится нашего младенчества и невежества, еще не вверяет слуху названия «Отец», чтобы кто из более плотских, узнав об Отце, вслед за сим не вообразил мысленно и о матери. Но не именует еще в проповеди и Сына, потому что подозревает еще в нас привычку к дольнему естеству, чтобы иной, услышав о Сыне, и божественного не превратил в человеческое по страстному образу мыслей. Посему–то Евангелист, продолжая проповедь, опять наименовал Слово, так естествословя о сем тебе неверному: как твое слово является из ума и не требует в посредство страсти, так и там, услышав «Слово», ни чьей не приметишь страсти. Посему–то Иоанн, возобновляя опять проповедь, говорит: «и Слово бе у Бога» . О как с Богом соразмеряет Слово! Лучше сказать, как с Беспредельным распростирает беспредельное! «Слово бе у Бога» у всецелого Бога, конечно, всецелое Слово. Посему, сколько неизмерим Бог, столько же именно неизмеримо и Слово, сущее у Него; а если объемлется пределами Бог, то, без сомнения, имеет предел и Слово. Если же беспредельность Божия преступает предел, то и Слово, умопредставляемое у Бога, не объемлется пределами и мерами. Ибо никто не скажет, что не во всем Божестве Отца умопредставляется Слово, так что в Боге иное будет со Словом, а другое окажется лишенным Слова. Снова отечески слышен глас Иоанна, снова Евангелист напоевает проповедью слух младенчествующих; при первых звуках не возросли еще мы до того, чтобы, услышав слово «Сын», не поползнуться нам, увлекшись обычным значением. Посему–то проповедник, еще в третий раз возобновляя речь, провозгласил: Слово, а не Сын, сказав: «и Бог бе Слово» . Сперва сказав, где «бе Слово», потом у Кого «бе», теперь уже сказует, что Оно такое. Троекратным повторением достигает цели проповеди. Говорит Евангелист: не какое–либо слово, в обыкновенном смысле разумеемое, но Бога проповедую под наименованием Слова. Сие–то Слово, Которое было в начале, было у Бога, и было не иное что, кроме Бога, но сам Бог. И повторением непрестанно усиливая громогласные воззвания, проповедник сказует, что сей есть Бог, открываемый в проповеди, сей самый, Кем «вся быша» ; и «живот бе», и «свет человеком», и свет истинный во тьме сияющий, и тьмою непомрачаемый (Ин. 1:3–5), во своя приходящий и своими не приемлемый (Ин. 1:11), соделавшийся плотию и плотию вселившийся в человеческом естестве (Ин. 1:14). Перечислив все сие и подобное сем тогда называет Отца и именует Единородного, когда уже не было никакой опасности очищенному столькими предварениями, при значении слова «Отец», поползнуться в какое–либо нечистое разумение.
«Видехом», сказано, «славу Его, славу яко Единороднаго от Отца» (Ин 1:14). Скажи на это Евангелисту, скажи, Евномий, сии мудрые твои положения, как в слове именуешь Отца, как именуешь Единородного, когда всякое телесное рождение совершается со страстью? Конечно, за него отвечает тебе истина: иное дело — богословское таинство, и иное — естествословие бренных тел; великой средою разделены они между собою. Для чего в соприкосновение приводишь словом несмешиваемое? Для чего нечистым словом оскверняешь чистоту Божественного рождения? Для чего телесными страстями объясняешь бестелесное? Не по дольнему толкуй и о горнем. Господь — Сын Божий, проповедую вам. Евангелие с небес из светлого облака проповедало так, ибо говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Мф. 3:17). Но когда преподано мне, что Он Сын, тогда сим именем не был я увлечен к земным значениям слова «сын», напротив того, знаю, что Он родился от Отца, но не знаю, чтобы по страсти. Присовокуплю еще к сказанному и то, что знаю и телесное некое рождение, чистое от страсти, почему Евномиево естествословие телесного рождения и в этом уличается, что оно ложно, если найдется только рождение тел не приявшее страсти. Скажи, правда ли, что «Слово плоть бысть» (Ин. 1:14) или нет? Не можешь сказать, что не было. Следовательно, «бысть», и нет отрицающего это. Посему как «Бог явися во плоти» (1 Тим. 3:16)? Конечно, скажешь: в рождении. Какое же припомнив рождение? Очевидно, припомнив рождение от Девы и припомнив, что рождшееся «в ней от Духа есть Свята» (Мф. 1:20) и что, когда исполнились дни родить ей, родила, и тем не менее в рождении сохранилась нерастленность. Потом, что рождение со стороны жены чисто от страсти, сему веруешь (если только веруешь), но рождения Божественного и пречистого от Отца не допускаешь, не умопредставляя при рождении и страсти. Но ясно знаю, что неизбежна в догмате страсть для того, кто не обращает внимания на начало в Божественном и пречистом естестве; напротив того, к отрицанию единородного Бога употребив в содейственники лицемерное опасение допустить страсть, доказывает то, чтобы Творец всей твари признаваем был частью твари.
2. И это явственно показывает в том, чем снова оспаривает сказанное, говоря: «от Отца рождена сущность Сына, не вследствие растяжения изринутая, не вследствие истечения или отделения от естественной связи с Родшим отторгшаяся, не вследствие приращения достигшая совершенства, не вследствие изменения принявшая на себя образ, но по одному изволению Родшего получившая бытие». Ибо не всякий ли, у кого не вовсе оглушены чувствилища души, познает из этого, что по доказываемому в Евномиевых словах, Сын есть часть твари? Что препятствует все это от слова до слова сказать и о всякой другой вещи, усматриваемой в твари? И если угодно, приложить речь к чему–либо, видимому в твари, ежели не то же будет следствие, всю речь обратим в осуждение себе самим, как злонамеренно, а не с надлежащею заботливостью об истине, исследующим слово. Посему, изменив имя «Сын», Евномиеву речь прочитаем буквально. Скажем: от Отца рождена сущность земли, не вследствие растяжения или отделения отторгшаяся от естественной связи с Родшим, не вследствие приращения достигшая совершенства, не вследствие изменения изринутая, но по единому изволению Родшего получившая бытие. Есть ли в сказанном какая несообразность с существом земли? Никто, думаю, не скажет, что есть, потому что Бог не вследствие растяжения изринул землю, не источив или отделив Себя самого от связи с Собою, составил сущность земли, не постепенным возращением из малого в великое довел до совершенства, не какому–либо подвергнув Себя превращению и изменению, преобразился в вид земли, но изволения достаточно Ему было «для» составления сущности Им произведенного. Ибо «Той рече и быша» (Пс. 148:5), так что имя «рождение» не разногласит с выражением «составление земли». Посему, если можно справедливо сказать сие о частях мира, то какое еще остается сомнение об учении противников? А именно, что, именуя на словах Сыном, доказывают, что Он один из приведенных в бытие творением, преимуществует пред другими тварями одним старшинством в порядке происхождения, как можно сказать и о кузнице, что все ее произведения из железа, но производству прочих предшествуют орудия: щипцы и молот, — которыми железо обделывается, смотря по потребности. Но потому только, что орудие предшествует произведению, нет уже какой–либо разности в веществе у обделывающего орудия и у обделываемого орудием железа. И то, и другое — железо, но по наружности одно — старше другого.
Таково богословие ереси о Сыне. Евномий думает, что по сущности ни чем не разнятся и Сам Господь, и приведенное Им в бытие, исключая одну разность в порядке происхождения. Посему, кто же из принадлежащих сколько–нибудь к христианам согласится, что одно и то же достоинство сущности и у частей мира, и у Сотворившего мир? Ужасаюсь хулы, зная, что у кого одно достоинство, у тех, конечно, и естество не разное. Как у Петра, у Иоанна и у прочих людей и достоинство сущности общее, и естество одно, таким же образом, если Господь по естеству в равном достоинстве с частями мира, то, если приметят что в рассуждении сих частей, по необходимости должны признать, что и Господь подлежит тому же. Но мир не навсегда пребудет; значит, по мнению их, вместе с небом и землею прейдет и Господь, если однороден Он с миром. А если Его исповедуем вечным, то, по всей необходимости, признается и мир не лишенным доли в Божественном естестве, если только сходен с Единородным, как с тварию. Видишь, куда по прекрасному этому следствию стремится слово подобно какому–то камню, оторвавшемуся от вершины горы и собственною своею тяжестью гонимому по склону. Ибо необходимо или стихиям мира оказаться по еллинской суетности досточтимыми, или не поклоняться и Сыну. Но посмотрим на сие так. Мы утверждаем, что тварь, и умопостигаемая, и вся, принадлежащая к чувственному естеству, приведена в бытие из ничего; они то же проповедуют и о Господе. Мы говорим, что все существующее Божиею волею приведено в бытие; они то же разглашают и об Единородном. Мы веруем, что не из сущности Сотворшего тварь и в ангельском, и в этом мире; они и Его подобно отчуждают от Отчей сущности. Мы исповедуем, что все служебно воле Сотворшего; они понятие сие имеют и об Единородном. Посему, необходимо и все иное, что только представят себе о твари, прилагают и к Единородному, и чему бы ни поверили в рассуждении Единородного, предполагают сие и о твари, так что, если Господа исповедуют Богом, то обоготворят и прочую тварь; и если утвердят, что тварь непричастна Божественного естества, не будут отрицать того же мнения и об Единородном. Но ни один здравомыслящий не будет приписывать божества твари. Не умолчать ли мне остального, чтобы не употреблять языка на хулу противников? Что как следствие присовокупляется к прежнему, пусть скажут те, у кого уста обучены к хуле. Слово же и смалчивающих явно. Ибо необходимо будут два противные следствия: или явно отвергнут единородного Бога, утверждая, что у них Его и нет, и не именуется, или, если припишут Ему божество, то равно припишут оное и всей твари. Или напоследок, избегая нечестия, обнаруживающегося в том и другом, прибегнут к благочестивому слову и, без сомнения согласятся, что Единородный не сотворен, чтобы исповедовать, что Он — действительно Бог.
3. Должно ли продолжать речь, повторяя все другие хулы, какие Евномий вследствие сего начала необходимо поместил в слове? Ибо кто смотрит на последствие, тот из сказанного уразумеет, что отцу лжи, виновнику смерти, изобретателю порока, сотворенному естеством умным и бесплотным, естество сие не воспрепятствовало по превращении стать тем, что он есть. При превратности сущности, свободно движимой туда и сюда, сила естества последует наклонности произвола, так что естество делается тем, к чему поведет его произвол. Поэтому и о Господе полагают, что может принимать в Себя противоположности, чтобы вследствие сотворения низвести Его до равночестия с ангелами. Но пусть выслушают великое слово Павла: как говорит, что один Он назван Сыном, потому что не ангельского, но лучшего естества? «Кому борече когда от Ангел: Сын Мой еси Ты? Егда же паки вводит Первороднаго во вселенную, глаголет: и да поклонятся Ему вси Ангелы Божий. И ко Ангелом убо глаголет: творяй Ангелы своя духи и слуги своя огнь палящ: К Сыну жепрестол Твой, Боже, в венк века: жезл правости жезл царствия Твоего» (Евр. 1:5–8). Так Апостол продолжает, и что иное после сего изрекло богословствующее пророчество. Присовокупляет же относящееся сюда и из другого песнопения: «в начале Ты Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса», и все следующее до слов: «Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют» (Евр. 1:10;1:12) где описывает неизменяемость и вечность естества. Поэтому, если Божество Единородного настолько выше естества ангельского, насколько обладающий разнится от рабов, то почему обобщают или с чувственною тварию Господа твари, или с естеством ангельским Того, Кому поклоняются ангелы? Так о способе существования Единородного еретики употребляют выражения, которые в собственном смысле приличествовать будут каждой вещи, усматриваемой в твари, как уже показали мы, что изреченное ересью слово о Господе сродно и свойственно устройству земли. Но, чтобы в трудах наших не оставалось чего–либо сомнительного для читающих, и то из богодухновенного Писания, в чем заключается некоторое оправдание еретических учений, достойно будет присовокупления к исследованному нами.
Ибо на основании упомянутых нами апостольских слов спросят, может быть, почему назван первородным твари, если Он не то же, что тварь? Всяк первородный первороден не между инородными, но между однородными, как Рувим, по рождению первенствуя пред счисляемыми после него, был первородный человек в числе других людей, и многие другие называются первородными между счисляемыми вместе с ними братьями. Посему еретики говорят: «какою представим себе сущность всей твари, и о Перворожденном ее говорим, что Он той же сущности. Поэтому, если вся тварь единосущна Отцу всяческих, то не отрицаем, что таков же и Первородный твари. Если же Бог всяческих различен от твари по сущности, то совершенно необходимо и о Первородном твари сказать, что не имеет ничего общего с сущностью Божиею». Такова сила возражения, противопоставляемого нами слову, и оно, думаю, ничем не ниже того, какое борющимся с нами и следовало нам сделать. Но что надлежит для сего знать, сколько в наших силах, объяснено теперь будет в слове. У Апостола во всех его посланиях четырехкратно употреблено имя «первородный», но упоминание сего имени делается различно, а не одним и тем же способом. Ибо то говорит о Первородном «всея твари» (Кол. 1:15), еще сказано о Первородном «во многих братиях» (Рим. 8:29), потом о Перворожденном «из мертвых» (Кол. 1:18.). В послании же к Евреям имя «первородный» упомянуто само по себе, не в связи с другими. Ибо говорит так: «Егда же паки вводит Первороднаго во вселенную, глаголет и да поклонятся Ему еси Ангели» Его (Евр. 1:6). Так разделив места сии, хорошо разобрать каждое из них само в себе порознь: почему Он перворожден твари, почему перворожден во многих братьях и почему упомянут без каждого из сих прибавлений Сам по себе, когда снова вводится во вселенную и приемлет поклонение от всех своих ангелов? Посему, если угодно, рассмотрение предложенных мест начнем с последнего.
«Егда же паки вводит Первороднаго во вселенную», говорит Апостол Прибавление слова ««паки»« по буквальному значению показывает, что происходит сие не в первый раз. Ибо такое речение употребляем о возобновлении бывшего уже однажды. Следовательно, словом сим означает Апостол страшное явление Единородного в конце веков, когда узрят Его не в образе раба, но велелепно восседающим на престоле царствия и приемлющим поклонение от всех окрест Его ангелов. Посему единожды Вошедший во вселенную, став первородным из мертвых, в братьях и всея твари, когда снова войдет во вселенную, судя «вселенней в правду», как говорит пророчество (Пс. 9:9), не сложит с Себя имени «Первородный», которое единожды принял за нас. Но как о имени Иисусове, «еже паче всякого имене, всяко колено поклонится» (Флп. 2:9–10), так и Пришедшему под именем Первородного поклонится полнота всех ангелов, радующаяся призванию человеков, каким, вследствие того, что сделался нашим первородным, снова призвал опять в первоначальную благодать. Поелику радость будет у ангелов о спасаемых от греха (потому что оная «тварь совоздыхает и сболезнует даже до ныне» нашей суете (Рим. 8:22), почитая собственным своим ущербом нашу погибель), когда последует откровение сынов Божиих, которого за нас всегда чают и нетерпеливо ждут (Рим. 8:19), и когда спасется овца в горней сотне (овцу же сию составляем все мы, все естество человеческое, и ее–то спас благий Пастырь тем, что сделался Первородным), тогда–то особенно в усиленном благодарении за нас совершится поклонение Богу, первородством призвавшему удалившегося от отеческого дома.
Поелику разумеем сие так, то никто уже да не сомневается о прочем, почему делается первородным из мертвых или перворожденным твари, или перворожденным во многих братьях. Ибо все сие клонится к одной и той же цели, хотя в каждом выражении выказывается какая–нибудь особенная мысль. Первородным из мертвых делается, кто первый на Себе Самом разрешил болезни смерти, чтобы и всем проложить путь к рождению через воскресение. Перворожденным в братьях делается опять первородившийся в воде новым рождением пакибытия, в болезнях которого оказывает помощь парение голубя. Посредством оного участвующих с Ним в подобном рождении делает Своими братьями и Сам делается первородным рождаемых после Него от воды и Духа. Короче сказать, поелику три у нас рождения, которыми приводится к жизни естество человеческое: рождение телесное, рождение в таинстве пакибытия и рождение в ожидаемом еще воскресении из мертвых, — то во всех трех делается первородным. Поелику пакибытие двояко совершается двумя способами: крещением и воскресением — то Сам, став вождем обоих, делается перворожденным во плоти, потому что первый и один обновил Собою неведомое естеству рождение от Девы в чем никто не предшествовал Ему в стольких родах человеческих. Поэтому если понято сие разумом, то не останется неизвестным значение твари, в рассуждении которой Он первороден. Ибо знаем двоякое творение естества нашего: первое, которым созданы, и второе, которым воссозданы. Но во втором творении не было бы для нас потребности, если бы первого не обратили ни во что преслушанием. Итак, поелику первая тварь обветшала и уничтожена, должна произойди во «Христе нова тварь», как говорит Апостол (2 Кор. 5:17). Ничего обветшавшего не желает он видеть во второй твари, говоря: «совлекшеся ветхаго человека с деяньми его» (Кол. 3:9) и похотями его (Еф. 4:22), «и облещися в нового человека, созданаго по Богу» ; (Еф. 4:24). И «аще кто во Христе», говорит Апостол, «нова тварь: древняя мимоидоша, се быша вся нова» (2 Кор. 5:17). Ибо один и тот же Творец естества человеческого и в начале, и в последствии. Тогда, взяв персть от земли, сотворил человека и опять, взяв персть от Девы, не просто сотворил человека, но Создал на Себе. Тогда сотворил, а после сего сотворен; тогда Слово сделало плоть, а после Слово стало плотью, чтобы претворить в дух нашу плоть, сообщившись с нами плотию и кровью. По сей–то новой во Христе твари, в которой Сам предшествовал, наименован первородным, стал начатком всех: и рождаемых в жизнь, и мертвых, оживотворяемых воскресением, чтобы господствовать над мертвыми и живыми, и начатком в Себе соосвятить все смешение. А что не по предвечному бытию придается Сыну имя первородного, свидетельствует название единородным. Ибо действительно единородный не имеет братьев. Как будет единородным признаваемый состоящим в числе братьев? Но как называется Богом и человеком, Сыном Божиим и Сыном человеческим, разом Божиим и зраком раба, будучи одним по действительному естеству и сделавшись другим по человеколюбивому домостроительству, так будучи и Единородным Богом, делается Перворожденным «всея твари», единородным будучи в недрах Отчих, а перворожденным твари и делаясь, называясь в спасаемых новою тварию. Если же, как угодно ереси, имя первородным называется потому, что сотворен прежде прочей твари, то имя сие несогласно с доказанным ими самими об Единородном Боге. Ибо не говоря того, что Сын и все приведены в бытие Отцом, но Единородного Бога называют произведением Отца, все же иное — произведением Единородного. Посему, на каком основании уча, что Сын сотворен, Бога именуют Отцом твари, на том же, конечно, основании говоря, что все создано Единородным Богом, именуют Его не первородным, но в более собственном смысле — Отцом созданных Им, потому что отношение обоих к тварям одно и то же, а следовательно, одно производит и название. Ибо если Сый над всеми Бог собственной своей твари в собственном смысле называется не первородным, но Отцом, то на сем же, конечно, основании и Единородный Бог в собственном смысле именоваться будет Отцом, а не первородным собственных Своих тварей, так что название первородным по всему не точно и излишне, и в еретическом смысле не имеет места.
4. Но возвратиться должно к тем, которые Божественному рождению приписывают страсть, и потому, чтобы не подразумевать страсти, отрицают, что Господь действительно рожден. Ибо говорить, что с рождением всего сопряжена страсть и посему думать о Сыне, что чуждым для Него надлежит признавать понятие о рождении, чтобы Божество пребывало чистым и вне страсти, может быть, имеет, по–видимому, некоторое основание для людей, легко вдающихся в обман, но для обученных божественным таинствам готово обличение в исповедуемом. Ибо кто не знает, что в истинную и блаженную жизнь вводит нас рождение, которое не одно и то же с происходящим «от крове» и «от похоти плотских» (Ин. 1:13), с имеющим течение, преложение, постепенное усовершенствование и все иное, что усматривается в плотском рождении, но инаково, от Бога и небесно. О сем–то рождении, как говорит Евангелие (Ин. 1:13), веруем, что оно свыше и не допускает страдания плоти и крови.
Пусть отважатся противники утверждать одно из двух: что или нет рождения свыше, или ежели и есть, то по страсти. Но они соглашаются, что сие рождение есть, и не находят в нем страсти. Следовательно, не всякое рождение соединено со страстью; напротив того, вещественное — страстно, а невещественное чисто от страсти. Посему, какая необходимость свойственное плоти приписывать пречистому рождению Сына, и, поелику дольнее рождение осмеивается в непристойном описании, и Сына не допускать до близости с Отцом? Если же наше рождение ведет к той и другой жизни, но рождение плотское — страстно, а духовное — чисто, то (может ли кто из причисляющихся, как ни есть, к христианам противоречить сему?) представляющий себе мысленно рождение пречистого естества как предположит страсть? Но сверх сказанного исследуем еще следующее. Если по страсти плотского рождения не верят бесстрастию рождения Божественного, то по тем же примерам, какие, разумею, у нас, пусть веруют, что бесстрастный Бог есть Создатель. Ибо если по нашему судят о Божественном, то признают, что Бог и не рождает, и не творит, потому что в нас ни то, ни другое не производится бесстрастно. Посему, пусть или оба сии действия — и творение, и рождение — устранят от Божественного естества, чтобы тем и другим сохранить бесстрастие в Боге, и из догмата своего совершенно выбросят веру в Единородного, чтобы Отец сохранен был от страсти, не очерняемый и рождением, или уступят, что Божественная сила в одном действует бесстрастно, да и о другом не спорят. Ибо если творит без труда и вещества, то и рождает, конечно, без труда и истечения.
И в этом опять слове имею своим защитником Евномия. Но выражусь, обсекши немного его пустословие и вкратце повторив всю мысль, а именно, что люди не вещества приготовляют у нас, но придумывают только вид один веществу. Вот содержание с великим пустословием сказанного еретиками. Посему Евномий, если в дольнем рождении представляя себе зачатие и образование рождаемого, отрицает поэтому возможность чистого понятия о рождении, то вследствие сего, поелику здешнее творение трудится над одним видом, а не может доставить вещества для вида, пусть на том же основании отрицает поэтому и мысль, что Отец есть Создатель. Если же творения в Боге не хочет разуметь по человеческой мере силы, то по видимому в человечестве да не охуждает и Божественного рождения. Но чтобы более явными стали Евномиевы точность и осмотрительность в том, что говорит он, снова повторим немногое нечто из сказанного еретиками.
Евномий говорит: «действующее и страждущее имеют между собою общение в естестве», — и после рождения от тел перечисляет искусственные произведения из веществ. Посему проницательный слушатель пусть усмотрит из сего, как блуждающий всегда по встречающемуся случайно теряет путь к собственной своей цели. Действующее и страждущее в рождаемых по плоти Евномий видит при той же сущности, так что одно сообщает сущность, другое приобщается оной. Так умеет он в естестве существ с точностью усматривать истину, чтобы отделить от сущности и сообщающего и приобщающегося, и о каждом из них утверждать, что само по себе оно иное с сущностью. Ибо принимающий или сообщающий, без сомнения, инаков с принимаемым или подаваемым. Почему сперва должен быть представляем кто–либо, сам в себе усматриваемый в собственной своей ипостаси, а потом уже можно сказать о сем, что или дает, или имеет, или принимает, чего еще не имеет. И таким смешным образом изрыгнув это слово, мудрец не чувствует, что в последующем опять сам себя опровергает. Ибо кто предлежащее вещество с помощью искусства приводит в какой ему угодно вид, тот, конечно, творит нечто своею деятельностью, и вещество от действующего с искусством сообщаемый вид приемлет со страданием. Ибо не бесстрастным и нимало не противодействующим пребывая, вещество принимает образ от искусства. Посему, если в том, что производится искусством, не произойдет ничего, пока к производимому не стекутся совокупно одно с другим страдание и действие, то как же можно думать что вследствие сего в словах своих устоит писатель, который, утверждая общность сущности в страдании и действии, отваживается рожденному не только приписать сколько ни есть общей сущности с родившим, но и всю тварь сделать односущною с Сотворившим, если только определяет и действующее, и страждущее однородными между собою по естеству? Следовательно, чем доказывает, что ему хотелось, тем ниспровергает, что домогался доказать, усиливая оспариванием своим мысль об единосущии. Ибо если рождение от кого–либо в рожденном показывает сущность родившего, а искусственное устроение, совершаемое с действием и страданием, по слову Евномия, действующее и производимое ведет к общению сущности, то писатель, во многих местах собственных своих писаний доказывая, что Господь рожден, тем самым, чем отчуждает он Господа от Отчей сущности, приписывает Ему единение с Отцом. Ибо если, по слову еретика, ни вследствие рождения, ни вследствие устроения не усматривается отделения сущности, то, чем ни предоставит быть Господу — тварию или рождением, — в обоих случаях припишет сродство по сущности, кто в действующем и страждущем, в родившем и рожденном, по науке признал общность естества. Но обратимся к продолжению слова.
Прошу читающих не огорчаться точностью исследования, невольно многоречивого. Ибо немаловажная грозит беда, опустив из вида нечто, требующее тщательнейшего обозрения, потерпеть ущерб в малом; напротив того, подвергаемся опасности в том, что есть главного в уповании. Нам предстоит или быть христианами, не вдаваясь в еретическую пагубу, или непременно увлечься в иудейские и еллинские мнения. Посему, чтобы не потерпеть ни того, ни другого из запрещенного, то есть ни отрицанием действительно рожденного Сына не изъявить согласия на иудейские догматы, ни поклонением твари не доказать, что пали вместе с идолослужителям, по необходимости продолжим речь об этом, остановившись на самом речении Евномия, читающемся следующим образом: «вследствие сего разделения понятий иной справедливо скажет, что в самом собственном смысле так называемая, первая и единая, действием Отца произведенная сущность принимает на себя названия рождения, произведения и твари». И через несколько слов Евномий продолжает: «единственный же Сын, произведенный деятельностью Отца, имеет несообщимое естество и отношение к Родшему». И в написанном перед сим говорит, что «рожденного не отказывается называть порождением, потому что сама рожденная сущность и название «Сын» делают свойственным себе такое отношение имен».
Итак, по причине столь явного противоречия в сказанном, остается мне дивиться остроумию хвалящих сие учение. Ибо всегда останется известным, к чему из сказанного Евномием обратившись, не погрешат в остальном. Первое, слово у него доказывало, что рожденная сущность и название «Сын» делают свойственным себе такое отношение имен, а настоящее его словоупотребление говорит тому противное, а именно, что Сын имеет несообщимое отношение к Родшему. Если поверят первому, то, конечно, не допустят второго. Если же будут склоняться на последнее, то противостанут первому мнению. Кто решит у них спор? Кто будет посредником в междоусобной брани? Кто это разногласие приведет в согласие, когда самое желание вследствие сказанного делится само с собою, и догматы доходят до противоречия? Или, может быть, это пророческое гадание, сказанное об иудеях Давидом: «разделишася, и не умилишася» (Пс. 34:15). Ибо вот разделяемые до противоречия догматов не чувствуют своего заблуждения, но, подобно сосудам, носимым за ушки, переводятся, куда угодно переставляющему. Угодно было ему сказать, что рожденной сущности естественно название «Сын» — и тотчас, как засыпающие, поникли головою, соглашаясь на сказанное». Переменил опять речь в противную и отрицает отношение Сына к Родшему — опять и на сие весьма любезно отвечают поклоном, как тени от тел, в самодвижном подражании применяются к движению идущего впереди, склоняясь к тому, к чему он пожелает, и, хотя бы стал бороться сам с собою, принимают и это. Вот некое новое Гомерово питие, не тела врачуемых изменяющее в вид бессловесных, но в душах производящее их превращение в нечто бессловесное. Ибо о тех говорит баснь, что твердым оставался у них ум и по изменении их вида в звериный, а здесь, когда тела у них остаются в естественном состоянии, души претворяются в бессловесные. И как там чудодействующая поэзия говорит, что напоенные изменяются в различные виды зверей, в угодность претворяющей естество, то же самое и ныне бывает от этой Церцеиной чаши. Ибо упоенные чарующею прелестью Евномиева сочинения изменяются в образы различных догматов, преобразуясь ныне в тот, а потом — в другой. И при этом наиболее услажденные по складу басни любят еще Доведшего их до такого бессловесия и подобно какому–то плоду дерева, или желудям рассеваемые им слова, припав к земле, собирают, как свиньи, с жадностью прибегая к учениям, не восходящим от земли, и не имеют способности возвести взор к догматам высшим и небесным. Поэтому не смотрят на превращение речи в противоположную, но за встретившееся им хватаются без исследования. Подобно тому, что, как говорят, бывает с усыпленными мандрагором, у которых тела приходят в бесчувственность, сон и неподвижность в таком же точно расположении бывают у них чувствилища души, усыпленные и неспособные уразуметь прелесть. Хотя обман тяжко вследствие какого–либо лжеумствования подвергаться скрытному обману, не примечая того, однако же несчастие сие извинительно, когда бывает невольно; но с какою–то предусмотрительностью и со тщанием привлекаться к испытанию зла не незнающему этого бедствия — это восходит всякую миру злосчастия. Ибо не достойно ли негодования, когда слышим, что и из рыб жадные бегут от приближающегося к ним голого железа, обольщаемые же приманкой, в надежде найти пищу тянут к себе уду? Но, где зло очевидно, там произвольно бросаться на сию гибель — это бедственнее и неразумия рыб. Ибо те к скрытой от них гибели привлечены прожорливостью, а эти глотают голую уду нечестия, по какому–то неразумному пристрастию любя гибель. Ибо что может быть очевиднее сего противоречия — утверждать что один и тот же и рожден, и есть тварь, что сродно Ему название «Сын» и названию сему чуждо значение «Сын»? Но о сем довольно.
5. Полезно же будет, может быть, видеть в связи полную мысль предложенного нам Евномиева изречения, обратившись к началу речи. Ибо исследованное теперь явным противоречием в сказанном подвигло нас немедленно начать опровержение с последних слов. Итак, Евномием сказано следующее: «вследствие сего разделения понятий иной справедливо скажет, что в самом собственном смысле так называемая, первая и единая, действием Отца произведенная сущность принимает на себя названия рождения, произведения и твари». Посему внимательным к слову намереваюсь сначала напомнить, что в первом сочинении Евномий говорит: в самом собственном смысле называемая сущность есть сущность Отца, — и ведет речь сими словами: «все наше догматическое учение ограничивается превысшею и в самом собственном смысле так называемою сущностью». И здесь в самом собственном смысле так называемою и первою сущностью признает сущность Единородного. Посему, Евномиевы речения из этой и другой книги сведя во едино, самого Евномия представим свидетелем об общей сущности, утверждавшим где–то в другом месте нечто, подобное сему: кому принадлежат одни и те же названия, у тех и естество не разное; ибо не означал бы тождеством названий разъединенное по естеству вступающий в спор с самим собою. Но поелику в Отце и Сыне сущность по понятию одна, то посему, конечно, говорит, что так называется в самом собственном смысле одна и в самом же собственном смысле другая. Подтверждается же слово сие и обычаем человеческим, не придающим значение в собственном смысле ничему такому, чему имя не оправдывается естеством. Так по неправильному словоупотреблению подобие называем человеком, но собственно словом сим называем живое существо, показываемое в естестве; а также слово Писания называет иногда богом и идола, и беса, и даже чрево, но не одним и тем же образом оно употребляет и собственное название, и все другие. Об ином говорится, что в сонном мечтании он ел, но мечту нельзя назвать в собственном смысле пищею. Поэтому если какие–либо два человека равно существуют в естестве своем, то каждого из них в собственном смысле называем человеком. Если же кто и неодушевленный образ станет причислять к человеку, в действительности существующему, и действительно существующего и подобие его назовет двумя человеками, то не возможет засвидетельствовать, что то и другое называет в собственном смысле. Так, если бы естество Единородного разумелось чем–то иным с сущностью Отца, то писатель не назвал бы каждую сущность в самом собственном смысле так именуемою. Ибо почему бы кто–либо различное по естеству означил тожеством имен? Но истина по обычаю обнаруживается и враждующими с нею, потому что ложь даже и во вражеских речах не может совершенно пересилить истину. Посему–то устами сопротивных и незнающих, что говорят, проповедуется слово благочестия, как и спасительное страдание за нас Господа предсказано Каиафою, не знавшим, что говорит. Посему, если выражение «в самом собственном смысле» есть общее сущности того и другого, разумею Отца и Сына, то какое право имеет Евномий говорить, что сущности между собой различны? Или почему усматривается в них разность с тем, что могущественнее, важнее и предпочтительнее, когда в самом собственном смысле называемая сущность не допускает никакого умаления? Ибо несовершенное, что бы то ни было, не есть в собственном смысле: ни естество, ни сила, ни достоинство, ни что–либо другое, усматриваемое отдельно. Поэтому превосходство Отца по сущности, как угодно ереси, обличает несовершенство сущности Единородного. Итак, если несовершенна, то и не в собственном смысле именуется, если же в самом собственном — то, конечно, и совершенна. Ибо недостаточному называться совершенным не естественно, даже и сравнительно, при сопоставлении совершенного с совершенным, невозможно представлять себе какую–либо разность, происходящую от избытка или недостатка, потому что совершенство у обоих совершенных, как у правила, одно, не допускающее ни углублений у недостающего, ни выпуклостей у избыточествующего. Посему, в сказанном достаточно можно видать защищение нашего догмата Евномием, впрочем не попечение о нас, но борьбу с самим собою. Ибо чем в словах своих утверждает наш догмат, тем на себя обращает свои ухищрения. Но мы опять буквально последуем за написанным, чтобы всякому стало явно, что слово их не имеет никакой силы сделать зло, кроме одного желания повредить.
Посему выслушаем сказанное. «Справедливо иной скажет, что в самом собственном смысле так называемая, первая и единая, действием Отца произведенная сущность принимает на себя названия рождения, произведения и твари». Кто не знает, что отделяющее Церковь от ереси есть слово «тварь», употребляемое о Сыне? Итак, поелику разность в догмате признана всеми, то как поступить согласнее с разумом намеревающемуся доказать, что собственные его понятия справедливее наших? Очевидно не составить ли собственное свое слово, сколько возможно доказывающее необходимость той мысли о Господе, что Он сотворен? Или оставив это, поставить в закон слушающим сомнительное называть как бы всеми признанным? Я утверждаю первое. Но, может быть, и все, у кого есть разум, потребуют сего от противоречащих, — начало слова утвердив сперва на каком–либо непререкаемом основании, потом уже подвизаться в последующем. А Евномий, оставив доказательство надобности почитать Его сотворенным, раскрывает дальнейшее, прилагая ряд умозаключений к неутвержденному еще положению. Подобное нечто бывает с теми, которые углубляются душою в суетные пожелания, развлекаясь мыслями или о царстве, или о чем–либо ином, для них вожделенном. Помышляют не о том, чтобы исполнилось с ними что–либо из желаемого, но о том, как располагать им собою, имея это в руках, и в угодность себе воспользоваться успехом, с каким–то удовольствием обольщая себя неосуществившимся. Так и мудрый наш писатель, не знаю где, усыпив пресловутую свою диалектику, прежде чем доказал, что требовалось, как бы детям каким передает нам в виде басни обманчивое и нескладное пустословие о своем догмате. Ибо говорит: «действием Отца произведенная сущность принимает названия рождения, произведения и твари». На каком же основании доказано, что Сын произведен каким–то предуготовительным действием, а естество Отца пребывало недеятельным в рассуждении ипостаси Сына. Ибо подлежало сомнению и составляло вопрос следующее: сущность ли Отца родила Сына, или Его произвело нечто отвне последовавшее за естеством? Церковь, по Божественному учению, верует, что Единородный действительно есть Бог, гнушается же многобожным суеверием и посему не допускает разности естеств, чтобы при различии сущностей Божества не подпали счислению. А сие не иное что значит, как снова ввести в мир многобожие. Итак, поелику Церковь в простоте сему учит, а именно, что от сущности истинного Бога истинный Бог по сущности есть Единородный Бог, то вступающему в противоречие с признанным как было должно опровергать предзанятое мнение? Не должен ли в опровержение составить он слово, в котором бы на основании какого–либо признаваемого начала доказывалось подлежащее сомнению? Не думаю, чтобы кто из имеющих ум потребовал чего–либо другого, кроме сего? Но Евномий начинает подлежащим спору, и это, как доказанное, полагает в начало последующему слову. Если бы наперед было доказано, что Сын произведен каким–то действием: то был ли бы возможен какой спор о следующем, о сказанном, что каким–то действием, произведенная сущность принимает на себя название произведения? Пока же не доказано предыдущее, почему имеет силу следующее за тем, пусть скажут защитники сего обмана. Ибо если кто допускает, что человек по предположению сделался крылат, то не допустит ли уже и дальнейшего, потому что сделавшийся крылатым будет, как ни есть, летать, поднимется над землею вверх, превыспренно носясь на крыльях по воздуху. Но должно вникнуть, как можно сделаться летающим не получившему воздушного естества. Поелику же сие невозможно, то напрасно рассуждать и о последующем.
Посему и Евномий пусть сперва докажет следующее: Церковь напрасно уверовала, что действительно есть Единородный Сын, не по всыновлению усвоенный лжеименному Отцу, но рожденно по естеству от Сущего Сущий, не отчужденный от естества Родшего. Пусть сперва это изобличит как ложное, и тогда уже, рассуждая о последующем, будет заслуживать вероятие. Но пока не доказано первое, останавливаться на втором есть дело пустословия. И пусть никто от меня не требует и признаваемое нами подтверждать доказательством, ибо в доказательство нашего слова достаточно иметь от отцов дошедшее к нам предание, как наследство какое, сообщаемое по порядку от апостолов через последующих святых. Но прелагающие догматы в сей новый вид возымеют нужду в великом пособии умствований, если вознамерятся приводить на свою сторону людей не мятущихся, как прах, и непостоянных, но степенных и твердых умом. А пока предлагается им неутвержденное и недоказанное слово, кто будет столько прост и несмыслен, чтобы учение евангелистов, апостолов и после них просиявших в церкви мужей признать слабейшим недоказанного пустословия.
Но посмотрим на отличнейшую ловкость писателя, как легко по преизбытку диалектической опытности малоопытных увлекает в противоположное. К названиям «произведение» и «тварь» прикинул он слово «рождение», сказав, что принимает на себя имена сии сущность Сына. И как бы разглагольствуя в сборище упившихся, думает, что худое его обращение с догматом никому не будет в тягость. Ибо, слово «рождение», примкнув к словам «тварь» и «произведение», думает сопряжением несообщимого скрасть разность имен по значению. Вот мудрые ухищрения диалектики! Но мы, невежды в слове, хотя не отрицаем, что в речи и в языке есть то самое, что показывает о нас слово, однако же признаем, что и у нас, как говорит Пророк, уши устроены для разумного слышания (Ис. 50:4). Посему сочетанием имен, не имеющих ничего общего, не приводимся к слиянию означаемого. Но если и великий Апостол вместе именует злато, «сребро, камение честное, дрова, сено, тростие» (1 Кор. 3:12), то и число упоминаемых вещей совокупляем воедино и в отдельности познаем естество каждой поименованной вещи. Так и теперь, поелику рождение и произведение упомянуты вместе, то, от речений переходя к означаемому, не один и тот же смысл усматриваем в каждом имени. Ибо иное нечто значит слово «тварь», и иное — слово «рождение», так что Евномий смешивает несмешиваемое. Осмысленный слушатель выслушает раздельно и докажет, что названиям «рождение» и «тварь» невозможно заключать под собою какое–либо одно естество. Ибо если одно из них истинно, то необходимо будет ложно другое, так что, если тварь — то не рождение, и наоборот, если названо будет рождением, то чуждым сделается наименованию «тварь». Напротив того, Евномий говорит: «сущность Сына принимает на себя названия и рождения, и произведения, и твари».
Но в остальном не подтвердил ли чем этого слова, не имеющего ни головы, ни корня, тот, кто в начале бросил это слово, без всякой в нем силы, в основание доказываемого? Или и остальное отличается тою же пустотою, не приобретя крепости ни от какого содействия рассуждений, но оставаясь пространным и нескладным изложением хулы, похожим на рассказ о сонной грезе? Ибо Евномий говорит, присовокупив к сказанному следующее: «имеющая непосредственное рождение, не раздельно сохраняющая отношение к родшему, произведшему и сотворшему». Ибо если, отложив в сторону слова «непосредственное» и «нераздельное», рассмотрим смысл прочих речений в самом себе, то найдем, что всюду бросается в слух обольщаемых произвольность учения, не поддерживаемая никаким основанием. Сказано: родшему, сотворшему, произведшему. По–видимому, три здесь имени имеют значение двух представлений, потому что два слова по понятию равносильны между собою. Одно и то же значит «произвести» и «сотворить», иное же со сказанным значит «рождение». Итак, при значении слов, по общему разумению людей делимом на различные понятия, на каком основании докажут нам, что произведение есть одно и то же с рождением, чтобы одну сущность приспособить нам к разным речениям? Ибо пока одерживает верх обыкновенное значение слов, не находится никакого основания к превращению знаменования речении в противное; невозможно разделить одно какое–либо естество по понятию на произведение и рождение. Поелику каждое из них, само по себе названное, имеет особенно ему свойственное толкование, то совершенно необходимо собственным и сродственным с именами представлять себе и относительное сопряжение. Ибо и остальное из сказуемого относительно к чему–либо состоит в свойстве не с чуждым и не с разногласным. Напротив того, хотя бы и умолчано было, к чему относительно говорится, однако же само собою с первообразным слышится и сопряженное. Таковы, например, слова: «создатель», «раб», «друг», «сын» и подобные сим. Ибо все то, что входит в рассмотрение по отношению к иному высшему, в наименовании каждый раз представляет близкое и неразрывное сродство с означаемым, при котором общение с инородным несовместно, потому что с именем «сын» не сопрягается имя «создатель», и слово «раб» не возводится к слову «создатель», и слово «друг» не означает раба, и слово «сын» — владыку. Напротив того, познаем явное и раздельное сочетание каждого из сих названий одного с другим, при имени друга разумея иного друга, при имени ба — господина, при имени создателя — дело и при имени отца — сына. Так и слово «рождение» имеет собственно к чему–либо относящееся значение. Поэтому со словом «рождение» сопрягается слово «родший», и со словом «тварь» — слово «сотворшии». И если не намерены мы переменою имен произвести какой–либо слитности в предметах, непременно должно при каждом относительном речении сохранять собственное его значение.
Посему, когда явен смысл сих речей, к чему относится каждое, то почему по правилам диалектики излагающий догматы не выразумел в сих именах собственного их в относительном употреблении значения, но думает приспособить к произведшему рождение и к родшему — произведение, говоря, что сущность Сына приемлет на себя наименования рождения, произведения и твари, нераздельным же сохраняет отношение к Родшему, произведшему и сотворшему? Ибо не в естестве вещей одному и тому же делиться в разных отношениях; напротив того, как Сын в свойстве с Отцом и рожденное — с родшим, так произведение возводиться к произведшему, разве кто при безразличном каком употреблении слов иное их злоупотребление почтет более свойственным, нежели употребление в естественном их значении.
Какими же и какого свойства доводами по оной неодолимой диалектике, мнения многих превратив в противное, полновластно подтверждает это, а именно, что, поелику сущий над всеми Бог разумеется и именуется и Творцом, и Отцом, то Сын имеет право на оба именования, равно называемый и тварию, и рождением? Ибо по обычному и с надлежащею точностью различающему подобные имена словоупотреблению, имя «рождение» придается рождающемуся от самой сущности, а имя «тварь» — происходящему от того, что вне естества, устрояющего это. И посему–то Божественные догматы в преданном ими боговедении передали нам имена Отца и Сына, а не Творца и дела, чтобы не было какого–либо поползновения к хуле, когда такое наименование отстраняет Сына в нечто для Него чуждое и странное, и не нашли себе доступа безбожные Учения, отделяющие Единородного от существенного сродства с Отцом. Кто утверждает, что Сыну прилично название «тварь», тот, конечно, вследствие сего скажет и о твари, что ей принадлежит название «сын», так что если Сын — тварь, то небо — сын, и каждая сотворенная вещь, по Учению этого писателя, в собственном смысле называется именем сына. Ибо если Сын имеет имя сие не по общности естества с Родшим, но поколику сотворен, потому и именуется Сыном, то по той же самой причине ем сына можно будет назвать и агнца, и пса, и лягушку, и все, что существует по воле Сотворшего. Если же каждое из сих существ, потому что не принадлежит к естеству Сына, не есть Сын и не называется Богом, то конечно, вследствие сего в собственном смысле Сын есть Сын и исповедуется Богом, потому что Он одного и того же естества с Родшим. Но гнушается еретик понятием рождения и гонит оное из божественных догматов охуждая имя по плотскому его объяснению. Впрочем, о сем достаточно сказано выше, а именно, что, по слову Пророка, «убояшася страха, идеже не бы страх» (Пс. 13:5), ибо доказано, что и у людей не всякое рождение совершается по страсти, но вещественное вследствие страсти, а духовное чисто и непорочно, потому что рождаемое от духа бывает дух, а не плоть, в духе же не усматривается никакого страстного расположения. Поелику вследствие представленных нами примеров писателю сему казалось необходимым принять во внимание божественную силу, то пусть убедит себя рождение божественное по другому способу рождения разуметь бесстрастным. Напротив того, сливая между собою три сии названия, из которых два равносильны, думает он общим значением двух речений увлечь с собою слушателей, чтобы то же самое думали и о третьем. Поелику название произведения и твари показывает, что произведенное вне естества произведшего, то присоединяет к сим речениям и слово «рождение», как будто и оно толкуется одинаково с предыдущими. Но такой вид речи именуется злонамеренностью, и обольщением, и обманом, а не обдуманным и искусным каким доказательством, потому что доказательством называется то одно, что посредством общепризнанного приводит в известность неизвестное. Злонамеренно же вводить в обман, утаивать обличение, и явными обманами приводить в замешательство смысл людей, как говорит Апостол, «растленны умом» (2 Тим. 3:8), сего никто из целомудренных не назовет искусным доказательством.
6. Но перейдем к следующему по порядку. Евномий говорит, что рождение сущности непосредственно и нераздельно сохраняет отношение к родшему, произведшему и сотворшему. Если бы, сказав о неразделимости в сущности и о неимении ею посредственного, остановил на этом речь, то не уклонился бы от благочестивой мысли, потому что и нами исповедуется неразлучное и непосредственное единение Сына с Отцом, так что нет ничего входящего в среду их, что оказалось бы связано между Сыном и Отцом, нет представления о каком–либо промежутке, даже самом малом и неделимом, который, по рассечении времени на двое — на прошедшее и на будущее — в настоящем представляется нераздельным сам по себе, чем–то таким, что не может стать частью ни прошедшего, ни будущего, потому что совершенно непротяженно и неделимо, и к чему ни было бы приложено, незаметно. Посему что вовсе не имеет среды, о том говорим, что ничего такового посредствующего у него нет, потому что разделяемое какою–либо средою, не было бы еще не имеющим среды. Посему если бы Евномий, сказав, что рождение Сына непосредственно, не привнес ничего из утверждаемого им, то учил бы благочестиво разумеемой связи Сына с Отцом. Но поелику, как бы раскаявшись в сказанном, немедленно присовокупил, что сохраняет отношение к Родшему, произведшему и сотворшему, то последним осквернил первое, к чистому слову изрыгнув хульное речение; ибо явно, что и там слово «непосредственное» не к благочестивой клонится мысли, но значит то же, как если бы сказал кто: между гвоздем и кузнецом посредствует молот, и устроение последнего непосредственно; потому что до изобретения искусством орудий каким–то примышлением при помощи другого какого–то орудия сделан художником прежде всего молот, а таким образом, с помощью его и другое. Что то же разумеет сей писатель и об Единородном, показывает выражение «непосредственно». И не один Евномий вводится при этом в заблуждение несообразности учения; равное сему можно найди и в трудах Феогноста, который говорит, что Бог, намереваясь устроить вселенную, сперва как бы правило какое к созданию предпоставил себе Сына. И Евномий не понял нелепости в этом слове; что бывает не ради себя самого, но ради чего–либо другого, то, без сомнения, ценится меньше того, для чего имеет оно бытие; как земледельческое орудие устрояем ради жизни, но не наравне с жизнью ценим плуг, так если и Господь ради мира, а не вселенная ради Его, то предпочтеннее Господа будет вселенная, ради которой, как они говорят, и сам Господь. К этой мысли и теперь ведут речь, когда усиливаются утверждать, что Сын непосредственное имеет отношение к сотворшему и произведшему.
7. Но Евномий снисходительнее поступает в остальном и говорит: «не сравнивается ни с чем, происходящим от нее и после нее». Вот чем враги истины услуживают Господу — такими словами, из которых очевиднейшая устрояется хула! Ибо, скажи мне, чтоб из остального, сколько касается это твари, имеет сравнение с другим, потому что везде в каждой вещи видимо свойство, не допускающее общности с инородным? У неба нет сравнения с землею, у земли со звездами, у звезд — с морем, у воды — с камнем, у животных — с деревами, у живущих на суше — с пернатыми, у четвероногих — с плавающими, у словесных — с бессловесными. И кто станет тратить время, говоря обо всем подробно и доказывая, что то же самое можно сказать о каждой вещи, видимой в творении? И сие–то самое — не иметь сравнения ни с чем после Него и от Него происшедшим, как преимущество какое кинуто Единородному. Ибо явно, что все, что только можешь разуметь как само по себе сущее не сравнимо ни со всем вообще, ни с каждою вещью порознь, и что действительно можно сказать о какой бы то ни было твари, то врагами истины как достаточное и вседовольное удаляется в честь и славу Единородному Богу. Доведя до подобной мысли, Евномий в остальном снова величает Его почестями без значения приветствуя Господом и Единородным; но чтобы от сих имен не родилась в слушателях какая–либо благочестивая мысль, к благовестному тотчас примешивает хульное. Слово же в слово читается так: «поелику рожденная сущность, — говорит Евномий, — не оставляет места для общности чему–либо другому (ибо единородна), то и действование соделавшего не усматривается общим». Какое оскорбление! Как будто обращая слово к бессловесным и несмысленным, у которых нет разумения, свободно ведет речь, исполненную противоречий или, лучше сказать, допускает до себя то же, что бывает с лишенными зрения; и они часто поступают непристойно в глазах зрячих, предполагая, что их не видят, потому что сами не видят. Ибо можно ли кому не увидеть противоречия в сказанном? Сущность, так как рождена, говорит Евномий, не оставляет другим места к общению (ибо единородна). Сказав это, как бы действительно или не видя сам или полагая, что его не видят, к сказанному как связное с ним прилагает не имеющее ничего с тем общего, к сущности Единородного приспособив действование Сотворшего, потому что рожденный к родшему и Единородный к Отцу по связи непременно имеет отношение, и кто имеет в виду истину, тот в отношении Сына усматривает не действование Сотворшего, но естество родшего. А он, как будто припомнив растения или семена, или иное что тварное, действование Сотворшего прилагает к ипостаси Единородного. Ибо, если бы воззрению нашему предлежали камень или дерево, или что другое подобное, то следовало бы предварительно представить себе в мысли действование Сотворшего. Если же и противники исповедуют, что Единородный Бог есть Сын и рожден, то как одни и те же речения приличествуют и Ему, и самым последним частям творения? И что справедливо можно сказать о муравье или о комаре, то, думают они, благочестиво говорить и о Господе. Ибо, если кто изучил естество муравья, чем оно отличается от состава прочих животных, то он, не удаляясь от правды, может сказать, что действование сотворшего на муравья не усматривается общим с действованиями на других животных. Итак, что говорится о подобных сим тварях, то утверждают и об Единородном. И как говорят о ловцах, что какими–то ямами пересекают путь, которым проходят животные, но скрывают свой умысел, застилая отверстия ям чем–нибудь гнилым и нетвердым, чтобы яма приближающемуся казалась гладким местом, на подобное нечто ухищряется ересь против людей, доброзвучными этими и благочестивыми именами как бы неким сверху наложенным покровом, застилая яму нечестия, чтобы менее разумных, которые, проповедь их по сходству речей почтя за одно и то же с истинною верою, стеклись на одно имя Сына и Единородного, низринуть в яму, потому что значение названий не поддерживает их в шествии, но ведет в бездну отречения от Христа. Посему–то Евномий упоминает о рожденной сущности, не оставляющей ничему места для общения, и именует ее единородною; это покровы на яме. Но когда иной став при ней, прежде нежели поглощен бездною, к слову сему, как бы руку какую, приложит испытание словом, тогда увидит в этом учении гибельный подкоп идолослужения, ибо, приступая, как к Богу и к Сыну Божию, находит в поклоняемом тварь Божию. Поэтому туда и сюда носятся с именем Единородного, чтобы обольщенным и гибель стала не отвратительна, как иной, примешав к хлебу отраву, будет угощать смертью имеющих нужду в пище, которые без видимой приманки не согласились бы принять чистую тлетворную отраву. Поэтому премудро с пользою для себя не опускает Евномий из виду предположенного им. Ибо если бы из учения своего вовсе исключил слово «Сын», никто из людей не принял бы его обмана, когда в явной проповеди открыто провозглашалось бы отрицание. А теперь, оставив одно имя, означаемое же низводя до понятия твари, и восстановляет идолослужение, и укрывает его от обличения. Но поелику не устными заповедано нам чествование Бога, и благочестие оценивается не по звуку голоса, напротив того, надлежит сперва «сердцем» уверовать в Сына «в правду», и тогда уже «усты» исповедать «во спасение» (Рим. 10:10), а те, которые говорят в сердце: «несть Бог», хотя устами исповедуют Господа, «растлеша» (Пс. 13:1), как говорит Пророк, то посему утверждаю, что надобно смотреть на мысль предлагающих слова веры, а не увлекаться звуками. Если кто, говоря о Сыне, имеет при сем речении в виду не тварь, то он наш, а не из противников наших. Если же кто имя Сына придает твари, то будет он причислен к идолослужителям, потому что и те Дагона, и Ваала, и Змия именовали Богом, но вследствие этого поклонялись не Богу, ибо и дерево, и медь, и животное — не Бог.
8. Но какая нужда, догадываясь о смысле, обнаруживать обман, сокрытый в слове, и доставлять, может быть, слушателям предлог думать, будто бы несправедливо возражаем в этом врагам. Ибо вот Евномий открытую хулу предлагает нам, никакого покрова не налагая на свою ложь, но со свободною речью смело вдаваясь в нелепость. Написано же у него так: «поэтому, — говорит он, — кроме сущности не находя в Сыне ничего иного, Допускающего рождение, думаем, что этой же сущности должно придать сии названия, на словах ли только будем именовать Сыном и рожденным или отделим слова от сущности, и на этом основании даже уверимся, что сущности различны одна с другою». Нимало, думаю, не нужно нам в слове своем обличать нелепость, заключающуюся в сказанном. Одно чтение написанного достаточно выставляет на позор хулу. Но посмотрим на сие так. Евномий говорит, что различны одна с другою сущности Сына и Отца. Что означается словом «различны»? Сперва исследуем самую выразительность сего речения, чтобы в истолковании слова всего лучше открылась хула. В обычном словоупотреблении речение «различие» (παραλλαγη) говорится о телах, когда от расслабления (паралича) или от другой какой болезни который либо член выходит из естественной стройности, ибо, за противоположность больного члена здоровому, перемену подвергшегося болезни в худшее называем различием (παραλλαγη) А в различающихся нравственно по добродетели и пороку, когда невоздержная жизнь противополагается чистой и целомудренной или неправедная — правдивой, или кроткой, мирной и безмолвной — раздражительная и бранчивая, и не удерживающая гнева, — вообще все то, что при сравнении с лучшим заслуживает обвинения в пороке, называется пришедшим в разность, потому что признаки того и другого, разумею хорошего и худого, не сходятся между собою взаимно. Еще и о качествах, усматриваемых в стихиях, говорим, что разнятся все те, которые одно другому противоположны, одно для другого имея истребительную силу, как например, теплота и холод, сухость и влажность или вообще, если что состоит в противоположности с другим; и несходное в них означаем речением «разность». И вообще все, разногласящее с другим по усматриваемым признакам, принадлежит к числу предметов разнящихся, как здоровье и болезнь, смерть и жизнь, мир и война, добродетель и порок и все тому подобообразное.
По таком различении понятий, обратим внимание на писателя, в каком смысле говорит он, что у Отца и у Сына сущности между собою различны? Что разумеет он, говоря это? То ли, что Отец таков по естеству, а Сын отличен естеством? Или этим речением выражает уклонение от добродетели, под именем разности отделяя худое от лучшего, так что одну сущность усматривает в хорошем, а другую — в противном? Или по понятию о противоположности стихий Евномий усиливается утверждать, что одна божественная сущность разнится с другою? Или, в каком отношении война к миру и жизнь к смерти, таким же образом и в сущностях видит борьбу со всем подобным, так что они не сходятся одна с другою, потому что смесь противоположностей имеет силу, истребляющую вошедшее в смесь, как об учении этом говорит приточная премудрость, что «вода и огнь не рекут: довлеет» (Притч. 30:16), выражая сею загадкою равносилие естества в борьбе и сопротивление, и взаимное истребление противоположностей.
И ни по чему этому, как говорит, не видит он разности в оных сущностях. Итак, пусть скажет разумеемое сверх этого? Но нечего будет сказать ему, хотя и говорит обычное, что Сын разнится с Родшим, ибо сим паче изобличается нелепость утверждаемого им. Что так сродно и друг с другом согласно сочетается и соглашается, как относительное к Отцу значение Сына? А доказательством сему то, что, хотя и не произнесены два сии имени, одним из них означается и умалчиваемое, так одно в другом заключается, одно с другим связуется, в одном усматриваются оба, и ни которое из них не может быть понимаемо само по себе без другого. Различным же и разумеется, и называется что–либо непременно по противоположности со сходным; так, например, шнур ложится по прямой черте, а изогнутое, будучи приложено к прямой черте, не сходится с нею. И музыкантам обычно согласие тонов называть стройностью, а рознящее и не согласное — нестройным. Посему одно и то же сказать: различно и несогласно. Итак, если, по еретическому учению, естество Единородного Бога различно с сущностью Отца, то, без сомнения, и не согласно, а согласным не может быть в том, с чем не может быть согласовано, как если на воску и на вырезке, какая на печати перстня, изображение одно, то, когда на печать перстня налагается опять воск с отпечатанным ею изображением, тогда сходствует он с очертанием печати, удерживая свои образы в начертании и входя в пустоты, а выпуклости на печати перстня принимая в собственные свои углубления. Если же на вырезку, какая на печати перстня, наложен будет какой–либо чуждый и инаковый оттиск, то, принимая на себя изображение в несвойственных чертах, сделает не ровным и слитным собственный свой образ. Но «во образе Божий Сый» (Флп. 2:6) не в иных каких чертах изображается Отцом, как «образ Ипостаси» Отчей (Евр. 1:3), образ же Божий, без сомнения, одно и то же с сущностью. Как пришедший в образе раба стал иметь на себе образ сущности раба, восприяв не простой только образ, несопряженный с сущностью, напротив того, образом обозначается сущность, так, конечно, сказавший о себе, что Он «во образе Божий», словом «образ» указал на сущность. Посему, если Он в образе Божием и, будучи во Отце, имеет на себе значение Отчей славы, как говорит евангельский глас, вещая: «сего бо Отец знамена Бог» (Ин. 6:27), почему и «видевый» Сына «виде Отца» (Ин. 14:9), то наименования «образ благости», и «сияние славы», и все другие, сему подобные свидетельствуют, что сущность Сына не имеет в себе ничего, не приличного Отцу.
Так сказанным явно обнаруживается несостоятельность хулы сопротивных. Ибо если различное не согласуется между собою, а назнаменованный Отцом, показующий в Себе Отца, во Отце сущий и в Себе имеющий Отца, всем доказывает и сродство, и согласие, то этим сильно обличается нелепость противников. Ибо, как доказано, что различное несогласно, так, наоборот, без спора признается, что согласное непременно неразлучно; как различное не согласуется, так согласующееся не различается. Кто говорит, что естество Единородного различно с благою сущностью Отца, тот, конечно, видит различие в самом благе. Но что такое различное с благом? «Уразумейте, незлобивии, коварство», говорит притча (Притч. 8:5).
Но миную в слове все это, как явно нелепое, исследуем же предшествующее сему. «Кроме сущности Сына, — говорит Евномий, — не находится ничего иного, приемлющего рождение». Что разумея, говорит это? Различив одно от другого два имени и разделив так же в слове означаемое ими, каждое из них полагает само по себе: одно имя — «рождение» а другое имя — «сущность». Сущность, говорит, приемлет рождение, очевидно, будучи чем–то иным от рождения. Ибо если бы рождение было сущностью (что, впрочем, часто утверждает Евномий), так что два названия равносильны между собою по выразительности, не сказал бы он, что сущность приемлет рождение, ибо значило бы сказать: сущность приемлет сущность, или рождение приемлет рождение, если рождение тожественно с сущностью. Посему иное нечто разумеется под рождением и иное — под сущностью, которая приемлет рождение, ибо приемлющему невозможно быть одним и тем же с приемлемым. Итак, вот что говорит мудрая ухищренность в слове писателя! Но заключается ли какой смысл в сказанном — пусть исследует слово искусный в суждении, а я опять возвращусь к тому, что было говорено.
Евномий говорит: «кроме сущности Сына не находится ничего иного, приемлющего рождение». Что в сказанном не заключается никакого смысла, явно это всякому, сколько–нибудь вникнувшему в слово. Остается вывести наружу ту хулу, которую готовит в сих невразумительных речениях. Ему хочется, хотя и не может по недостатку сил истолковать сие, внушить слушателям ту мысль, что значение слова «Сын» показывает Его осуществление, рождением же именует Евномий сие осуществление, самым благоприличным словом прикрывая ужас хулы, чтобы незатруднительным стало согласие на мысль, что Господь сотворен, как скоро осуществление выражается словом «рождение». Посему говорит, что сущность приемлет рождение, чтобы, как и во всякой вещи, усматривалось какое бы то ни было осуществление. Никто не скажет, что осуществлено, чего нет. Так Евномий естество Единородного Бога, как бы некое искусственное произведение, представляет в слове «сотворение». Поэтому если приемлет сие за рождение, то говорит это с намерением означить, что Его не было, пока не осуществлен. Что же иное из усматриваемого в твари не было приведено в бытие? Небо, земля воздух, море, — все, что ни есть, конечно, приведено в бытие; ничего бы этого не было, если бы не было приведено в бытие. Итак, почему Евномий, как нечто преимущественное в естестве Единородного, усмотрел то, что в самую сущность приемлется Им рождение (так Евномий именует осуществление), как будто шмель и комар приемлют рождение не в себя самих, но во что–то иное с собою? Итак, в написанном признается, что у еретиков сущность Единородного обобщается с малейшими частицами твари, и весь ряд умозаключений, которым доказывается инаковость Сына с Отцом, имеет равную силу и в рассуждении чего бы то ни было отдельно взятого. Посему, какая нужда Евномию в этой разнообразной утонченности при доказательстве инаковости по естеству? Должно было обратиться на краткий путь отрицания, явно отказаться от признания имени «Сын» и Единородного Бога не проповедать в церквах но иудейское служение признать предпочтительнейшим христианскому исповеданию, Отца исповедуя единым Творцом и Создателем, все же прочее подводя под имя и понятие твари; а в ряду тварей предоставленное иным дело называть произведением, приведенным в бытие какою–то осуществляющею деятельностью, вместо единородного Бога и истинного Сына нарекая Его первозданным.
Поелику сии понятая у еретиков одержали верх, то большое для них удобство привести догмат к цели, так как на основании подобного начала все направляемы были, к чему по надлежащему следовало, а именно, что невозможно иметь общей с Богом сущности тому, кто не рожден, и не Сын, но каким–то действованием приведен в бытие. Но доколе имеют силу евангельские изречения, в которых Сын проповедуется и Единородным, и сущим от Отца и от Бога и тому подобным, то напрасно будет безумствовать Евномий, подобным пустословием оглашая и обольщая и себя, и своих. Поелику название «Сын» вопиет о действительном отношении к Отцу, кто столько прост, что, когда Иоанн, и Павел, и прочий сонм святых провозглашают сии подлинные и показывающие родство именования, не на них обратит внимание, но на учение, состоящее в пустых бряцаниях Евномиевых лжеумстврваний, и правдивее тех, которые Духом глаголют тайны и имеют в себе Христа, почтет Евномия? Какого же это Евномия? Откуда подъявшегося до того, чтобы ему быть руководителем христиан? Но оставим это. Пусть забота о предлежащем, сколько можно, успокоит наше сердце, по ревности к вере мятущееся против хулителей. Ибо как не подвигнуться на гнев и вражду, когда эти презренные бесчестят нашего Бога и Владыку, Жизнеподателя и Спасителя? Если бы кто стал злословить отца моего по плоти или неприязненно обходиться с моим благодетелем, то возможно ли было бы бесстрастно перенести оскорбление любимых? Если же Господь души моей, Который создал ее не существовавшую, искупил порабощенную, дал ей вкусить жизни настоящей, уготовал для нее жизнь будущую, призывает ее в царствие и научает, как избежать нам осуждения в геенну (признаю это маловажным и недостойным еще величия общего нашего Владыки), если Тот, Кому поклоняется всякая тварь, небесная, земная и преисподняя, Кому предстоят тьмы служащих на небе, к Кому обращено все, что обитает здесь и имеет любовь к прекрасному, если Он подлежит злословию людей, для которых недостаточно самим только разделять долю отступника, напротив того, которые признают для себя утратою, если и других не вовлекут с собою в бездну своим писанием, чтобы и для потомков не было недостатка в руководстве к пагубе, то ужели кто будет порицать наш на них гнев? Но возвратимся к следующему по порядку.
9. В сказанном далее Евномий осуждает опять нас за то, что бесчестим будто бы рождение Сына человеческими уподоблениями, и припоминает написанное об этом отцом нашим, именно то место, где говорит он: поелику словом «сын» означаются два понятия: происхождение по страсти и естественная связь с родшим, — то неприличное и плотское не согласуется с Божиим словом, а что служит свидетельством славы Единородного, то одно приемлется в высоких догматах. Посему, кто бесчестит рождение Сына человеческими предположениями: тот ли, кто из божественного рождения исключает страстное и человеческое и бесстрастно сочетает Сына с родшим, или тот, кто Приводящего все в бытие обобщает с дольнею тварию? Но подобное, кажется, относящимся к бесчестию признает новая эта мудрость; именно бесчестным признает приобщить Сына к величеству Отца, а великим и высоким низвести Его в одно достоинство с тварию, служебного, как и мы. Какое пустое обвинение! Василий чтит Сына, как чествуется Отец, и на него клевещут, что бесчестит он Сына; а Евномий борется за честь Единородного, и лишает Его благого Отчего естества! Подобной вине подвергался некогда у афинян Павел, обвиняемый ими, будто бы возвещает новых богов, когда обличал он погрешительное верование в богов у афинян, до безумия преданных идолопоклонству, и руководил к истине, в ареопаге благовествуя воскресение. Это же и ныне подражателю Павла возражают новые стоики и епикурейцы, которые, как история говорит об афинянах, ни «во чтоже ино» упражняются, «разве глаголати что или слышати новое» (Деян. 17:21). Ибо найдется ли что новее сих выражений: Сын деятельности, Отец твари, новоявленный Бог, происходящий из несущего, и благо, различное от блага? Это выражения тех, которые поелику утверждают, что Сын не то, что составляет естество родшего, притворяются воздающими Ему подобающее чествование. Ужели Евномий уважает род подобного чествования, если кто скажет, что Сын не с Отцом близок по естеству, но имеет общее с чем–либо инородным? Ибо если о том, кто Господа твари обобщает с тварию, утверждается, что он этим чествует Господа, т пусть чествует и Евномий, обобщающий Его по естеству с бессловесным и бесчувственным. Но если общение с худшим, по мнению его, есть дело трудное и обидное, то почему же Владычествующему «силою Своею веком», как говорит Пророк (Пс. 65:7), служит в честь быть поставленным в один ряд с естеством подчиненным и рабским? Но о сем довольно.
Книга пятая
Содержание пятой книги
1. Пятая книга обещает говорить об изречении Апостола Петра (Деян. 2:36), но отлагает это и, во–первых, рассуждает о твари, что ничего в ней нет досточтимого, но что люди, по незрелости и слабости разума заблудившись и будучи поражены изумлением пред красотою ее, обоготворили части мира; здесь же прекрасно истолковывает и изречение Исайи: «Аз Бог первый» (Ис. 41:4).
2. Потом изъясняет изречение Петра: «Господа и Христа Его Бог сотворил» (Деян. 2:36), здесь же излагает и сделанное Евномием по поводу этого изречения возражение против святого Василия, брань и оскорбления, допущенные Евномием.
3. Против них дает удивительный и необыкновенный отпор, доказывает силу Распятого и то, что было подчинение человеческого естества, а не естества Единородного от Отца; изъясняет образ креста, наименование Христа и блага, дарованные через срастворение Божества с человечеством.
4. Затем показывает лживость клеветы Евномиевой, будто великий Василий говорил, что человек истощил себя в человека, и объясняет, что истощание Единородного произошло при воззвании (Мф. 27:46) во время страдания Его как человека.
5. После сего показывает, что не два Христа и не два Господа, но один Христос и один Господь, и что Божеское естество, соединившись с человеческим, сохранило неслиянными свойства того и другого; подробно и весьма умно изъясняет, что по причине единения естеств приписываются и общие действования, так как и Божеское восприемлет на себя немощи раба, и человеческое спрославляется честью Владычнею, и силой срастворения Божеское естество претворяет в Себя человеческое.
1. Относительно изречения Апостола Петра (Деян. 2:36) время было бы прилежнее исследовать, что сказано о нем самим Евномием что — нашим отцом (св. Василием Великим). Если же тщательное рассмотрение много растянет наше слово, то, конечно, благосклонный слушатель извинит и не нас обвинит в говорливости, но вину возложит на подавшего к тому повод; мне же да позволено будет прежде вкратце обозреть то, что предлежит исследованию, — и это может быть не несогласно с целью, какую я имею в виду.
Божественное слово узаконило, что ничто сотворенное не должно быть боготворимо людьми, сему учит нас почти все боговдохновенное Писание; Моисей, скрижали, закон, затем пророки, Евангелие, учение всех апостолов одинаково воспрещают питать благоговение к твари, и было бы долго порознь предлагать одно за другим относящиеся к сему места. Но, хотя и немногое из многих богодухновенных свидетельств предложим, слово, без сомнения, будет иметь равную достоверность, потому что каждое из Божественных речений, хотя бы и самомалейшее, равно служит к явлению истины. Так как существующее обыкновенно разделяется на две части: на тварь и естество несозданное, то если бы доказываемое теперь противниками, именно, что Сын Божий создан, имело силу, вполне необходимо было бы или отвергнуть евангельскую проповедь и не поклоняться в начале сущему Богу–Слову, потому что не должно служить твари, или же, устыдившись евангельских чудес, которые ведут к почитанию и поклонению Тому, Кто открывается в них, почитать равночестным и созданное, и несозданное. Если бы, по учению противников, надлежало поклоняться и созданному богу, по естеству не имеющему никакого предпочтения пред другой тварию, и если бы это учение возымело силу, то догматы благочестия непременно были бы приведены в некоторое безначалие и многовластное самозаконие, потому что как скоро люди будут верить, что не одно естество поклоняемое, но обратятся мыслью к различным божествам, то уже никто не остановит движение мысли, допустившей сотворенное божество; но признание в какой–либо твари божества будет поводом к равному мнению и о том, что следует за нею, и так далее; заблуждение последовательно распространится и на все, как скоро первая ложь через приложение к ней дойдет до последних крайностей. А что мое гадание не вне вероятности, представлю достоверного свидетеля истины моего слова — заблуждение, даже доныне господствующее между еллинами. Ибо после того, как люди неопытным и слабым разумом удивительно привязались к красотам твари и чудесностью явлений не воспользовались как руководителем и путеводителем к уразумению премирной красоты, но остановили свою мысль только на постигаемом и каждую часть твари отдельно сделали предметом удивления, тогда не признали за Божество что–нибудь одно из видимого, но все видимое в творении сочли божественным. Так у египтян, у которых особенно сильно было заблуждение относительно мира духовного бесчисленные виды демонов были причислены к существам божеским. У вавилонян неизменная окружность неба почиталась богом, которого они и назвали Ваалом, также и семь следующих кругов еллинская суетность, соделав каждый отдельно богом, по некоторому особому основанию заблуждения подчинила один другим. Ибо дознав, что все эти круги вращаются один в другом, они как заблудились относительно самого высшего, то последовательно то же самое заблуждение сохранили и до последних крайностей. Кроме того они признали за истину, что самый эфир, и разлитый под ним воздух, и земля, и море, и подземная часть, и на самой земле все, что есть полезного и необходимого для человеческой жизни и все прочее причастно Божеского естества; одно что–нибудь, прежде поразившее их взоры в твари, подавало повод к служению всем последующим частям творения, и они преклонялись пред каждым из сих предметов, так что, если бы и им сначала показалось непозволительным обращать с благоговением взоры на тварь, то не впали бы в такое обольщение многобожия. Тем более не должно бы страдать этим недугом нам, божественным Писанием научаемым взирать на истинное Божество и наставленным все сотворенное почитать чуждым Божеского естества, а служить и чтить одно несозданное Естество, которого свойство и признак — что оно никогда не имело начала бытия и не будет иметь конца. Так великий Исайя, велегласно богословствуя о сих догматах, говорит от лица Божия: «Аз первый и Аз по сих, прежде Мене не быстъ ин Бог, и по Мне не будет» (Ис. 44:6; 43:10). Сей великий Пророк, точнее всех знавший тайну евангельского благочестия и возвестивший оное чудное знамение Девы, и благовестивший рождение «Отрочати», и ясно произнесший самое имя Его, — сей–то Пророк, силою духа объявший в себе всю истину, дабы всем было особенно ясно то свойство Божеского естества, посредством которого мы различаем самосущее от происшедшего, говорит от лица Божия: «Аз есмь первый и Аз по сих, и прежде Мене не быстъ Бога, и по Мне несть». Поелику же ни прежде Бога — Бог, ни после Бога — Бог, ибо что после Бога, то тварь, а прежде Бога не было ничего; ничто же не есть Бог, или, лучше, прежде Бога Он Сам в ничем не ограниченном, вечном блаженстве; поелику далее сие духовное слово изречено устами пророческими, то через сие мы научаемся догмату, что есть некое единое Божеское естество, тожественное само в себе и нераздельное, не допускающее в себя ни прежде, ни после, хотя оно и в Троице проповедуется, и не имеющее в себе ничего, что бы могло быть умопредставляемо старейшим или после происшедшим. Итак, поелику это изречение Божие, то припишешь ли его Отцу или Сыну, одинаково тем и другим утверждается догмат благочестия. Если это сказал Отец, то свидетельствует о Сыне, что Он не после Него, ибо если Сын есть Бог, а все, что после Отца, то не есть Бог, то ясно, что слово Божие свидетельствует, что Сын имеет бытие в Отце, а не после Отца. Если же кт припишет Сыну сии слова: «не бысть прежде Мене», то будет ясным учение что вместе с вечностью начала должно понимать вечным и Созерцаемого в начале. Итак, из сказанного открывается: если кто после Бога, то это тварь а не Бог, ибо сущее «по Мне», говорит Господь, несть Бог.
2. Теперь после предварительного изложения умозрения о существующем нам время исследовать предположенное изречение. Итак, Петром сказано иудеям, что «Господа и Христа Его Бог сотворил есть, сего Иисуса Егоже выраспясте» (Деян. 2:36). Мы говорим, что слова сотворил есть благочестие требует относить не к Божеству Единородного, но к «зраку раба», воспринятому по домостроительству во время пришествия во плоти; насильственно извращающие это изречение, напротив, говорят, что словом «сотворил» Апостол означает предвечное рождение Сына. Итак, предложив открыто наше учение и тщательно рассмотрев оба мнения, предоставим слушателю обсуждение истины. Достаточным защитником разумения противного нашему будет сам Евномий, не робко подвизавшийся в этом деле, так что проследив буквально его слова, мы вполне изложим мысль наших противников. На защиту же нашего учения, сколько будем в силах, станем мы сами, идя сколько возможно по следам того, что прежде было изложено великим Василием. Читающие же, рассудив, где истина (как говорит некто из пророков, «праведный суд судите» — Втор. 1:16; Ин. 7:24), воздадут победные награды не предположениям спорщиков, но дознанной через исследование истине. Теперь первый пусть предстанет наш обвинитель, как бы на суде читая написанное им. «Сверх же сказанного он, отказываясь слово «сотворил» понимать о сущности Сына и вместе стыдясь креста, навязывает апостолам то, чего не навязывал никто, даже из усиливавшихся грубо хулить их; он явно своими догматами и словами вводит двух Христов и два Господа, ибо говорит, что не Слово, которое было в начале, Бог сотворил Господом и Христом, но истощившего себя до зрака раба и распятого от немощи». (В точности же Василий Великий пишет так: смысл изречения апостольского не представляет нам ничего о предвечном ипостасном бытии Единородного, о котором теперь мы рассуждаем. Ибо очевидно, что Апостол говорит здесь не о самой сущности Слова Божия, которое в начале было у Бога (Ин. 1:1), но об истощившем себя в «зрак раба» и соделавшемся сообразным нашему уничиженному телу (Флп. 2:7; 3:2) и распятом от немощи (2 Кор. 13:4). Всякий, даже и немного вникавший в смысл сих слов Апостола, может разуметь, что здесь он не преподает нам богословие, а показывает образ домостроительства спасения, ибо говоря: «Господа и Христа Его Бог сотворил есть, сего Иисуса, Егоже вы распясте», имеет в виду единственно его человечество и то, что в нем видимо, как это ясно открывается всем из указательного речения: «сего Иисуса»). «Говоря он (Евномий продолжает речь о Василии Великом) непозволительно заменяет смысл слов апостольских собственным мнением и как бы обвиняет в подобном безумии мужей святых и наилучших проповедников благочестия, дерзает оскорблять их, будто их учение до такой степени недостаточно. Но слагающие свои бредни на почивших святых, какого беспорядка в мыслях не исполнены? Какой нелепости не полны думающие, что человек истощил себя в человека, и отсюда заключающие, что из послушания смиривший себя до зрака раба подобен людям и прежде воспринятия сего зрака? О, вы, безрассуднейшие из всех, как имеющий зрак раба принимает зрак раба? Каким бы образом кто–либо истощил себя в то, чем он есть? Вы не найдете никакого способа для сего, хотя и дерзаете учить и мыслить невозможное. Не самые ли жалкие вы из всех, если думаете, что за всех людей страдал человек, и ему приписываете свое искупление? Ибо если блаженный Петр говорит не о том Слове, которое есть в начале и есть Бог, но о явившемся и истощившем себя, как говорит Василий, явившийся же человеком себя истощил восприятием образа раба, а истощивший себя восприятием «рабьего зрака» истощил себя, родившись человеком, то явившийся человеком истощил себя, родившись, как человек. Но этому противоречит и самое естество вещей, противоречит явно и сам, воспевший в своем богословии такое домостроительство, когда говорит, что не видимый человек, но самое Слово, сущее в начале и сущее Богом, восприяло плоть, другими словами, это значит то же, что приять зрак раба. Итак, если вы почитаете это достоверным, то оставьте заблуждение, перестаньте учить, что человек истощился в человека. Если же не способны убедить не верующих сему, как невероятному, то другим словом и другим изречением разрушьте неверие, припомните слова: «Иже во образе Божий сый, не восхищением непщева быти равен Богу: Но себе умалил (истощил), зрак раба приим» (Флп. 2:6–7). Нет ни одного человека, к которому бы могли относиться сии слова, ни один из когда–либо бывших святых не был Единородным Богом, который соделался человеком, ибо это и значит, — будучи во образе Божий, принять зрак раба. Итак, если блаженный Петр рассуждает о том, кто себя самого истощил в зрак раба, а Себя самого истощило в зрак раба Слово, сущее в начале, и Единородный Бог, то блаженный Петр говорит о сущем в начале и Боге и учит, что он соделан Господом и Христом. Так–то Василий противоречит сам себе и ясно показывает, что он ни обращает внимания на смысл слов апостольских, ни сохраняет последовательности в собственных словах. Отсюда следует, что или, сознавая несообразность он должен допустить, что соделалось Господом сущее в начале Слово и сущий Бог, или, прилагая противоречие к противоречиям и упорно стоя на том, должен присовокупить нечто другое, более враждебное, утверждая что два Христа и два Господа. Ибо если иной — сущий в начале Бог Слово' и иной — истощивший себя и принявший зрак раба, если Господь есть и Бог Слово, через Которого все, Господь и Христос, сей Иисус, Который распят по сотворении всего, то, по его мнению, два Господа и Христа. Но никакое слово не послужит ему извинением в столь явных хулах. Если же кто, согласившись с этим, скажет, что Слово, сущее в начале, есть едино с тем, кто соделался Господом, но что он соделался Господом и Христом по причине явления во плоти, то он необходимо должен будет сказать, что прежде пришествия во плоти Сын не был Господом. Но хотя бы у Василия и следующих ему неверных и возвещались ложно два Господа и Христа, но у нас один Господь и Христос, «Вся тем быша, и без Него ничтоже бысть» (Ин. 1:3), не по преуспеянию соделавшийся Господом, но прежде всякой твари, прежде всех веков сущий Господь Иисус; «Им же вся» — как сему согласно научают все святые, возвещая прекраснейший из догматов. Ибо и блаженный Иоанн учит, что Бог Слово, «им же вся быша», явился во плоти, говоря: «Слово плоть бысть» (Ин. 1:14), и чудный Павел, научая внимающих ему смиренномудрию, называет Христа Иисуса во образе Божий сущим и умалившим себя в «зрак раба» и смирившим себя «до смерти, смерти же крестныя» (Флп. 2:7–8). И опять в другом месте распятого именует Господом славы, говоря: «аще бо быша разумели, не быша Господа славы распяли» (1 Кор. 2:8), и гораздо яснее сего самое существо (Сына) именует Господом, говоря: «Господь же Дух есть» (2 Кор. 3:17). Итак, если Слово, сущее в начале как Дух, было Господом и Господом славы, «сего же Господа и Христа сотворил Бог», то самый Дух и Бога Слово сотворил Бог, а не иного какого Господа, которым грезит Василий».
3. Таково обвинение. Мне же кажется полезным прежде всего вкратце представить каждое из взводимых обвинений отдельно, затем так представить сказанное, чтобы судящим об истине было легко упомнить направленное против нас писание, на которое нам нужно отвечать; таким образом мы по порядку и последовательно разрушим и каждое обвинение. Говорит, что мы стыдимся креста Христова и обвиняем святых, и говорим, что человек истощился в человека, и думаем, что Господь прежде пришествия во плоти имел зрак раба, и приписываем искупление человеку, и в учении своем утверждаем, что два Христа и Господа, или если и не утверждаем сего, то, по крайней мере, говорим, что прежде страдания нет Единородного Христа и Господа. Итак, чтоб избежать нам сей хулы, нужно, говорит, исповедывать, что сущность Сына сотворена, так как и Апостол Петр собственным словом утверждает сей догмат. Таковы главные положения обвинения, о всем же прочем, что направлено к порицанию нас, я умолчу, как о не относящемся к делу; может быть, такое словесное нападение по какому–нибудь правилу искусства и обычно риторам и изобретено для большего веса обвинения; итак, пусть сей софист оскорбляет нас своим искусством и уязвляет нас ругательствами, пусть, надмеваясь силой нападений в споре, называет нас безрассуднейшими, самыми жалкими из всех, беспокойными и безрассудными и всячески, сколько хочет, по своей воле унижает нас; мы снесем, потому что имеющему ум стыдно не слушать поношающего, но на сказанное отвечать. Может быть, даже и полезно, что он на нас направил силу своего ума, потому что, упражняя на нас свой злословный язык, он, может быть, хотя ненадолго прекратит свою брань против Бога. Итак, сколько угодно пусть насыщается ругательствами, ему никто не станет противоречить. Ибо у кого дыхание дурно и зловонно от телесного расстройства или от заразительной и злой болезни, тот не вызовет здорового к соревнованию своему несчастью, никто не захочет такою же собственной болезнью отвратить зловоние издающего худой запах, потому что природа всех людей советует сострадать таким людям, а не подражать им. Итак, оставив все подобное сему, что так старательно примешал к своему слову, насмехаясь, досадуя, негодуя, порицая, мы рассмотрим только то, что он говорит о догматах, и начиная с первого, мы станем против каждого обвинения в частности.
Начальное обвинение было то, что мы стыдимся креста. Гораздо сообразнее с делом было бы самих, увлекающихся таким мнением, обвинить в том, что они стыдятся креста. Потому что если и мы, и они одинаково веруем в домостроительство спасения через страдание, но мы думаем, что «явльшегося» через крест Бога должно так чтить, как почитается Отец, а Для них страдание служит препятствием к прославлению Единородного Бога как равного с родшим Отцом, то обвинение, напротив, не обращается ли на софиста, и чем он думает обвинить нас, тем не выказывает ли пред всеми своего собственного нечестия в учении веры? Ибо очевидно, что потому Отца полагает выше Сына и возвеличивает большими почестями, что в Нем не усматривается стыд креста, и потому усиливается изменить к худшему естество Сына, что поношение креста относится к нему только, не касаясь Отца. И никто да не подумает, что я говорю, выводя последствия из связи мыслей его сочинения, ибо, пробегая все тщательно собранное в его слове хуление, в следующих за сим словах я нашел это хуление, изложенным в открытых выражениях. И, если угодно, наряду с моими словами я предложу написанное им такого рода: «если, говорит, — может доказать, что и Бог, сущий над всеми, который есть свет неприступный, был или мог быть во плоти, прийти под власть, повиноваться повелениям, подчиняться человеческим закон, понести крест, то пусть говорит, что свет равен свету». Итак, кто стыдится креста? Тот ли, кто и после страдания поклоняется Сыну наравне с Отцом, или тот, кто и прежде страдания оскорбляет Его не только приравнением Его честию к твари, но утверждением, что он страстного естества и не мог бы испытать страданий, если бы не имел естества, способного к принятию оных? Мы говорим, что самое тело, которым принял страдание, срастворенное Божескому естеству, через срастворение соделалось тем, чем есть воспринявшее оное естество; мы столь удерживаемся думать о Единородном Боге что–нибудь малое, что если по человеколюбивому домостроительству и воспринято что–либо из дольнего естества то верим, что и это претворилось в Божественное и нетленное; а он страдание на кресте делает признаком отменности Его по существу к худшему. Не знаю, как необычайное действие силы, по которой и сие стало возможным, делая признаком бессилия, он не разумеет и того, что ничто, действующее соответственно собственному естеству, не бывает предметом удивления как необычайное, но что исходит за пределы естества, тому более всего удивляются, к тому обращается все внимание, всякая мысль напрягается, дивясь необычайному. Посему и все, проповедующие Слово, в том указывают чудо таинства, что «Бог явися во плоти, что Слово плоть бысть», что свет во тьме воссиял, жизнь вкусила смерти, и все, подобное сему, возглашают проповедники, чем умножается удивление к явившему вне естества преизбыток силы своей. Но хотя бы им показалось в этом хуление и хотя бы они через крестное домостроительство спасения отделяли Сына от равночестия со Отцом, но мы, как передали нам от начала самовидцы и слуги Слова в священных Писаниях, веруем что в начале Сый Бог «посем», как говорит Варух, «на земли явися и с человеки поживе» (Вар. 3:38), что Он, соделавшись выкупом нашей смерти, собственным воскре сением разрешил узы смерти и Своим воскресением проложил путь вся кой плоти, и, будучи сопрестольным и равночестным Своему Отцу, в день суда по достоинству жизни произнесет приговор над судимым.
Сему мы верим относительно Распятого и потому, по мере на силы, не перестанем превозносить Его за то, что ни для кого не постижимый по причине неизреченного и недоступного величия, кроме Себя Самого, Отца и Св. Духа, Он возмог снизойти до общения с нашей немощью. Они же доказательством инаковости по естеству Сына от Отца делают то, что Господь явил Себя через плоть и крест, потому что естество Отца пребывает в бесстрастности, а в естестве Сына через изменение оного в более уничиженное и через возможность испытать воплощение и смерть невеликая произошла перемена: некоторым образом оно из подобного перешло в сродное и однородное; отсюда на основании того, что естество человеческое сотворено, предположили, что сотворено и естество Единородного. Итак, кто по праву должен быть обвинен в том, что стыдится креста? Тот ли, кто говорит о нем низкое, или тот, кто подвизается за его величие? Не знаю, слышал ли сей обвинитель, который так уничижает знаемого и на кресте Бога, великое слово Павла, как и сколько он возвышенными устами говорит о кресте, ибо, имея возможность придать себе известность столькими и такими чудесами, говорит: «Мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6:14) и к коринфянам: «Слово бо крестное погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть» (1 Кор. 1:18); ефесянам же силу, всем обладающую и все обдержащую, описывает во образе креста — то, до чего возвыситься желает он для познания преспеющей славы этой силы, именуя высотою, и глубиною, и широтою, и долготою; и каждый отрог того, что усматривается в образе креста, называя особенными именами, так что верхнюю часть называет высотою, глубиною — то, что лежит под перекладиною, поперечник же между той и другой оконечностью означая именем долготы и широты, дабы через сию великую тайну открылось, что небесное и подземное, и все концы сущего содержатся и поддерживаются показавшим неизреченную и великую сию силу в образе креста.
Но я думаю, что с этими обвинениями не нужно более бороться, почитая излишним усиливаться обличать клевету, когда истина и немногим доказана; посему, мы перейдем к другому обвинению. Говорит, что мы клевещем на святых. Но если он сам это слышал, то пусть скажет слова, в которых обвиняет, если же утверждает, что мы говорили другим, то пусть докажет истину вины посредством свидетелей, если же доказывает это из наших писаний, то пусть прочтет сказанное нами и мы примем на себя вину. Но ничего такого он не мог бы представить, ибо написанное нами предлежит всякому желающему для исследования. Если же ни ему не было сказано, ни от других не слыхал, ни написанным не может изобличить нас, то, я думаю, защищающемуся от этих обвинений нужно молчать. Ибо против недоказанного обвинения молчание есть самая приличная защита.
Апостол Петр говорит: Господа и Христа Его Бог сотворил есть, сего Иисуса, Егоже вы распясте» (Деян. 2:36). Мы, наученные им, говорим, что все сочетание слов относится к одному — и самый крест, и человеческое имя, и указательная сила речения, ибо слово Писания утверждает две вещи: от иудеев — страдание, от Бога — прославление, — об одном лице не так, как будто одно страдало, другое же почтено было возвышением; это яснее Апостол истолковывает следующими словами: «Десницею убо Божиею вознесеся» (Деян. 2:33). Итак, кто вознесен? Смиренный ли или высочайший? Но что другое может быть высочайшим, кроме Божества? Но Бог, будучи высочайшим, не нуждается в вознесении, следовательно, Апостол говорит, что вознесено человеческое естество, вознесено же потому, что соделалось Господом и Христом, и потому сие было после страдания. Итак, словом «сотворил есть» Апостол изображает не предвечное начало Господа, но преложение смиренного в высокое, соделанное десницею Божиею. И через сие изречение уясняется благочестия тайн ибо говоря, что «десницею Божиею вознесеся», явно открывает неизреченное домостроительство тайны, потому что Божественная десница сотворившая все сущее, которая и есть Господь, «Им же вся быша» и без Которого ничто из сущего не получило бытия, сама соединенного с нею через срастворение человека возвела в собственную высоту соделав и его тем, чем сама есть по естеству. Есть же она «Господь и Царь», потому что Христос именуется Царем, сим же она соделала и человека, ибо как бывший в соединении с высочайшим (человек) превознесся, так соделался и всем другим: в бессмертном — бессмертным, во свете — светом, в нетленном — нетленным, в невидимом — невидимым, во Христе — Христом, в Господе — Господом. Ибо и в вещественных смешениях бывает так, что когда одна часть чрезмерно избыточествует над другой, то меньшая часть совсем должна претвориться в преобладающую; тому же мы ясно научаемся и таинственным словом Петра о уничиженности Распятого от немощи, немощь здесь означает плоть, как мы и слышали о Господе; сие немощное через срастворение с беспредельностью и неограниченностью блага уже не осталось в свойственной себе мере и качествах, но вознесено десницею Божиею и стало вместо подвластного Христом, Царем, вместо смиренного — высочайшим, вместо человека — Богом. Итак, показывающий вид, что борется с нами за апостолов, что в написанном (нами) нашел против святых? Но да умолкнет и это обвинение, ибо я почитаю мелким и неблагородным восставать против ложных и недоказанных речей. Перейдем к более сильному обвинению.
4. Говорит, что мы утверждаем, будто человек истощился (в человека) и из послушания смиривший себя в зраке раба был подобен людям и прежде восприятия сего зрака. Ничего не подменено в речи, у нас приведены самые слова из его сочинения; если есть что–нибудь такое в наших писаниях (нашими называю писания наставника (Василия Великого), то никто да не обвиняет ритора в клевете; призвав на помощь всю заботливость об истине, и мы засвидетельствуем то же. Если же ничего такого нет в наших писаниях, а его слово взводит не пустую вину, если он, как будто все это ясно доказано, негодует и гневается, называя мнимые наши слова чудовищностью, вздором, полным смутности и несообразности и тому подобным, то я не вижу, что нужно делать. Как приведенные в замешательство непредвиденной яростью безумных не знают, на что решиться, так и сам я не нахожу, что бы придумать в этом затруднении. Учитель говорит (опять возвращаюсь к подлинным его словам), что «Апостол не преподает нам богословия, а показывает образ домостроительства спасения», а обвинитель по поводу этих слов говорит, будто мы утверждаем, что человек истощился в человека. Что общего между тем и другим? Когда мы говорим, что Апостол не преподает нам богословия, но своим словом показывает домостроительство страдания, то отсюда клевещут на нас, будто мы говорим об «истощании» человека в человека и о предвечном зраке раба и человеке из Марии, который древнее пришествия во плоти. Но я почитаю излишним останавливаться долее на очевидном для всех, когда сама истина освобождает нас от обвинения. Ибо тогда нужно противустоять обвинителям, когда кто сам подал бы повод клеветнику к обвинению себя; если же нет никакой опасности подозрения в чем–нибудь нелепом, то обвинение становится доказательством не клеветы на напрасно обвиняемого, но безумия обвиняющего. Но как мы, обвиняемые в том, что стыдимся креста, в нашем исследовании доказали, что обвинение обращается, напротив, на обвинителя, так покажем, что и эта вина обращается на обвинителя, что он, а не мы, учит изменению Сына в домостроительстве страдания из подобного состояния в подобное. Исследуем, предложив для взаимного сравнения, что говорится ими и нами. Мы говорим, что Единородный Бог, через Себя изведший все в бытие, одно из того, что произошло через Него, — человеческое естество, павшее во грех и через то подвергшееся нетлению смерти; опять через Себя же привлек к бессмертной жизни через человека, в котором вселился, восприяв на Себя целую человеческую природу, и Свою животворную силу примешал к смертному и тленному естеству, и нашу мертвенность через срастворение с Собою претворил в жизненную благодать и силу. Мы называем тайною Господа по плоти то, что неизменяемый является в изменяемом, дабы изменив и превратив на лучшее из худшего зло, вторгшееся в изменяемую природу, истребить грех от естества, уничтожив оный в Себе Самом; «Ибо Бог наш огнь поядаяй есть» (Евр. 12:29), которым истребляется все вещество зла. Вот наше слово. Обвинитель же что говорит? «Неизменяемый и несотворенный не смешался с тем, кто произошел через творение, и посему изменился ко злу (т. е. с человеком), но тот, кто и сам будучи сотворен, пришел к родственному и однородному себе, не из превосходящего естества по человеколюбию облекшись в более низкое, но чем был, тем и соделался». Общее родовое название для всего, из ничего сотворенного, есть имя твари, частные же различия, усматриваемые в творении, разнятся одно от другого отличиями свойств; так что если сотворен Оный (т. е. Сын) и человек также сотворен, то Сын, по словам Евномия, умалился в Самого Себя и перешел не из наивысшего состояния в уничиженное, но из подобного в подобночестное, исключая свойства телесности и бестелесности. Итак, на кого падет справедливый приговор судящих? Кто окажется виновным в сих обвинениях? Тот ли, кто говорит, что тварь спасена несозданным Богом, или тот, кто причину нашего спасения приписывает твари?
Но суждение благочестиво мыслящих ясно. Ибо кто точно знает различие сотворенного от несотворенного, которых разность характеризуется господством и рабством (так как несозданный Бог владычествует «силою Своею веком» (Пс. 65:7), как говорит Пророк, а все сотворенное работает по слову того же Пророка, который говорит: яко «всяческая работна Тебе» (Пс. 118:91); кто тщательно об этом размыслит, тот, конечно, знает, кто перемещает Единородного из рабства в рабство. Ибо если вся тварь служит по слову Павла (Рим. 8:21), а естество Единородного, по Евномию, сотворено, то, конечно, противники своим учением утверждают, что не Господь соединился с рабами, но раб явился между рабами. Но приписывать нам мнение, что прежде пришествия во плоти Господь был в образе раба, значит то же, что клеветать на нас, будто мы говорим, что звезды темны, и солнце мрачно, и небо на земле, и вода суха, и тому подобное. Ибо кто не на основании слышанного что–либо утверждает, но вымышляет что угодно по собственному побуждению, тот пусть не щадит против нас и таких обвинений, потому что все равно, будут ли нас обвинять за то или за это, так как ни то, ни другое не имеет оснований в наших словах. Ибо утверждающий, что истинный Сын имеет бытие в славе Отца, может ли оскорбить вечную славу Единородного, приписывая ей зрак раба? Поелику же сему писателю нравится злословить, и он заботится, как кажется, об изобретении благовидных обвинений, то не излишне и не бесполезно было бы вступить в борьбу с несостоятельными обвинениями.
5. Ибо и следующее обвинение почти так же безрассудно. Не имея основания для обличения в наших писаниях, но произвольно употребляя ложь, как лучше покажется, винит нас, будто мы говорим о двух Христах и двух Господах. Поелику его дело говорить, что хочется, то зачем так скупится на ложь, выдумывая, будто мы говорим только о двух Христах, пусть свободно говорит, если ему угодно, что мы утверждали десять даже Христов и в десятеро столько же, и пусть в тысячу продолжит это число, чтобы была понятнее безрассудность клеветы. Ибо хуление оди наково, носится ли к двум или ко многим Христам, и недоказанность обвинении также одинакова. Итак, когда докажет, что мы говорим о двух Господах и двух Христах, то пусть произносит против нас такое же осуждение, как будто изобличил нас в признании тысячи. Но он говорит, что обвиняет нас на основании наших сочинений. Поэтому опять рассмотрим те слова наставника, на основании которых он думает обвинить нас. Наставник наш говорит, что «Апостол не преподает нам богословия, а показывает образ домостроительства; ибо говоря: «Господа и Христа Его Бог сотворил есть, сего» Сына, «Егоже вы распясте», имеет в виду единственно его человеческий то что в нем видимо, как это ясно открывается всем из указательного речения ( «сего Иисуса»). Таково написанное. Откуда же из сказанного возникли у Евномия два Христа? Или слова «указательное речение» явно указывают на то, что в нем видимо, служат доказательством измышления двух Христов? Итак, должно бы отвергнуть и то, что Господь превознесен Отцом (Деян. 2:33) после страдания, дабы не быть нам обвиненными, что мы говорили о двух Вышних; поелику будучи уже Вышним, в начале сущий Бог Слово «вознесеся» после страдания, воскреснув из мертвых, как говорит Апостол. Итак, необходимо избрать одно из двух: или сказав, что он превознесен после страдания (что равносильно выражению «он соделан Господом и Христом»), быть обвиненным Евномием в нечестии, или же, уклоняясь от обвинения, отказаться от исповедания превознесения пострадавшего.
Но при этом опять нужно привести слова обвинителя, которые говорят в пользу нашего защищения. Итак, мы выскажем буквально его положение, которым и наше слово подтверждается, такого рода: «блаженный Иоанн, — говорит он, — учит, что Бог Слово, «Им же вся быша», явился во плоти, говоря: «и Слово плоть быстъ». Понимает ли он, что пишет, присовокупляя это к собственной речи? Не думаю, чтобы один и тот же человек мог знать и смысл сих слов и сражаться против нашего слова. Ибо если бы кто тщательно рассмотрел сказанное, то не нашел бы взаимного противоречия между сказанным нами и им, потому что мы «особно» рассматриваем дело домостроительства во плоти и Божественную силу разумеем саму по себе. Он же, подобно нам, говорит, что Слово, сущее в начале, явилось во плоти, но ни его кто–либо, ни он себя самого никогда не обвинял, будто проповедует два Слова: одно, сущее в начале, и другое, соделавшееся плотню. Ибо вполне знал, что Слово, явившееся во плоти, тожественно со ловом, сущим у Бога; плоть же не тожественна с Божеством, прежде чем и она претворилась к Божеству, так что необходимо иное согласовать с Богом — Словом, другое же — с зраком раба. Итак, если он на основании такового исповедания не обвиняет себя в принятии двоицы Слов, то как же клевещут на нас, будто мы разделяем веру на двух Христов, — на нас, которые говорим, что превознесенный от страдания Он же соделался Господом и Христом через единение с истинным Господом и Христом? Мы, наученные Писанием, знаем, что естество всегда едино и то же самое, и одинаково, плоть же сама по себе есть то, что воспринимает в ней разум и чувство, но срастворенная с Божеством уже не остается более в своих пределах и при своих свойствах, но подъемлется до Того, Кто обладает всем и превыше всего. Но свойства Божества и плоти в созерцании остаются неслитными до тех пор, пока каждое из них рассматривается само по себе; так мы говорим: Слово прежде век было, плоть же сотворена в последние дни, но никто не мог бы сказать наоборот, что или плоть предвечна, или Слово соделано в последние дни. Естество плоти страдательное, Слова же — деятельное, и ни плоть не имеет всесозидающей силы, ни Божество — страдательности. Слово в начале было у Бога (Ин. 1:1), а смерть испытал человек: и ни человеческое от века, ни Божественное смертно. И все прочее таким же образом умосозерцается: не человеческое естество животворит Лазаря, и не бесстрастная Власть плачет о лежащем во гробе, но слезы свойственны человеку, жизнь же свойственна истинной жизни; не человеческая нищета насыщает тысячи и не всемогущая власть бежит к смоковнице. Кто утруждается от путешествия, и кто без труда составил целый мир словом? Что есть сияние славы (Евр. 1:3), и что пронзается гвоздями? Какой зрак при страдании заушается, и какой от вечности прославляется? И без объяснения ясно, что удары относятся к рабу, в котором Господь, а почести — к Господу, при котором раб; но через соединение и сродство то и другое делается общим, так что Владыка приемлет на себя рабские раны, и раб прославляется «Владычнею» честью, посему–то и говорится о кресте Господа славы и всяк язык исповедает, что «Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:11). Если же и прочее нужно различить таким же образом, то рассмотрим, что умирает и что разрушает смерть, что обновляется и что истощается. Истощается Божество, чтобы могло быть воспринято человеческим естеством, обновляется же человеческое естество, соделываясь Божественным через соединение с Божеством. Ибо как воздух, сжатый чем–нибудь более тяжелым и заключенный в глубине воды, не держится в воде, но востекает к тому, что ему.сродно, вода же восхождением воздуха часто вместе с ним поднимается, огибая воздушный круг в виде какой–то тонкой перепончатой окружности, так и истинная жизнь, обложенная плотию, после страдания востекла к себе самой, и облегающая ее плоть подъята вместе с нею Божественным бессмертием, совознесшись от тления к нетлению. И как в дереве огонь, часто сокрытый под поверхностью, недоступен ощущению видящих или осязающих, но будучи воспламенен становится явным, так и в смерти, которую принял по собственному изволению отрешивший душу от тела. Рекший Своему Отцу: «Отче, в руце Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46), имеющий область (как говорит) паки прияти ю (Ин. 10:18), презрев стыд между людьми (поелику был Господом славы), как бы сокрыв искру жизни в естестве тела в домостроительстве смерти, опять возжег и воспламенил ее силою собственного Божества, «возгрев» умерщвленное и таким образом влив в беспредельность Божественной силы оный малый начаток нашего естества. Чем сам был, тем соделал и оный, — зрак раба — Господом, человека от Марии — Христом, распятого от немощи — жизнью и силою; и все, что благочестиво созерцается в Боге Слове, то соделал и в том, кто был воспринят Словом, так что не в раздельности представляется нам все это в каждом «особно», но тленное естество через срастворение с Божественным, претворившись в преобладающее, соделалось причастным силы Божества подобно тому, можно сказать, как капля уксуса, смешанная с морем, от смешения соделывается морем, причем естественное качество этой жидкости уже не сохраняется в беспредельности преобладающего вещества. Таким образом, наше слово утверждает не число Христов, как обвиняет нас Евномий, но единение человека с Божеством, смертного с бессмертным, раба с Господом, греха с правдою, проклятия с благословением, — «пременение» человека во Христа именуя творением. Итак, что еще остается сказать клеветникам? Что мы в своем учении не проповедуем двух Христов и не говорим, что несозданно сущий от начала из Отца, — и Господь, и Христос, и Слово, и Бог сотворен, а утверждаем, что блаженный Петр говорит кратко, мимоходом указуя на тайну бытия во плоти по прежде доказанному нами разумению (его слов), что распятое от немощи по преобладающей силе Обитавшего в нем и само соделалось тем, чем есть и чем именуется Обитавший в нем, как мы сказали, — Христом и Господом.
Книга шестая
Содержание шестой книги
1. Шестая книга показывает, что пришедший для спасения людей был не простой человек (что, по лживой клевете Евномия, будто бы говорил Василий Великий), но Единородный Сын Божий, облекшийся плотию человеческой и соделавшийся ходатаем между Богом и людьми, исповедуемый доступным страданиям по плоти, но бесстрастным по Божеству, и доказывает, что Евномий — клеветник.
2. Потом опять упоминает о выражении Петра «сотворил» и о сказанном в Послании к Евреям, что Иисус соделан посланником и архиереем (Евр. 3:1; 5:10), и, достаточно опровергнув взведенные на Василия Великого обвинения, показывает, что сам Евномий соглашается с его словами и говорит, что Господом соделан Единородный Сын, облекшийся плотию.
3. За сим удивительно изъясняет сказанное Господом Филиппу: «видевый мене» в измененном состоянии, то есть в теле, «виде Отца» (Ин. 14:9). Здесь же прекрасно рассуждает и о страдании Господа по человеколюбию и о бесстрастности Отца, о зиждущей и промыслительной силе, о сложности человеческого естества и о разрешении его в то, из чего составлено.
4. Затем опять возвратившись к изречению Петра: «Господа и Христа сотворил Его Бог», и посредством многих умозаключений очень умно разъяснив оное, показывает, что Евномий здесь соглашается с правым догматом; при этом, Божеские и человеческие наименования через срастворение естеств согласовав с тем и другим естеством, оканчивает книгу.
1. Но чувствую, что я дольше, чем нужно, остановился на этом месте, так как самая необходимость понятий вынуждала нас к такому рассуждению, теперь нам нужно опять обратиться к следующим по порядку обвинениям, чтобы не опустить без опровержения ни одного нападения на нас. И, во–первых, если угодно, рассмотрим то, как обвиняет нас, будто мы говорим, что спасение мира совершил простой человек; ибо хотя сие и в предыдущих исследованиях уже несколько раскрыто, однако, чтобы совершенно очистить предубеждение судящих (о нас) по клевете, вкратце опять рассмотрим. Мы так далеки виною великой и неизреченной благодати признавать простого человека, что если бы кто такое благое действие отнес даже к Петру и Павлу или к небесному ангелу, то и сему человеку, по заповеди Павла, мы изрекли бы «анафема» (Гал. 1:8), ибо ни Павел не распялся за нас, ни во имя человека мы не крестились (1 Кор. 1:15). Но от того, что спасительную силу Христову мы исповедуем высшею человеческого естества, учение противников не получает большей силы против истины, потому что у них цель — во всем утвердить различие сущности Сына от сущности Отца; и они стараются доказать несходство по сущности не только различением Рожденного от Нерожденного, но и противоположением Страждущего и Бесстрастного. Это яснее раскроется в конце слова, но и из того, что будет теперь сказано, не менее уяснится.
Евномий, обвиняя приписывающих страдание человеческому естеству, хочет, конечно, подвергнуть страданию самое Божество. Ибо когда возможно двоякое и обоюдное предположение: или Божество, или человечество страдало, — то осуждение одного, конечно, становится утверждением остального. Посему те, кои обвиняют усматривающих страдание в человечестве, одобрят, конечно, называющих Божество Сына способным к страданию, но допущение этого есть уже и обличение нелепости их учения. Потому что, если, по словам их, страдает Божество Сына, а Божество Отца по существу Своему остается не причастным никакому страданию, то бесстрастное естество и естество, приявшее страсть, чужды между собой. Хотя сказанное по объему слов кратко, но поелику оно содержит начала и основания всякого зла в учении, то справедливо читателям потребовать не краткого ответа, но основательного. Мы и человеку не приписываем своего спасения и не допускаем того, что нетленное и Божественное Естество причастно страданию и тлению; но поелику должно вполне веровать Божественному слову, которое возвещает, что в начале «Бог бе Слово» и что потом Слово, соделавшись плотию, стало видимым на земле и обращалось с людьми, то мы принимаем верою соответственные Божию слову понятия. Итак, когда мы слышим, что Он есть Свет, и Сила, и Правда, и Жизнь, и Истина и что все через Него было, то все сие и сему подобное мы считаем верным, относя к Богу Слову; а когда слышим о скорби, и о сне, и о нищете, и смущении, и узах, и гвоздях, и копье, и крови, и ранах, и гробе, и камне, и ином, тому подобном, то хотя бы это противно было прежде указанному, тем не менее принимаем за достоверное и истинное, относя к плоти, которую верою приняли мы вместе со Словом. Как свойств тела нельзя умопредставлять в Слове, Которое было в начале, так, обратно, и свойственного Божеству нельзя разуметь в естестве плоти. Поелику в евангельском учении о Господе соединено высокое и Богу приличествующее с уничиженным, то мы то или другое понятие соответственно прилагаем к тому или другому из мыслимых в таинстве человеческое — к человеческому, а высокое — к Божеству, — и говорим, что поколику Сын есть Бог, Он совершенно бесстрастен и нетленен; а если в Евангелии приписывается Ему какое–либо страдание, то Он действовал так по человеческому естеству, конечно, допускающему таковую немощь. Поистине Божество совершает спасение при посредстве тела, им воспринятого; страдание принадлежит плоти, а действование — Богу. Хотя некоторые в защиту противного учения и приводят слова Апостола: «Своего Сына не пощаде» (Рим. 8:32), и: «Бог Сына Своего посла» (Рим. 8:3) и тому подобные, которые, по–видимому, указывают на участие в страданиях Божеского естества, а не человеческого, но тем не менее мы не отступим от здравых догматов, когда сам Павел открывает нам яснее сие таинство, ибо повсюду домостроительство страдания приписывает человеческой природе Христа, говоря: «Понеже бо человеком смерть бысть, и человеком воскресение мертвых» (1 Кор. 15:21), и: «Бог Сына Своего посла в подобии плоти греха, и о гресе осуди грех во плоти» (Рим. 8:3) (сказал во плоти, а не в Божестве), и: «распят бысть от немощи, означая немощью плоть, но жив есть от силы» (2 Кор. 13:4), под силою разумея Божество, и еще: «греху умре», то есть телом, «Богови» же «живет», то есть Божеством (Рим. 6:10). Таким образом, сим доказывается, что смерть вкусил человек, а бессмертное естество не потерпело страдания смерти. И в словах: «Не ведевшаго бо греха по нас грех сотвори» (2 Кор. 5:21) опять грехом называет плоть.
2. Хотя мы это говорим мимоходом, но это отступление окажется, быть может, не менее полезным, как и предположенное (исследование). Поелику в словах святого Петра: «Господа и Христа Его Бог сотворил есть» (Деян. 2:36) и Апостола Павла к евреям: соделал Первосвященником (Евр. 5:10) Евномий выхватывает выражение «сотворил», как указание предвечного существования, и поэтому думает, что Господа должно признавать тварию, то пусть услышит Павла, который говорит: «Не ее девшаго бо греха по нас грех сотвори» (2 Кор. 5:21). Если слово «сотвори», сказанное о Господе и в Послании к Евреям, и в изречении Петра, относит к понятию предвечности, то следовало бы и находящееся здесь изречение «»грех сотвори» Его Бог отнести к первому состоянию сущности и отсюда, подобно как и из других свидетельств, попытаться доказать, что Он сотворен. Но если здесь слово «сотвори» отнесет к сущности, то, сохраняя последовательность себе самому, должен и грех видеть в сущности. Но если этого постыдится по очевидной нелепости и скажет, что Апостол словами «грех сотвори» указывает на домостроительство в последние дни, то пусть убедится по той же последовательности, что и там «сотвори» относится к домостроительству. Но возвратимся опять к тому, от чего мы уклонились. Кроме этих бесчисленное множество мест из священного Писания можно привести для нашей цели. И да не подумает кто–либо, что божественный Апостол противоречит сам себе и доставляет спорящим о догматах возможность заимствовать одинаково из его слов содержание для подтверждения того и другого мнения. Тщательно испытывающий легко найдет, что к одному строго направлено у него слово и не колеблется он в своих мыслях. Потому что, повсюду возвещая срастворение Божеского естества с человеческим, тем не менее в каждом усматривает свое, так что и человеческая немощь через общение с нетленным изменилась к лучшему, и Божеская сила через соединение с низшим естеством не унизилась. Итак, когда говорит Апостол, что «Сына не пощаде» (Рим. 8:32), то истинного Сына различает от рожденных, и возвышенных (Ис. 1:2), и усыновленных — тех, говорю, которые по Его повелению изведены в бытие прибавлением, «Своего» означая родственность по естеству. И дабы кто–либо не приписал нетленному естеству страдания крестного, другими яснейшими выражениями исправляет такое заблуждение, именуя Его «Ходатай Бога и человеков» (1 Тим. 2:5), и человеком, и Богом, чтобы из двух наименований, прилагаемых к одному, разумелось соответственное о каждом: о Божеском — бесстрастие, а о человеческом — восприятие страдания, так как самая мысль различает соединенное по человеколюбию и разделяемое по понятию. Когда проповедует превосходящее и превышающее всякий ум, употребляет высшие наименования, называя Его над всеми Богом (Еф. 4:6), великим Богом (Тит. 2:13), Божиею силою и премудростию (1 Кор. 1:24) и сему подобными. А когда описывает словом все необходимо ради нашей немощи воспринятое испытание страданий, то для соединяющего в себе оба (естества) берет наименование от нашего естества, называя Его человеком, но не сообщая сего наименования остальному естеству, дабы сохранилось о том и другом благочестивое разумение; когда человеческое прославляется по причине восприятия, а Божеское не умаляется по причине снисхождения, но предавая человеческую часть страданиям, Божескою силою совершает воскресение того, что пострадало. Таким образом, испытание смерти относится к Тому, Кто приобщился способного к страданию естества по причине единения с собою человека, причем и высокие, и Божеские наименование переходят на человека; так что видимый на кресте именуется Господом славы по причине соединения естества Его с низшим и перехождения вместе тем и благодати наименования от Божеского (естества) на человеческое. Посему разнообразно и различно представляет Его Писание: то сшедшим с небес, то рожденным от жены Богом предвечным, и человеком в последние дни — так что и бесстрастным исповедуется Единородный Бог и страждущим Христос, и этими противоречиями не говорится неправды' так как с каждым именем соединяется приличное ему понятие. Посему если таким образом мыслить мы научились из боговдохновенного учения то как же причину спасения приписываем простому человеку? Если полагаем, что изречение блаженного Павла «сотвори» относится не к предвечности бытия Ипостаси, а ко времени домостроительства, то что тут общего с обвинением? Ибо великий Апостол говорит, что то, что видимо было в образе раба, сделалось через восприятие тем, чем восприявший был по естеству своему; и в Послании к Евреям тому же научает Павел, говоря, что Бог поставил Иисуса посланником и первосвященником исповедания нашего «верна суща Сотворшему Его» (Евр. 3:1–2); здесь своей кровью за грехи наши священнически умилостивившего наименовав Первосвященником, словом «сотвори» означает не первое существование Единородного, но желая представить благодать, обыкновенно именуемую при поставлении священников, говорит: «сотвори». Ибо Иисус, как говорит Захария, Иерей великий (Зах. 3:1), Своего агнца, то есть Свою плоть, за «мирский» грех принесший в жертву ради чад, приобщившихся плоти и крови, и Сам «приискренне приобщися» крови (Евр. 2:14) (не в том отношении, как Он был в начале, будучи Словом и Богом, и в образе Божием быв, и будучи равен Богу; но в том, как истощил Себя в образе раба и принес приношение и жертву за нас) — сей Иисус соделался Архиереем для многих грядущих родов по чину Мельхиседекову Знал же совершенно тайну сего тот, кто не мимоходом беседовал о ней к евреям. Итак, в одинаковом смысле говорится здесь, что соделан священником и посланником, а там, что соде лан Господом и Христом, — первое по отношению к домостроительству о нас, последнее по причине преложения или претворения человеческого к Божескому, ибо Апостол творением называет претворение. Итак, очевидна клевета противников, лукаво переносящих выражения, означающие домостроительство, к предвечной Ипостаси, потому что Апостол Павел учит нас неодинаковым образом знать Христа ныне и прежде, когда говорит так: «аще же и разумехом по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем» (2 Кор. 5:16), как бы указывая, что то знание означает временное домостроительство, а это — вечное бытие. Итак, достаточно нами в защиту против обвинений доказано, что мы не признаем два Христа или Господа и не стыдимся креста, и не полагаем, что простой человек пострадал за мир, и не думаем слово «сотвори» относить к созданию сущности. Такое наше мнение находит немалое подкрепление в словах самого обвинителя, в которых, сильно изощряя язык против нас, выставляет на вид и то, будто «такое же противоречие себе самому представляет и Василий и ясно показывает, что он не вник в мысль Апостола и не сохранил последовательности в собственных словах, на основании которых он должен или, сознав их несообразность, признать, что соделалось Господом то Слово, которое было в начале и было Богом, или прилагать противоречие к противоречиям». И мы говорим то же, что говорит и Евномий, что Господом соделался Тот, Который был в начале Словом и Богом. Ибо будучи чем был: и Богом, и Словом, и Жизнью, и Светом, и Благодатью, и Истиною, и Господом, и Христом и всяким высоким и Божественным именем, стал и в воспринятом человеке, который ничем таким не был, всем тем, чем было Слово, а с тем вместе и Христом, и Господом, по учению Петра и исповеданию Евномия, не потому, чтобы Божество приобретало что в приращение себе, но потому что в Божеском естестве усматривается всякое высокое достоинство. Таким образом соделывается Господом и Христом, не Божеством восходя к приращению благодати (ибо природа Божества признается не имеющей недостатка ни в каком совершенстве), но человеческое вводя в общение Божества, что и означается наименованием Христа и Господа.
3. Но о сем достаточно. О том же, что сказано Евномием в оклеветание нашего учения, будто (у нас) Христос истощился в Себя Самого, достаточно уже сказанного в предыдущих исследованиях, из которых оказалось, что он к нашему догмату применяет собственное хуление. Ибо не тот признает переход от подобного в подобное, кто исповедует, что неизменяемое Естество облеклось в сотворенное и тленное, но тот, кто не допускает никакого перехода от величия естества к уничижению. Ибо если Он, по словам их, сотворен, и человек также сотворен, то в учении не остается ничего чудесного; и нет ничего дивного, когда говорят, что тварь соделалась сама собою. Но мы, наученные пророчеством: «измена десницы Вышняго» (Пс. 76:11) (называем десницею Отца силу Божию, сотворившую все, которая есть Господь, не как часть, зависящая от целого, но как сила, хотя из Него сущая, но по своей Ипостаси сама в себе созерцаемая), говорим, что ни десница не изменилась по отношению к естеству Того, Которого она десница, ни изменения ей не может быть приписано какого–либо иного, кроме бывшего по домостроительству плоти; ибо по истине был «десницею» Оный, явившийся во плоти Бог, прогреваемый проницательными и через самую плоть. Поколику Он творил дела Отца, Он и есть, и разумеется десницею Божиею, поколику же облечен был покровом плоти, по видимости есть и разумеется иным от того, чем был созерцаем по естеству. Посему, говорит Филиппу, обращавшему внимание только на одно измененное: смотри через измененное на неизменяемое и, если увидишь оное, то увидишь Самого Отца, Которого ищешь видеть. Ибо «видевый Мене» (Ин. 14 9) — не того, который является в измененном виде, но истинно Меня' сущего во Отце, — увидит Самого Того, в Котором еемь, так как один и тот же образ Божества усматривается в обоих. Итак, когда мы веруем что нетленное, и бесстрастное, и несозданное естество стало находиться в твари, подверженной страданию, и в сем разумеем изменение, то каким образом обвиняют нас, будто говорим, что Он истощился в Себя Самого, — те, которые свою мысль выдают за наши догматы? Ибо общение сотворенного с сотворенным не есть «измена десницы». Называть же Десницу несотворенного естества сотворенной свойственно одному Евномию и подобномыслящим ему, потому что, кто имеет взор, направленный к истине, тот, каким видит Вышнего, такой будет видеть и Десницу Вышнего: несотворенного — несотворенною, благого — благою, вечного — вечною, так как свойство вечности нисколько не терпит от того, что она пребывает рожденной во Отце. Так обвинитель, направивши свои порицания против нас, не догадался, что они относятся к тем, для которых страдание служит претыканием и кои посему допускают инаковость сущностей, полагая, что Отец по причине превосходства естества недоступен страданию, а Сын по причине недостатка и изменяемости снизошел для участия в страданиях.
К сказанному я желаю прибавить и то, что нет никакой в истинном смысле страсти, которая бы не вела ко греху, и никто не назовет необходимое следствие природы страстью в собственном смысле, имея в виду сложную природу, идущую путем некоторого порядка и последовательности. Ибо взаимное сочетание разнородных стихий в устройстве нашего тела есть некоторое согласованное сложение многого несходного. А когда в надлежащее время согласие, связующее соединенные стихии, разрушится, тогда опять сложное разрешается на те части, из которых составилось. Все это есть более действие природы, а не страсть, потому что только понимаемое в противоположность бесстрастию как добродетели мы обыкновенно называем страстью, которой, как мы веруем, и при общении с нашим естеством остался непричастным дарующий нам спасение, «искушена по всяческим по подобию, разве греха» (Евр. 4:15). Итак, в собственном смысле страсти, которая есть болезнь воли, он не приобщился, ибо «греха», говорит Писание, «не сотвори, ни обретеся лесть во устех Его» (1 Пет. 2:22:Ис. 53:9). Что же касается до свойств нашего естества, которые, по некоторому обычаю и неправильному словоупотреблению, обыкновенно называются тем же именем «страсти», то мы исповедуем, что Господь приобщился их, именно: рождения, и питания, и возрастания, сна и утомления, и всего, что душа естественно чувствует при телесных страданиях, желания нужного, которое исходя от тела возбуждает потребность в душе, и чувства скорби, и страха смерти, и прочего подобного, кроме того только, что имеет последствием грех. Как разумея Его всепроницающую силу на небе, и в воздухе, и на земле, и в море, и во всем, что под небом и под землею, веруем, что Он повсюду и во всем, но не называем Его ничем из того, в чем Он есть (ибо не небо Тот, кто размерил его «пядию», содержащей вселенную (Ис. 40:12), не земля — «содержай круг земли» (Ис. 40:22), и опять не вода — объемлющий водное естество), так и прошедшего через так называемые страсти плоти мы не называем страстным, но говорим, что как Виновник сущего и объемлющий вселенную, и неизреченной силой своего величия управляющий всем движимым и все неподвижное сохраняющий в твердом положении, Он родился и среди нас для исцеления болезни греховной, сообразуя соответственно страсти действие врачевства, вводя таким образом врачевание, какое находил приличным для болящей части твари. Благоволил же уврачевать страсть так же, как и врачуемого — прикосновением. Но потому что Он врачует болезнь, не должно думать, что Он и Сам через то сделался страстным, ибо и о людях обыкновенно этого не говорят. О том, кто с целью врачевать прикасается к больному, мы не говорим, что он сам причастен болезни, но говорим, что он и болящему дарует восстановление здоровья и сам не причастен болезни, ибо не его касается страдание, но, напротив, он касается болезни. Итак, если делающий посредством искусства что–нибудь доброе для тел называется не слабым и больным, но человеколюбивым, и благодетелем, и сему подобными именами, то почему, клевеща на домостроительство о нас, как на нечто низкое и бесславное, предполагают отсюда тотчас, что сущность Сына отлична, так как бы естество Отца было выше страданий, а естество Сына не свободно от страсти? Ибо, если цель домостроительства воплощения не та, чтобы Господу соделаться причастным страстям, но чтобы явиться человеколюбивым (а нет сомнения, что человеколюбив и Отец), то Отец с Сыном одно и то же имеет бытие, если будем смотреть на цель. Если же не Отец совершил разрушение смерти, нисколько не удивляйся тому, ибо и «Отец бо не судит никомуже, но суд весь даде Сынови» (Ин. 5:22) не потому, чтобы, делая сие через Сына, Сам не мог спасти погибшего или судить согрешившего, но для того, чтобы и сие совершать через Свою Силу, которою творит все, а Сила Отца есть Сын. Итак, спасенные через Сына спаслись силою Отца, судимые Им осуждаются правдою Божиею, ибо Христос есть правда Божия, открываемая «благовествованием» (Рим. 1:17; 1:16), как говорит Апостол. И будешь ли смотреть на целый мир или на части мира, составляющие собой целое, — все это суть дела Отца как дела, совершенные Его Силою; и таким образом Писание справедливо в обоих случаях говорит, что все творит Отец, и что без Сына не получило бытие ничего из того, что есть (Ин. 1:3), потому что действие силы имеет отношение к тому, чья сила. Итак, поелику Сын есть сила Отца, то все дела Сына суть дела Отца. А о том, что не по немощи естества, а по силе произволения он приступает к домостроительству страданий, можно представить бесчисленные изречения из Евангелия, о которых умолчу по очевидности сего чтобы, останавливаясь на том, что всем известно, не сделать слово очень пространным. Итак, если то, что совершено, зло, то не одного Отца, но и Сына нужно признать чуждым зла; а если спасение погибших есть добро, и то, что совершено, не страсть, но дело человеколюбия, то почему ты лишаешь благодарности за наше спасение Отца, совершившего освобождение людей от смерти Силою Своею, которая есть Христос?
4. Но возвратимся опять к задорному писателю и снова обратим внимание на его напряженное ораторствование против нас. Он обвиняет нас, что мы, не называя естество Сына сотворенным, противоречим слову Петра: «Господа и Христа Его Бог сотворил есть, сего Иисуса, Егоже вы распнете» (Деян. 2:36), много досадуя на нас за сие, поносит нас и изобретает доводы, которыми думает опровергнуть наше слово. Итак, посмотрим силу его умозаключений: «О, вы, неразумнейшие из всех, — говорит он, — кто, имея образ раба, принимает опять образ раба?» Мы ответим ему: никто из имеющих ум не скажет этого, разве только те, которые совсем отчуждились надежды христианской. А таковы вы, обвиняющие нас в неразумии за то, что мы Творца не признаем сотворенным. Ибо если не лжет Дух Святый, говорящий через Пророка: «всяческая работна Тебе» (Пс. 118:91), и вся тварь служебна, а сотворен, по–вашему, и Сын, то, несомненно, Он раб вместе со всеми, общением в созданности вовлекаемый и в общение рабства. А рабу, без сомнения, вы должны придать и образ рабский, ибо тем, которые признают Его рабом по природе, не должно стыдиться внешнего вида рабства. Итак, кто же, о остроумнейший ритор, переводит Сына из рабского образа в другой образ раба? Тот ли, кто, свидетельствуя о несотворенности Его, вместе с тем показывает и то, что Он не рабствует, или скорее вы, которые прямо кричите, что Сын есть раб Отца и прежде образа раба, и был в подчинении у Него? Не нуждаюсь в других судьях, тебе самому предоставлю произвести суд. Думаю, что никто не будет так бессовестен пред истиною, чтобы стал по бесстыдству противоречить тому, что для всех очевидно. Ибо ясно для всякого сказанное, что раб по естеству носит печать рабских свойств, потому что сотворенность есть свойство рабства; итак, кто говорит, что Он, будучи рабом, принял наш образ, тот, очевидно, Единородного переводит из рабства в рабство. Но Евномий немного спустя возражает против сказанного. Я теперь опушу, что сказано в средине, так как в предыдущем достаточно это исследовано; клевеща на нас, как на людей дерзко говорящих и мыслящих нелепо назвав нас весьма жалкими, присовокупляет следующее: «если блаженный Петр рассуждает не о том Слове, которое было в начале и было Бог, но о видимом и истощившем себя, как говорит Василий; истощил же себя в образ раба видимый человек, а истощивший себя в образ раба истощил себя в рождении человеческом»… И в прочитанном рассудок слушающих, может быть, прямо заметит лукавство и неразумие в построении речи. Несмотря на это и мы вкратце предложим обличение сказанного им — не для опровержения столь неразумного умствования, которое само себя ниспровергает для имеющих слух, но чтобы не показалось, что мы, под предлогом презрения пустоты слова, опускаем без исследования предложенное. Итак, рассмотрим его речь. Что говорит Апостол? Ведомо да будет, говорит он, яко «Господа и Христа Его Бог сотворил есть» (Деян. 2:36). Потом, как бы отвечая на вопрос чей–либо: кому оказана такая милость? — как будто перстом указывает подлежащее, говоря: «сего Иисуса, Егоже вы распнете». Что говорит о сем Василий? Что это указательное речение ( «сего Иисуса») дает знать, что соделан Христом и Господом тот, который самими слушателями распят. Ибо говорит: «вы распясте», и, вероятно, требовавшие Его на смерть были слушателями слова, потому что и времени не много прошло от креста до проповеди Петра. Что же против этого говорит Евномий? «Если блаженный Петр рассуждает не о том Слове, которое было в начале и было Бог, но о видимом и истощившем себя, как говорит Василий; истощил же себя в образ раба видимый человек»… Остановись, кто это говорит, что видимый человек опять истощил себя в образ раба, или кто утверждает, что прежде явления во плоти совершилось страдание на кресте? Крест не прежде тела, и тело не прежде образа раба. Но Бог является во плоти, а явившая в себе Бога плоть после того, как через нее исполнилось великое таинство смерти, через растворение претворяется в высшее и Божественное, соделавшись Христом и Господом, преложившись и изменившись в то, чем был Явившийся в сей плоти. Но как будто мы, напротив, сказали то, что заставляет нас говорить этот противник истины, именно, что явившийся на кресте истощил себя в рождении другого человека; он составил буквально такое лжеумствование: «если видимый человек, — говорит он, — истощил себя в образ раба, а истощивший себя в образ раба истощил себя в рождении человеческом, то видимый человек истощил себя в рождении человеку». О как помнит он предположенное намерение! Как ведет слово к своей цели! Василий говорит, что Апостол сказал, что Христос сотворен по видимому человеку. А сей искусный и хитрый извратитель слов говорит: если не о сущности сущего в начале сказал Петр, что она сотворена, то в образ раба истощил себя видимый человек, а истощивший себя в образ раба истощил себя в рождении человеческом. Мы поражены этой непобедимой мудростью, Евномий! Тем, что мы узнали, сильно опровергнута мысль, что слово Апостола не имеет в виду «распят бысть от немощи» (2 Кор. 13:4)! Если бы мы поверили, что это так, то опять видимый человек рождался бы иным, истощая себя в иное бытие человека. Неужели ты не перестанешь шутить неприкосновенными вещами? Неужели не краснеешь, уничтожая столь смешными софизмами трепет пред Божественными тайнами? Ужели не обратишься, если не прежде то хотя теперь к познанию, что Единородный Бог, «сый» в лоне «Отчи», будучи Словом, и Царем, и Господом, и всем, что только есть высокого по имени и по понятию, не имеет нужды соделаться ничем благим, будучи Сам полнотою всех благ? Да и во что изменяясь, Он станет тем, чем не был прежде? Посему как «неведевший» греха соделывается грехом, чтобы уничтожить грех мира, так и, обратно, плоть, принявшая Господа, соделывается Господом и Христом, претворяясь через срастворение в то, чем она не была по естеству. Из сего научаемся, что и Бог не явился бы во плоти, если бы Слово не стало плотью, и облекавшая его человеческая плоть не претворилась бы к Божественному, если бы видимое не соделалось Христом и Господом. Но дерзко нападающие своими умствованиями на сущность Божию с презрением отвергают особенность нашего проповедания и хотят Приведшего все сущее в бытие самого представить частью твари; и на помощь собственным усилиям, для подкрепления хулы привлекая изречение Петра, сказавшего иудеям: «да разумеет весь дом Израилев, яко и Господа и Христа Его Бог сотворил есть, сего Иисуса, Егоже вы распясте» (Деян. 2:36), приводят это в доказательство того, что сущность Единородного Бога сотворена. Что же, скажи мне, ужели иудеи, к которым обращено это слово, были прежде век? Неужели крест древнее мира? Неужели Пилат был прежде всякой твари? Неужели прежде Иисус, а потом Слово? Неужели плоть старее Божества? Неужели прежде бытия мира Гавриил благовествует Марии? Неужели не человек Христос при кесаре Августе получает начало через рождение, а сущий в начале Бог Слово, Царь наш предвечный, как свидетельствует Пророк (Мих. 5:2)? Неужели не видишь, какое смешение вводишь ты своими словами, перемешивая по пословице верхнее с нижним? Был пятидесятый день после страдания, когда Петр возвестил сие иудеям, говоря: «сего, Егоже вы распясте, Господа и Христа Бог сотворил есть». Из слов: «Егоже вы распясте, сего сотворил Бог Христа и Господа» ясно, что Петр говорит не о том, что прежде век, но о том, что было по воплощении. Как же не видишь, что весь смысл слов направлен к доказываемому, но смешишь ребяческим сплетением лжеумствования, говоря: если мы верим, что явившийся сотворен от Бога Христом и Господом, то необходимо Господу вновь истощиться в человека и подвергнуться второму рождению? Получает ли от этого большую силу ваше учение? Как сказанным доказывается, что сущность Царя твари сотворена? А я, напротив, говорю, что наше учение оправдывается самими возражениями против нас; и от чрезмерной внимательности ритор не замечает, что, доводя свою речь до нелепости, помогает своим противникам тем самым, чем силится опровергнуть их. Ибо если должно верить, что изменение Иисуса произошло от высшего к низшему, а превышает тварь одно Божеское и несозданное естество, человек же сотворен, то, может быть, внимательно рассмотрев собственное слово, обратится к истине, согласившись, что в сотворенном по человеколюбию явилось несотворенное. А если думает доказать, что Господь сотворен, указав на то, что Бог соделался причастным человеческого естества, то он многое мог бы найти в таком же роде и наполнить свое слово подобными доводами. Ибо и из того, что было Слово и было Бог, а после сего, как говорит Пророк, «на земли явися и с человеки поживе» (Вар. 3:38), будет следовать доказательство, что он один из числа тварей. А если это далеко от его цели, то и подобное совершенно не согласуется с нею, ибо по мысли все равно сказать: Слово, сущее в начале, после сего явилось людям или: «во образе Божий сый» (Флп. 2:6.) облекся в образ раба. Если одним из этих (изречений) нельзя воспользоваться для доказательства хульного мнения, то необходимо должно то же сказать и об остальном. Но милостиво советует нам отстать от заблуждения и указывает истину, какую сам измыслил: Тот, Который был в начале, говорит он, Словом и Богом, сей сотворен, по учению Апостола Петра. Но если бы он толковал нам сны и возвещал искусство разгадывать их, то, может быть, не было никакой опасности дозволить ему излагать как угодно гадания воображения. Но так как он говорит, что изъясняет Божественное слово, то нам уже не безопасно дозволить ему по произволу истолковывать изречения Писания. Что же говорит Писание? «Яко и Господа и Христа сотворил есть Бог, сего Иисуса, Егоже вы распясте». Так как здесь все относится к одному, — слово (сего), указывающее на имя человеческое (Иисуса), обвинение совершивших убийство, страдание на кресте, — то по необходимости это место следует разуметь о видимом (во плоти). А Евномий говорит, что Петр, говоря это, словом «сотворил» указал на предвечную сущность. Но нянькам или бабушкам неопасно дозволять шутить с детьми и свои сновидения выдавать за действительность, а когда нам для истолкования предлежит боговдохновенное слово, то пусть великий Апостол запрещает допускать старушечье пустословие. Ибо, слыша о кресте, я разумею крест и, находя человеческое наименование, вижу естество, означаемое именем. Итак, наученный Петром не сомневаюсь сказать, что Господом и Христом соделан Тот, Который был пред очами нашими; особенно когда друг с другом согласны святые как во всем ином, так и в этом отношении. Ибо как Петр говорит, что распятый соделан Господом, так и Павел говорит (Флп. 2:8–9), что Он превознесен после страдания и воскресения; посему превознесен не как Бог (ибо что выше Божественной высоты, о чем бы можно было сказать, что Бог возвысился до сего?). Но вознесена, говорит он, уничиженность человеческого естества, указывая, как думаю, сими словами на уподобление воспринятого человека высоте Божеского естества и соединение с ним. Итак, верим, что это именно означает великий Петр, когда говорит, что Иисус соделан Господом на кресте, то есть (по человеческому естеству) через единение по всему с Божеством сделался тем, что есть Божество. Но если кто и согласится с ним в толковании Божественного изречения, то и тогда его слово не будет служить в пользу ереси. Пусть Петр говорит о Том, Кто был в начале, что «Господа Его и Христа сотворил есть, сего Иисуса, Егоже вы распясте». Находим, что и от этого хульное мнение не получает какой–либо силы против истины. «Господа Его», говорит, «и Христа сотворил есть Бог» ; к чему из сказанного должно отнести «сотворил» ! К какому из находящихся в сем изречении слов отнесем это выражение? Ибо три подлежащих: «сей Господь» и «Христос», — с которым из них соединим слово «сотворил» ? Никто не будет так дерзок против истины, чтобы сказать, что слово «сотворил» относится не к Христу и Господу, ибо Его, сущего тем, чем уже был, Господом и Христом соделал Отец, говорит Петр. Не мое это слово, но самого сражающегося против нас словом. Ибо в том самом, что предлежит нашему исследованию, он говорит следующими словами: «блаженный Петр рассуждает о Том, Кто был в начале и был Бог, и научает, что сей соделан Господом и Христом». Итак, Евномий говорит, что Тот, Кто пребыл тем, чем некогда и был, соделан Христом и Господом; подобное и о Давиде повествует история: что, будучи сыном Иессея и приставником стад, помазан был в царя. Не человеком соделало его тогда помазание, но пребывшего по естеству тем, чем и был, из простолюдина изменило в царя. Итак, сильно ли доказывается, что сущность Сына сотворена, если, как говорит Евномий, Того, Который был в начале и был Богом, Бог соделал Господом и Христом? Господство не есть наименование сущности, но власти, и название Христа означает царство; но иное — царство, иное — естество. Но Писание говорит о Сыне Божием, что Он соделан Господом и Христом. Итак, посмотрим, как разуметь это более благочестиво и последовательно. О ком приличнее сказать — о Боге или человеке, что он приобретает что–либо высшее через приращение совершенства? Кто так малосмыслен, чтобы думать, что Божественное стремится к совершенству через прибавление чего–либо? Предполагать подобное о человеческой природе — нет ничего неприличного, когда евангельское слово ясно свидетельствует о возрастании Господа по человечеству; «Иисус», говорит оно, «преспеваше премудростию и возрастом и благодатию» (Лк. 2:52). Итак, что соответственнее заключать из слов Апостола — то ли, что сущий в начале Бог через преуспеяние соделан Господом, или, что смиренное естество человеческое через общение с Божеством возносится к высшему достоинству? Ибо и Пророк Давид как бы от лица Господа говорит: «Аз же поставлен есмь царь от Него» (Пс. 2:6), почти то же говоря, что соделан Христом. И еще как бы от лица Отца говорит к Сыну: «господствуй посреде врагов Твоих» (Пс. 109:2), одно и то же говоря с Петром: будь Господом врагов твоих. Посему, как возведение на царство означает не создание сущности, но возвышение в достоинстве, и повелевающий господствовать не повелевает быть тому, чего не было, но тому, который уже есть, дает начальство над неповинующимися; так и блаженный Петр, говоря, что соделан Христом, то есть Царем всех, прибавил «сей», чтобы разделить понятие сущности и того, что усматривается при ней; будучи тем, что есть, Он «сотворен» тем, о чем говорено. Если бы можно было сказать о естестве, все превосходящем, что оно сделалось чем–либо через приращение достоинства, как например, из простолюдина — царем, из низкого — высоким, из раба — Господом, тогда, может быть, прилично было бы и слова Петра относить к Божеской сущности Единородного. Но поелику мы верим, что Божеское, каким оно когда–либо было, всегда остается таким же — высшим всякого приращения, недоступным уменьшению, то совершенно необходимо относить слова (Писания) к человечеству. Ибо Бог Слово чем был в начале, тем и ныне есть и навеки пребывается Царем, всегда Господом, всегда Всевышним и Богом, ничем из сего не соделавшись через усовершенствование, но будучи всем, что исчислено силою естества. Но кто от человека через восприятие возвысился до Божества, о том в собственном смысле и справедливо говорится, что Он соделан Христом и Господом, потому что Бог из раба соделал его Господом, из подчиненного — Царем, из подданного — Христом, превознес смиренное и имеющему имя человеческое «дарова Ему имя, еже паче всякаго имене» (Флп. 2:9). И таким образом совершилось неизреченное оное смешение и соединение, связавшее человеческую малость с Божеским величием. Посему великие и бого–лепные наименования справедливо прилагаются к человечеству и, наоборот, Божество именуется человеческими именами. Ибо Он и имеет имя «паче всякаго имене» и в человеческом имени Иисус приемлет поклонение от всякой твари, ибо сказано: «о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, И всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:10–11). Но довольно о сем.
Книга седьмая
Содержание седьмой книги
1. Седьмая книга из различных мест Посланий к Коринфянам и к Евреям и из самого (значения) слова «Господь» доказывает, что это выражение не есть, как думает Евномий, наименование сущности. После удивительного и долгого любомудрствования о Духе и Господе выставляет на вид, что Евномий на основании собственных своих слов невольно должен согласиться с правым учением, и поражает его его же собственными стрелами.
2. Потом говорит, что естественное отношение имен к предметам неизменяемо, и затем прекрасно исследует выражения «рожденный» и «нерожденный».
3. После сего, раскрыв различие имен и предметов, рассуждает, что совершенно нерожденны и те предметы, которые, не имея основания бытия, не рождаются и не существуют, как например, Скиндапс (пустой звук), Минотавр, Влитир, Циклоп, Сцилла; показывает, что противоположные по сущности вещи уничтожают одна другую, как огонь воду и прочие; но так как у Отца и Сына общая сущность и свойства одного находятся в другом, то в естество их не привходит никакого повреждения.
4. Затем говорит, что все предметы в творении получают имена от людей, и хотя названия у каждого народа различны (как например, и у нас есть название «нерожденный» — αγεννητος), но собственного наименования Божеской сущности, которое бы выражало вполне Божеское естество, или вообще нет, или оно для нас неизвестно.
5. После многих рассуждений о сущем, о нерожденном, о благе, о единосущии и после указания на то, что небесные силы по сущности неизменны, но различны по достоинству, оканчивает книгу.
1. Так как Евномий говорит, что слово «Господь» выражает сущность Единородного, а не достоинство и при этом ссылается на свидетельство Апостола, который в Послании к Коринфянам говорит: «Господь же Дух естъ» (2 Кор. 3:17), то благовременно и это его заблуждение не оставить неисправленным. Он утверждает, что слово «Господь» означает сущность, и в доказательство этого мнения приводит сказанные слова. Посмотрим, имеет ли что–нибудь общего (со словами Апостола) вышеизложенное мнение. Апостол говорит: «Господь же Дух есть», а он, объясняя Писание по своему произволу, называет господство сущностью и думает доказать это из сказанного. Но если бы сказано было Павлом: Господь же есть сущность, то и мы согласились бы с утверждаемым. Но когда богодухновенное слово говорит, что Господь есть дух, а Евномий говорит, что господство есть сущность, то я не знаю, что бы могло дать силу его мнению, разве может статься скажет он, что и слово «дух» полагается в Писании вместо слова «сущность». Итак, исследуем, указал ли где–либо Апостол на сущность, употребляя слово «дух». Он говорит: «Самый Дух спослушествует духови нашему» (Рим. 8:16), и: «Кто бо весть от человек, яже в человеце, точию дух человека живущий в нем» (1 Кор. 2:11), и: «письмя бо убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6), и: «аще ли духом деяния плотская умерщвляете, живи будете» (Рим. 8:13), и: «Аще живем духом, духом и да ходим» (Гал. 5:25). И кто исчислит изречения Апостола о духе, в которых мы нигде не находим, чтобы этим словом обозначалась сущность? Ибо он, говоря, что «самый Дух спослушествует духови нашему», ни на что иное не указывает, кроме Святаго Духа, внедренного в разум верных, потому что во многих своих изречениях он называет духом и самый ум, по принятии которым общения Духа приявшие получают достоинство сыноположения. Равным образом в словах: никто же «весть, яже в человеце, точию дух живущий в нем», — если и слово «человек» говорится о сущности, и слово «дух» также, то из сказанного следует, что в человеке — две сущности. А когда Апостол говорит, что «писъмя убивает, а дух животворит», — не знаю, как он противопоставляет сущность «письмени» ; и опять, как Евномий думает, что Павел, говоря, что дух должен убивать плотские деяния, относит к сущности означаемое словом «дух» ? А выражения «жить духом», «ходить Духом» и совсем были бы без смысла, если бы означаемое словом « «дух» относить к сущности, потому что чем иным, как не сущностью причастны в жизни все мы, пребывающие в жизни? Апостол предлагал бы нам совет жить сущностью, как бы говоря: участвуйте в жизни через себя самих, а не через других. Итак, если нигде нельзя отыскать такого подлинного смысла, то как, опять подражая здесь толкователям снов, повелевает принимать дух за сущность, чтобы силлогистически доказать, что слово «Господь» относится к сущности? Потому что, если дух есть сущность, а Господь есть дух, то, конечно, оказывается, что Господь — сущность. О как необорима сила доказательства! Как разоблачить и разрушить эту непобедимую решительность доводов? Что слово «Господь» говорится о сущности, чем он доказывает? Тем, что Апостол говорит: «Господь же Дух есть». Как же это относится к сущности? Но искусство построения доказательств повелевает слово «дух» поставлять вместо сущности. Таковы подвиги аристотелевского искусства! Поэтому жалки, по словам твоим, мы непосвященные в такую премудрость (но не совсем блажен и тот, кто исследует истину таким способом), чтобы понимать Апостола так, как будто он слово «дух» поставил вместо слов «сущность Единородного». Но как далее согласишь (приведенные выше слова Апостола) с последующими? Ими только не ограничивается мысль, потому что Павел, сказав: «Господь же Дух есть», присовокупил: «а идеже Дух Господень, ту свобода» (2 Кор. 3:17). Итак, если Господь есть сущность, а сущность — дух, то какая же еще сущность сущности? По словам твоим, одна сущность — дух, который есть Господь. А Апостол говорит еще о другом духе Господа, Который есть дух, то есть о другой сущности, по твоему толкованию. Итак, по вашему мнению, Апостол разумеет не что иное, как сущность сущности, когда раздельно пишет о Господе духе и Духе Господа. Но пусть Евномий понимает написанное, как ему угодно, а что мы разумеем об этом, состоит в следующем. Богодухновенное Писание, как называет его божественный Апостол (2 Тим. 3:16), есть Писание Святаго Духа. Цель его есть польза «человеков», ибо говорит он: «Всяко Писание богодухновенно и полезно есть» ; эта польза многоразлична и многообразна, как говорит Апостол, «ко учению, ко обличению, ко исправлению, к наказанию, еже в правде» (2 Тим. 3:16). Но эту пользу нельзя получить читающим с первого раза; Божественное, как бы какою завесою, скрывается телом Писания, так как законодательство и история как бы покрывают созерцаемое умом. Потому–то о тех, которые смотрят только на тело Писания, Апостол говорит, что они имеют покрывало на сердце (2 Кор. 3:15) и не могут провидеть славу духовного закона, так как им препятствует наложенное на лицо Законодателя покрывало. Посему он говорит: «писъмя убивает, а дух животворит», показывая, что представляющееся с первого взгляда толкование написанного, если не будет понято в надлежащем смысле, часто производит противоположное жизни, являемой духом. Так дух Писания полагает законом для всех людей совершенство добродетели в бесстрастии, а «письмя» истории в иных местах содержит изложение и некоторых несогласных с сим вещей, и по–видимому, как бы благоприятствует природным страстям, так что, кто будет внимать Писанию по ближайшему разумению его, тот сделает для себя букву учением смерти. Посему, о тех, которых внимание обращено только на тело Писаний, он говорит, что на душевные чувства их положено покрывало (2 Кор. 3:14); а о тех, которых взор обращен к умосозерцаемому, что им как бы лицо какое, открывается обнаженною слава, заключенная в Писании. Обретаемое же высшим разумением он называет Господом, Который есть Дух, «внегда же обратятся ко Господу, взимается, говорит, покрывало. Господь же Дух есть» (2 Кор 3:16–17). Апостол говорит это, противопоставляя рабству буквы господство духа, потому что как убивающему он противополагает животворящее, так Господа противопоставляет рабству; а для того, чтобы мы не потерпели какого–нибудь смешения понятий относительно Святаго Духа, научаемые со словом «Господь» соединять мысль о Единородном, он тверже определяет смысл своих слов посредством повторения, называя Дух Господом и Господа — Духом, дабы честью господства показать превосходство природы и не слить своими словами особенности Ипостаси. Потому что, наименовав Его и Господом, и Духом Господа, он научает разуметь нечто особенное от Единородного, как и в другом месте называет Его Духом Христовым (Рим. 8:9), прекрасно и таинственно в порядке излагая в своем писании сие благочестивое учение сообразно с евангельским преданием. Таким образом, мы, жалчайшие из всех, тайноводствуемые Апостолом, переходим от убивающей буквы к животворящему духу, наученные посвященным в раю в неизреченное (2 Кор. 12:4), что все, что говорит божественное Писание, суть глаголы Святаго Духа. Так, сказав римским иудеям: «добре Дух Святый глагола», он приводит слова Исайи (Деян. 28:25–27), и в Послании к Евреям, предпоставив Духа, говоря: «Темже, якоже глаголет Дух Святый», пространно приводит слова псалма, сказанные от лица Божия (Евр. 3:7–11). Равно и Самим Господом мы научены (Мф. 22:43), что Давид, не в себе пребывая, то есть не по человеческой природе говоря, возвещал небесные тайны; ибо как кто–нибудь, будучи человеком, мог бы узнать небесный разговор Отца с Сыном? Но будучи в Духе, он сказал, что «Рече Господь Господеви» то, что изрек; «аще убо Давид» Духом, говорит Писание, «нарицает Его Господа, како Сын ему есть» (Мф. 22:44–45)? Итак, богоносные святые вдохновляются силою Духа, и всякое Писание потому называется богодухновенным, что оно есть учение Божественного вдохновения. Если снять телесный покров слова, то остающееся есть Господь, жизнь и дух, по учению великого Павла и по евангельскому слову. Потому что Павел сказал, что обратившийся от буквы к Духу принимает уже не убивающее рабство, а Господа, Который есть животворящий дух, а высокое Евангелие говорит: «глаголы, яже Аз глаголах вам, дух суть и живот есть» (Ин. 6:63), как обнаженные от телесного покрова. Понимать же дух как сущность Единородного свойственно, говорим мы, снотолкователям, но в виде избытка мы воспользуемся и их доказательствами и стрелами противников вооружим истину, потому что позволительно израильтянам брать добычу у египтянина и сделать его богатство нашим украшением. Если сущность Сына называется духом, духом же называется и Бог (потому что и Евангелие так говорит, и сущность Отца без сомнения, называется духом), если далее, по их мнению, неодинаково называемое имеет и природу неодинаковую, то отсюда, конечно, следует что одинаково называемое и природой не разнится одно от другого. Итак, поелику, по словам их, сущность Сына и Отца называется духом, то этим ясно доказывается, что нет различия в сущности; потому что немного спустя после этого Евномий говорит, что «когда сущности различны, то непременно различны и наименования, обозначающие сущность; а если что одинаково называется, то, конечно, будет одним и тем же и обозначаемое тем же наименованием». Так отвсюду «уловляяй премудрых в коварстве их» (Иов. 5:13; 1 Кор. 3:19), обратил к утверждению нашего учения продолжительные труды этого писателя и бесчисленное количество пота, пролитого при труде. Ибо если Бог называется в Евангелии духом (Ин. 4:24), а Евномий старается доказать, что дух есть сущность Единородного, то, так как между именами нет никакого различия, то и означаемое именами, без сомнения, не будет различаться одно от другого по естеству.
2. Но мне кажется лучшим оставить без исследования ту слабую и нестрашную борьбу с тенями, которая написана у него дальше в осуждение слов наставника, потому что достаточным обличением пустоты сказанного служит самое слово его, само собою вопиющее о своей слабости. Ввязываться в борьбу с такими противниками то же, что нападать на мертвых. Потому что Евномий, изложив с великой самоуверенностью какое–нибудь изречение наставника, оклеветав оное и обругав, и обещав показать, что оно ничего не стоит, поступает так же, как малолетние дети, у которых несовершенство и незрелость смысла и недостаток упражнения чувственных органов не допускают точного разумения явлений. Поэтому они часто, думая, что видимые ими звезды находятся близко над головою, по детскому неразумию бросают в них какими–нибудь комьями; потом, когда ком упадает, с рукоплесканием и смехом хвастаются перед сверстниками, как будто брошенное ими долетело до звезд. Таков и Евномий, пустивший в истину детскую стрелу; он, изложив прежде, подобно звездам каким, оные сияющие слова наставника, бросил с земли, от попираемого и пресмыкающегося рассудка, земные и неустойчивые слова, которые, поднявшись на столько, на сколько могут летать не падая, затем сами собою низвергаются обратно собственной тяжестью. Слова великого Василия буквально таковы: «но кто из здравомыслящих согласится на это положение: которых вещей имена различны, тех и сущности необходимо должны быть различны? Названия Петра и Павла и вообще людей различны, но сущность всех одна. Весьма во многом мы друг с другом одинаковы, а отличаемся один от другого теми только свойствами, которые усматриваются в каждом особо; почему названия служат к означению не сущностей а особенных свойств, характеризующих каждого. Так, услышав имя Петра, мы не разумеем под сим именем сущности Петра (сущностью же называю здесь невещественное подлежащее), а только напечатлеваем в себе понятие об особенных свойствах, в нем усматриваемых». Вот что говорит великий, а сколько Евномий в борьбе против сказанного употребил искусства и сколько бесполезно потратил времени — можно узнать из самого его сочинения, потому что у меня нет охоты вставлять в свои труды отвратительную болтовню этого ритора и среди своих слов выставлять на позор его невежество и бессмыслие. Он излагает какую–то похвалу объяснительным словам, определяющим подлежащее, и с привычным ему способом выражения слагает и склеивает отвергнутые и на площадях лохмотья словечек. И опять несчастный Исократ обгладывает слова и общипывает обороты для составления предположенной речи; по местам тем же недостатком страдает и еврей Филон, от собственных трудов выделывая себе словечки. Но даже и при этом не удалась сия узорчатая и разноцветная ткань слов, но вся ловкость нападения и защиты в области понятий и все искусственное построение расплылось само собою. Нечто подобное обыкновенно случается с пузырями, когда капли, падающие сверху на какую–нибудь совокупность вод, производят пенистые выпуклости, которые, едва образовавшись, тотчас опадают, не оставляя на воде никакого следа своего существования; таковы и пузыри мыслей этого писателя, тотчас по происхождении пропадающие без всякого прикосновения. Потому что как какая–нибудь пенистая масса, увлекаемая течением, натолкнувшись на что–нибудь твердое распадается, так и в его слове после неразрешимых оных построений и грезящей философии, по которой он утверждал, что с различием имен должно понимать вместе и различие сущности, случайно несущемся, непредвиденно донесшись до истины рассыпался в ничто этот неустойчивый и пузыревидный состав лжи. Он говорит следующими словами: «кто так туп и далек от человеческого понимания, чтобы, рассуждая о людях, одного назвать человеком, а другого — конем, сравнив между собою их имена»? Я сказал бы ему: хорошо ты называешь тупым погрешающего таким образом относительно слов, и для защиты истины воспользуюсь твоим свидетельством. Ибо если признак крайней тупости — называть одного — конем, а другого — человеком, когда оба они на самом деле люди, то равному, конечно, бессмыслию свойственно, веруя, что Отец есть Бог и Сын есть Бог, называть одного сотворенным, а другого несотворенным, потому что как в вышеприведенном примере человечество, так здесь Божество не допускает извращения имени на имя другого рода. Ибо что есть бессловесное по отношению к человеку, то и тварь по отношению к Божеству, и последняя одинаково не может быть понимаема тожественною с произведшим ее. И как нельзя применить одного и того же определения к разумному существу и четвероногому, потому что каждое из них естественно отличается от другого своею особенностью, так и сущность сотворенную и несотворенную ты не изъяснишь одними и теми же словами, так как то, что говорится об одной сущности не находится в другой. Потому что как в коне не находится разумности, а в человеке — однокопытности, так и в твари — Божества, а в Божестве — сотворенности; но если Бог, то непременно и несотворен, а если сотворен, то не Бог, — разве кто–нибудь по некоторому словоупотреблению и обычаю перенесет на тварь одно имя Бога, как и некоторым коням всадники дают человеческие имена. Но ни конь не есть человек, хотя бы он назывался человеческим именем, ни тварь не есть Бог, хотя бы некоторые усвоили ей название Божества, даря пустой звук из двух слогов (Θεος). Итак, поелику учение ереси случайно сошлось с истиною, то пусть он посоветует сам себе оставаться при свойственным предметам словах и даже образно не прилагает к ним своих слов, но на самом деле почитать тупым и помешанным того, кто именует предмет не как он есть, но вместо человека говорит конь, вместо неба — море, вместо Бога — тварь. И никто не думай, что неразумно противополагать Богу тварь, но смотри на пророков и апостолов. Пророк говорит от лица Отца: рука моя сотворила все сие (Ис. 48:13), загадочно называя рукою силу Единородного, а Апостол говорит, что все из Отца и все через Сына (Кол. 1:16). Пророческий Дух как бы сходится с апостольским учением, которое также произошло от Духа, потому что там Пророк, сказав, что все есть дело руки Того, Который над всем, различает природу происшедшего от Сотворившего, а сотворивший своею рукою все есть Бог, Который над всем; Он имеет руку и все соделывает ею, и Апостол здесь опять делает то же самое разделение сущего, все прикрепляя к творческой Вине, но не полагая в числе всего творящего начала, так что этим ясно учит различать естество, сотворенное от несотворенного, и показывает, что иное есть по своему естеству творящее, и иное — происшедшее.
Итак, поелику все от Бога, а Сын Бог, то хорошо тварь противопоставляется Божеству, и так как естество Единородного есть нечто иное в сравнении с естеством всего сущего (чему не противоречат и борющиеся с истиною), то совершенно необходимо, чтобы и Сыну равным образом была противопоставлена тварь, если только не лживы глаголы святых, свидетельствующие, что через Него произошло все. Итак, поелику о Единородном в божественных Писаниях возвещается, что Он есть Бог, то пусть Евномий помыслит о своих собственных словах и признает всю тупость того, кто уделяет божественность и сотворенному, и несотворенному по подобию того, кто разделяет человека на коня и человека, потому что и он спустя не много после пустословия, которое в промежутке, говорит, что естественное отношение имен к вещам непреложно», сам соглашается с тем что истинное сродство названий с предметом постоянно. Итак, если имя Божества естественно усваивается Единородному Богу, и Евномий, хотя бы и желал сражаться с нами, конечно, согласится, что Писание не лжет и что Единородному прилагается наименование Божества, не разногласящее с Его природою, то пусть убедится из собственных слов, что, если естественное отношение имен к вещам непреложно, а Господь называется Богом, то нельзя допустить в мысли какого–нибудь различия в понятии о Божестве в отношении к Сыну и в отношении к Отцу, так как имя Божества есть общее обоим; и не только это имя, но велик список наименований, которыми безразлично именуется Сын вместе с Отцом: Благой, Нетленный, Праведный, Судия, Долготерпеливый, Милосердный, Вечный, Нескончаемый, — все вообще имена, которые означают величие природы и силы, без всякого уменьшения высоты понятия в каком–нибудь из имен, когда они прилагаются к Сыну. Но, как близорукий, пропуская мимо такое множество Божественных наименований, он смотрит на одни только названия «рожденный» и «нерожденный», доверив тонкой и слабой веревке догмат, обуреваемый и носимый ветрами заблуждения. Он говорит, что «никто их заботящихся об истине не называет ни чего–либо рожденного нерожденным, ни Бога, который над всем, Сыном или рожденным». Для обличения этого нет нужды в наших словах, потому что он уже не скрывает хитрости по своему обыкновению какими–нибудь покровами, но делает равно нелепое превращение понятий, говоря, что ни из рожденного что–либо не называется нерожденным, ни Бог, Который над всем, Сыном или рожденным, не уделяя таким образом ничего особенного единородному Божеству Сына в сравнении с прочими рожденными существами, он делает одинаково отличным по достоинству от Бога все происшедшее, не исключая из всего Сына. Посредством такого нелепого превращения понятий он явно отстраняет Сына от Божеского естества, говоря, что ни рожденное что–либо не называется нерожденным, ни Бог не называется Сыном или рожденным, этим противоположением ясно прикрывая страшное хуление, потому что, различив рожденное от нерожденного, он в заключении через превращение говорит уже не то только, что Сына или рожденное нельзя назвать нерожденным, но нельзя назвать Богом, показывая сказанным, рожденное не есть Бог и что Единородный Бог по самой рожденности Своей столько отстоит от бытия Богом, сколько нерожденный от бытия или наречения рожденным. Не по незнанию правильной последовательности он делает несогласное и несообразное превращение положений, но злонамеренно поступая со словом благочестия, противопоставляет рожденному Божество, выводя из сказанного то заключение, что рожденное не есть Бог. Ибо правильная последовательность мысли была бы та, чтобы, сказав, что ничто рожденное не есть нерожденное, заключить отсюда, что если что–нибудь по природе нерожденно, то не может быть рожденным Такое заключение и истину имеет в себе, и далеко от богохульства. А он положив сначала, что ничто рожденное не есть нерожденное, и, заключая отсюда, что и Бог не рожден, ясно отстраняет Единородного Бога от бытия Богом, на основании Его рожденности утверждая, что Он не есть Бог. Итак, имеем ли мы нужду в других еще доказательствах для обличения этого необычайного богохульства? И не служит ли одно это достаточным памятником позора этому христоборцу, утверждающему вышесказанным, что сущий в начале Бог Слово не есть Бог? Что за нужда еще бороться с такого рода людьми? Нам нет дела и до тех, кои заняты идолами и жертвенною кровью, не потому, будто мы сочувствуем погибели помешанных на идолах, но потому, что их болезнь превышает средства нашего врачевания. Посему, как идолослужение обличается самим делом, и зло, на которое безбоязненно дерзают, делает излишними предварительные обличения со стороны обвинителей, так и здесь, думаю, надлежит молчать защитнику благочестия пред тем, кто открыто вопиет о своем нечестии, так и по отношению к одержимым раком, лечение остается недействительным, потому что болезнь пересиливает искусство.
3. Впрочем, так как он обещает после сказанного присовокупить и нечто более сильное, то, чтобы не показалось, что, опасаясь сильных возражений, мы отказываемся от опровержения, вместе со сказанным исследуем и это. «Надлежит, — говорит он, — оставить все, перейти к более сильному слову. Могу сказать и то, что, хотя бы приведенные им в доказательство своего мнения имена были и доказаны, тем не менее наше учение окажется истинным. Если разность имен, означающих свойства, показывает разности предметов, то необходимо допустить, что и разностью имен, означающих сущности, также указывается разность сущностей. И каждый найдет, что это так относительно всего — сущностей, действий, цветов, очертаний и других качеств; так огонь и воду — различные сущности — мы означаем разными названиями, равно как и воздух и землю, холодное и теплое, белое и черное, треугольное и круглое. А что сказать об умных сущностях, исчисляя которые Апостол различием имен указал разность сущностей?» Кто Не придет в ужас пред этою необоримою силою доказательства? Слово превзошло обещание, действительность страшнее угрозы! Перейду, говорит, к более сильному слову. Какое же это слово? То, что, так как различие свойств познается посредством имен, означающих свойство, то необходимо допустить, говорит, что и различия сущностей выражаются в отличиях имен. Какие же это названия сущностей, из которых он узнал разность естества Отца и Сына? Он говорит об огне и воде, воздухе и земле, холодном и теплом, белом и черном, треугольном и круглом. Победил примерами! Пересилил словом! Потому что и я не противоречу, что не имеющие между собою ничего общего имена указывают на различие естеств. Но только одного не увидел острый и проницательный смыслом, что здесь и Отец — Бог, и Сын — Бог, праведный и нетленный, и что все богословские имена равно изрекаются и об Отце, и о Сыне, так что, если разность наименований означает различие естеств, то общность имен, конечно, будет указывать на общность сущности. И, если надобно согласиться, что сущность Божия означается именами, то приличнее было бы отнести к естеству Божию эти высокие и подобающие Богу слова, нежели наименования «рожденный» и «нерожденный». Потому что благость и нетление, праведность и премудрость, и все таковое, собственно приличествует одному только естеству, превосходящему всякий ум; а «рожденность» — есть имя, которое одинаково прилагается и к незначительным из дольних тварей; мы называем рожденною и собаку, и лягушку, и все, что происходит через рождение. Но и имя «нерожденный употребляется не только когда говорят о существующем без причины, но имеет свойство означать и небывалое. Нерожденным называется и Скинданс, нерожденным называется Минотавр, Сцилла, Химера не потому, будто они существуют нерожденно, но потому, что их вовсе не было. Итак, если более божеские имена общи у Сына с Отцом, а те, которые одноименны или с небывалым, или с низким, различны, то сильное доказательство Евномия против нас само усиливает учение истины, свидетельствуя, что (между Отцом и Сыном) нет никакого различия по естеству, потому что и в именах не усматривается никакой разности. Если же он полагает различие сущности в рожденности и нерожденности, как в огне и воде, и думает, что эти имена относятся между собою по подобию того, что представлено в примерах, также как огонь и вода, то здесь опять и при помощи молчания будет ясно страшное богохульство. Потому что огонь и вода имеют природу взаимно разрушающую, и каждое из них, бывая в другом, одинаково истребляется тем, которое имеет избыток силы. Итак, если он учит, что таково различие между естеством Нерожденного и Единородного, то, конечно, он последовательно допускает, что с различием сущностей имеет в них место и эта разрушительная противоположность, так что поэтому естество их не согласно и не имеет общения, и истребляется одно другим, если будет одно в другом или с другим. Итак, каким образом в Отце Сын не разрушается, и как Отец, будучи в Сыне, существует постоянно, не уничтожаясь, если свойство огня по отношению к воде сохраняется и в Отношении Рожденного к Нерожденному, как говорит Евномий? Его слово не видит ничего общего между землей и воздухом, потому что первая тверда, плотна, устойчива, стремится вниз, тяжела, а природа воздуха противоположна; подобным образом между белизною и чернотою находится противоположность цвета; признается также, что круглое не одно и то же с треугольным, потому что относительно очертания одно из них есть то, что не есть другое. Что же касается до Бога Отца и Бога Единородного Сына, то в чем находит он противоположность не вижу. Одна благость, премудрость, праведность, разум, сила, нетление и все прочее, имеющее высокое значение, тому и другому приписывается одинаково и некоторым образом имеет силу одно в другом. Потому что и Отец творит все через Сына, и Единородный, будучи силою отца, в Нем все соделывает. Итак, какую пользу доставляет огонь и вода для доказательства разности по сущности между Сыном и Отцом? И какое это твердое и таинственное учение доказывается подобным образом? Но он называет дерзким за то, что в именах Петра и Павла мы представили единство естества и различие лиц, и говорит, что мы отваживаемся на нечто ужасное, когда вещественными примерами ведем разум к созерцанию умственного. Хорошо, исправитель наших погрешностей, хорошо обвиняешь в дерзости нас за объяснение Божественного вещественным! Что же ты, стойкий и осмотрительный, скажешь о стихиях? Что земля невещественна, что огонь есть нечто, умом только постигаемое, что вода бестелесна, что воздух вне чувственного восприятия? Или так мысль твоя построена к цели, так остро видишь ты во все стороны, ведя речь, неуловимую для противников, что не видишь в себе самом погрешностей, в которых обвиняешь других? Или мы должны дозволить тебе доказывать посредством вещества разность по сущности, а сами посредством доступных нам примеров не смеем доказывать общность естества?
4. Но, говорит, Петр и Павел были так наименованы людьми, посему наименования у них и можно было изменить. А что же из существующего не людьми наименовано? Тебя привожу в свидетели истины моих слов. Потому что если ты перемену имен сделаешь знаком того, что вещи поименованы людьми, то, конечно, согласишься, что и всякое имя существующим вещам дается нами, так как не одни и те же названия предметов имеют силу у всех. Ибо как Павел был прежде Савл и Петр — Симон, так и земля, и небо, и воздух, и море и все части твари не одинаково у всех именуются, но иначе у евреев, иначе у нас и у каждого народа называются различными именами. Итак, если имеет силу доказательство Евномия, который утверждает, что Петр и Павел потому переименованы, что имена даны им людьми, то, конечно, будет иметь силу и наше слово, на подобном же основании утверждающее, что все вещи наименовываются нами, потому что названия их по различию народов изменяются. Если же это должно сказать о всех вещах, то, конечно, не иное происхождение и слов «рожденный» и «нерожденный», так как и они принадлежат к числу наименований. Ибо принимая находящееся в уме понятие о каком–либо предмете как образец имени, мы выражаем мыслимое различными словами, изменяя не самый предмет, но только слова, которыми именуем оный. Потому что предметы остаются сами по себе такими, какими они суть по естеству; рассудок касаясь существующего, какими может словами раскрывает свои понятия. И как с переменой имени не изменилась сущность Петра, так и ничто другое из усматриваемого нами не изменяется с переменой имени. Посему мы говорим, что и слово «нерожденный» нами усвоено Отцу истинному и первому виновнику всего, и не будет никакого вреда, если мы для обозначения того же понятия употребим другое равнозначащее выражение. Ибо вместо того, чтобы сказать «нерожденный», можно назвать Его первой Виною или Отцом Единородного, или не имеющим причины бытия (самосущим) и многими другими именами, выражающими ту же мысль. Таким образом, и словами, направленными к обвинению нас, он подтверждает наше учение, именно, что мы не знаем имени, которое обозначало бы Божеское естество. О бытии сего естества мы знаем, но что касается до наименования, которым бы во всей силе обнималось неизреченное и беспредельное естество, то мы говорим, что его или совершенно нет, или оно нам вполне неизвестно. Итак, оставив обычное баснословие, пусть покажет нам имена, означающие сущности, и тогда на основании различия имен пусть разделяет предметы. Но доколе истинно слово Писания, что Авраам и Моисей не вмещали знания имени, и что «Бога никтоже виде нигдеже» (Ин. 1:18), и что «Егоже никтоже видел есть от человек, ниже видети может» (1 Тим. 6:16), и что окрест Его свет неприступный и величию Его нет предела, дотоле мы говорим сие и веруем сему. А слово, которое посредством значения имени обещает дать какое–либо понятие и объяснение беспредельного естества, не подобно ли тому, кто собственной дланью думает обнять все море? Ибо что значит горсть по отношению к целому морю, то же значит вся сила слов по отношению к неизреченному и необъятному Естеству.
5. Говорим же это не потому, чтобы отрицали, что Отец есть нерожденно сущий, и чтобы не соглашались, что Единородный Бог рожден, (.мы признаем, что) и сей рожден, и тот не рожден. Но что есть по естеству исповедуемый Нерожденно сущим, и что есть Рожденный — сего мы не узнаем из значения слов «быть рожденным» и «быть нерожденным». Ибо сказав, что сей или рожден, или не рожден, мы сказанным выражаем двоякую мысль: указательным словом ( «сей») обращаем внимание на подлежащий предмет, а словами «рожден» или «не рожден» показываем, что должно быть умопредставляемо при сем предмете, так что иное нечто должно мыслить о сущем, а иное о том, что умопредставляется при сущем. Так и при всяком имени, которое употребляется в нашей речи для означения Божеского естества, например, праведный, нетленный, бессмертный и нерожденный и других непременно подразумевается слово «есть», хотя бы это речение и не сопровождалось звуком слова. Но разум говорящего или слушающего непременно приурочивает эти имена к слову «есть», так что если бы не прибавлялось этого слова, то название относилось бы ни к чему. Например (ибо пример лучше объяснит наши слова), когда Давид говорит, что Бог «Судитель праведен и крепок, и долготерпелив» (Пс. 7:12), то если бы при каждом из заключающихся здесь имен не подразумевалось слово «есть», то мысль была бы пуста, и перечисление наименований, не прикрепленное ни к какому подлежащему, было бы несостоятельно. Но когда при каждом имени подразумевается слово «есть», то вышесказанные имена, конечно, будут иметь значение, будучи мыслимы о сущем. И как мы, сказав, что Бог есть судия, при слове «суд» разумеем какое–нибудь действие в Нем, а при слове «есть» обращаем мысль на самое подлежащее и тем ясно научаемся, что не должно почитать одним и тем же понятий действия и бытия; так и в выражениях «рожденный» и «нерожденный» мы разделяем мыслью два понятия: под словом «есть» разумеем подлежащее, а под словами «рожденный» и «нерожденный» понимаем то, что принадлежит подлежащему. Таким образом, как научаемые Давидом, что Бог есть судия или долготерпеливый, мы познаем не Божескую сущность, но нечто из того, что созерцается при ней, так и здесь, слыша слова «быть нерожденным», мы из этого объяснения не узнаем подлежащего предмета, но только получаем руководство, чего не должно мыслить о подлежащем; что же оно есть по сущности, это тем не менее остается неизвестным. Так и священное Писание, возвещая прочие Божеские имена о Сущем, самого Сущего представляет неименуемым у Моисея (Исх. 3:14). Итак, открывающий естество Сущего пусть объясняет не имена, которые прилагаются к сущему, но своим словом откроет нам самое естество Его. Ибо какое бы ты ни высказал имя, оно укажет на то, что есть при Сущем, а не то, что Он есть; Он благ, не рожден, но при каждом из этих имен подразумевается «есть». О сем–то Сущем благом, Сущем нерожденном, если бы кто обещал дать понятие, как Он есть, тот был бы безрассуден; говоря о том, что созерцается при Сущем, он молчит о самой сущности, которую обещает изъяснить словом. Ибо быть нерожденным есть одно из свойств, созерцаемых при Сущем, но иное понятие бытие и иное — образа бытия, первое даже доныне неизреченно и не изъяснено тем, что сказано. Итак, пусть прежде откроет нам имена сущности и тогда под предлогом (различия) наименований разделяет естество (Отца и Сына). Но доколе искомое им остается невыразимым, напрасно он рассуждает об именах, когда имен нет.
Таковы более сильные удары Евномия против истины. О многих положениях в этой части его сочинения умолчано, потому что мне кажется, что вступившим на путь борьбы оружием слова против врагов истины прилично вооружаться только против тех лживых мнений, кои хотя сколько–нибудь подкреплены вероятностью, а не сквернить слово мертвыми и уже смердящими его мнениями. Так, думаю, всякий здравомыслящий легко может видеть, что его мнение, выраженное в этой части его сочинения (мимо которого я охотно пройду, как мимо зловония мертвечины), будто все, что объединяется понятием одной сущности, непременно одинаково подвержено и телесному тлению — само мертво и бессмысленно. Ибо кто не знает, что душ человеческих неограниченное множество, а сущность всех их одна, и то, что в них составляет основание бытия, чуждо телесного тления? Так что и детям ясно, что тела истлевают и разрушаются не потому, что у всех них одна и та же сущность, но потому что они получили сложное естество. Понятие сложного и понятие сущности вообще различны, так что сказать: тленные тела имеют одну сущность — согласно с истиной, сказать же наоборот: все, что имеет одну сущность, непременно и тленно — с истиной не согласно; как это оказывается относительно душ, которых сущность одна, но которым тление, несмотря на общность сущности, несвойственно. То, что сказано о душах, одинаково относится и ко всякой разумной сущности, усматриваемой в творении. Ибо приведенные Павлом названия премирных сил не означают (как думает Евномий) каких–нибудь естеств, отличных одно от другого, но значения наименований ясно показывают не различие естеств, но выражают различные особенности действий небесного воинства. Он говорит: «аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти» (Кол. 1:16), но эти имена такого рода, что тотчас ясно каждому, что означаемые ими существа расположены сообразно с их действиями. Ибо начальствовать, и властвовать, и господствовать, и быть престолом кого–нибудь — всего этого никто, подумавши, не отнесет к различию сущностей, когда ясно, что каждым именем означается действие. Так что говорящий, что приведенными Павлом именами означается различие сущностей, «умом льстит себе», как говорит Апостол (Гал. 6:3), «неразумеюще ни яже глаголют, ни о нихже утверждают» (1 Тим. 1:7), поелику значение имен ясно показывает, что Апостол в умных силах признает различия некоторых служений, а не показывает через имена особенностей их сущностей.
Книга восьмая
Содержание восьмой книги
1. Восьмая книга удивительно ниспровергает хульные мнения еретиков, которые говорят, что Единородный произошел из небытия и что было время, когда Его не было; доказывает, что Сын имеет бытие от вечности, словами, сказанными Моисею: «Аз есмъ Сый» (Исх. 3:14) и к Манною: «почто сие вопрошавши имене Моего; и то есть чудно» (Суд. 13:18). Кроме сего то же подтверждает и словами Давида к Господу: «Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют» (Пс. 101:28), и Исайи: «Аз первый и Аз по сих» (Ис. 44:6), и Евангелиста: «В начале бе Слово, и Бог бе Слово» (Ин. 1:1), не имея ни начала, ни конца; показывает, что называющие Сына недавно происшедшим из несущего — суть идолопоклонники. Здесь же прекрасно толкует и выражение: «сияние славы и образ ипостаси» (Евр. 1:3).
2. Потом, объясняя изволение Отца о рождении Сына, показывает, что благое, которое Он изволяет, имеет бытие от вечности, то есть что Сын имеет вечное бытие в Отце, и как с пламенем естественно соединено сияние и с глазом — сила зрения, так и изволяемое благо существенно соединено с изволением.
3. После сего, оставляя исследование о сущности Сына, так как об этом была речь прежде, объясняет значение слова «рождение» (γεννησις); очень умно раскрывает, что рождения бывают различны: вещественные, в искусстве, в домостроении, в преемстве жизни животных, рождения через истечение, как, например, луча от солнца, сияния от лампады, от ароматов и «мастик» и качества их, рождение слова из ума, рождение от гниения древесного, от сгущения огнем жидкости и тысячи других явлений.
4. При этом действия Божий объясняет примерами действии человеческих, ибо что у человека руки, ноги и прочие члены тела, при помощи которых люди действуют, то у Бога заменяющая все сие единая воля; говорит и о том, в чем состоит отличие рождения Сына и что Он называется Единородным потому, что не имеет ничего общего с иным рождением в твари, но что название Его сиянием славы (Прем. 7:25) и благовонием мира (Песн. 1:3) показывает Его единство и совечность с естеством Отца.
5. Затем показывает, что Ипостась Создателя и Единородного не имеет начала, подобно прочим созданиям, как говорит Евномий, что Единородный безначален и вечен и не имеет ничего общего с тварию ни по сущности, ни по наименованию, но, как говорит книга Премудрости, именуемая Панарет (Прем. 7:18), от века соприсуща Отцу, будучи началом, концом и срединою времен; и, немало, сказав о Божестве и вечности Единородного, сверх того о душах и ангелах, о жизни и смерти, оканчивает книгу.
1. Таковы крепкие доводы Евномия; я же, показав, что обещанные им как сильные доказательства гнилы и несостоятельны, об остальных думаю умолчать, потому что опровержение сильных доказательств обличает вместе слабость и других; так бывает и на войне, что когда сильнейшая всех часть войска падет, то на остальную победители сильной части уже не обращают никакого внимания. Но я не позволю себе умолчать о главном хулении, которое изложено вслед за сим. Ибо теперь по порядку слова у Евномия доказывается то страшное и безбожное его учение, которого должно бежать более всякого нечестия, — что Единородный произошел в бытие из несущего. И поелику у всех, очарованных этой ложью, для доказательства, что Единородный, всю тварь сотворивший из ничего, произошел из несущего, всегда готовы и на языке слова: «если Он (всегда) был, то нерожден, а если рожден, то не был»; поелику далее эта ложь имеет большую поддержку в сих словах, так как скудоумные поставляются в затруднение поверхностной вероятностью этих слов и склоняются на согласие с сею хулою, то необходимо не оставлять без внимания корня горести учения, чтобы, как говорит Апостол, выспрь прозябши не причинил вреда (Евр. 12:15). И, во–первых, говорю, нужно рассмотреть его слова сами по себе, не вступая в борьбу с противниками, затем приступить к исследованию и изобличению изложенного.
Священное Писание открывает один признак истинного Божества — тот, который был указан Моисею гласом свыше, когда он слышал говорящего: «Аз есмь Сый» (Исх, 3:14). Итак, мы думаем, что согласно с истиною должно признавать Божеством только то одно, что понимается присносущим и по бытию беспредельным, таково же и все, что созерцается в Нем. Ничего в Нем не прибывает и не убывает, так что если бы кто сказал о Боге, что Он прежде был, а теперь не есть, или что теперь есть, а прежде не был, то мы сочтем одинаково безбожным и то, и другое из сказанного, потому что тем и другим равно искажается понятие вечности, так как она с той или с другой стороны одинаково ограничивается небытием. Будет ли кто усматривать небытие прежде Сущего или объявит, что Сущий оканчивается небытием, нечестивое мнение о Боге будет нисколько не меньшим, так как в начале ли, в конце ли, но Богу приписывается небытие. Посему доказательство того, что истинно Сущий некогда не был, мы решительно почитаем отрицанием и отвержением истинного Божества. Потому что явивший Себя Моисею во свете именует Себя Самого «Сый», говоря. «Аз есмь Сый» (Исх. 3:14), а Исайя, будучи как бы органом говорящего в нем, от лица Сущего говорит: «Аз первый и Аз по сих» (Ис. 44:6), так что сии слова дают разуметь, что Бог вечен в том и другом отношении. Подобным образом и глас, бывший к Маною, через значение имени показывает, Божество необъятно; когда Маной желал знать имя, дабы по исполнении на деле обещанного по имени прославить благодетеля, то Он говорит ему: <i почто сие вопрошавши имене Моего; и то есть чудно» (Суд. 13:18); так что отсюда можно научиться, что одно есть имя, означающее Божескую сущность, именно самое удивление, неизреченно возникающее в душе при мысли о ней. И великий Давид, говоря о Боге, тоже возглашает, что тогда как всякая тварь Им приведена в бытие, один Бог всегда неизменен и вечно пребывает; он говорит: «Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют» (Пс. 101:28). Слыша это и подобное от богодухновенных мужей, не должны ли мы предоставить идолослужителям поклоняться тому, кто не есть от вечности, но недавно произошел и чужд истинного Божества? Ибо теперь сущее, а прежде несуществовавшее есть вполне новое и невечное, а чтить что–нибудь новое Моисей называет служением демонам, говоря: «Пожроша бесовом, а не Богу, богом, ихже не ведеша: нови и секрати (недавни) приидоша, ихже не ведеша отцы их» (Втор. 32:17). Итак, если почитание нового есть служение демонам, так как оно чуждо истинного Божества, а что теперь существует, но не было всегда, то ново и невечно, то мы, чтущие вечно сущее, тех, кои в Сущем усматривают с бытием и небытие и говорят, что Его некогда не было, необходимо причисляем к идолослужителям. И великий Иоанн, в своем благовестии возвещая Единородного Бога, всячески утверждает свое слово, чтобы никак не допустить мнения о небытии когда–либо Сущего; ибо говорит, что Сын «в начале бе, я бе к Богу, и Бог бе, и бе свет», и жизнь истинная (Ин. 1:1; 1:4), и что Он всегда был всяким благом и не было времени, когда бы Он не был каким–либо благом, сый полнота всяких благ и в лоне Отца сый. Итак, Моисей законополагает нам некоторое отличительное свойство истинного Божества, именно, что о Боге ничего иного нельзя знать, кроме того, что Он есть, ибо на это указывают слова: «Аз есмь Сый». А Исайя в своей проповеди возвещает совершенную вечность Сущего, не видя ограничения бытия в Боге ни началом, ни концом; ибо говоря: «Аз первый и Аз по сих», ни с той, ни с другой стороны не полагает предела вечности, так что посмотрим ли на начало — не найдем какого–нибудь знака, от которого бы начинал бытие и за которым бы Его не было, обратим ли внимание на продолжение бытия — не найдем никакого предела, которым бы пресекалось вечное продолжение бытия Сущего. Пророк Давид также воспрещает поклоняться какому–либо новому и чуждому Богу (Пс. 80:10), но в учении ереси есть поклонение тому и другому, ибо утверждая, что Сын невечен, ясно показывают, что Он нов, а говоря, что Он чужд естества истинного Бога, признают Его чуждым Богом. Когда это так, то мы решительно говорим, что всякое построение лживых умозаключений для доказательства того, что истинно Сущий некогда не был, есть не что иное, как извращение христианства и обращение к идолослужению. Ибо когда Евангелист своим богословием совершенно устранил от Сущего небытие и частым повторением слова бы тщательно изгладил всякую мысль о небытии, когда он Единородного наименовал Богом, Словом Божиим, Сыном Божиим, и равным Богу, и тому подобным, то мы твердо и непреложно убеждены в том, что если Единородный Бог есть Бог, то нужно верить, что Он и всегда был Богом. Но Он есть истинно Бог, посему Он всегда вполне есть Бог и никогда не может быть представляем несущим. Потому что Бог как мы часто говорили, если теперь есть, то непременно и всегда был, если же когда–либо не был, то совершенно Его нет и теперь. Но поелику, как и враги истины признают, Сын есть Единородный Бог и навсегда пребывает то мы говорим, что Сущий во Отце не по одному какому–либо свойству имеет бытие в Нем, но есть во Отце по всем свойствам, какие только мы разумеем в Нем. Так «сый» в нетлении Отца Он нетленен, в благости — благ, и в силе — силен, и в каждом совершеннейшем свойстве, какое только разумевается в Отце, Он участвует. Так и «сый» в Вечном Он вполне вечен, а признак вечности Отца тот, что она не началась из несущего и не прекратится в небытие. Итак, имеющий вполне все, что имеет Отец, и созерцаемый во всей славе Отца, как имея бытие в нескончаемости Отца, не имеет конца жизни, так и имея бытие в безначальности Отца, не имеет «начала днем» (Евр. 7:3), как говорит Апостол; но и от Отца происходит и в вечности Отца пребывает, в чем особенно и усматривается совершенное сходство образа с Тем, Которого Он есть образ, так что вполне истинно сказанное: «видевый Мене виде Отца» (Ин. 14:9). Но особенно должно почитать хорошо и соответственно делу сказанное словами Апостола, что Сын есть «сияние славы и образ ипостаси» (Евр. 1:3), потому что здесь для тех слушателей, кои не могут вознестись мыслью на высоту боговедения через созерцание умопостигаемого, Апостол предлагает некоторый образ истины из предметов, подлежащих чувству. Ибо как солнечное тело отображается целой окружностью круга, и кто видит круг, тот от видимого заключает о содержании целого, лежащего в глубине, так, говорит Апостол, в величии силы Сына изображается величие Отца, дабы мы верили, что величие Отца таково же, каково и познаваемое нами величие Сына. И далее, как весь солнечный круг светит блеском света (ибо в круге не одна часть светит, а другая темна), так всецелая слава, то есть Отец, отовсюду отражается в сиянии, от нее происходящем, то есть в истинном свете. И как луч происходит из солнца, ибо не было бы луча, если бы не было солнца, равно и без светящего луча само по себе солнце немыслимо, так и Апостол, изображая сродство и вечность бытия Единородного от Отца, наименовал Сына сиянием славы.
2. Итак, когда мы разъяснили это, не может быть ни для кого недоумения, как Единородный признается и имеющим бытие от Отца, и вечно Сущим, хотя для поверхностного понимания и может показаться противоречием — говорить, что Он имеет бытие от Отца, и вместе утверждать, что Он вечен. Если же нужно и чем–нибудь другим подтвердить истину нашего слова, то учение о сем можно сделать понятным при помощи некоторых явлений, доступных нашему чувственному познанию. Впрочем, никто да не порицает наше слово за то, что в существующем оно не может найти такого образа искомого, который бы по сходству и подобию был вполне достаточен для представления того, что предлежит нам. Потому что тех, кои говорят, что прежде Отец восхотел и затем уже соделался Отцом, и отсюда выводят, что Слово получило бытие после, мы желаем посредством доступных нам примеров убедить к перемене их образа мыслей на благочестивый. Ибо ни самое непосредственное сродство не исключает изволения Отца, как будто бы Он имел Сына непроизвольно, по некоторой необходимости естества, ни изволение не разделяет Сына от Отца, как будто какой промежуток, павший между ними; так что в нашем учении ни отвергается изволение Родшего о Сыне, хотя и признается тесный союз и единство Сына с Отцом, ни разрушается неразрывная связь, хотя при рождении умосозерцается и изволение. Потому что только нашему тяжелому и неудобоподвижному естеству не свойственно в одно и то же время многое — и иметь что–нибудь, и хотеть; но теперь мы хотим иметь что–нибудь, чего не имеем, а после достигаем, чего бы и не хотели достигнуть. В естестве же простом и всемогущем мы разумеем все вместе и в одно и то же время, так что оно и хощет блага, и имеет, чего восхотело. Благую и вечную волю мы умопредставляем вседействующею в бытии и существе вечного естества утвержденною, не происходящей в нем от какого–либо особого начала и не мыслимой без желаемого. Ибо относительно Бога нельзя допустить ни того, что в Нем нет изволения благого, ни того, что благо не имеет бытия вместе с изволением, так как нет никакой причины, которая бы умаляла осуществление того, что прилично Отцу, или препятствовала иметь желаемое. Итак, поелику по естеству благо или, лучше, высочайшее благо есть Единородный Бог, а блага Отец не хотеть не может, то отсюда ясно видно как то, что связь Сына со Отцом непосредственна, так и то, что непосредственностью связи не исключается и не отрицается изволение, всегда присущее благому естеству.
Для того же, кто без нападений будет слушать нашу речь, хочу прибавить к сказанному нечто в таком роде. Если бы кто–нибудь, говорю предположительно, приписал пламени какую–нибудь силу произвольного избрания, то очевидно, что пламя вместе с бытием пожелало бы из себя воссиять и свет; пожелав же, оно, конечно, будет иметь и силу осуществить желаемое, так как сила природы производила бы то, что с существованием пламени вместе соединено было и желание светить. Так что, если допустить произвольное движение в пламени, то без противоречия можно мыслить совпадение всего в то же время — и воспламенения огня, и желания светить, и самого свечения, причем произвольность движения нисколько не будет препятствовать надлежащей самобытности света. Так по сказанному нами примеру, признавая во Отце благое изволение, ты по причине этого изволения не станешь отделять Сына от Отца. Ибо изволение бытия Его не может служить препятствием быть Ему тотчас (вместе с изволением). Но как в глазе, в котором соединено зрение и желание зреть, из коих первое есть естественное действие, а последнее, то есть стремление видеть — действие произвола, движение сего произвола не служит препятствием к зрению, но только при действии зрения производит и желание зреть (ибо то и другое рассматривается нами особно и само по себе, и одно не служит препятствием к бытию другого, но оба некоторым образом взаимно связаны; так что и естественное действие сопровождает произвол, и произвол опять не отстает от естественного движения), — как, говорю, глазу врождено зрение и желание зреть нисколько не отдаляет самого зрения, но вместе с желанием зреть является и желаемое усмотрение, так и о Неизреченном и всякую мысль превосходящем мы должны разуметь так, что в Нем все бывает вместе и в то же время — бытие вечного Отца, и изволение о Сыне, и самый Сын, сущий «в начале», как говорит Иоанн (Ин. 1:1), и немыслимый по начале. Начало всего Отец, но нам возвещено, что и Сын имеет бытие в сем начале, будучи по естеству тем, чем есть Начало, ибо как начало есть Бог, так и сущее в начале Слово есть Бог же; а так как начало указывает на вечность, то Иоанн хорошо соединяет Слово с началом, говоря, что в нем было Слово. Думаю, что этим он имеет в виду предупредить возникновение в мысли слушателя представления об одном Начале самом по себе, но прежде, чем это начало напечатлеется в уме, он соединяет с ним мысль о Слове, сущем в начале, так что вместе с понятием о начале и ум, и слух слушателя получает понятие и о Слове.
3. Теперь, после тщательного раскрытия догмата, благовременно изложить и рассмотреть противное нашему учение, взаимно сравнив оное с нашими положениями. Говорит же Евномий так: «тогда как действительно нами были высказаны два мнения: одно — что сущность Единородного не имела бытия прежде собственного рождения, а другое — что она рождена прежде всего, — он ни того ни другого из них не изобличил во лжи. Ибо не дерзнул сказать, что она была прежде самого первого рождения и создания, так как сему противоречит и естество Отца, и здравый смысл. Ибо кто из здравомыслящих допустит, что Сын имел бытие и рожден прежде самого первого рождения, как будто Он для того, чтоб быть тем, чем есть, не имеет нужды в рождении от Сущего без рождения?» Правду ли он говорит, что наш учитель нисколько не опроверг его мнений, противоположных собственным, пусть рассмотрят все, знакомые с его сочинениями. А я (так как почитаю маловажным доказывать его злонамеренность изобличением этой клеветы), оставив доказательство того, что учителем и эта часть его мнений не была оставлена без внимания и разбора, обрату слово, сколько возможно, к исследованию вышеизложенного им. Два, говорит он, в его сочинении высказано мнения: одно — что сущность Единородного не имела бытия прежде собственного рождения, другое что она рождена прежде всего. Но что Отцом была рождена не новая какая–либо сущность, кроме той, которая созерцается в самом Отце, это, я думаю, достаточно нами доказано в прежде сказанном; и так как прежде всего говорили об этом, то нам нет нужды иметь дело с этим хулением; в нашем слове заботливое внимание необходимо должно быть обращено теперь только на то его безбожное и ужасное изречение, в котором ясно высказано о Боге–Слове, что Его не было. Но так как и об этом хулении уже несколько мы говорили прежде, то, может быть, было бы излишне снова подобными же умозрениями подтверждать прежде доказанное, ибо для того и предпосланы были нами сии умозрения, чтобы после предварительного напечатления в уме читателей благочестивого образа мыслей очевиднее было хуление противников, утверждающих, что небытие Единородного Бога предшествовало бытию.
Мне кажется, что хорошо будет при помощи тщательного исследования рассмотреть самое значение слова «рождение» (γεννησις). Что это слово выражает бытие чего–нибудь от причины, ясно всякому, и, я думаю, об этом не может быть спора. Но так как способ происхождения от причины различен, то я почитаю нужным объяснить это посредством некоторого искусственного разделения. В происходящем из чего–нибудь мы замечаем следующие различия: одни предметы получают бытие из вещества и от искусства, так например, здания и прочие произведения; хотя они происходят при помощи соответственного вещества, но главное участие в их происхождении принадлежит какому–нибудь искусству, которое сообразно с особой целью производимого предмета соединяет известным способом предлежащее вещество. Другие предметы происходят из вещества и от природы, так рождения животных одного от другого Устрояет природа, совершая свое дело при помощи вещественного начала в телах. Иное происходит из естественного истечения, причем и предмет, из которого что–либо истекает, остается тем же, и то, что истекает, понимается нами как нечто, существующее само по себе; такого рода отношения, например, между солнцем и лучом, между лампадой и ее сиянием, между ароматами, «мастиками» и издаваемым ими запахом; ибо все эти предметы пребывают не уменьшающимися в себе самих, хотя каждым существенно соединено какое–нибудь естественное особое явление, от него исходящее, именно: с солнцем — луч, с лампадою — свет, с ароматами — благовоние, испускаемое по воздуху. Есть кроме сего и другой вид рождения, которого причина невещественна и бестелесна рождение доступно чувствам и происходит при помощи тела — разумею слово, рождающееся из ума, потому что ум, сам в себе будучи бестелесен рождает слово посредством чувственных органов. Столько различных видов рождения усматривает наша мысль в общем понятии рождения. Ибо все прочее, что удивительным образом совершает природа, когда тела некоторых животных превращает в тела иного естества, когда из некоторого изменения влаг, или из тления семян, или гниения дерева производит некоторых животных, или когда сгущение от огня влажных испарений оставшихся от головней на дне, превращает в бытие животного, называемого саламандрой, — все это, хотя и кажется находящимся вне указанных нами видов, на которые разделено понятие рождения, но тем не менее заключается в них, ибо и сии различные виды животных природа устрояет посредством тел; каково природой определенное изменение тела, таков создает она и вид животного; и нет какого–либо иного вида рождения, кроме совершаемого от природы и из вещества.
4. Итак, поелику сии способы рождения очевидны людям, то человеколюбивое домостроительство Святаго Духа, преподавая нам Божественные тайны через то, что нам доступно, учит о том, что выше разума; как делает сие и во всех иных случаях, когда телесно описывает Божество, говоря, что у Бога есть око, и вежды, и ухо, и персты, и рука, и десница, и мышца, и ноги, и обувь, и подобное тому, из чего в обыкновенном значении ничто не приемлется в естестве Божием. Но доводя учение до удобопонятности, общеупотребительными у людей словами объясняет предметы, которые выше всякого обозначения, так как каждое из (вышесказанных) выражений о Боге по соответствию возводит нас к какой–либо более высокой мысли. Так и многие виды рождения богодухновенное учение принимает для представления неизреченной Ипостаси Единородного, взимая от каждого вида столько, сколько благочестиво можно допустить в понятие о Боге. Ибо, как упоминая о перстах у Бога, и руке, и мышце, не описывает словом устройства сих членов из костей, и нервов, и плоти, и связок, а обозначает сими наименованиями Его деятельную и действующую силу, и из иных наименований каждым указывает на соответствующее им понятие о Боге, не допуская вместе с сим плотского значения имен, так и о видах сих рождений, хотя и говорит применительно к Божескому естеству, но говорит не так, как мы привыкли разуметь. Ибо хотя слово Божие, говоря о зиждущей силе, такое действие называет рождением (или произведением), потому что слово о Божеской силе должно снизойти к нашей слабости, однако не указывает всего того, что нами разумеется при устройстве и произведении чего–либо, — ни места, ни времени, ни приготовлений, ни содействия орудий, ни беспорядка, какой бывает при этом; но, предоставляя сие нашему рождению, величественно и возвышенно приписывает Богу произведение существующего, например, когда говорит, что «Той рече, и быгиа, Той повеле, и создашася» (Пс. 148:5). Опять, когда Писание изъясняет неизреченное и превышающее разум ипостасное бытие Единородного от Отца, то, поелику человеческая скудость не способна вместить учения, которое выше всякого выражения и разумения, оно пользуется здесь нашими словами и именует Его Сыном — наименованием, которое у нас обыкновенно прилагается к тому, что рождается от вещества и природы. Но как слово Божие, сказав о произведении Богом твари, не присовокупило того, что оно совершилось через какое–либо вещество, показывая тем, что сущность вещества, и место, и время, и тому подобное заменяет сила произволения, так и здесь, назвав Его Сыном, оно опустило все иное, что человеческое естество усматривает при дольнем рождении, т. е. страсти, и расположения, и содействие времени, и необходимость места, и прежде всего вещество, — без чего всего не может состояться никакое дольнее естественное рождение. Если же значение слова «Сын» не допускает никакой подобной мысли о чем–либо вещественном и промежуточном, то остается одно понятие естества и потому выражением «Сын» изъясняется в Единородном сродность и истинность происхождения Его от Отца. Но так как сей вид рождения не был достаточен, чтобы дать нам удовлетворительное изображение неизреченного бытия Единородного, то богословие для обозначения рождения Сына берет вместе и иной вид происхождения — из вещественного истечения — и говорит о сиянии славы (Прем. 7:25), и благовонии «мира» (Песн. 1:3), и дыхании Божием, что, как и в прежде изложенном нами различении видов рождения, обыкновенно называется вещественным истечением. Но как в том, о чем было прежде сказано, — и в создании твари, и в значении слова «Сын» не допускается времени, или вещества, или труда, или страсти, так и здесь слово Божие, очистив от всякой мысли о веществе значение слова «сияние» и прочего, о чем упомянуто, взяв от сего вида происхождения одно только приличное Богу, смыслом сего выражения указывает на ту мысль, что Он из Него и с Ним. Ибо ни дыхание не представляет разлития в воздухе подлежащего вещества, ни благовоние — превращения качества «мира» в воздух, ни сияние — истечения от светящего тела через лучи, но посредством сего образа происхождения, как сказано, объясняется только то одно, что должно разуметь здесь бытие из Того и с Тем, так как нет никакого посредствующего расстояния между Отцом и Тем, Который из Него. Но поелику по величайшему человеколюбию благодать Святаго Духа заботилась о том, чтобы многоразлично внушить нам мысль о Божестве Единородного, то присовокупила и остальной усматриваемый нами вид происхождения, говорю о происхождении из ума и слова. Но великий Иоанн выказывает большую предусмотрительность, чтобы слушатель по бессилию и малоумию не ниспал как–нибудь до обыкновенного понятия о слове и не почел Сына гласом Отца; посему первыми словами проповеди заставляет созерцать Слово в сущности и сущности, не отчужденной какой–либо и отторгнутой от той, от которой оно происходит, а в самом Боге, в первом и блаженном естестве. Ибо сему научает, говоря, что «в начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе» (Ин. 1:1), будучи всем, чем есть Начало. Так он рассуждает, богословствуя о вечности Единородного. Итак, когда сии способы происхождения или самые предметы, происходящие от причины, обыкновенно нами признаваемые, приняты и священным Писанием для научения о превысшем, и притом каждый, так как нужно принять для представления понятия о Божестве, то пусть читатель судит судом праведным (Ин. 7:24), имеет ли какую–нибудь силу против истины что–либо из разглашаемого ересью. Но присовокуплю опять буквально самую речь противника, которая такова: «два, — говорит, — высказано нами мнения: одно, что сущность Единородного не имела бытия прежде собственного рождения, а другое, что она рождена прежде всего». Какой же вид рождения предлагает нам сей учитель догматов? Прилично ли так мыслить и говорить о Боге? И кто столь безбожен, чтобы приписывать Богу небытие? Но ясно, что, обращая внимание на вещественное рождение, он дольнему естеству предоставляет учить нас, как должно мыслить о Единородном Боге; и поелику вол, или осел, или верблюд не существует прежде собственного рождения, то и относительно Единородного хочет утверждать то же, что дает видеть порядок дольней природы у животных; а не разумеет этот плотский богослов даже и того, что если говорится о Боге, что Он Единороден, то сим самым словом обозначается Его необщность со всяким рождением и особность. Ибо как было бы единородно Его рождение, если бы по значению и тождеству имело общность с иным рождением? Наименованием «Единородный» собственно и точно изъясняется то, что о Нем должно разуметь нечто единственное и исключительное, чего нельзя находить в ином рождении; так что если б что–нибудь, свойственное дольнему рождению, усматривалось и в Нем, то Он уже не был бы более Единородным, став по каким–либо свойствам рождения общником с прочими рожденными. Потому что если бы и о Нем говорилось то же, что говорится о других существах, пришедших в бытие через рождение, то зна чение слова «Единородный» изменилось бы, означая братское какое–то отношение (к твари). Итак, если значением слова «Единородный» указывается на несмешение и необщность с прочими происшедшими существа ми, то не допустим мыслить об Ипостаси Сына, которая от Отца, ничего такого, что усматривается в дольнем рождении. Но свойство всех существ, имеющих бытие через рождение, — не существовать до рождения, следовательно, это чуждо свойства Единородного, Коему, как свидетельствует наименование «Единородный», не присуща никакая неправильность способа обыкновенного вида рождения. Итак, пусть этот плотский и любящий чувственное писатель убедится иным видом происхождения исправить ошибочность своих мнений. Но, быть может, слыша о сиянии славы и благовонии мира, скажешь, что не было сияния прежде собственного его происхождения. Но если это скажешь, то допустишь, что совсем не существует ни славы, ни мира, ибо их нет, или же должен будешь признать, что слава существовала когда–либо сама по себе слепою и несияющею, или «миро» — не производящим благовония. Посему, если не было сияния, то совсем не было и славы, и если не существует благовоние, то вместе с сим доказано, что не существует и «миро». Если же устрашат кого эти из Писания взятые примеры, как не выражающие точно величия Единородного, потому что здесь нет тождества с подлежащим по сущности, то есть запаха с миром или луча с солнцем, то да уничтожит страх истинное Слово, которое имеет бытие в Начале, и есть все, что есть Начало, и существует прежде всего; ибо Иоанн в проповеди возглашает так, что и у Бога было Слово, «и Бог бе Слово» (Ин. 1:1). Итак, если Отец — Бог, то Бог же и Сын. Какое же остается еще недоумение для признания Единородного Богом в строгом смысле, когда значением слова «Сын» дается знать о родственности по природе, сиянием — о единении и нераздельности, а наименованием Бог, равно применяемым к Отцу и Сыну — о равночестности во всем. Образ (χαρακτηρ) (Евр. 1:3) всей умосозерцаемой нами Ипостаси Отца означает полноту собственного величия Сына, а образ Божий (μορφη) (Флп. 2:6) указывает на тождество во всем, так как Он являет в себе все, что свойственно Изображаемому.
Предложим снова речь Евномия. «Не был, — говорит, — прежде собственного рождения». О ком это говорит, что Его не было? Пусть выскажет Евномий Божеские наименования, какими называется некогда несуществовавший, по его мнению? Не скажет ли: свет и блаженство, жизнь и нетление, правда и освящение, сила, и истина, и тому подобное? Итак, кто говорит, что Его не было прежде рождения, прямо провозглашает, что не было истины, когда не было Оного, не было жизни, не было света, не было силы, не было нетления, не было ничего иного из того, что мыслим в Боге, и что еще безрассуднее и по нечестию отвратительнее сего — не было Сияния, не было Образа. Но кто говорит, что не было сияния, конечно, вместе с сим утверждает, что не было и силы сияющей, как это можно видеть в примере светильника, потому что говорящий о сиянии светильника показывает вместе и то, что светильник светит, а кто говорит, что не существует сияния, вместе с сим разумеет погашение того, что освещает. Посему когда говорится, что не было Сына, то по необходимости последовательно утверждается и несуществование Отца. Ибо если, по апостольскому свидетельству, нераздельно соединено одно с другим: и сияние с славою, и образ с ипостасью, и мудрость с Богом, — то говорящий, что не существует одного из двух соединенных предметов, с отъятием одного совершенно уничтожает и остальной; так что, если нет сияния, то должно признать, что нет и естества сияющего, и если не существует образа, то нет и ипостаси отображаемой, если нет мудрости и силы, то должно признать, что совсем нет и Того, Который немыслим Сам в Себе без мудрости и силы. Итак, если Единородного Бога не было прежде происхождения Его, как говорит Евномий, а Христос есть Божия сила, и Божия премудрость, и образ, и сияние, то, конечно, не было и Отца, Которого Сын есть сила, и премудрость, и образ, и сияние. Ибо нельзя представить разумом ни ипостаси без образа, ни славы без сияния, ни Бога без премудрости, ни Творца без руки, ни начала без разума, ни Отца без Сына, но все таковое как для признающих, так и для отвергающих сие является соединенным вместе, и отнятием одного уничтожается вместе и то, что с ним соединено. Итак, поелику у них доказывается, что прежде происхождения не существовал Сын, который есть сияние славы (а последовательность с небытием сияния требует уничтожения вместе и вечности славы — слава же есть Отец, от Коего воссиял Единородный Свет), то пусть поймут через меру мудрые, что они оказались поборниками епикурейского учения и под видом христианства — провозвестниками безбожия. Итак, когда нелепость последовательно открывается и в том и другом случае, признают ли, что совсем нет Бога, или что Он не безначален, то пусть изберут что угодно из показанного — или называться безбожниками, или утверждать, что сущность у Отца уже не безначальна. Но, вероятно, они откажутся именоваться безбожниками. Итак, остается им утверждать, что Бог невечен. Если же последовательность доказательств принуждает их к тому, то где различные и неотразимые взаимообращения имен? Где необоримая сила умозаключений, которая оглушает уши старух различением нерожденного и рожденного?
5. Но об этом довольно; а хорошо не пропустить без исследования и того, что следует далее. Умолчим о вставленных им в свою речь шутках, какими ребячески забавляется этот важный ритор, шутя ли то или в самом деле желая оскорбить нас, как будто через это станет он выше умом. Ибо никто не принудит нас вместе с косоглазыми портить также глаза или вместе с пораженными болезнью беснования ломаться, прыгать и падать телом; мы о них пожалеем, но сами не выйдем из надлежащего положения. Итак, обратив в своем сочинении речь к нашему наставнику, как бы лично ведя с ним борьбу, говорит, что он запутался в собственных крыльях. Ибо когда тот сказал, что прекрасное всегда присуще Всевышнему Богу, а быть Отцом такого чада прекрасно, то поелику прекрасное никогда не было чуждо Ему, Отец никогда и не хотел быть без Сына, а, восхотев, не имел недостатка в силе осуществить по своей мысли возможное до Него и желаемое и всегда иметь Сына, поелику всегда хощет блага (к этому клонится смысл сказанного нашим отцом); Евномий, насмеявшись над этим заимствованным от внешней мудрости рассуждением, представляет для опровержения сказанного такого рода выражение; и как будто бы говорил это кто–нибудь из опытных в подобных речах, спрашивает: «Кто родит? Если для Бога создавать прекрасно и прилично, то как это прекрасное и приличное (то есть создание) не было присуще Ему безначально, если Бог безначален? И сему ни неведение не возбраняло, не затрудняло ни бессилие, ни возраст для создания, ни другие препятствия, какие ты набрал для своего же посрамления, ибо о Боге так говорить непристойно». Если бы самому наставнику возможно было отвечать на вопрос Евномия, то он указал бы богонаученным языком, кто рожден, и, открывая Божескую тайну, поразил бы обличениями предстоятелей лжи, чтобы ясно было всем, какое расстояние между служителем тайн Христовых и смешным лицедеем или изобретателем новых и странных учений. Но поелику, как говорит Апостол, «умерый еще глаголет» Богу (Евр. 11:4), а он возражает, когда нет ответчика, то хотя наш ответ и не может сравниться с голосом великого Василия, тем не менее в настоящем случае ответим вопросившему так: самая речь твоя, высказанная в опровержение наших слов, служит свидетельством того, что мы говорим истину, обличая учение нечестия. Ибо ничего иного мы так не осуждаем, как мысль, будто не должно нам ничем различать Владыку твари от обыкновенной твари, равно осуждаем и то, что вами предлагается против Единородного. Ибо, если думаешь, что видимое тобою в твари должно приписывать и Единородному Богу, то наша беседа с тобою кончена. Ибо нелепость обличена твоими же словами, и всем стало ясно, что мы говорим прямую истину, а у тебя о Единородном Боге такое же мнение, как и о прочих тварях. О чем было сомнение, как не о Единородном Сыне Божием, Создателе всей твари — вечно ли Он существует или впоследствии родился у Отца? Итак, что об этом говорит слово наставника? То, что неблагочестиво веровать, будто по естеству прекрасное не всегда существует в Боге, ибо нельзя найти какой–либо причины, по которой благое не могло бы быть присущим Благому — ни недостатка в силе, ни немощи в воле. Что говорит на это оспаривающий, сказанное? То, что если допустишь веровать, что Бог Слово имеет бытие от вечности, то допустишь то же самое и относительно тварей. О как сумел различить в своем слове естество тварей и Божеское величие! Как знает, что чему соответствует, что благочестиво мыслить о Боге и что — о твари! Если, говорит он, Создатель полагает начало создания с известного времени (ибо ничем иным нельзя обозначить начала того, что произошло, как только особым расстоянием времени, которое определяет начало и конец тому, что происходит), то посему, говорит, и Творец времен должен начать Свое бытие от подобного же начала. Но тварь имеет началом века, а для Творца веков какое придумаешь начало? Если кто скажет, что это начало указывается в Евангелии (Ин. 1:1), то его–то и надлежало объяснить, с ним–то неразрывно вместе и указывается исповедание Сына; и сущему в Отце (Ин. 14:10), как говорит Господь, нельзя начаться с какого–либо назначенного времени. Если же кто будет говорить о другом начале, кроме этого, то пусть скажет наименование, каким означается такое начало, так как нельзя понять никакого начала прежде устроения веков. Посему, такая его речь нисколько не отклонит нас от благочестивого мнения о Единородном Боге, хотя бы и рукоплескали старухи его положению как очень сильному. Ибо мы остаемся при признанном нами сначала, имея разум, утвержденным в той истине, что все, что слово благочестия требует утверждать о Единородном Боге, не имеет ничего общего с тварию; но велико расстояние, разделяющее отличительные свойства Того, Кто сотворил все, и дел Его. Итак, если бы в ином чем–либо Сын имел общность с тварию, то, конечно, должно было бы сказать, что Он не отличен (от нее) и по образу существования. Если же тварь непричастна тому, чему мы научены относительно Сына, то совершенно необходимо сказать, что она и по образу существования не имеет общности с Ним, ибо тварь ни в начале не была, ни была у Бога, ни была Богом, ни жизнью, ни светом, ни воскресением, не приличны ей и прочие боголепные имена, как то: истина, правда, освящение, Судия, Праведный Творец всего, Сущий прежде веков, Царствующий над веком, и во веки, и присно; тварь не есть ни сияние славы, ни образ Ипостаси, ни образ благости, ни благодать, ни сила, ни истина, ни спасение, ни искупление, словом, в твари нет и не приписывается ей ничего такого, что говорится Писанием во славу Единородного. Представляю более возвышенные выражения, именно: «Аз во Отце, и Отец во Мне» (Ин. 14:11), и: «видевый Мене виде Отца» (Ин. 14:9), и: «никтоже знает Сына, токмо Отец» (Мф. 11:27). Итак, если бы словом такие и толикие (наименования) приписываемы были твари, то хорошо было бы думать, что усматриваемое в ней должно применять и к понятиям о Единородном, так как здесь было бы сопоставление однородного с сродным. Если же все таковые и понятия, и наименования принадлежат вместе (с Сыном) и Отцу и превышают все, что может быть мыслимо о твари, то неужели не скроется от стыда этот мудрец и остроумец, изъясняя естество Господа твари тем, что усматривается в твари, не понимая, что отличительные признаки твари иные? И о по самому главному разделению всего существующего оно делится на созданное и несозданное, последнее — как причину того, что произошло, первое — как от него происшедшее. Итак, когда и созданное естество, и Божеская сущность раздельны и не имеют никакой связи по отличительным свойствам, то совершенно необходимо мыслить то и другое неодинаковым образом и не изыскивать тех же самых признаков для того, что различно по естеству. Итак, если сотворенное естество являет в себе, как говорит книга Премудрости, (именуемая) Панарет, «начало и конец и средину времен» (Прем. 7:18) и сраспростирается по всем расстояниям времени, то мы принимаем как некоторый признак сего естества то его свойство, что в нем всецело усматриваем и какое–либо начало устроения, и видим средину, и надеемся видеть конец его. Ибо мы научены, что не от вечности существовали небо и земля и не вечно будут существовать, так что отсюда ясно, что и от некоторого начала получило бытие все существующее, и с некоторого предела совсем перестанет существовать; Божеское же существо, ни с какой стороны не ограниченное, а во всех отношениях бесконечно превосходящее всякий предел, далеко от тех признаков, какие находим мы в твари. Ибо протяженная, неколичественная и неописуемая Сила, в Себе Самой содержащая века и все творение в оных и во всех отношениях вечностью собственного естества превышающая беспредельность веков, или не имеет никакого признака, который бы указывал на естество Ее, или какой–либо совершенно иной, а не тот, какой имеет тварь. Итак, поелику твари свойственно иметь начало, то свойственное твари должно бы быть чуждо естества несозданного. Ибо если кто вздумает предположить, что и существование Единородного по подобию твари имело какое–либо известное начало, тот необходимо с понятием о сем соединит и все остальное, что за сим следует; потому что когда допущено начало, нельзя не признать вместе и того, что следует из него. Так, если кто допустит понятие «человек», то, признав это, вместе присовокупит и то, что свойственно его природе, говоря, что он есть и животное, и существо разумное, и все иное, что ни разумеется относительно человека; на том же самом основании если Божеской сущности мысленно припишем одно какое–либо из свойств твари, то уже не в нашей будет власти понятие того, что усматривается в твари, не применять и к естеству бессмертному. Начало насильно и необходимо потребует того, что следует за ним, ибо так понимаемое начало есть начало того, что за ним; так что если есть последнее, то есть и первое, а если упразднить то, что находится с ним в связи, то не останется и того, что предшествует. Итак, поелику книга Премудрости с началом полагает и средину и конец, то если в естестве Единородного примем какое–либо начало существования, определяемое каким–нибудь пунктом (времени), как учит ересь, Премудрость, конечно, не дозволит не присоединить к началу и конца, и средины. Если же это случится, то окажется, что этот богослов своими умозаключениями доказывает, что Божество смертно; ибо если, по слову Премудрости, за началом необходимо следует конец, а между (сими) пределами усматривается и средина, то допустивший одно невольно признал вместе с тем и другое, определяя беспредельному естеству меры и предел жизни. Если же это нечестиво и нелепо, то достойно равного или и большего осуждения давать начало слову, излагающему нечестие, а началом таковой нелепости оказалось то, что жизнь Сына почитают ограниченною каким–либо началом. Таким образом, одно из двух: или понуждаемые тем, что сказано, они должны обратиться к здравому образу мыслей и вместе с вечностью Отца созерцать и Того, Который из Него, или, если сего не пожелают, пусть вдвойне ограничат вечность Сына — началом и концом, доводя беспредельность Его жизни до небытия. Если же не имеет конца естество и душ, и ангелов, и нисколько не препятствует ему простираться в вечность то, что оно и создано, и от кого–то получило начало бытия; так что нашим противникам вследствие сего можно бы сказать то же и о Христе, что и Он, хотя не от вечности, но простирается в вечность, то выставляющий это на вид пусть порассудит и о том, сколько отстоит Божество от твари по свойствам. Ибо Божеству свойственно не нуждаться ни в чем, что мы разумеем как благо, а тварь становится благою только по участию в лучшем, она не только имеет начало бытия, но и в отношении к благу признается всегда начинающей быть благою вследствие возрастания в лучшем. Посему никогда и не останавливается на достигнутом, а все приобретенное по участию в благе бывает (для нее) началом восхождения к большему, по выражению Павла, она никогда не престает простираться в «предняя», и забывать «задняя» (Флп. 3:13). Итак, поелику Божество есть самосущая жизнь, а Единородный Бог есть Бог, и жизнь, и истина и все, что только можно помыслить возвышенного и приличного Богу, тварь же от Него снабжается благами, то из сего должно бы быть ясно, что если она приобщается жизни, то пребывает в жизни, а если перестанет приобщаться ей, то совсем перестает и пребывать в жизни. Таким образом, если дерзают говорить о Единородном Боге то же самое, что справедливо можно говорить только о твари, то пусть вместе со всем другим скажут и то, что, подобно твари, Он и имеет начало бытия, и продолжает жить по подобию душ. Если же Он самосущая жизнь, то и не имеет нужды в жизни, привходящей отвне, все же иное (кроме Него) не есть жизнь, но только бывает причастным жизни. Какая нужда ограничивать вечность Единородного по тому, что видимо в твари? Ибо вечно тожественное по естеству не допускает сему противоположного и неспособно к изменению в иное, а у кого природа ограниченна, те склоняются и к тому, и другому, как им угодно по произволу. Итак, если в Божеском и превысшем естестве усматривается истинная жизнь, то по справедливости совершенно невозможно какое–либо ниспадение оного в противоположное (состояние). Значение же жизни и смерти многоразлично и понимается не одним и тем же образом. Ибо относительно плоти жизнью называется деятельность и движение телесных чувств, и, наоборот, прекращение их (деятельности) и разрушение именуется смертью. В умопостигаемом же естестве истинную жизнь составляет общение с Богом, а отпадению от Него название — смерть. Посему и родоначальное зло, диавол, называется и смертью, и изобретателем смерти, Апостол же говорит, что он имеет и державу смерти (Евр. 2:14).
Итак, когда Писание, как сказано, дает разуметь двоякое значение смерти, то истинно непременяемый и неизменный Един имеет бессмертие и обитает во свете неприступном и недоступном (1 Тим. 6:16) для тьмы зла. А что причастно смерти, когда через склонение к противоположному становится далеким от бессмертия, то, если уклонится от участия в благе, по изменчивости естества может воспринять общение с худшим, что есть ничто иное как смерть, имеющая некоторое сходство со смертью телесной. Ибо как здесь смертью называется прекращение деятельности естества, так и в существе духовном недвижимость ко благу есть смерть и удаление от жизни, так что мыслимое о твари бестелесной не противоречит слову, обличающему еретическую нелепость. Ибо свойственная духовному естеству смерть, то есть удаление от Бога, которое мы не называем жизнью, не устранена и от сего естества в возможности. Ибо происхождение из небытия показывает изменяемость природы. А чему сродно изменение, то удерживается от участия в противоположном благодатью Укрепляющего, и уже не силой собственного естества пребывает в добре; что же таково, то не вечно. Итак, если справедливо говорит Евномий, что не должно приписывать одно и то же Божеской сущности и сотворенной природе, то не должно и бытие Сына ограничивать каким–либо началом, дабы, если это будет допущено, с признанием одного качества не привзошло и прочее, что свойственно твари. Ибо ясно обличается нелепость того, кто Единородного Бога тем, что говорится относительно твари, отделяет от вечности Отца, потому что, как в Творце твари не усматривается ничего такого, чем характеризуется тварь, то не усматривается в Нем и того ее свойства, что она существует от некоторого начала; отсюда следует доказательство, что всегда есть во Отце Сын, Который есть мудрость, и сила, и свет, и жизнь, и все, чем Он созерцается в недрах Отчих.
Книга девятая
Содержание девятой книги
1. В девятой книге св. Григорий замечает, что Евномий в своем богословии до некоторой степени говорит хорошо; затем, предав позору чрезмерность его безумия, удивительным образом изобличает внесенное им по сродству мыслей в свое сочинение изречение из писаний Филона: «Бог прежде всего, что ни рождено», и другое: «обладает собственной силою».
2. Потом премудро доказывает, что рождение Сына было не по выражению Евномия: «тогда Отец родил Сына, когда восхотел и не прежде», но что Сын, будучи всякой полнотою всех благ и всей доброты, всегда умосозерцается в Отце, причем и в самих словах Евномия находит подтверждение этого доказательства.
3. Далее доказывает, что о предвечном рождении Единородного нельзя судить по обыкновенному и плотскому рождению, но что Он безначален и бесконечен, а не так как неразумно вымышляет Евномий на основании Платоновых слов о душе и субботнего успокоения у евреев, которого значения не понимает.
4. Затем, показав лживость Евномиевой клеветы на Василия Великого, будто он называет Единородного нерожденным, снова премудро рассуждает о вечности, о бытии, о нескончаемости Единородного, о создании света и мрака и тем оканчивает книгу.
1. Но Евномий переходит к более возвышенным речам и, поднявшись кверху и надувшись, как пустой пузырь, начинает говорить нечто, достойное велелепия Божия. Вот что он говорит: «Бог, будучи высочайшим благом, всего могущественнейшим и свободным от всякой необходимости….» Хорошо этот храбрец свое слово, как бы некоторое судно без груза, по произволу носимое обманчивостью волн, направляет к пристани истины. Бог есть высочайшее благо, прекрасное исповедание! Но, конечно, он не обвинит великого Иоанна в противозаконном писании, когда он в высокой проповеди возвещает Единородного Бога, который «бе к Богу» и есть Бог (Ин. 1:1). Итак, если Иоанн — достоверный проповедник Божества Единородного, а Бог есть высочайшее благо, то сам враг его славы свидетельствует, что и Сын есть высочайшее благо. Но так как это же название приличествует и Отцу, то как показывает самая превосходная степень выражения «высочайшее благо», оно не допускает никакого сравнительного уменьшения или увеличения. Взявши у наших врагов это свидетельство для доказательства славы Единородного, присовокупим для защиты здравого учения и следующие затем его слова: «высочайшее благо Бог, не встречая ни препятствий в естестве, ни понуждения в какой–либо причине, ни настоятельности нужды, рождает и создает по превосходству собственной власти, в своем изволении имея достаточную силу для устроения существующего. Итак, если всякое благо происходит по Его изволению, то Он не только определяет благо к бытию, но и то, когда должно произойти благо, потому что знак немощи — делать то, что не хочешь». До сих пор можно принять нам для подтверждения благочестивых догматов изукрашенную нечистыми и во всяком случае запутанными выражениями речь противников. Ибо, если по превосходству собственной власти, имея в своем изволении достаточную силу для устроения существующего, все Сотворивший, не встречая ни препятствий в естестве, ни понуждения в какой–либо причине, не только определяет благо к бытию, но и то, когда должно произойти благо, а все Творящий, как проповедует Евангелие, есть Единородный Бог, то Он, когда восхотел, тогда и создал тварь, когда восхотел, тогда кругодвижным по своей сущности веществом неба объял весь заключенный внутрь круга мир, когда нашел это хорошим, тогда открыл сушу, тогда заключил воды в углубленные места, когда казалось благовременным премудрости Творца, тогда явились и растения, и плоды, тогда произошли животные, образован человек. Если сотворивший все (возвращусь опять к тому же самому слову) есть Единородный Бог, сотворивший «веки» (Евр. 1:2) (поелику существующему предшествует продолжение веков), то к Нему нельзя приложить сего означающего время выражения: тогда–то восхотел, тогда сотворил. Когда же века не было, а в Божеском естестве, чуждом количества и меры, немыслимо понятие какой–либо измеряемости, то необходимо совершенно упразднить все выражения, означающие время; так что о твари можно сказать, что ей, по изволению мудрости все Сотворившего, дано временное начало, но умопредставлять самое Божеское естество с некоторой протяженностью расстояния —свойственно одним только ученикам новой мудрости.
Я охотно не стану говорить о том, каково содержание вышесказанного Евномием, спешу к тому, что предлежит и что я здесь снова прочту для доказательства лукавства этого сочинителя. «Высочайший Бог — говорит он, — имея бытие прежде всего, что ни произошло, обладает собственной силою». Эти слова буквально внесены нашим сочинителем в собственную речь из еврея Филона, и кому это нравится, тот в самих трудах Филона найдет улику Евномию в похищении. А я в настоящем случае заметил это не столько для того, чтобы укорить нашего писателя в скудости собственных слов и мыслей, сколько желая показать читателям сродство учения Евномиева с иудейскими понятиями. Потому что слова Филона не могли бы до самой буквы согласоваться с его понятиями, если бы не было какого–либо сродства и между разумом того и другого. Так у еврея можно найти эти слова: «Бог прежде всего, что ни произошло», — а следующие за тем: «обладает собственной силою», — прибавлены из нового иудейского учения. Сколько же здесь нелепого, ясно покажет исследование этого выражения. «Бог, — говорит он, — обладает собственной силою». Скажи мне: что Он и чем обладает?
Есть ли Он — что–либо иное, различное от силы, а обладает собственной силою как чем–то иным? Итак, сила подчиняется бессилию, ибо что есть иное отличное от силы, то, конечно, не есть сила; таким образом, оказывается, что Он потолику обладает силою, поколику Сам не есть сила. Но Бог, будучи силою, опять должен бы иметь в себе другую силу, и этой обладать иной силою. И какая будет борьба и несогласие, если Бог, разделив таким образом присущую ему мощь, одною частью своей силы будет поборать другую! Ибо он не мог бы одолеть свою силу, если бы в борьбе с нею не помогала ему какая–то другая, большая этой и сильнейшая сила. Таков Бог Евномия, какой–то двухестественный или многосложный, делящийся сам на себя, имеющий в себе силу, несогласную с силою, так что одной стремится к беспорядку, а другой препятствует погрешительности движения! Пусть же объяснит, почему Бог добровольно сдерживает силу, стремящуюся к рождению, опасаясь, как бы не произошло чего–нибудь худого, если рождение не будет возбранено, или, лучше, пусть прежде объяснит, что по своей природе это сдерживаемое? То, о чем говорит, указывает на некоторое движение самоустремляющееся и произвольное, которое должно быть рассматриваемо само по себе особо, ибо по необходимости иное есть начало обладающее и иное — обладаемое. Итак, Бог обладает силою, принадлежащей какому–то самопроизвольному естеству или чему–либо иному, силою или стремящейся к действованию, или покоящейся. Но если предполагает, что она покоится, то покоящееся не имеет нужды в сдерживающем, если же говорит, что она сдерживает, то очевидно, что сдерживает движущееся и стремящееся; и он, конечно, скажет, что оно по естеству различно от Того, Кто им обладает. Итак, пусть объяснит нам, что под сим разумеет? Представляет ли сию силу чем–либо иным, отличным от Бога в Его существе? Но как в Боге могло бы быть что–либо иное, чуждое Ему? Представляет ли ее как некоторое несамостоятельное свойство в Божеском естестве? Но он не может сказать этого, потому что не имеющее существенности и не существует, а несуществующее не может быть ни сдерживаемым, ни попускаемым. Итак, что такое эта сила, сдерживаемая и возбраняемая в собственном действовании до тех пор, пока не настало время родиться Христу и не предоставило силе беспрепятственно стремиться к естественному действованию? Что такое эта замедляющая причина, по которой Бог отлагал рождение Единородного, полагая, что еще не время соделаться Отцом? Что это за посредство, которое вводится между жизнью Отца и Сына? Оно не есть ни время, ни место, ни понятие о каком–либо расстоянии, ни подобное что–либо. Итак, на что устремляя свой острый и проницательный глаз, усматривает Евномий расстояние между жизнью Сына и жизнью Отца? Отовсюду теснимый, он необходимо и сам должен согласиться, что нет никакого посредства между той и другой.
2. Но, хотя нет ничего посредствующего, он не допускает непосредственного и тесного общения, но снисходит к мере нашего познания и сам рассуждает с нами по–человечески, как один из нас, мало–помалу признаваясь в слабости своих мыслей и прибегая к доводу, которому не учили Аристотель и его последователи. Он говорит: «тогда хорошо и прилично было (Богу) родить Сына, когда восхотел; отсюда у разумных не возникнет никакого вопроса: почему не прежде»? Как, Евномий? И ты, столь много порицавший нас за то, что мы решились писать без логической тщательности, бредишь, как и мы простаки, и, оставив искусные обороты, сам прибегаешь к неразумному согласию с нами? Ты, говоривший о Василии, что он, признавая невозможность для людей дать отчет в духовных понятиях, обличает тем собственное незнание и, в другом месте, что он собственное бессилие делает общим для всех, объявляя невозможное для себя невозможным для всех; ты, говоривший это и подобное, чем удовлетворяешь слуху спрашивающего о причине, почему Отец отлагает быть Отцом? Думаешь, что в ответ достаточно сказать: тогда родил, когда восхотел, и об этом не должно быть никакого вопроса. Так–то ослабела у тебя проницательность воображения для построения догматов? Где обоюдоострые умозаключения? Где неотразимые доказательства? Как исчезли у тебя рассыпавшись, как пустые и несостоятельные, страшные и неизбежные выводы искусных умозаключений? «Тогда родил Сына, когда восхотел» И об этом не должно быть никакого вопроса. Таков конец многих усилий, таков конец надменных обещаний! В чем был вопрос? Если Богу благоприлично иметь Сына, то почему нельзя верить, что всегда Он имел при себе то, что для Него благоприлично? Каков же ответ, который Евномий дал нам из самой глубины философии, закрепив свою речь неразрушимым доводом? Тогда сотворил Сына, когда восхотел, и никакого не должно быть вопроса о том, почему не прежде? Если бы предложен был вопрос о каком–либо из бессловесных животных, действующих по некоторому естественному влечению, почему не прежде оно сделало известное дело, например, паук — паутину, пчела — ячейку для меда, горлица — гнездо, то как бы иначе ты сказал? Не самым ли удобным был бы ответ, что оно тогда сделало, когда захотело, и не должно быть об этом никакого вопроса? То же можно сказать и о каком–нибудь ваятеле или живописце, воспроизводящих посредством подражательного искусства, что им угодно, на картинах ли то или в изваяниях, когда не будучи подчинены какой–нибудь власти, осуществляют свое искусство на деле; думаю, что и здесь приличен тот же самый ответ, если бы кто захотел узнать, почему не прежде художник приложил свое искусство к делу; не понуждаемый необходимостью, он по произволу определяет время действования. Ибо люди, потому что не всегда хотят одного и того же и по большей части вместе с хотением не имеют силы выполнить его, тогда только делают то, что у них на уме, когда и произвол их склоняется к делу, и нет никаких препятствий отвне. Но говорить о естестве всегда тожественном, в котором нет никакого блага, которое бы было приобретено после, в котором нет места никакому различию желаний, возникающему, напротив, от какого–либо заблуждения и незнания, в котором по изменчивости не происходит ничего такого, что уже от начала оно не разумело бы как благо, — говорить о сем естестве, что оно не всегда имело благо, но потом решилось иметь что–либо, чего прежде не хотело иметь, — свойственно только непостижимой для нас мудрости. Потому что мы научены, что Божество всегда исполнено всякого блага, или, лучше, что Оно само есть полнота благ и, не нуждаясь ни в каком приращении для совершенства, само по естеству Своему есть совершенство блага, а совершенное равно чуждо возрастания, как и умаления. Посему и о созерцаемом в Божеском естестве совершенстве говорим, что оно всегда одно и то же, и куда ни прострем нашу мысль, везде находим оное таким же. Итак, Божество никогда не лишено блага, но полнота всякого блага есть Сын; следовательно, Он всегда должен быть созерцаем в Отце, естество которого — совершенство во всяком благе. Но никакого, говорит он, не должно быть вопроса о том, почему не прежде? На это мы скажем: иное дело, мудрец, — положительно предписывать какое–либо мнение, и иное дело — разумно убеждать в том, что составляет предмет недоумений. Итак, пока не представишь какого–либо основания, почему благочестиво говорить, что Сын родился впоследствии у Отца, — твое предписание (думать так) не имеет значения для людей рассудительных.
Так Евномий искусственным обходом изводит нам на свет истину. Мы же, по нашему обыкновению, воспользуемся его словами для утверждения истинных догматов, чтобы и отсюда было ясно, что наши противники, отовсюду понуждаемые самой истиною, невольно сами соглашаются с нашим учением. Если, как говорит наш противник, Отец тогда родил Сына, когда восхотел, а хотел Он блага всегда, и с хотением Его всегда соединена сила иметь оное, то отсюда следует, что Сына всегда должно разуметь вместе с Отцом, Который всегда и хощет блага и может иметь, что хощет. Если бы нужно было и следующие за тем слова его привести к истине, то удобно согласить с нашим учением и то его выражение, что для разумных не должно быть вопроса о том, почему не прежде. Выражение «прежде» заключает в себе некоторое указание на время и противополагается выражениям «после сего» и «потом» ; если же времени не было, то совершенно исчезают вместе с ним и названия расстояний времени; но Господь прежде времени и веков. Итак, для имеющих ум относительно Творца веков бесполезен вопрос о «прежде» и «после». Ибо лишены всякого смысла подобные выражения, как скоро они говорятся не о времени. Поелику Господь прежде времени, то относительно Его совершенно неуместны выражения «прежде» и «после».
3. Может быть, и этого достаточно для ниспровержения того, что и без нашего нападения падает само собой от собственного бессилия, ибо кто настолько свободен от житейских забот, чтобы надолго предаться слушанию пустословия противников и нашей борьбы против пустых вещей? Но поелику у предубежденных нечестием неизгладимая ложь, как какая–то несмываемая краска, въелась в самую глубину сердца, то еще немного остановимся на словах его и посмотрим, не сможем ли как–нибудь отмыть это худое пятно с их душ. Сказав предыдущее и присовокупив к тому по примеру своего наставника Пруника осмерицы каких–то нестройных и нескладных обид и оскорблений, Евномий переходит к вершине умозаключений и, оставив бессвязное изложение пошлости, опять вооружив свое слово жалом диалектики, силлогистически, как думает, готовит против нас нелепость. Слова его таковы: «так как всякое рождение не простирается в бесконечность, но доходит до какого–либо конца, то и принимающим рождение Сына вполне необходимо признать, что и рождаемое когда–нибудь перестало быть рождаемым, и не относиться с неверием к тому, что переставшее рождаться имело свое начало; так что прекращение заверяет в начале и рожденности, и рождения; не признать этого нельзя на основании как самой природы, так и Божественных законов». Поелику Евномий, следуя мудрости искусных в этих вещах, предложив общее начало, посредством выведения из него старается утвердить, что имеет в виду, в общее положение включая доказательство частного, то прежде исследуем общее положение, затем испытаем силу того, что из него выводится. Благочестиво ли по всякому вообще рождению судить и о предвечном рождении Сына? Можно ли обыкновенную природу представлять как образец существования Единородного? Я не ожидал, чтобы кто–нибудь дошел до такого безумия, чтобы вообразить нечто подобное о Божеском и нетленном рождении. Всякое рождение, говорит, не простирается в бесконечность. Что означает здесь «рождение»? Говорит ли он о плотском и телесном разрешении от бремени или об устроении неодушевленных вещей? Но немощи телесного рождения слишком ясны, чтобы кто–нибудь стал переносить их на Божеское рождение. И чтобы не показалось, что мы удлиняем наше слово, описывая дела природы, прейдем их молчанием, так как, думаю, всякий имеющий ум и сам знает причины, по которым происходит рождение, имеющее начало и конец; было бы долго и вместе излишне излагать в точности совокупление рождающих, образование рождаемого в утробе, муки деторождения, рождение, место, время, без которых не может состояться рождение тела. Все это равно чуждо Божескому рождению Единородного, потому что, если допустить одно что–нибудь из сего, то необходимо будет вместе следовать и все остальное. Так как Божеское рождение чисто от всякого понятия страстности, то в нем мы не должны разуметь измеряемого временем продолжения. Ибо то, что начинается и прекращается, конечно, представляется нами в некотором продолжении, а всякое продолжение измеряется временем; когда же нет времени, которым бы могли мы означить конец и начало рождения, то напрасно было бы мыслить конец и начало в непрерывном рождении; так как не найдем никакого понятия, которое бы означало, чем оно начинается или чем оканчивается. Если же имеет в виду неодушевленные творения, то и в них также происхождение совершается совокупным действием и времени, и места, и вещества, и приготовления, и силы художника, и многого, тому подобного. И поелику со всем тем, что происходит, необходимо соединяется продолжение времени, и со всем творимым, одушевленным ли то или бездушным, соединяется мысль о приготовительных поводах для происхождения, то здесь ясно можно найти и начало, и конец образования, потому что и снабжение веществом, и определенность места, и последование времени бывает началом устроения. Все сие определяет начало и конец того, что происходит, и никто не скажет, чтобы это имело что–нибудь общего с предвечным существованием Единородного, и не станет на основании такого рода видимых явлений заключать о начале и конце в том рождении.
Различив таким образом то и другое рождение, опять обратим внимание на слова противника. «Всякое рождение, — говорит, — не простирается в бесконечность, но доходит до какого–либо конца». Так как означаемое словом «рождение» можно понимать в том и другом смысле, то захочет ли он означить этим именем телесное разрешение от бремени или устроение тварей (неодушевленных), его положение оказывается недостигающим предположенной цели, поелику ни то, ни другое не имеет ничего общего с естеством нетленным. Ибо из того, что всякое творение и рождение доходит до какого–либо конца, вовсе не «вполне необходимо», как он утверждает, принимающим рождение Сына ограничивать оное двумя пределами, допуская в нем начало и конец. Ибо только то, что определяется какою–либо количественностью, имеет начало бытия и прекращается с концом его. Измеряемость времени, какой подлежит рождаемое по своей количественности, разделяет начало от конца промежуточным расстоянием, а как измерить или разделить то, что не имеет количества и протяжения? Какую найти меру для бесколичественного или какое расстояние для непротяженного? Как беспредельное ограничить началом и концом? Ибо начало и конец суть названия пределов расстояния, когда же нет расстояния, нет и границы, в Божеском же естестве нет расстояний; будучи непротяженным, оно не имеет предела, а не имеющее предела и есть, и называется беспредельным. Итак, нелепо ограничивать беспредельное началом и концом, ибо ограниченное не может быть беспредельным. Каким же образом этот Платонов Федр то, что Платон, философствуя, говорит там о душе, нескладно пришивает к своим положениям? Ибо как тот говорит там о прекращении движения, так и он пожелал сказать о прекращении рождения, чтобы неопытных в этом оглушить платоновским краснословием. И «не признать этого, — говорит, — нельзя на основании как самой природы, так и Божественных законов». Но из сказанного для нас ясно, что природа не может быть источником достоверного учения о Божеском рождении. Да и самый мир никто не может предлагать в пример того, о чем речь, потому что, как мы знаем из описания мироздания у Моисея, и творение мира сопровождается мерою времени, так что происхождение каждого рода существ по некоторому порядку и последовательности размеряется известными днями и ночами, чего относительно Ипостаси Единородного не Допускает даже самое учение противников, исповедующих бытие Господа прежде времен вечных.
Остается рассмотреть защиту изложенного выше положения Божественными законами, в которой обещается и конец, и начало рождения Сына. «К окончанию творения отнес (Бог) день, удостоверяющий о начале его, ибо не первый день рождения, но седьмой, в который почил от дел, Он назначил для воспоминания о сотворении». Поверит ли кто–нибудь, что сейчас сказанное написано им, а не вставлено нами из желания оклеветать его сочинение, дабы он показался читателям смешным, влача для доказательства своего положения то, что не имеет ничего общего с содержанием вопроса. Ибо вопрос состоял в том: доказать, как и обещал что родился Сын, прежде не существовавший, что рождаемое получило начало и конец рождения, как будто какая–нибудь болезнь деторождения замедляла на время рождение. Каков ответ на это? По закону еврейский народ субботствует в седьмой день. Какое согласие свидетельства с предшествующей мыслью! Поелику иудей чтит субботу покоем, то этим доказывается, что Господь, как он говорит, восприял начало рождения и затем перестал рождаться! Сколько еще и других свидетельств на это опущено нашим писателем, с не меньшей силою, чем вышеизложенное, подтверждающих его мнение! Обрезание в восьмой день, седмица опресноков, тайна четырнадцатого дня течения луны, жертвы очищения, наблюдения над прокаженными, овен, телец, юница, козел отпущения, козленок. Все это далеко от предположенной мысли, и как оно относится к делу, пусть скажут ревнители иудейских таинств. Потому что мы, почитая неприличным и немужественным делом нападать на предложенное, исследуем написанное по порядку далее: нет ли там чего–нибудь такого, что бы могло борьбу с ним сделать более трудной. Все, что он говорит далее, раскрывая ту мысль, что нельзя допускать никакой среды между Отцом и Сыном, мы опустим как согласное несколько с нашим учением, потому что было бы нерассудительно и вместе нечестно не различать в том, что он говорит, невинного от преступного. Поелику же, сражаясь с иудеями, он не следует их учению и говорит, что нет среды между Сыном и Отцом, и не допускает связи, и думает, что не было ничего прежде Единородного, и догадывается о бытии Сына, но защищает ту мысль, что родился несущий прежде, то, немного остановившись на этом, так как сказанным уже достаточно предуготовлена наша речь, обратимся к предмету нашего рассуждения.
4. Не одно и то же не полагать ничего выше Ипостаси Единородного и говорить, что Его не было прежде рождения, но что Он родился тогда, когда Отец восхотел. Потому что слова «тогда» и «когда» собственно и естественно имеют значение указания времени, как по общему обычаю здраво говорящих, так и по значению их в Писании. «Тогда рекут во языцех» (Пс. 125:2). «Егда послах вы» (Лк. 22:35). «Тогда уподобися царствие» (Мф. 25:1). И тысячи подобных мест можно привести из Писания в доказательство той мысли, что этими частицами речи в Писании обыкновенно означается время. Итак, если времени не было, как соглашается наш противник, то с тем вместе совершенно уничтожается и означение времени; когда же его нет, то вместе с сим совершенно необходимо допускается понятие вечности. Ибо при слове «не быть», без сомнения, подразумевается и слово «когда», потому что если скажет о чем–нибудь: «не существует» без слова «когда», то не должен допустить и выражение «ныне есть». Если же, допуская выражение «ныне», восстает против вечности, то, конечно, он разумеет не совершенное небытие, но небытие когда–либо. Поелику же это выражение совершенно не имеет никакой состоятельности, если не связано с обозначением времени, то совершенно безрассудно и нелепо как говорить: «ничего не было прежде рождения Сына», так и утверждать, что Сын не был всегда. Ибо, если нет ни места, ни времени, ни другого чего–либо сотворенного, в чем нет Слова, сущего в начале, то совершенно чуждо учения благочестия говорить: некогда не было Господа. Итак, не нам, но самому себе противоречит Евномий, утверждая, что и не было Единородного, и был Он, ибо признавая, что союз между Сыном и Отцом не разделяется ничем, конечно, свидетельствует, что Ему принадлежит и вечность. Если же скажет, что Сын не есть во Отце, то на эти слова не будем возражать сами, но противопоставим Писание, которое говорит, что Сын есть во Отце и Отец в Сыне, не прилагая к этим словам выражений: «некогда», «когда» или «тогда», но таким утвердительным и решительным речением свидетельствуя о Его вечности. А утверждать, как он, будто мы называем Единородного Бога нерожденным, значит то же, что говорить, будто мы почитаем Отца рожденным, то и другое равно нелепо, или, лучше, богохульно. Так что, если он сумел клеветать, то пусть, нисколько не щадя нас, прибавит и это другое обвинение, которым еще сильнее можно было бы раздражить против нас слушателей. Если же сего обвинения по явности клеветы не возводит на нас, то пусть оставит и остальное, потому что одинаково, как мы сказали, нечестиво и Сына называть нерожденным, и Отца рожденным. Итак, если в написанном нами найдется какое–нибудь такое выражение, которым Сын именуется нерожденным, то мы сами произнесем на себя решительный приговор. Если же произвольно сочиняет ложные обвинения и клеветы и по клевете приписывает нашему учению, чего в нем нет, то для здравомыслящих, может быть, послужит и это доказательством нашего благочестия; потому что, так как истина за нас, он выставляет ложь для обвинения нашего учения, осуждая нечестие, которому чуждо наше слово. Но на эти обвинения можно отвечать кратко. Ибо как мы почитаем достойным проклятия того, кто называет Единородного Бога нерожденным, так и он пусть предаст проклятию того, кто учит, что в начале Сущего некогда не было. Таким образом окажется, кто по истине и кто по клевете взводит обвинения. Если же мы отрицаем обвинение, и, называя Отца, при сем имени помышляем вместе и о Сыне, и, именуя Сына, признаем за истину, что Он истинно есть то, чем именуется, через рождение воссияв от нерожденного Света то не явна ли клевета тех, кои разглашают, будто мы Единородного называем нерожденным? Но говоря, что Он имеет бытие через рождение, мы через это не допускаем, что Его когда–либо не было. Ибо кто не знает, что противоположные по значению слова «сущий» и «несущий» не допускают ничего среднего, так что признание одного из них непременно есть отрицание противоположного? И как бытие одно и то же во все время, в которое предполагается что–либо существующим (ибо небо, и звезды, и солнце, и прочие существа не более суть теперь, чем вчера, прежде и во все предыдущее время), так и означаемое небытием равно во всех отношениях не существует, будем ли говорить о предыдущем или о последующем (времени небытия). Ибо нельзя о чем–нибудь сказать, что оно теперь не есть более, чем было несуществующим прежде, но одно и то же понятие небытия прилагается ко всему несуществующему во всякое продолжение времени. Поэтому и в отношении к животным, хотя разрешение существовавшего в небытие и неявление еще в бытие означаем различными именами, выражающими несуществование, говорим, что что–нибудь или изначала не существовало, или, родившись, умерло, но тем и другим выражением мы одинаково представляем несуществование. Как день обнимается ночью с той и с другой стороны, но объемлющие его части ночи не одинаково называются, но об одной мы говорим «после вечера», о другой — «прежде рассвета», но тем и другим выражением означаем ночь; таким же образом, если в соответствие бытию кто–либо станет мыслить противоположное ему небытие, тот, хотя назовет различно небытие до устроения чего–нибудь и после разрушения устроенного, но означаемое тем и другим названием будет разуметь одним и тем же — одинаково небытием как прежде устроения, так и после разрушения устроенного. Ибо не быть, не родиться, умереть, за исключением различия в именах, одно и то же (мы не говорим здесь о надежде воскресения). Итак, поелику Писание учит нас, что Единородный Бог есть начальник жизни, и самая жизнь, и свет, и истина, и все, что ни есть досточтимого по имени и по мысли, то говорим, что нелепо и нечестиво в истинно Сущем созерцать что–либо мыслимое как противоположность сущему — разрешение в нетление или несуществование до устроения; но, отовсюду устремляя наш разум к предвечности бытия, не допускаем никакой мысли о небытии, почитая равно нечестивым ограничивать Божество несуществованием в какое–либо время. Одно и то же сказать: бессмертная жизнь смертна, истина лжива, свет мрачен, — и сказать: сущее не существует. Итак, кто не допускает, что Сына когда–либо не будет, тот не согласится и с тем, что Его когда–либо не было, избежит, как мы сказали, одинаково той и другой нелепости; ибо как смерть не пресекает нескончаемой жизни Единородного, так и предшествующее какое–либо несуществование не ограничивает его жизни, идущей в бесконечность, так что истинно Сущее отовсюду чисто от общения с несущим. Посему и Господь, желая удалить учеников от подобного заблуждения, как бы и они, отыскивая что–либо предшествующее Ипостаси Единородного, не остановились мыслью на несуществовании, говорит: «Аз во Отце, и Отец во Мне» (Ин. 14:И), не так как несущий в Сущем или Сущий в несущем. И самим порядком слов изъясняется благочестивое разумение догмата. Поелику не от Сына Отец, но от Отца Сын, то и говорит во первых: «Аз во Отце», показывая, что Он не от иного, но от Него имеет бытие; затем говорит наоборот: «и Отец во Мне», означая, что в праздном любопытстве идущий далее Сына вместе с тем теряет мысль и об Отце, ибо сущего в чем–либо нельзя найти вне того, в чем он есть. Так что бессмыслен тот, кто, не противореча тому, что Отец имеет бытие в Сыне, воображает что–либо из Отца найти вне Сына. И напрасно наши противники истощаются в пустой борьбе с нами, вводимые в заблуждение выражением «нерожденность». Чтобы еще более вывести на свет всю нелепость их слов, пусть позволят еще немного заняться рассуждением о сем предмете. Если они говорят, что Единородный Бог родился после Отца впоследствии, то необходимо оказывается, что в самое нерожденное, чем бы оно ни было когда, по их мечтаниям, привносится ими понятие зла. Ибо кто не знает, что как Сущему противополагается несущее, так и всякому благому предмету и наименованию — противоположное по мысли, как, например, добру — зло, истине — ложь, свету — тьма и все, что подобным образом относится друг к другу противоположно? Кто не знает далее, что между противоположностями нет средины, что нельзя допустить одинакового бытия двух противоположностей в одном и том же предмете — одной с другою, но что присутствие одной из них уничтожает другую, и с удалением другой происходит явление противной?
Когда таким образом это признано, всякому ясно и то, что, как говорит Моисей, прежде создания света была тьма (Быт. 1:2–3), так и относительно Сына, если по учению ереси, тогда сотворил Его Отец, когда восхотел, должно допустить, что прежде сотворения Его не было того света, который есть Сын; а когда не было еще света, нельзя не согласиться, что было противоположное свету. При том из других (мест Писания) знаем, что Создатель ничего не изводит в бытие понапрасну, но посредством творения в существующем восполняется то, в чем недостаток. Отсюда совершенно ясно, что если Бог сотворил Сына, то сотворил потому, что естестве существ был недостаток. И как тогда, когда не доставало еще чувственного света, была тьма, и если бы не произошло света, то совершен но господствовал бы мрак, так и тогда, когда еще не было Сына, не было и Самого истинного света, и всего, что есть Сын, ибо сущее, и по признанию еретиков, не имеет нужды в происхождении. Итак, если Отец сотворил то сотворил то, что совершенно не существовало. Таким образом, по их мнению, прежде нежели получил бытие Сын, очевидно не было ни истины ни умного света, ни источника жизни, ни вообще природы всякой красоты и блага. Но отсутствием каждого из сих предполагается бытие того, что мыслимо как противоположность. Когда нет света, должна быть тьма, и точно так же относительно других понятий, вместо каждого разумеемого как превосходство, когда еще его нет, должно непременно допустить противоположное ему вместо недостающего. Итак, совершенно необходимо сказать, что когда, по учению еретиков, Отец имел еще восхотеть сотворить Сына и когда не было ничего того, что есть Сын, то в Нем было все противоположное — вместо света — тьма, вместо истины — ложь, вместо жизни — смерть, вместо добра — зло; ибо Творящий творит то, чего нет, потому что сущее, как говорит Евномий, не имеет нужды в происхождении. Представляя себе предметы противоположные, не иначе можем допустить небытие лучшего, как вследствие бытия худшего. Итак, вот что мудрость еретиков приносит в дар Отцу, отнимая у Сына часть вечности, она через это прежде явления Сына приписывает Богу и Отцу целый ряд зол.
И никто да не думает доказанную такими доводами нелепость учения противников опровергнуть указанием на иное творение. Может быть, кто–нибудь скажет, что как тогда, когда не было неба, не было и ничего, противоположного ему, так и тогда, когда не было еще Сына, который есть истина, нет никакой необходимости допускать бытие противоположного. На это должно сказать, что небу нет ничего противоположного, если только противоположностью бытия его кто–нибудь не назовет небытие. Но добру вполне противостоит зло, добро же есть Господь, так что когда не было неба, ничего не было, а когда не было блага, было противоположное сему. Итак, говорящий, что блага не было, невольно должен вполне согласиться, что было зло. Но и Отец, говорит Евномий, есть всецелое добро, и жизнь, и неприступный свет и все высокое по мысли и по имени, так что нет необходимости, когда еще не было Единородного Света, разуметь в Нем по противоположности, другое — мрак. Но это мое слово, что никогда не было мрака, ибо не было когда–либо времени, когда не было света, но во свете все есть свет, как говорит пророчество (Пс. 35:10). Если же, словам еретиков, иное есть Свет нерожденный, который от вечности, иное свет, происшедший после сего, то совершенно необходимо признать, что при вечном свете никак не может иметь места бытие того, что противоположно ему, ибо при вечном сиянии света нет времени для действования при нем мрака. А что касается до света, происшедшего, как они говорят, после то сему свету невозможно воссиять иначе, как из тьмы, так что вполне и непременно вечный свет и свет, впоследствии происшедший, будет разделять среда мрака. Ибо не было бы никакой нужды в создании последующего света, если бы создаваемое не было для чего–либо полезно, а единственная польза света есть рассеяние им господствовавшего мрака. Итак несозданный Свет сам для себя есть то, что Он есть по естеству, а созданный, конечно, происходит для чего–нибудь. Итак, необходимо существует прежде мрак, для рассеяния которого творится свет. И никаким словом нельзя убедить, что мрак не предшествует явлению рожденного света, как скоро признается, что свет создан после. Но так думать выше всякого нечестия. Итак, отсюда ясно открывается, что Отец истины не сотворил Истины, не существовавшей прежде, но, будучи источником света, и истины, и всего благого, воссиял из себя Единородный Свет истины, через который всегда отображается слава Его Ипостаси (Евр. 1:3). Так отовсюду изобличается хуление тех, кои говорят, что Сын родился у Бога впоследствии через творение.
Книга десятая
Содержание десятой книги
1. В десятой книге рассуждает о недоступности и непостижимости изыскания о существующем, в ней же удивительным образом говорит о естестве и строении муравья, изъясняет евангельское изречение: «Аз есмъ дверь» (Ин. 10:9) и «путь» (Ин. 14:6), и рассуждает о названии и толковании Божеских имен и об истории сынов Вениаминовых.
2. Потом удивительным образом указал истинную Жизнь, то есть Христа тем, кои не признают сего, и применил к ним плач Иеремии об Иехонии, так как они имеют сходство с Монтаном и Савеллием.
3. Затем показывает вечность рождения Сына и нераздельную тожественность (Его) сущности с Родившим, неразумие же Евномия сравнивает с детьми, играющими песком.
4. После сего показывает, что Сын есть в собственном смысле Сын и имеет бытие в недрах Отчих, прост и несложен, что не подвластен Отцу и не раб, освободивший нас от рабства; если же это не так, то не Он один, но и Отец, как сущий в Сыне и единый с Ним будет рабом; говорит, что наименование «Сый» происходит от слова «быть» (ων от ειναι); и после превосходного и удивительного рассуждения о всем этом оканчивает книгу.
1. Но остановимся на предлежащих нам (словах Евномия), ибо немного далее он вооружается против тех, кои признают человеческую природу немощной в разумении непостижимого, и надмеваясь, так рассуждает, уничижая наше учение сими словами: «если чей–либо ум, помрачев по причине зломыслия так, что не видит даже и того, что пред ним, то отсюда не следует, чтобы и другим людям было недоступно познание существующего». Но я сказал бы ему, что признающий уразумение существующего доступным довел к тому свой рассудок, конечно, идя некоторым путем последовательности в познании существующих (предметов), и, изощрив ум через познавание того, что удобопонятно и маловажно, приложил затем свою постигающую силу воображения и к тому, что выше всякого уразумения. Итак, хвалящийся, что достиг познания о существующем, пусть изъяснит малейшее из того, что является пред нами, — какова его природа, чтобы судя по известному, можно было иметь доверие к нему и относительно сокровенного. Пусть изъяснит словом, какова природа муравья: поддерживается ли жизнь его воздухом и дыханием, зависит ли от устройства внутренностей, подобно прочим животным, сдерживается ли тело его костями, наполнены ли внутренние пустоты костей мозгом, скреплен ли состав его нервами и жилами, ограждается ли положение нервов покровом мускулов и желез, простирается ли от темени к хвосту мозг посредством спинных позвонков, сообщает ли он сжиманием нервной перепонки силу движения движимым членам, есть ли у него печень и желчеприемный сосуд при печени, почки и сердце, артерии и вены, грудные перепонки и диафрагмы, голый ли он или покрыт волосами, разделяется ли на пол мужеский и женский, в какой части помещается орган зрения, одарен ли он чувством обоняния, одним ли копытцем снабжена его ступень или разделяется на несколько частей, сколько времени живет он и какой способ их рождения одного от другого, сколько времени носится в утробе рождаемое, и отчего не все муравьи ходят и не все с крыльями, но одни движутся по земле, а другие оказываются летающими по воздуху? Итак, хвастающий, что достиг познания о существующем, пусть объяснит нам пока природу муравья, а затем уже рассуждает о природе силы, превосходящей всякий ум. Если же не достиг еще познания о природе малейшего муравья, то как хвалится, что своим постигающим словом объял Того, Кто содержит в Себе Самом всю тварь? И как о тех, кои признают в себе немощь человеческого естества, говорит, что у них помрачены познавательные чувства души и что они не могут постигнуть того, что пред ними; ни того, что над годовою?
Но посмотрим, что больше других знает имеющий познание о существующем, послушаем его надменную речь: «ужели напрасно, — говорит, — Господь наименовал Себя, если никого нет входящего к познанию и созерцанию Отца, напрасно — путем, когда никакого не доставляет удобства желающим прийти к Отцу? Как бы Он был светом, не просвещая людей, не озаряя ока душевного к познанию Себя Самого и превосходящего света?» Если бы Евномий излагал только свои собственные рассуждения, далекие по их тонкости от понимания слушателей, то, быть может, ему и удалось бы увлечь слушателя хитростью слова, так как заключающийся в оном смысл большей частью от него ускользал бы. Но поелику он приводит Божественные изречения, то никто не обвинит тех, кои намерены предложить общеизвестное богодухновенное учение. Итак, поелику, говорит Господь наименовал Себя дверию, то отсюда следует, что существо Божие удобопостижимо. Но такой мысли не допускает Евангелие, послушаем самого Божественного гласа: «Аз есмь», говорит, «дверь: Мною аще кто внидет, спасется: и внидет и изыдет, и пажить обрящет» (Ин. 10:9). Какое из сих слов дает познание сущности? Здесь много речений, и каждое имеет свой смысл соответственно значению, но ни одного из них невозможно приложить к понятию сущности, без того, чтобы Божество не представлялось (чем–либо) смешанным из различного. И какое из вышесказанных выражений могло бы более точно соответствовать утверждаемому им, найти не легко. Господь — «дверь; Мною, говорит, аще кто внидет спасется: и внидет и изыдет, и пажить обрящет». Скажем ли, что сущность заменяется здесь словами «вхождение», или «спасение входящих», или «исхождение», или «пажить», или «обретение»? Но каждое из сих выражений имеет особенное значение и не согласуется с другим. Ибо с первого раза понятно, что пребывание внутри противоположно исхождению и прочее так же: иное нечто в собственном смысле есть пажить и иное нечто, кроме сего, обретение (пажити). Итак, какое из сих выражений означает сущность Отца? Если даже кто укажет и на все эти несогласные одно с другим по своему значению выражения, и тот посредством всех сих несогласных (выражений) не означит простой и несложной сущности. Как могли бы быть истинными слова (Писания), что «Бога никтоже виде нигдеже» (Ин. 1:18), и: «Егоже никтоже видел есть от человек, ниже видкти может» (1 Тим. 6:16), «не бо узрит человек лице» Господне, «и жив будет» (Исх. 33:20), если то, что внутри двери или за нею или обретение пажити почитать сущностью Отца? Впрочем, если сего и нельзя признать, то отсюда мы не станем почитать пустым и не имеющим значения по отношению к Господу наименование Его «дверию», ибо Он поистине есть «дверь ограждения» (Пс. 140:3) и «дом прибежища» (Пс. 30:3), как Его именует Давид; Он и приемлет входящих через Него, и хранит пребывающих в Нем, и опять изводит через Себя на пажить добродетелей. И бывает Он всем для спасаемых, дабы соделать Себя пригодным для каждого: и путем, и путеводителем, и дверью ограждения, и домом прибежища, и водою упокоения, и местом злачным, которое Евангелие именует пажитью. Новый же богослов говорит, что Господь именуется дверию по причине познания сущности Отца. Итак, отчего бы ему не извлечь того же самого смысла из наименований: «скала», или «камень», или «источник», или «дерево» и прочих, чтобы множеством странных свидетельств заверить свое учение, так как каждому из них он может усвоить то же значение, какое приписал пути, и двери, и свету?
Я же, наученный богодухновенным Писанием, дерзаю утверждать, что Превысший всякого имени у нас получает многоразличные наименования по различию благодеяний; Он называется светом, когда рассеивает тьму неведения, жизнью, когда дарует бессмертие, путем, когда руководит от заблуждения к истине, так и столпом крепости (Пс. 60:4), и градом ограждения, и источником, и камнем, и виноградом, и врачом, и воскресением, и всем таковым именуется Он у нас, многоразлично разделяя Себя в Своих к нам благодеяниях. А прозирающие далее человеческой природы, видящие непостижимое, но просматривающие понятное объясняют именами сущность; ибо Того «Егоже никтоже видел есть от человек, ниже видети может» (1 Тим. 6:16), они не только с уверенностью думают видеть, но и измерить; а веры — того, что одно соразмерно силе нашего разумения, не видят оком души, предпочитая ей познание путем умозаключений. Так, слышал я, история осуждает сынов Вениаминовых, которые закона не почитали, а из пращи попадали «ко власу» (Суд. 20:16); думаю, что слова (Писания) указывают здесь суетность их занятия — на то, что в бесполезном и несущественном были далеко мещущими и ловкими стрелками, а в том, что очевидно полезно, неискусны и небрежны. К сказанному история присовокупляет и о бедствии, постигшем их, — как, предавшись содомскому беззаконию, они были истреблены войском всего народа израильского, вооружившегося против них. И мне кажется человеколюбивым делом посоветовать новым стрелкам, чтобы они не старались стрелять «ко власу», а дверь веры оставлять без внимания, но, бросив тщетный труд изыскания о непостижимом, не теряли бы ближайшего приобретения, находимого посредством одной веры.
2. Но, обращая внимание на остальное в его сочинении, я недоумеваю, продолжать ли мне далее слово; какой–то ужас объемлет сердце от того, что говорится там. Ибо он хочет показать, что Сын есть иное нечто, отличное от вечной жизни, которой если не созерцать в Единородном, то суетною окажется вера, тщетным проповедание, излишним крещение, напрасными подвиги мучеников, ненужными и бесполезными для жизни людей труды в поте лица апостольские. Для чего они возвестили Христа, в котором, по Евномию, нет силы вечной жизни? Для чего уверовавших именовать именем Христа, если для них нет надежды наследовать через Него жизнь вечную? «Ум тех, — говорит, — кои уверовали в Господа, возвысившись над всякой чувственной и умственной сущностью, не может останавливаться и на рождении Сына, но стремится выше оного, горя прежде всего желанием вечной жизни». О чем наиболее сокрушаться мне в этих словах? О том ли, что они несчастные думают, будто в Сыне нет вечной жизни, или о том, что признают Ипостась Единородного столь низкой и низменной, что, дошедши в (своих) умствованиях до Начала Его, мечтают вознестись своим рассудком выше жизни Сына и, оставив где–то долу рождение Господа, стремиться далее Его вожделением вечной жизни? Ибо сказанное им имеет такой смысл, что человеческий ум, изыскивая познание сущего и вознесшись над чувственным и духовным творением подобно прочему оставляет под собою и в начале сущего Бога Слово; суетливым любопытством ума он проникает и туда, где нет Сына, вступая в область, которая выше жизни Сына, отыскивая вечную жизнь там, где нет Единородного Бога. Ибо в вожделении вечной жизни, говорит, возносится умом выше Сына, как бы вовсе не находя в Сыне искомого. Но если в Сыне нет вечной жизни, то оказывается лжецом сказавший: «Аз есмъ воскрешение и живот» (Ин. 11:25), или хотя Он и есть жизнь, но не вечная. Но невечное, конечно, временно, а такой вид жизни общ и бессловесным. Итак, в чем же превосходство истинно сущей жизни, если причастно ей и естество безусловное? Как Слово будет тожественно с жизнью, если по временности жизни ставить Его в один ряд с естеством бессловесным? Ибо, если по слову великого Иоанна, Слово есть жизнь только, как кажется ереси, временная, но не вечная, а временная жизнь принадлежит и другим, то что следует в заключении? Остается признать, что или бессловесные разумны, или Слово неразумно. Нужны ли еще нам слова для обличения их нечестивой и злой хулы? В таковых речах (его) не заключается ли скрытого совета отречься от Господа? Если Апостол ясно говорит, что невечное временно (2 Кор. 4:18), а они видят жизнь вечную в одной сущности Отца, Сына же, отчуждая от естества Отчего, отделяют с тем вместе и от вечной жизни, то что это, как не явное отречение и отвержение веры в Господа, так как Апостол ясно говорит, что уповающие на Христа только в сей жизни суть несчастнейшие из всех (1 Кор. 15:19)? Итак, если Господь, хотя и жизнь, но не вечная, то, конечно, (Он) есть жизнь временная и краткодневная, завершаемая настоящим временем, уповающих на которую Апостол оплакивает, как недостигающих истинной жизни.
Но просвещенные Евномием, восходя выше сего, несутся мыслями выше Сына, ища вечной жизни в созерцаемом вне Единородного. Что говорить при таком зле, кроме того только, что вызывает плач и слезы? О как оплакать нам этот жалкий и несчастный род, принесший такое множество зол! Оплакивал некогда израильский народ ревнитель Иеремия, когда следуя вождю своему в идолослужении — Иехонии, он склонился ко злу и за преступное служение был осужден на пленение ассирианами, лишенный святыни и удаленный от отеческого наследия. Такой же плач прилично кажется воспеть и мне, когда подражатель Иехонии увлекает заблуждающих к сему новому виду идолослужения, лишая их отеческого наследия, то есть веры. Ибо и они, подобно тем, о коих говорит история, преселились к вавилонянам от горнего Иерусалима, то есть от Церкви Божией переселились в это смешение злых догматов, ибо Вавилон толкуется — «смешение». И сей подобно ослепленному Иехонии, добровольно лишив себя света истины, соделался добычей вавилонского тирана, не уразумев, несчастный, что Евангелие научает видеть вечную жизнь равно во Отце, и Сыне, и Духе Святом, когда об Отце так изрекло Слово, что познавать Его есть жизнь вечная (Ин. 17:3), а о Сыне, что всякий верующий в Него имеет жизнь вечную (Ин. 6:40), о Духе же Святом, что для получившего благодать Он бывает источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). Итак, всякий желающий жизни вечной, как скоро обрящет Сына, — разумею истинного и нелжеименного, обретает в Нем все, чего искал, поелику и Сам Он есть жизнь и в Самом Себе имеет жизнь. Но этот тонкий умом и зоркий сердцем, по своей чрезмерной дальновидности, не обретает в Сыне вечной жизни. Но вознесшись выше Его и оставив Его как какое–то препятствие к искомому, ищет там вечной жизни, где нет, как думает, жизни истинно сущей. Какое еще можно придумать хуление ужаснее или повод к плачу более печальный? Но разглашать, что в наших догматах мы следуем Савеллию и Монтану, — то же самое, как если бы кто стал приписывать нам и хуление Евномия. Ибо кто внимательно рассмотрит эти суетные ереси, тот заметит, что они имеют великое сходство с заблуждением Евномия, потому что и тот, и другие иудейству–ют в этом учении, не допуская ни Единородного Бога, ни Святаго Духа в общение Божества с именуемым у них великим и первым Богом. Ибо того же Самого, коего Савеллий именует триименным, Евномий называет нерожденным, но ни тот, ни другой не усматривает в Троице Божества Ипостасей. Итак, кто здесь склоняется к Савеллию, пусть решит суд читающих сие слово. Но об этом довольно.
3. Поелику же Евномий в том, что следует у него далее, слишком многословно распространяет зловоние отвратительных умозаключений, посредством коих хочет доказать, будто Единородного Бога некогда не было, то я почитаю хорошим, так как разум наш посредством предшествующих (рассуждений) достаточно очищен от них, уже не погружать свое слово в подобную нечистоту, но, думаю, что не безвременно будет, выбрав из многого, прибавить только следующее. Он говорит сходно с тем, кто утверждает, что с сущностью Отца соединена нерожденность, ход мыслей такой же, как и в умозаключениях о Сыне. Рассуждениями противников ясно подтверждается только учение благочестия, что отнюдь не должно почитать за одно с сущностью нерожденность и рожденность, но что та и другая только усматривается при подлежащем, а подлежащее в собственном значении есть нечто иное, отличное от сего; так как в последнем не находится никакого различия, потому что различие рожденности и нерожденности не относится к сущности, то остается совершенно необходимым признать одинаковость сущности в Обоих. К сказанному присоединим еще и сие: в каком смысле он признает не принадлежащим Отцу рождение, разумеет ли оное сущностью или действием? Если почитает рождение действием, то необходимо признает, что оно равно принадлежит как действуемому так и действующему, подобно тому, как и во всяком произведении одинаково можно видеть действие и в производимом, и в производящем, неотделяемое от устрояющего и проявляющееся в устройстве произведений. Если же (под рождением) разумеет сущность, отдельную от сущности Отца, утверждая, что из оной произошел Господь, то ясно, что ее признает за Отца для Единородного; так что представляются два Отца у Сына: один Отец только по имени, Которого называет и нерожденным, не причастный рождению, а другой — сущность, совершающая относительно Сына дело Отца, которую именует рождением.
Но и это более обличится собственными словами Евномия, чем нашими, потому что далее он говорит: «Бог сущий без рождения и существует прежде рожденного», — и немного далее: «тот, коему свойственно бытие через рождение, прежде, нежели родился, не существовал. Итак, если рожденность не принадлежит Отцу, и если Сыну свойственно бытие через рождение, то Отец не действенен относительно Ипостаси Единородного, будучи непричастен рождению, от коего имеет бытие Сын». Итак, если Отец непричастен рождению Сына, то эти мудрецы или измышляют некоторого другого Отца для Сына под именем «рождение» или же вышесказанным хотят указать какого–то саморожденного и самородного Сына. Видишь, как уличен в неразумии тот, который в собственных речах и так, и иначе выставлял на вид наше невежество, как блуждает по многим путям или, лучше, беспутиям хуление, не держась твердо ни одного в движении к своей цели. И как случается видеть у детей, когда они, играя соответственно возрасту, выделывают из песка подобия зданий, что они подражают, не имея в виду при помощи искусства точно выполнить план здания, но по неразумию сначала выделывают что–нибудь наудачу, а потом уже придумывают, как назвать свое произведение, так подобную изобретательность я вижу и в этом сочинителе. Собрав, как пришлось, подобно куче песка, слова нечестия, после рассуждает, к чему бы отнести бессмысленное хуление, без всякой логической последовательности случайно явившееся из его речей. Ибо я не думаю, чтобы он намеренно измыслил ипостась рождения, за меняющую Отца для сущности Сына, не было также, как думаю, целью ритора доказать, что Отец чужд рождения Сына, и чудо саморождения не внесено им с каким–нибудь намерением, но все это изрыгнуто сочинителем без рассуждения, так что и не заслуживает большего в этом обвинения погрешающий в догматах, но не разумеющий, как говорит Апостол, «ни яже глаголют, ни о нихже утверждают» (1 Тим. 1:7).
«Кому, — говорит, — свойственно бытие через рождение, тот прежде рождения не существовал». Если он под именем рождения разумеет Отца, то и я с ним согласен, и никто противоречить не будет, ибо одно значит то и другое выражение: сказать ли, что Авраам родил Исаака, или вместо «родил» сказать, что был отцом Исаака. Итак, поелику одно и то же родить и быть отцом, то какой бы ни употребил кто образ выражения, равно будет доказываться тожественность отечества с рождением. Посему, если Евномий говорит так, что кому свойственно бытие от отца, тот не существовал прежде отца, то его рассуждение здраво, и мы соглашаемся с его словами. Но если он ведет свою речь о том рождении и говорит, что оно чуждо Отцу, а соединено с Сыном, то я почитаю пустым делом останавливаться на рассмотрении бессмысленного, потому что и до сих пор еще мы не могли и видеть из его слов, разумеет ли он под рождением какой–либо предмет, умопредставляемый в его особной существенности, или это имя влечет его мысли к несущественному, ибо шаткая и нетвердая речь его равно допускает то и другое предположение, склоняясь к тому, что угодно разуметь.
4. Но мы еще не исследовали тяжких хулений, которые Евномий присовокупляет далее в своем сочинении, рассмотрим же сказанное им буквально. Но я не знаю, как осмелиться произнести устами ужасное и нечестивое писание христоборца, потому что опасаюсь, как бы, подобно гибельному яду, не приразился к устам, через кои будет проходить слово, остаток тлетворной горечи. «Веровати же подобает приходящему к Богу», говорит Апостол, «яко есть» (Евр. 11:6). Итак, собственный признак Божества ~ это истинное бытие, Евномий же ведет к мысли, что истинно Сущий или не в собственном смысле существует, или не вполне существует, что Равно совершенному небытию Его, потому что несуществующий в собственном смысле и совершенно не существует. Так о представляющем себя бежащим в сонном мечтании, хотя говорится, что он бежит, но поелику здесь кажущийся бег ложно принимается за истинный, то мечта воображения не есть в самом деле бег, и хотя по неправильному способу выражения и говорится так, но такое наименование ложно. Посему, кто дерзает говорить, что Единородный Бог или не существует, или существует не в собственном смысле, тот ясно отрицает догмат веры в Него. Ибо кто станет еще веровать в несуществующего? Или кто обратится к тому, коего бытие врагами истинного Господа признается несобственным и несамостоятельным?
Но чтобы не показалось кому, будто наше слово клевещет на противников, предложим подлинные слова нечестивцев такого рода: «не есть сущий и в собственном смысле сущий, — говорит он, — сый в недрах сущего сый в начале и сый у Бога, и Василий, не обратив внимания на это определение и прибавление, изменяет наименование сущего вопреки истине» Что ты говоришь? Сый во Отце не существует, и сый в начале, и в недрах «сый» потому не существует, что имеет бытие в начале, есть во Отце и зрится в недрах сущего, и потому не существует в собственном смысле, что существует в сущем. О суетное и нелепое учение! Теперь только в первый раз мы услышали такое пустословие: что не существует в собственном смысле Господь, из Которого все. Но это еще не так важно, гораздо нелепее сего то, что он не только утверждает, что Господь не существует или не существует в собственном смысле, но и что он должен быть созерцаем имеющим сложное и различное естество, ибо «несуществующий, — говорит, — и непрост», — а кто не имеет простоты, тому, очевидно, приписывается различие и сложность. Но каким же образом один и тот же и не существует вовсе, и сложен по существу? Что–нибудь одно из двух: или, утверждая, что Он не существует вообще, не должно называть Его и сложным, или же, называя Его сложным, не должно исключать Его из (области) существующего. Но чтобы их хуление явилось разновиднее и многообразнее, оно обманчиво подкрепляется у них всякими безбожными рассуждениями. В сравнении с существующим утверждают, что Господь не существует, а по сличению с простым лишают его простоты. Несуществующее не существует ни просто, ни в собственном смысле. Кто из безрассудных и отрекшихся от веры был столь щедр на слова, отрицающие Господа? Евномий поставил себе в честь противоречить Божественному проповеданию Иоанна, ибо сколько сей приписал Слову бытие, столько тот упорствует, напротив, приложить Сущему небытие. Противоборствует он и святым словам отца нашего, произнося против него обвинения, что Василий не обращает внимания на это определение, называя сущим сущего во Отце, и в начале, и в недрах, как будто этим прибавлением слов «в начале» и «в недрах» ограничивается бытие сущего. О суетное учение! Чему учат наставники лжи! Каких догматов нововводителями являются слушателям! Учат, что существующее в чем–нибудь не существует. Итак, Евномий, поелику сердце и мозг внутри тебя, то, по твоему определению, следует, что ни того, ни другого не существует. Ибо если Единородный Бог потому не существует в собственном смысле, что Он есть в недрах Отчих, то все, существующее в чем–нибудь, будет, конечно, изъято из существования. Но твое сердце в тебе существует не само по себе, следовательно, по твоему рассуждению, надобно сказать, что оно или не существует вовсе, или существует не в собственном смысле. Хотя нелепого в его словах и хульного так много и в такой степени, что это ясно для имеющих ум и без наших слов, но чтобы более обнаружилось вместе с нечестием и его безумие, к сказанному присовокупим сие: если в собственном смысле существующим должно признавать только Того, кому слово Писания приписывает бытие безусловное и независимое, то что они, подобно носильщикам воды, имея возможность пить, томятся жаждою? И сей, имея под руками противоядие хуле на Сына, нарочито убегает от него, как бы боясь быть спасенным. Обвиняет далее Василия в погрешности, что он, умолчав об определяющих признаках, указал относительно Единородного на то только, что он «бы» Сам в Себе. Однако ж, что знает Василий и что видит и каждый из имеющих глаза, можно было видеть и Евномию. Мне кажется, что выспренний Иоанн, пророчески вдохновенный, чтобы заградить уста христоборцев, отрицающих на основании сих прибавлений собственное бытие Христа, просто и без ограничения говорит, что Бог «бы» Слово, и «бы» жизнь, и свет, а не то только, что Он есть в начале у Бога и в недрах Отчих, чтобы такого рода относительными выражениями не могло быть отвергнуто в собственном смысле бытие Господа; но сказав, что Он «Бог бы», — этим и безотносительным, и безусловным выражением пресекает всякий путь уклоняющимся помыслами к нечестию. Кроме сего вот еще что и притом более обличает зломыслие противников: если бытие в чем–нибудь они почитают признаком бытия не в собственном смысле, то они непременно должны признать, что и Отец не существует в собственном смысле, так как из Евангелия известно, что как Сын в Отце, так и Отец пребывает в Сыне, по слову Господа (Ин. 10:38). Ибо одно и то же сказать, что Отец в Сыне и что Сын в недрах Отчих. Мимоходом исследуем и сие: когда не было, как говорят, Сына, что содержали недра Отца? Конечно, они должны признать, что они были или полны, или же пусты, но если недра были полны, то, конечно, Сын был полнотою недр, если же допускают в недрах Отчих какую–то пустоту, то это не иное что значит, как приписывать Ему совершенствование через приращение, как бы от пустоты и недостатка Он восходил к полноте и совершенству. Но «не познаша, ниже уразумеша» (Пс. 81:5), говорит Давид о ходящих во тьме, ибо объявивший брань истинному свету не может иметь душу во свете. Посему того, что прибавлено по требованию последовательности и что исправляет это нечестие, они, как бы пораженные слепотой, подобно содомлянам, не уразумели.
Но Евномий утверждает еще, что сущность Сына подчинена Отцу, говоря такими словами: «ибо этого достоинства не усвояет себе сущий и Живущий через Отца, да и господствующая над ним сущность Отца к себе самой влечет (относит) понятие сущего». Если бы и показалось так кому из внешних мудрецов, то это нисколько не обеспокоило бы ни Евангелия, ни прочего учения богодухновенного Писания. Ибо какое общение слову христианскому с обуявшею премудростью? Если же он опирается на Писание, пусть покажет такое учение в священном Писании, и мы умолкнем. Слышу, как Павел вопиет, что «Един Господь Иисус Христос» (1 Кор. 8 6), но, вопреки Павлу, возглашает Евномий, именуя Христа рабом, ибо мы не знаем никакого иного признака рабства, кроме подчиненности и бытия под властью, (а подвластный), конечно, раб; но раб по естеству не может быть Господом, хотя бы по неправильному словоупотреблению и назывался им. И что мне приводить во свидетельство владычественности Господа слова Павловы? Сам Владыка Павла говорит ученикам, что Он истинно есть Господь, когда принимает исповедания именующих Его Учителем и Господом, ибо говорит: «Вы глашаете Мя Учителя и Господа: и добре глаголете: есмь бо» (Ин. 13:13). Но тем же самым (именем) Он узаконил им называть и Отца, говоря: не зовите наставника на земле; «един бо есть наставник ваш Отец, иже на небесех» (Мф. 23:10; 23:9). Итак, кого держаться нам, теснимым с той и другой стороны? Там Сам Господь и имеющий в Себе «глаголющаго» Христа (2 Кор. 13:3) повелевают, что не должно разуметь Его рабом, но чтить Его так, как чтится Отец; здесь Евномий приписывает Господу рабство, когда говорит, что получивший державу над всем Сам находится под властью. Но ужели сомнителен для нас выбор, как надлежит поступить? Или маловажно для нас различение полезнейшего? Неужели оказать мне, Евномий, неуважение к совету Павла? Не почесть ли более достоверным голос истины, чем твою ложь? «Аще не бых пришел и глаголал им, говорит, греха не быша имели» (Ин. 15:22), но поелику Сам глаголал им, называя Себя истинным Господом, а не ложно именуемым ( «есмь бо» (Ин. 13:13), — говорит, — не именуюся), то что остается делать с тем, кому, как и сам знал прежде, грозит неизбежное наказание?
Но, может быть, он противопоставит нам обычное мудрование и скажет, что один и тот же и рабствует, и господствует: господствующему подчиняется, а над прочим господствует? Такие мудрования разглашаются по улицам любителями лжи, кои человеческими отношениями подкрепляют свои суетные мнения о Божественном. Поелику случаи жизни настоящей представляют нам примеры подобных вещей, именно, что в зажиточных домах более деятельный и сметливый из рабов поставляется распорядителем по поручениям господина и получает преимущество над равно–честными ему, то такое же разумение применяют они и к Божественным догматам, так что Единородному Богу, зависящему от владычества Высочайшего, ничто не препятствует властью Владычествующего господствовать над низшими. Но мы, оставив в стороне такую мудрость, по мере нашего разумения рассмотрим их речь о сем. Признают ли они Отца Господом по естеству или (думают), что Он возведен на такую степень кем–либо? Но я не думаю, чтобы кто–нибудь, хотя сколько–нибудь имеющий смысла, дошел до такого безумия, чтобы не приписывать Богу всяческих господства по естеству, ибо простое по естеству, неразделяемое и несложное всецело и вполне есть то, что оно есть, не становясь таковым через изменение чего–либо иного, но как оно есть, так и пребывает вечно. Итак, что же они думают и о Единородном? Признают ли сущность Его простою или разумеют в ней и некоторую сложность? Если они почитают Его некоторым сложным из многих и различных частей предметом, то, конечно, не оставят за ним даже и имени божества, применяя к догмату о Христе какие–то вещественные и телесные представления. Если же признают Его простым, то как можно представить в уме совмещение в предмете качеств, противоположных простоте его? Ибо как между жизнью и смертью существует беспосредственная противоположность, так господство несовместимо с рабством и вполне различно от него по свойствам. Ибо если бы кто стал рассматривать каждое из сих (понятий) само по себе, тот не выразил бы того и другого одинаковым словом, но чего словообозначение не одинаково, того и естество совершенно различно. Итак, если Господь по естеству прост, то как в одном подлежащем могла бы быть двойственность противоположностей, когда рабство совмещалось бы с господством? Но если Он, по учению святых, исповедуется Господом, то простота подлежащего свидетельствует, что Он не причастен противоположного (сему). Если же объявляют Его рабом, то напрасно приписывают Ему и имя господства, потому что простое по естеству не рассекается на противоположные свойства. Если же говорят, что есть Он одно, а именуется другим: по естеству раб, а по имени Господь, — пусть дерзновенно выскажут такую речь и дадут нам покой от продолжительных трудов противоречить им. Ибо у кого столько досуга для пустых дел, чтобы изобличать рассуждениями очевидное и несомненное? Когда кто сам объявил о своем преступлении — убийстве, то для обвинителей уже не остается никакого труда изобличать (действительность) убийства какими–либо доказательствами; так и мы не станем более изыскивать обличений на противников, когда они дошли до такого нечестия. Ибо признающий Единородного Бога рабом по естеству, тем самым, что говорит, делает Его сорабом своим; отсюда необходимо вытекает двоякая нелепость: или окажет презрение сорабу и отречется от веры, свергнув иго владычества Христова, или покорится рабу и, отрекшись от самодержавного и неподчиненного естества, вместо Бога будет чтить некоторым образом себя самого. Потому что если в рабстве видит себя самого, в рабстве же и чтимое им, то просто чтит себя самого, кто в предмете чтимом видит другого себя. Но какое слово могло бы исчислить все прочее, что по необходимости усматривается вместе с этим злым учением? Ибо кто не знает, что раб по естеству и занятый службою господской не свободен и от ощущения страха? Потому что страх как бы сопряжен с природой рабства, свидетель тому божественный Апостол который говорит: «Не прилете бо духа работы паки в боязнь» (Рим. 8:15), так что они приписывают и сорабу Богу по подобию людей ощущение страха Но это —Бог еретический, а как научились из Писаний мудрствовать мы, призванные, по Апостолу (Гал. 5:13), в свободу Христом, освободившим нас от рабства, изложу кратко. Возбуждаемый Божественным учением, я со дерзновением объявляю, что Божественное Слово не хочет даже, чтобы и мы были рабами, так как наше естество изменено на лучшее. И восприявший все наше, чтобы дать нам взамен свое, восприял и рабство так же, как болезни и смерть, проклятие и грех, не для того, чтобы Самому иметь, что принял, но чтобы очистить от сего естество (человека), уничтожив в естестве непорочном подобные качества, принадлежащие нам. Посему, как не будет в чаемой жизни ни болезни, ни проклятия, ни греха, ни смерти, так со всем этим прейдет, исчезнув и рабство. А что говорю это истинно, во свидетельство призываю саму Истину, которая говорит к ученикам: «Не ктому вас глаголю рабы», но «вас же рекох други» (Ин. 15:15). Итак, если наше естество будет некогда свободно от поношения рабства, то как безумием и дерзостью этих исступленных Владыка всего низводится в состояние рабства? Они, на основании изречения о рабах, которое говорит, что «раб не весть, что творит господь его» (Ин. 15:15), конечно, последовательно полагают, что Он и не знает того, что у Отца; но если скажут так, то пусть услышат, что Сын имеет в Себе все Отчее, все видит, что творит Отец, и ничто из Отеческих благ не сокрыто от ведения Единородного. Ибо как не имел бы чего–либо Отчего, кто имеет в себе всецелого Отца? Итак, если «раб не весть, что творит господь его», Он же имеет в Себе все Отчее, то пусть отрезвятся блуждающие в опьянении и хотя теперь обратят взоры к той истине, что имеющий на себе весь образ (существа Божия) (Евр. 1:3) и царствующий над всем не может иметь равночестного себе зрака. Иначе как от истинной славы просиявает бесчестие? Ибо рабство есть бесчестие. Как сын царя рождается для рабства? Не так это, не так. Но как свет от света, и жизнь от жизни, от истины истина, так и от Господа Господь, Царь от Царя, от Бога Бог, от Неподвластного Неподвластный, ибо имеющий в Себе всего Отца, конечно, имеет все, что ни имеет в Самом Себе Отец. Но поелику все, что имеет и Сын, принадлежит Отцу, то, если Сын — раб, враги славы Божией необходимо должны низвести и Отца в рабство. Потому что нет ничего из умосозерцаемого в Сыне, что не принадлежало бы вполне Отцу, ибо «Моя вся», говорит, «Твоя суть, и Твоя Моя» (Ин. 17:10). Итак, что скажут жалкие? Что благоразумнее: прославить ли Отчею царской властью Сына, изрекшего «и Твоя Моя: и прославихся в них» (Ин. 17:10), или оскорбить Отца бесчестием сыновнего рабства? Поелику нельзя же, чтобы Отец, имеющий в Себе все сыновнее и Сам сущий в Сыне, не был причастен вполне рабству Сына и не имел рабства в Себе. Вот к чему ведет своими мудрованиями Евномий, оскорбляя рабством Господа, он тем самым такое же бесчестие приписывает и нетленной славе Отца.
Но возвратимся опять к тому, что следует по порядку в сочинении. Что говорит Евномий о Единородном? Что он не усвоит себе сего достоинства (достоинством он называет наименование «сущий»). О нелепая философия! Кто из когда–либо живших людей, между ли еллинами или между философами у варваров, кто из наших (современников), кто из живших когда–либо прилагал к сущему наименование достоинства? О всем умопредставляемом как существующем, по общему обычаю словоупотребления, мы говорим, что оно есть; от слова «быть» произошло и наименование сущего, но теперь для обозначения сущего вновь изобретается выражение «достоинство». Ибо говорит, что Сын не усвояет Себе достоинства сущего, так как Он имеет бытие и живет через Отца. Но, говоря это, он не может ни подтвердить своих слов Писанием, ни указать на последовательность (мыслей), которая бы вела его речь к такому безумию, но, как наполнивший желудок какою–то ветрогонной пищей, испускает совершенно неосновательное и недоказанное хуление, как бы некоторый смрадный ветр. «Не усвояет, — говорит, — Себе такого достоинства». Согласимся, что бытие именуется достоинством. Итак, что? Сущий не усвояет себе бытия? «Поелику, — говорит, — существует через Отца». Итак, ты говоришь, что не усвояющий себе бытия не существует? Ибо не усвоять чего–либо значит то же, что быть чуждым сего, и противоположение значений здесь очевидно, потому что собственное не есть чуждое и чуждое не есть собственное. Итак, не усвояющий себе бытия, конечно, чужд бытия, а чуждый бытия не находится в бытии. Но он выводит при этом необходимость и такой нелепости, говоря, что «господствующая над ним сущность Отца к себе самой относит (влечет) понятие сущего». Но о бессвязности сеи его речи я умолчу, а что он имеет в виду выразить своими словами, должно исследовать. Чем он докажет, что сущность Отца господствует над Единородным? Опять изрыгает нам от пресыщения. Какой евангелист стоит за это учение? Какое диалектическое наведение, какие основоположения, какие доводы последовательно доказали, что Единородный Бог находится под чьим–либо господством? Но «господствующая над Сыном сущность к себе самой, — говорит, — относит (влечет) понятие сущего». Что значит у него влечение сущего? И как речение «влечет» вяжется с тем, что говорится? Об этом пусть судит рассматривающий силу слов, мы же и об этом умолчим, а возвратимся опять к тому его слову, что он не признает существующим самостоятельно Того, за кем не оставляет имени сущего. Для чего он напрасно сражается с тенями, препираясь о несуществующем, как бы о существующем? Ибо то, что не существует, не может быть ни подобным чему–нибудь, ни неподобным. Но допускающий Его бытие запрещает говорить, что он имеет бытие. О суетная точность! Уступающий в большем стоит за малость в слове. В каком же смысле господствующий, как говорит над Сыном влечет к Себе понятие о сущем? Если скажет, что Отец влечет Свою собственную сущность, то это привлечение излишне, ибо бытие присуще Ему и без привлечения. Если же скажет, что бытие Сына влечется Отцом, то как от сущего отторгнется бытие и перейдет к влекущему, — не могу понять. Уж не бредит ли он заблуждением Савеллия, что Сын не существует Сам по Себе, но сливается с Ипостасью Отца? Не то ли значит у него привлечение господствующей над Сыном сущностью понятия о сущем, что, не отвергая ипостасного бытия Сына, он хочет отделить от Него значение сущего? Но как от бытия отделить понятие о сущем? Ибо доколе существует все, что ни есть, не быть ему, чем оно есть, невозможно.
Книга одиннадцатая
Содержание одиннадцатой книги
1. Одиннадцатая книга показывает, что наименование Благого принадлежит не Отцу только, как говорит подражатель Манихея и Вардесана Евномий, но что и Сыну, по человеколюбию и благости создавшему, а через крест и смерть воссоздавшему человека, должно принадлежать название Благого.
2. Из евангельского изречения: «Учителю благий» (Мф. 19:16), из притчи о виноградной лозе (Мф. 20:13–15), из слов Пророка Исайи (Ис. 45:14–15) и Павла (Рим. 9:5; Тит. 2:13; 1 Тим. 3:15) очень умно доказывает и то, что нет двубожия блага и зла, как думает единомышленник Евномия Маркион; говорит и о том, что у Сына нельзя отрицать наименование Сущего или Благого, что Он не отчужден от Отца, но что Ему принадлежит и власть над получившим бытие.
3. Затем излагает невежество и бессвязность Евномия и смешное в тех его словах, где он называет Сына ангелом Сущего и настолько низшим Божеского естества, насколько Сын превышает свои создания; этому противополагает благородный и сильный отпор и гневное обличение, показывая, что Беседовавший с Моисеем есть сам Сый, Единородный Сын, который на просьбу Моисея: «аще сам ты не идеши с нами, да не изведеши мя отсюду, сказал: и сие тебе слово, еже рекл еси, сотворю» (Исх. 33:15; 33:17). Он же называется ангелом у Моисея (Исх. 33:2) и Исайи, где он говорит, что «отроча родися нам» (Ис. 9:6).
4. После сего, опасаясь обширности опровержения, опустил многое из сказанного противником, как уже опровергнутое прежде, остальное же для тех, кои почитают оное самым сильным, изложив вкратце, изобличил хулу Евномия, который говорит, что как во всем творении животные и растения имеют бытие, не существуя прежде собственного рождения, так имеет бытие и Господь, происходя подобно (о хула!) лягушкам.
5. Опять Евномий называет Его Господом, и Богом, и Зиждителем всей как разумной, так и чувственной твари, получившим от Отца силу созидания и поручение, подобно ремесленнику, которому поручено дело наемщиком; называет получившим силу создания, чуждую себе и внешнюю, уделенную Ему по каким–то течениям и расстояниям звезд так, как рок распределяет рождающимся жребии святых. Многое опустив из написанного у Евномия, обличает ту хулу, что Творец всего получил бытие подобно земле и ангелам и что Ипостась Единородного по происхождению ничем не отличается от всего прочего; показывает, что он для дознания благочестия не обращается ни к Божественному таинству, ни обычаю, ни кому–либо из наставников богопочтения, но к Манихею, Колуфу, Арию, Аэтию и их последователям, почитая вздором все христианское, игрушкой — обычаи церкви и досточтимые таинства, ничем не отличаясь от еллинов, кои из нашего учения заимствовали великого Бога, превышающего других; так и этот новый идолослужитель проповедует, подобно им, что крещение должно быть и в Зиждителя, и в Творца, не страшась проклятия на прилагающих к божественным Писаниям или отъемлющих у них; объявив его антихристом, оканчивает книгу.
1. Но перейдем и далее к продолжению речи. «Сам Единородный, говорит Евномий, — Отцу усвояет сие наименование, как Ему одному подобающее по достоинству. Ибо, научив, что название Благого приличествует одному Тому, Кто есть виновник и Его собственной, и всякой благости, к Нему же относит и всякое сущее и происшедшее благо, а Себе присвоить власть над происшедшим и наименование Сущего затруднился». Доколе Евномий привлекал на свою сторону незаметно обманом, прикрывая хулу под околичностями умозаключений, как бы под некоторыми прикрытиями, я полагал, что должно обращать внимание на скрытное злодейство и сколько возможно обнажать в слове эту пагубу. Но поелику он, скинув со лжи всякую обманчивую личину, излагает хулу в ясных выражениях, то я почитаю излишним терпеть напрасное беспокойство, путем умозаключений выводя обличения против тех, которые не отрекаются от нечестия. Ибо чего более искать нам для доказательства злонамеренности сверх того, что по первому взгляду открывается из написанного самими еретиками? Один Отец, говорит Евномий, достоин названия Благим, Ему одному подобает таковое наименование, как и Сын соглашается, что Ему одному принадлежит благость. Сам обвинитель говорит в нашу пользу, ибо прежде, когда доказывал я, что христоборцы ведут к мысли, будто Господь чужд Отчей благости, может быть, по мнению читающих, был я каким–то клеветником, но теперь, как думаю, признанием противников доказано, что таковое обвинение возводили мы на врагов не по клевете. Ибо говорящий, что одному Отцу по достоинству подобает наименование Благим, и сказавший, что Ему одному приличествует сие слово, теперь открытым словом обнаруживает прежде прикрываемое лукавство. «Одному, — говорит, — Отцу приличествует наименование Благим». С принадлежащим (сему) слову значением или в отдельности от своего смысла? Если Евномий приписывает Отцу как преимущество одно только имя Благого, то было бы жалким неразумием приносить Отцу в дар звук пустого речения. Если же думает, что одному Богу Отцу приличествует понятие, означаемое словом «благой», то это было бы гнусным нечестием, возобновлением в Догматах своих болезни манихейской. Ибо как здоровье и болезнь, так и благость и злоба имеют состоятельность при взаимном отрицании, так что отсутствие одного делается осуществлением другого. Посему, если Евномий говорит, что одному Отцу принадлежит благость, то не допускает ее ни в чем из умопредставляемого существующим, кроме Отца, так что вместе со всем и Единородный Бог исключается из понятия «благой». Ибо как говорящий, что один (только) человек способен к смеху, сим показывает, что из прочих живых существ ни одно не причастно сено свойства, так и объявивший, что у одного Отца есть благость, отнимает у всего свойство благости. Посему, если один Отец по достоинству должен иметь наименование Благого, как говорит Евномий, то сие слово ни к кому другому не может быть приложено в собственном смысле. Но всякое стремление свободы непременно или действует ко благу, или направляется в противоположную сторону, ибо не иметь наклонности ни к тому, ни к другому свойственно бездушным или бесчувственным. Потому, если один только Отец благ, имеет не приобретенную, но естественную благость, а у Сына с Отцом естество не общее, как угодно это ереси, то не причастный благой сущности, конечно, вместе с тем отчуждается и от наименования благим. А не неизвестно, без сомнения, кто таков не причастный ни естества, ни наименования Благого, хотя я и удержусь от хульного именования. Всякому ясно, что злое и сопротивное Евномий усиливается привнести в мысль о Сыне, ибо какое имя свойственно тому, кто не благ, явно всякому имеющему разум. Как немужественный робок, неправдивый неправеден, немудрый безумен, так, очевидно, какое по противоположности имя соответствует неблагому. И на это–то усиливается навести мысль о Единородном христоборец, это другой Манес или Вардесан в Церкви. В сем–то случае, как утверждаем, слово наше ничем не действительнее молчания. Если бы кто сказал и очень много и пустил в ход все умозаключения, то не сказал бы в обвинение ничего такого, каково то, что еретики сами проповедуют открыто. Ибо что можно сказать более тяжкого в отношении к нечестию, как то, будто не благ Тот, который «во образе Божий Сый, не восхищением непщева быти равен Богу» (Флп. 2:6), но единственно по человеколюбию нисшел до уничиженности естества человеческого. За что же, скажи мне, употреблю слова Моисея к израильтянам: «сия ли Господеви воздаете» (Втор. 32:6)? Не благ Тот, кто тебя, бездушный прах, украсив боговидной красотою, поставил одушевленным образом своей силы? Не благ Тот, кто ради тебя «зрак раба» приял (Флп. 2:7), и «вместо предлежащий Ему радости» (Евр. 12:2) принял на себя страдания за твой грех, предал Себя для искупления тебя от смерти и сделался «по нас» клятвою (Гал. 3:13) и грехом (2 Кор. 5:21)?
2. Вам не пособит в этом случае и первый защитник ваших догматов Маркион. Общего у него с вашим образом мыслей двоица богов и мнение о разности одного из них от другого по естеству. Но он мягче тем, что Богу евангельскому усвояет благость, а вы Единородного Бога отлучаете от естества Благого, так что превратностью вашего учения превзошли и Маркиона.
Но евномиане твердо держатся написанного (ими) и утверждают, что терпят неправду, подвергаясь обвинению из–за речений Писания, и говорят, Сам Господь изрек: «никтоже благ, токмо един Бог» (Мф. 19:17). Посему, чтобы не имела силы клевета на речения Божий, разберем кратко самое евангельское слово. Из истории известно, что юноша, которому Господь говорит сие слово, был богат; думаю, что это был человек, любящий наслаждение житейскими удовольствиями и любостяжательный, ибо сказано, что он опечалился советом отказаться от обладания своим имуществом и не решился променять стяжания на живот. Он, поелику услышал, что пришел какой–то учитель жизни вечной, то в надежде продлить для себя навсегда наслаждения при нескончаемом продолжении жизни, приступил к Господу с ласкательным названием Благого; лучше же сказать, не к тому, кто разумеется Господом, но к тому, кто видим был в «рабьем зраке», ибо не таков был, чтоб мог проникнуть сквозь завесу плоти и прозреть неприступную святыню Божества. Посему взирающий на сердца Господь видел, к кому обращал моление свое юноша, видел именно, что душа его не к Божеству была устремлена, а напротив того, он докучал человеку, именуя его благим учителем по надежде узнать такую науку, при помощи которой, как ожидал, можно было бы задержать смерть. Посему, как следует, и отвечает ему тот, кого звал он себе на помощь. Поелику обращение было не к Богу Слову, то вследствие сего и ответ молящему делается от человеческого естества. Сей ответ подает юноше двоякое наставление: он в одно и то же время учит, что Божеству надлежит служить не словесным ублажением, но жизнью, исполнением заповедей, и жизнь вечную покупать должно ценою всего имения, и что человечество, через грех соделавшись злым, чуждо названия благим в собственном смысле слова. Посему и говорит Господь: «что Мя глаголеши блага?» (Мф. 19:17). Когда говорит: «Мя», — то сим словом указует на человеческое естество. А когда приписал благость Божеству, тогда прямо объявил о Себе, что Он благ, потому что истинно есть Бог, как проповедует Евангелие. Если бы Единородный Сын был устранен от названия Богом, то, может быть, не было бы не уместно думать, что Он чужд и названия благим. Но если и пророки, и евангелисты, и апостолы провозглашают о Божестве Единородного, а Самим Господом засвидетельствовано, что Богу подобает имя благости, то почему не имеет общения в благости Тот, кто имеет общение в Божестве? А кто столь не посвящен в боговедение, чтобы нуждался в слове для узнания того, что и пророки, и евангелисты, и ученики, и апостолы признают Господа Богом? Кто не знает, что в псалме сорок четвертом Пророк именно возвещает о Христе, что Он есть Бог, помазанный Богом (Пс. 44:8)? И опять, кто из занимавшихся пророчеством Исайи не ведает, что он так ясно возглашает о Божестве Сына, когда между прочим говорит и сие: «Саваимстии мужие высоцыи к Тебе прейдут и Тебе будут раби, и вслед Тебе пойдут связани узами ручными, и: в Тебе помолятся, яко в Тебе Бог есть, и рекут: несть Бога разве Тебе: Ты бо еси Бог» (Ис. 45:14–15)? Ибо, кроме Единородного есть ли какой другой Бог, который бы имел в себе Бога и Сам был Бог пусть скажут не слушающие пророчества. Я умолчу о значении слова «Еммануил» (Ис. 7:14), об исповедании Фомы по дознании (Ин. 20 28) и о великой проповеди Иоанна (Ин. 1:1), какоб очевидном и для непринадлежащих вере. Думаю, что нет надобности с точностью предлагать и изречения Павловы, которые у всех почти на устах. Павел именует Господа не только Богом, ной великим Богом и Богом над всеми в Послании к Римлянам он говорит: «Ихже отцы, и от нихже Христос по плоти, сый над всеми Бог благословен во веки» (Рим. 9:5), а к ученику своему Титу пишет: по причине «явления славы великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13), и в послании к Тимофею определенно восклицает: «Бог явися во плоти, оправдася в Дусе» (1 Тим. 3:16). Посему, если отвсюду доказано, что Единородный Бог есть Бог, то как говорящий, что Богу приличествует благость, доказывает, будто Божеству Сына чуждо сие наименование? И это тогда, как Сам Господь в притче о наемниках в винограде усвояет себе благость, ибо там по тому поводу, что потрудившиеся более других вознегодовали на равные доли платы и благополучие позднее пришедших почли собственным своим ущербом, праведный Судия говорит одному из досадующих: «друже, не обижу тебе: не по пенязю ли» в день «совещал» я с тобою? Вот тебе твое. «Хощу же и сему последнему» даровати, «яко же и тебе». Или не имею власти творить, «еже хощу, во своих Ми; аще око твое лукаво есть, яко Аз благ есмъ» (Мф. 20:13–15)? Без сомнения же никто не станет спорить о том, что воздаяние по достоинству есть собственно дело судии, а все ученики Евангелия соглашаются, что Единородный Бог есть Судия, ибо Евангелие говорит: «Отец бо не судит никомуже, но суд весь даде Сынови» (Ин. 5:22).
Но евномиане не восстают против Писаний, они утверждают, что прибавление «един» указывает собственно на Отца, ибо сказано: «никтоже благ токмо един Бог». Итак, ужели у истины не достанет силы на защиту самой себя? Или из многих других мест нельзя без особенного труда изобличить и это ложное умозаключение в обмане? Ибо сказавший сие об Отце говорит к Отцу и следующее: «Моя вся Твоя суть», и «прославился в них» (Ин. 17:10). Если же, по сказанному, все Отчее есть и Сыновнее, а благость есть одно из свойств, созерцаемых во Отце, то или не все имеет Сын, если не имеет сего, и евномиане скажут, что лжет истина, или, если непозволительно заподозрить сущую Истину в увлечении ко лжи, то назвавший все Отчее Своим вместе с тем исповедал, что Он не чужд и благости, ибо имеющий в себе Отца объемлет и все Отчее, так как очевидно, что вместе со всем имеет и благость. Итак, Сын благ.
Но Он говорит: «никтоже благ токмо един Бог». Это выставляют на вид противники. И я не отвергаю сего слова, и однако ж по сей причине не отрицаю благости Сына. Исповедующий Божество Господа сим самым исповеданием непременно усвояет Ему благость. Ибо если благость есть свойство Божие, а Господь есть Бог, то из сих положений явно уже следует, что Сын благ. Но, говорят, речение «един» отделяет Сына от общения во благости. Напротив, удобно доказать, что и сие «един» не разлучает Отца от Сына. У всего иного слово «един» имеет значение неимения другого. А у Отца и Сына единое усматривается не в единичности, ибо сказано: «Аз и Отец едино есьма» (Ин. 10:30). Посему если благой «един», а в Сыне и Отце усматривается некое единство, то следует, что Господь, приписав благость единому, словом «един» усвоил сие наименование и Себе, как сущему «едино» со Отцом и не отторгнутому от сего естественного единства.
3. Но чтобы по всему было ясно невежество и необразованность почтенного этого писателя, обратим внимание на самое словосочинение в написанном им. Он говорит: «Сын не усвояет себе достоинства Сущего», — причем именует достоинством самое бытие. Какое умение прибирать к делу точные слова! Потому что Сын от Отца, Евномий говорит, что Он отчуждается Себя Самого, так как сущность Отца как Господствующая к себе привлекает и понятие Сущего. Это подобно тому, как если бы кто сказал: купленный за деньги перестает быть тем, что он есть, собственным своим лицом; он есть купленный и его личность существенно воспринята в себя естеством того, кто стал его господином. Таковы высокие понятия этого богослова. А какое доказательство вышесказанного? Потому что, говорит, «сам Единородный Отцу усвояет сие наименование, как Ему одному подобающее по достоинству». И сказав сие, прибавляет, что один Отец благ. Где же здесь отречение Сына от наименования сущим? А Евномий доказывает это, прилагая буквально следующие слова: «ибо научив, что название Благого приличествует одному Тому, Кто есть виновник и его собственной, и всякой благости, к Нему же относит и всякое сущее и происшедшее благо, а себе присвоить власть над происшедшим и наименование Сущего затруднился». Что общего между сказанным и властью? Как Сын вместе с нею отчуждает Себя и от наименования сущим? Но не знаю, что при сем нужно более делать: смеяться ли невежеству или жалеть о погибели? Ибо и речение: «Ему свойственной», избранное не для такого употребления, какое ему сродно и обычно между людьми, умеющими владеть словом, свидетельствует, сколь много сведущ Евномий в искусстве употребления местоимений, которого без труда достигают у учителей грамматики и малые дети. И смешное уклонение Евномия от предмета к тому, что ничего не имеет общего с умозаключением ни по понятию, ни по внешнему виду, применение странных доказательств к той мысли, что Сын не участвует в наименовании сущим, и все сему подобное как бы с особым намерением собрано вместе на смех, так что, может быть, люди, ни о чем не заботящиеся, и постраждут несколько, и посмеются на бессвязность понятий. Но мысль, будто Бог Слово не существует или совсем не благ (ибо к ней ведет Евномий, когда говорит, что Сын не усвояет Себе наименования сущим и благим), а также тот вывод, что власть над приходящим в бытие не принадлежит Сыну, — все это достойно слез и совокупного оплакивания. Ибо не в одном каком–либо месте Евномий обмолвился так по какому–то опрометчивому и неосмотрительному порыву, а потом в следующем далее исправил погрешность; напротив того, с любовью коснеет в зле, последующим усиливаясь превзойти предыдущее, ибо далее говорит, что Сын столько ниже естества Божия, сколько отстоит от Него по уничиженности естество ангелов. Не сими словами он пишет, но в своих словах дает видеть такую мысль. Но читателям можно разобрать дело, потому что написано так: «тем, что именуется Ангелом, Он ясно научил, чьи провозвещал слова, и кто есть Сый, а тем, что нарицается и Богом, показал собственное свое преимущество пред всеми; Бог для того, что Им пришло в бытие, Он есть Ангел Сущего над всеми Бога». Перебивает твою речь раздражение, проникшее в мое сердце, и возмущается страстью рассудок, подвигнутый на гнев тем, что говоришь ты. И, может быть, не неизвинительно во мне это страстное движение души. Ибо в ком не вскипит сердце от этого? Апостол возглашает, что все естество ангельское подчинено Господу, и во свидетельство сего учения заимствует велегласие пророческое, ибо говорит: «Егда же паки вводит Первороднаго во вселенную, глаголет» : и да «поклонитеся Ему ecu Ангели Его» (Евр. 1:6; Пс. 96:7), и еще приводит слова: «Престол Твой, Боже, в век века» (Пс. 44:7), и: «Ты же тойжде ecu, и лета Твоя не оскудеют» (Пс. 101:28); и все это излагает Апостол для доказательства того, что Единородный есть Бог (Евр. 1:6; 1:8; 1:12). Что же должен ощутить я, слыша, что христоборец не случайно бросает такое слово, будто Господь ангелов есть ангел, но упорствует в той нелепости, чтобы доказать, будто Господь ничем не преимуществует пред Иоанном и Моисеем? Ибо о Иоанне говорит Слово: «Сей бо есть, о немже есть писано: се Аз посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим» (Мф. 11:10). Итак, Иоанн–ангел. Но враг Господень, хотя и именует Господа Богом, доказывает, что Божество Его сходно с божеством Моисея, потому что и Моисей — слуга Сущего над всеми Бога, вместо Бога был египтянам (Исх. 7:1). А между тем, и быть над всеми, как говорено было прежде сего, Сыну обще со Отцом, почему и Апостол таковое выражение присвоил Сыну, сказав: «от них же Христос по плоти, сый над всеми Бог» (Рим. 9:5). Но Евномий низводит Господа ангелов в чин ангела, как будто не слыхав, что ангелы суть «служебнии дуси и огнь палящь» (Евр. 1:14; 1:7). Этим Апостол делает неслитным и ясным различие тех, о ком говорит, естество подчиненное определяет духами и огнем, а силу Господственную означает именем Божества. И вопреки столь многим провозвестникам славы Единородного Бога один Евномий гласит, что Господь есть ангел Сущего над всеми Бога, при помощи различения от Сущего над всеми утверждая, что Он один из всех, а общностью имени с ангелами доказывая, что ничем не разнится от них по естеству. Ибо прежде сего многократно говорил, что «все, что имеет одно и то же общее название, не разнится между собою и по естеству». Посему нужно ли еще слово обличения на того, кто определенно восклицает, что Сын есть ангел, и возвещает не свое слово, но слово Сущего? Ибо сим показывается, что сущее в начале Слово, Бог Слово, не есть само Слово, но делается словом некоего другого слова, став служителем и вестником (αγγελος) оного. А кто из всех не знает и того, что сущему противополагается только несущее, так что различающий Сына от Сущего явно иудействует и похищает из догмата Ипостась Единородного? Ибо, говоря о Нем, что не носит наименования Сущего, ведет к тому, чтобы совсем исключить Его из бытия, потому что если бы допускал бытие Его, то не стал бы спорить из–за одного звука слова.
Да и Писанием еще предприемлет подкрепить сию нелепость и выставляет Моисея своим споборником против истины, ибо, беседуя с нами как бы от Писания, произвольно рассказывает собственные басни и говорит: посылавший Моисея был Сам Сый, а Тот, через Кого Он посылал и глаголал, — ангел Сущего, а всех других Бог». Но что это не слова Писания, можно знать из самого Писания. Если же Евномий утверждает, что таков смысл письмени, то нам нужно исследовать самое подлинное слово Писания. И прежде всего признаем достойным проклятия, что Евномий, наименовав Господа (вторым) после Самого Бога, не придает Ему ничего более, как только естество ангельское. Ибо и Моисей, услышав, что он бог «Фараону» (Исх. 7:1), не вышел из среды людей, но при естественном равночестии с ними превознесен пред однородными преимуществом власти, и название богом нимало не воспрепятствовало ему быть человеком. Так и в этом случае Евномий, приняв, что Господь есть один из ангелов, поправляет таковую погрешность названием Божества, на изложенном основании, по некоторой одноименности, делая общим и для Него наименование Богом. Исследуем самые хульные речения, снова предложив оные. «Посылавший Моисея, — говорит Евномий, — был Сам Сый, а Тот, через Кого Он посылал, ангел Сущего», — так именует он Господа. Но нелепость писателя обличается словами самого Писания, в которых Моисей умоляет Господа не ангела приставить к водительству народа но Самому предводительствовать их шествием. Буквально же таковы слова от лица Божия: «иди, сниди и возведи люди сия на место, еже рех тебе: се Ангел Мой предъидет пред лицем твоим: в онъже день присещу» (Исх. 32 34). И спустя немного Бог опять говорит: «и послю купно Ангела Моего пред лицем твоим» (Исх. 33:2). Потом немного после сего от слуги обращается к Богу мольба в таком виде: «аще обретох благодать пред Тобою, да идет Господь мой с нами» (Исх. 34:9). И опять: «аще Сам Ты не идеши с нами, да не изведеши мя отсюду» (Исх. 33:15). Затем ответ Божий Моисею: «и сие тебе слово, еже рекл еси, сотворю: обрел бо еси благодать предо Мною, и вем тя паче всех» (Исх. 33:17).
Посему, если Моисей отказывается от ангела, и сам Вещавший к нему делается ему спутником и предводителем ополчения, то сим явно доказывается, что давший о Себе знать наименованием Сущего есть Единородный Бог. Если же кто станет противоречить сему, то будет защитником иудейских мнений, не принимая участия Сына в спасении народа. Ибо если ангел не сопутствует израильтянам, а наименованием Сущего означается не Единородный, как думает Евномий, то это не иное что, как перенесение догматов синагоги в Церковь Божию. Итак, необходимо должно признать одно из двух: или что Единородный Бог совсем не являлся Моисею, или что Сам Сый, говорящий слуге, есть Сын. Но Евномий противоречит сказанному, указывая на самое Писание, которое говорит, что предшествовал глас ангела (Исх. 3:4), и затем последовала беседа Сущего (Исх. 3:14). Но это не противоречие тому, что говорим мы, а подтверждение. Ибо и мы ясно утверждаем, что Пророк наименовал Сущего ангелом, желая сделать открытой людям тайну Христову, именно же для того, чтобы смысл изрекаемого не был относим к Отцу, если бы в беседе находилось одно наименование Сущего. Но как наше слово бывает предъявителем и вестником движений умственных, так и о сущем в начале истинном Слове говорим, что оно, как возвещающее волю Своего Отца, именуемое по деятельности вестника, называется ангелом. И как возвышенный Иоанн, сперва назвав Его Словом, затем присовокупляет, что Слово есть Бог (Ин. 1:1) для того, чтобы наименование Богом, если бы предшествовало, не увлекло наших мыслей к Отцу, так и великий Моисей, наименовав Его прежде ангелом, в следующих за тем словах научает, что Он Сам Сый, желая явно предвозвестить тайну Христову, ибо, называя ангелом, Писание учит о Слове — истолкователе Отчей воли, а нарицая Сущим, учит о естественном сродстве Сына с Отцом по самому бытию. Если же Евномий выставит на вид и Исайю как говорящего, что «порицается имя Его: велика совета Ангел» (Ис. 9:6), то и этим не опровергнет нашего учения, ибо ясно и непререкаемо, что там в пророчестве означается домостроительство по человечеству, ибо сказано: «Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам, Егоже начальство бысть на раме Его: и нарицается имя Его: велика совета Ангел» (Ис. 9:6). Сие же, как думаю, имея в виду, и Давид повествует о поставлении на царство не потому, чтобы Господь не был Царем, но потому что рабское уничижение, которому подвергся Господь по домостроительству, возвышено в царское достоинство, ибо говорит: «поставлен есмь Царь от Него над Сионом, горою святою Его, возвещаяй повеление Господне» (Пс. 2:6–7). Посему называется ангелом и Словом, печатью и образом и всем сему подобным в одном и том же смысле, как Собою сделавший известной Отчую благость; ибо ангел бывает чьим–либо вестником, слово также открывает вложенную в него мысль, печать своим отпечатком указывает на первообраз, и образ делает понятной красоту отображенного им; так что все это равносильно между собою по значению. Посему–то название ангела и поставлено прежде наименования Сущим, ангелом называется Он как вестник Отца, а Сый как не имеющий такого имени, которое бы выражало Его сущность, но превышающий всякое обозначение именем. Посему в Писании апостольском и засвидетельствовано, что у Него «имя, еже паче всякаго имене» (Флп. 2:9), не в том смысле, чтобы оно было какое–либо одно среди других, предпочтенное, но в том, что подлинно Сущий выше всякого имени.
4. Но вижу, что слово мое тянется уже без меры, и боюсь показаться каким–то говоруном и излишне речистым, простираясь далее в опровержении; хотя и многое из средины писания противника пропустил я в том предусмотрении, чтобы слово сие не растянулось на многие тьмы речей. Ибо для трудолюбивейших и недостаток краткости повод к обвинению, так что должно иметь в виду не нужду, но желание людей ленивых и не старательных, которым желательно немногими шагами много совершить пути. Что же нужно нам делать, когда хула влечет нас вперед? Или в самом деле излишне и подлинно болтливо — сражаться против подобных умозаключений? Ибо все, о чем заботится Евномий и в продолжение своего слова, согласно с тем, что исследовано прежде, и ничего нового не заключает в себе для подтверждения сверх прежних умозаключений. Посему если крепко у нас опровержение изложенного прежде, то оставим то, что обличено вместе с прежде исследованным. Но если людям спорливым и упорным то, что опущено, кажется самым сильным, то ради них нужно вкратце пробежать остальное.
Вместо того, чтобы показать, что Сын ничем не разделен от Отца, Евномий говорит, что Господь прежде Своего рождения не существовал, и это утверждает, не Писанием подтверждая сие понятие, но из собственных своих умозаключений выводя это положение. Но доказано, что это обще всем частям творения: ни лягушка, ни червяк, ни жук, ни трава, ни терние, ни иное что–либо, самое малозначительное, не существовали прежде того, как получили свой состав. Посему, что Евномий путем искусственных умозаключений с трудом и потом доказывает о Сыне, то и без этого признается о любой из частиц творения; и писатель этот полагает много труда на то, чтоб показать, что по общности отличительных свойств Единородный Бог равночестен с последними из тварей. Итак, довольно свидетельствует о злом образе мыслей евномиан относительно догматов то, что у сих еретиков сходные представления как о Единородном Боге, так и о рождении лягушек. Потом Евномий говорит, что не существовать до рождения «по истине и по силе все равно, что не быть нерожденным». Опять и против сего пригодится мне то же самое слово, а именно, что не погрешит, кто это же скажет и о псе, и о бабочке, и о змее, и о чем бы то ни было самом последнем; поелику, что не было пса до рождения, по истине и по силе все равно, что нет пса нерожденного. Если же, по определению евномиан, которое они часто принимают за основание, «что имеет общие свойства, у того и общее естество», а небытие до рождения свойственно и псу, и каждому существу, и сие же самое, по мнению Евномия, надлежит прилагать и к Сыну, то последний вывод из доказательства слушатель без сомнения усмотрит из последовательного хода оного.
5. Но Евномий переходит к более умеренной речи, оказывая Господу несколько снисходительности, и говорит: «не только утверждаем, что Сын есть Сущий и притом превыше всех существ, — а сам, если оглянуться немного назад, отделял от Него наименование Сущего, — но и называем Его Господом, Зиждителем и Богом всякой чувственной и умопостигаемой сущности». О какой думает он это сущности? О сотворенной или о несотворенной? Если признает Иисуса Господом Богом и Зиждителем всякой умопостигаемой сущности, то, по всей необходимости, или лжет, усвояя Сыну зиждительство естества несотворенного, если говорит о несотворенной сущности, если же разумеет сущность сотворенную, то ведет к заключению, что Сын есть Творец Самого Себя, ибо если не будет отделен от умопостигаемой сущности самосотворением, то не останется никакого еще различия между чувственной тварию и мысленной сущностью — и та и другая обобщатся в мысли. Но Евномий прибавляет к сему: «в творении Сущего Отцом поручено Ему (επιτετραπται) зиждительство всего видимого и невидимого и промышление о приведенном в бытие, потому что свыше уделенной Ему силы достаточно было, чтобы привести в бытие то, что создано». Хотя множество написанного и побуждает пробежать это вкратце, но хула как–то задерживает (наше) слово, заключая в себе множество мыслей, подобных рою каких–либо ядовитых ос. «Ему поручено Отцом зиждительство», — говорит Евномий. Если бы речь была о каком–либо ремесленнике, по воле наемщика берущемся за работу, не те же ли самые употреблены были бы слова? Не погрешим, сказав то же и о Веселииле, что, получив от Моисея поручение создать скинию, сделался он зиждителем упоминаемого при сем и не приступил бы к делу, если бы прежде от силы Божией не приобрел умения и не был ободрен к деятельности поручением от Моисея. Посему речение «поручено» показывает, что зиждительная сила и власть у Сына — прибылая, так что до поручения Он и не смел и не мог того делать; а когда получил власть это делать и достаточную для сих дел силу, тогда стал зиждителем Сущего; «потому что достаточно было у Него, — как говорит Евномий, — свыше уделенной Ему силы». Не полагает ли уже он по какому–либо выводу, основанному на расчетах времени рождения, что и рождение Сына соединено было с некоторым роком, подобно тому, как занимавшиеся этим пустым обманом говорят, будто по качеству стечений и расстояний звезд распределяются жизненные жребии рождающимся, и вышним совершающимся в некоей связи кругообращением выпрядаются для приходящих в бытие нужные к чему–либо силы? Может быть, нечто подобное сему имеет в мысли этот мудрец и говорит, что тому кто «превыше всякаго начальства и власти и силы и господства, и всякаго имене именуемаго не точию в веце сем, но и во грядущем» (Еф. 1:21), как бы заключенному в пустые какие–то места, свыше досталась в удел сила, соразмеренная с количеством приводимого в бытие. Ради краткости миную и это учение, в скудных начатках того, что исследовано, бросив разумнейшим из читателей семена уразумения хулы.
Потом в следующих по порядку словах написано некое оправдание нам со стороны евномиан. Читателям не будет более казаться, будто мы отступаем от смысла речи и перетолковываем слова в предосудительном смысле; голосом самого Евномия изречено признание в нелепости, ибо написано так: «что же, разве земля и ангел не приведены в бытие из небытия?» Смотрите, как возвышенный богослов не стыдится одно и то же понятие применять к земле, и ангелам, и к Самому Создателю вселенной. Посему, если думает, что одно и то же прилично говорить и о земле, и о Господе, то или землю совсем обоготворит, или Господа подвергнет одинаковому с землею уничижению.
Потом прилагает к сему слова, которыми еще более обнажается хула, так что и детям не трудно распознать нелепость, а именно: «говорю, что долго было бы перечислять все умопредставляемые рождения, или сущности, которые все не имеют общего какого–либо естества сущего, но имеют между собою разности соответственно действиям зиждительствовавшего». Это и без нашего объяснения заключает в себе совершенно ясную и открытую хулу против Сына, когда Евномий признает, что говоримое о всяком рождении и о всякой сущности ничем не разнится от слова о Божественной Ипостаси Единородного. Но мне кажется, что пристойно будет, обойдя вставленное в средине его хульной речи доказательство, как некоторым образом обличенное в предшествующем исследовании, приступить к главным винам в учении евномиан. Окажется, что Евномий доказывает, будто таинство пакибытия напрасно, таинственное дароприношение бесполезно и причащение не доставляет никакой пользы причащающимся. После того, как из непрерывного ряда веков в порицание нашего догмата указывал на Валентинов, Керинфов, Василидов, Монтанов, Маркионов, и выведши отсюда, что тем несвойственно даже нарицаться христианами, которые утверждают, что естество Божие неведомо и образ рождения неведом, и сопричислив нас к заслуживающим порицания, затем продолжает свою речь сими словами: «а мы, последуя святым и блаженным мужам, говорим, что тайна благочестия состоит собственно не в священных именах и не в особенных обычаях и таинственных знаках, а в точности догматов». Что Евномий пишет это, последуя не евангелистам, и не апостолам, и не кому–либо из бывших наставниками в древнейшем Писании, это ясно всякому, не незнакомому со Священным и Божественным Писанием. А вследствие сего можно думать, что «святыми и блаженными мужами» он называет Манихея, Николая, Колуфа, Аэтия, Ария и всех того же лика, последуя которым законополагает это, а именно, что не исповедание имен, не обычаи церковные, не таинственные знаки составляют собственно благочестие. А мы, дознав от святого гласа, что «аще кто не родится свыше» и «аще кто не родится водою и Духом», не войдет «в царствие Божие» (Ин. 3:3; 3:5), и что «ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, во Мне пребывает» и «жив будет во веки» (Ин. 6:56; 6:58), уверены, что тайна благочестия состоит собственно в исповедании имен Божиих, — разумею Отца, и Сына, и Святаго Духа, и спасение утверждается на общении таинственных обычаев и знаков. Догматы часто исследуются тщательно и чуждыми таинства, и, как можно слышать, многие берут наш догмат предметом для своих словесных состязаний, и некоторые из них часто попадают на истину, а тем не менее чужды веры. Посему, так как Евномий пренебрегает священными именами, при призывании которых силою Божественнейшего рождения подается благодать приступающим с верою, а также презирает общение таинственных знаков и обычаев, в которых крепость христианства, то скажем слушателям сего обмана, с малым изменением, слово Пророка: «доколе тяжкосердии? Векую любите» пагубу, и «ищете лжи» (Пс. 4:3)? Как не видите, что это гонитель веры, вызывающий доверяющих ему к отклонению от христианства? Ибо если исповедание священных и досточтимых имен Святой Троицы бесполезно, да и обычаи церковные не приносят пользы, а в числе сих обычаев — печать, молитва, крещение, исповедь грехов, усердие к заповедям, нравственное преспеяние, а равно и то, чтобы жить целомудренно, стремиться к правде, не иметь привычки к пожеланиям, не покоряться похоти, не быть лишену добродетели; если Евномий говорит, что ни один из таковых обычаев не есть дело доброе и таинственные знаки не служат, согласно нашему верованию, охраной благ душевных и средствами к отвращению того, что наводится на верующих по наветам лукавого, то не явно ли он проповедует людям не иное что, как то, чтобы они таинство христианское почитали вздором, посмеивались над досточтимостью имен Божиих, обычаи церковные признавали игрушкой и все тайнодействия каким–то пустословием и глупостью? Выставляют ли на вид к оклеветанию нашего догмата что–либо больше пребывающие в еллинстве? И они не обращают ли в повод к смеху чествование имен, на которых утверждается наша вера? Не осмеивают ли таинственные знаки и обычаи, соблюдаемые участниками таинств? А мнение, что благочестие должно поставлять в одних только догматах, кому так свойственно, как еллинам? Поелику и они говорят, что, по их мнению, есть нечто более нашей проповеди вероятное, и некоторые из них предполагают некоего великого Бога, превышающего прочих, и признают какие–то подчиненные силы, в некотором чине и порядке, различающиеся между собой по большинству или меньшинству, но все равно состоящие под властью верховного Бога; то посему и наставники нового идолослужения проповедуют то же и, последуя им, не боятся осуждения, предлежащего преступникам, как будто не разумеют того, что на деле сделать что–либо нелепое гораздо тяжелее, нежели согрешить только в слове. Итак, что такое они, как не преступники против спасительных догматов, потому что на деле отвергают веру, охуждают обряды, презирают исповедание имен, ни во что вменяют освящение таинственными знаками, а склонились к тому, чтобы иметь в виду ухищренные слова, и думают, что спасение — в искусственных рассуждениях о рожденном и нерожденном?
Если же кто думает, что это мы возводим на евномиан по какой–то клевете, пусть сам рассмотрит то, что написано Евномием и нами предложено для исследования, а также и то, что по порядку присовокупляет он к сказанному. Отменяя закон Господень (ибо предание о Божественном тайноводстве есть закон), Евномий говорит, чтобы крещение совершалось не во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, как заповедал ученикам Господь, предавая таинство, но во имя Зиждителя и Творца, и утверждает, что сей Творец Единородному не только Отец но и Бог. «Горе напаяющему подруга своего развращением мутным» (Авв 2:15)! Как он мутит и делает мутной истину, прилагая к ней тину! Как не убоялся он клятвы, наложенной на тех, которые прилагают что–либо к словам Божиим или осмеливаются отнимать у них! Прочтем изречение Господне в подлинных словах: «Шедше», говорит, «убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Где название Сына тварию? Где учение Слова об Отце как Творце и Зиждителе Единородного? Где в этих словах учение о рабстве Сына пред Богом? Где в предании о таинстве проповедь о Боге Сыновнем? Итак, обманом увлеченные в погибель, помыслите и разумейте: кого вы поставили наставником своих душ? Человека, подделывающего святые Писания, переделывающего Божий изречения, возмущающего чистоту догматов благочестия собственной своею грязью, не только против нас вооружающего язык свой, но предприемлющего превращение и самих святых речений и усиливающегося доказать, что собственное его извращение точнее Господня учения! Ужели не усматриваете, что Евномий ставит самого себя на место поклоняемого имени, так чтобы со временем не слышно стало Господня имени, и в церквах Христос заменен был Евномием? Ужели не помышляете, что безбожная эта проповедь извергнута от диавола, как попытка, предуготовление и предначатие антихристова пришествия? Ибо как иначе, а не антихристом можно в собственном смысле назвать того, кто усиливается доказать, что его собственные выражения точнее слов Христовых, и веру в Божий имена, и таинственные обычаи, и знаки заменить своим обманом?
Книга двенадцатая
Содержание двенадцатой книги
1. В сей двенадцатой книге удивительно толкует слова, сказанные Господом Марии: «не прикасайся Мне, не у бо взыдох» (Ин. 20:17).
2. Потом, упомянув о изобличенной великим Василием хуле Евномия, который Единородного Бога отстранил в область тьмы, и о представленной Евномием апологии, или защищении, высказанной им хулы, доказывает, что в его настоящей апологии содержится еще большая прежней хула; здесь же премудро рассуждает о неприступном и истинном Свете.
3. При сем необыкновенно изъясняет превратно понимаемое Евномием евангельское изречение: «В начале бе Слово, и живот бе, и свет» (Ин. 1:1; 1:4–5), и: «Слово плоть бысть» (Ин. 1:14), ниспровергает хулу и показывает, что домостроительство Господа было не по бессилию, но по человеколюбию и при содействии Отца.
4. При этом снова изобличает, что Евномий нерожденность заимствовал из иероглифических письмен и египетского баснословия и идолослужения, вводя в христианское учение Анува, и Озириса, и Изиду, что он не дозволяет человеку воздавать благодарность Единородному, как восприявшему страдание по необходимости, а не добровольно, подобно тому, как (не благодарим) ни огонь за теплоту, ни воду за течение, так как бывшее (страдание) он относит не к самовластной силе, а к необходимости естества.
5. Затем опять рассуждает об истинном и неприступном свете Отца и Сына, об особности, и общности, и сущности, о рожденном и нерожденном и, доказав, что между ними нет никакого противоречия относительно означаемого, но некоторое противоположение и естественное противопоставление, оканчивает книгу. Доселе (оглавление).
1. Но посмотрим на следующее за сим приложение к хуле, в котором содержится самое главное подтверждение их учения. Унижающие величие славы Единородного низкими и рабскими мнениями думают самое сильное доказательство того, что они говорят, найти в словах Господа к Марии, которые Он изрек по воскресении прежде вознесения: «не прикасайся Мне, не у бо взыдох ко Отцу Моему: иди же ко братии Моей, и рцы им: восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17). Думаю, что приявшим веру в истине ясен благочестивый смысл сих слов, в каком, как веруем, сказаны оные Марии, однако ж в приличном месте и мы предложим речь о сем. А пока у произносящих нам таковые речения стоит узнать: особенностью Божеского или человеческого естества почитают то, что восходит, и бывает видимым, и познается прикосновением, и еще, кроме сего, родственно людям по братству? Ибо если осязаемое, и видимое, и поддерживающее жизнь пищею и питием, и однородное, и братственное людям, и прочее, усматриваемое в телесном естестве, — все это видят и в Божестве, то пусть утверждают о Единородном Боге и это и приписывают Ему, что хотят — и действие хождения, и местное перемещение, что свойственно существам, ограничиваемым телом. Если же беседующий через Марию говорит с братьями, а Единородный не имеет братьев (ибо как сохранилась бы единородность при братьях?), если сказавший: «Дух (есть) Бог» (Ин. 4:24) Сам же говорит ученикам: «осяжите Мя» (Лк. 24:39) для того, чтобы показать, что осязаемо человеческое естество, а Божество неосязаемо; и сказавший: иду (Ин. 16:28) означает сим местное перемещение, а объемлющий все, Кем, как говорит Апостол, «создана быша всяческая» и в Ком вся «состоятся» (Кол. 1:16–17), не имеет ничего в существующем вне себя, к чему бы могло быть какое–либо движение или перемещение (потому что движение не иначе может совершиться, как если перемещаемый предмет оставит то место, в котором был, и займет другое. А для того, что повсюду проницает, во всем существует, все обдержит и ничем из сущего не ограничивается, нет пустого места, куда бы могло переместиться, так как полнота Божества повсюду), то как же они, опустив из виду, что те слова были от являемого (во плоти), применяют их к Божескому и все превышающему естеству; когда Апостол в проповеди к афинянам возбраняет мыслить подобное о Боге (Деян. 17:24–29), потому что Божеская сила обретается не осязанием, но разумным созерцанием и верою. Опять вкушавший пищу в глазах учеников, обещавший предварить их и быть видимым в Галилее, на кого указывает имеющего быть видимым ими? На Бога ли, Его же «никтоже виде» (Ин. 1:18), «ниже видети может» (1 Тим. 6:16), или на телесный образ, то есть на «зрак раба», в котором был Бог? Итак, если в словах Писания смысл сказанного явно относится к видимому, и осязаемому, и движимому, и однородному с естеством учеников, а ничего такового не усматривается в невидимом, и бесплотном, и неосязаемом, и безвидном, то как Самого Единородного Бога, Сущего в начале и Сущего во Отце, они низводят до равночестности с Петром, и Андреем, и Иоанном, и прочими апостолами, говоря что они и братья Единородного, и рабы вместе с Ним? И вся забота направлена у них к той цели, чтобы доказать, что Отец по величию естества на столько выше достоинства, и силы, и сущности Единородного, на сколько превышает и человеческое естество. В защиту же своей мысли приводят такое доказательство, которым одинаково обобщается естество и Отца, и Господа, и учеников Господа, так что не разумеется (ими) никакого различия по естественному достоинству, когда Отец подобным образом признается Отцом и Богом и Сына, и учеников. Последовательный вывод из хулы Евномия такого рода, что он должен или ученикам по относительному значению приписать общность сущности с Отцом, или и Господа, на основании этого речения (Ин. 20:17), не вводить в общение с Отцом. И как рабство учеников подтверждает тем, что Бог над всеми наименован их Богом, так же точно на основании сказанного должен признать, что и Сын — раб Бога. Итак, из самого смысла сказанного можно видеть, что слова к Марии не применимы к Божеству Единородного, ибо и сказанное говорит Тот же, Кто во всем смирил себя до равночестности с человеческой малостью. А каков смысл самих речений, точно могли бы знать те, кои духом испытуют глубины таинства; сколько же доступно и нашему разумению по руководству отцов, то вкратце предложим. По естеству Отец Сущего, из которого все имеет бытие, велегласием Апостола проповедуется Единым: «един», говорит, «Бог Отец, из Негоже вся» (1 Кор. 8:6). Итак, человеческое естество не отъинуда привзошло в творение и несамопроизвольно возникло в среде происшедшего, но не иного имело творца своего собственного состава, как Отца всего. И самое имя Божества означает или надзирающую, или промышляющую власть, которая собственно относится к человеческому роду. Ибо сообщивший существам силу бытия есть Бог и назиратель происшедшего от Него. Но поелику по навету всеявшего в нас плевелы непослушания, естество наше уже не сохранило на себе отображения Отчего образа, но преобразовалось в безобразие греха, то через это по произвольному уподоблению оно вошло в злое сродство с отцом греха, так что для отрекшегося (от Бога) собственной злобою уже нет Благого и истинного Отца и Бога, но вместо по естеству Сущего Бога он стал чтить по естеству не сущих богов (Гал. 4:8), как говорит Апостол, а вместо истинного Отца признавать отца лжеименного, как где–то загадочно сказал Пророк Иеремия: «Возгласи ряб, собра, ихже не роди» (Иер. 17:11). Итак, поелику главное наше несчастье состояло в том, что человеческое естество отчуждилось от Благого Отца и лишилось Божеского призора и попечения, то Пасущий всю разумную тварь, оставив горнее незаблуждающее и премирное стадо, по человеколюбию приходит к заблудшей овце, то есть нашему естеству; ибо человеческое естество есть ничтожнейшая и малейшая часть, если сравнить с совокупностью всего — одна овца, по загадке притчи, отдалившаяся через зло от разумной сотни (Лк. 15:4). Итак, поелику отчужденной от Бога нашей жизни самой собою невозможно было возвратиться в горнее и небесное место, то посему, как говорит Апостол, «не ведевшаго бо греха, по нас грех» соделывается (2 Кор. 5:21) и освобождает нас от клятвы, усвоив нашу клятву (Гал. 3:13), а восприяв на себя нашу вражду с Богом, происшедшую через грех, и «убив» ее в себе (Еф. 2:16), по слову Апостола (вражда же была грех), и соделавшись тем, что и мы, собою опять соединил с Богом человеческий род. Ибо оного нового человека, «созданаго по Богу» (Еф. 4:24), в котором обитало «исполнение Божества телесне» (Кол. 2:9), через чистоту в нем нашего естества соделав родственным и близким Отцу, Он вместе с тем привлек к той же благодати и все причастное своему телу и сродное с ним естество. И сие–то через жену благовествуется не только оным ученикам, но и всем даже доныне научаемым (этим) словом (Писания), именно, что человеки уже не в числе отверженных и низринутых из царствия Божия, но опять Сын, опять подчиненный Богу, поелику вместе с начатком человечества освящено и примешение (Рим. 11:16). «Се», говорит, «Аз и дети, яжеми даде Бог» (Ис. 8:18), откуда вы отдалились, соделавшись через грех плотию и кровью, туда опять, восприяв, возвел вас приобщившийся ради нас плоти и крови (Евр. 2:14); таким образом стал и нашим Отцом, и Богом Тот, от Кого прежде мы отчуждились отступничеством. Итак, сказанным Господь благовествует сие доброе благодеяние, и те речения суть доказательство не уничиженности Сына, но благовестие нашего примирения с Богом, ибо то, что было с Христом как человеком, есть благодать, общая всем верующим. Ибо как, видя склоняющееся долу и тяготеющее к земле (естество) тела возносимым по воздуху на небеса, веруем, по слову Апостола, что и мы «восхищени будем на облацех в сретение Господне на воздусе» (1 Фес. 4:17), так и, слыша что Отцом и Богом нашего начатка соделался истинный Бог и Отец, уже не сомневаемся, что Он же стал и нашим Отцом и Богом, зная, что взойдем туда же, куда «предтеча о нас вниде Иисус» (Евр. 6:20). А что сия благодать возвещена через жену, то и сие согласно с данным разумением. Ибо поелику, как говорит Апостол, «жена же прельстившися, в преступлении бысть» (1 Тим. 2:14) и была предшественницей в отступничестве от Бога через преслушание, то она соделывается первой свидетельницею воскресения, чтобы падение от преступления исправить верою через воскресение. И как вначале, став для мужа служительницей и советницей слов змия, внесла в жизнь начало зла и последствие, так, передав ученикам слова умертвившего отступника дракона, она соделывается для людей началовождем веры, которою, как и прилично, разрушается первый приговор смерти. У более тщательных нашлось бы, может быть, какое–нибудь более полезное истолкование изложенных выше (слов Писания), а если бы и ничего не нашлось, то каждый, думаю, благочестивый, сравнив то толкование, представляемое врагами, с нами открытым, найдет то вполне пустым. Ибо то вымышлено для уничтожения славы Единородного, а наше указывает цель домостроительства по человечеству. Ибо доказано, что не Неосязаемый, и Непреложный, и Незримый давал Марии заповедь передать Его слово ученикам, но то, что (в Нем) было видимо, и движимо, и осязаемо, — что свойственно человеческой природе.
2. Обратим сверх сего внимание и на то еще, как он защищается против обличения великим Василием в том, что удаляет Единородного Бога в область тьмы, когда говорит: «сколько отстоит рожденное от нерожденного, столько разнится свет от света». Василий доказал, что различие между рожденным и нерожденным состоит не в каком–либо умалении и напряжении, но что между означаемыми (сими словами) понятиями находится прямая противоположность; и из этих положений последовательно вывел то заключение, что если свет Отчий от света Сына отличается подобно тому, как разнится нерожденность от рожденности, то совершенно необходимо разуметь в Сыне не умаление света, но полное его отсутствие. Ибо как нельзя сказать, что рожденность есть умаленная нерожденность, но (понятия), означаемые (словами) «нерожденность» и «рожденность» разделяются одно от другого полной противоположностью, так, если Евномий сохранит такое же различие между Отчим светом и светом, разумеемым в Сыне, то последовательно не будет уже признавать Его и Сыном, поелику Он равно будет чужд и нерожденности, и света, свойственного оной; а что есть иное, чем свет, то, как очевидно следует, будет иметь свойство противоположности свету. Итак, когда из сих положений стала явной такая нелепость, Евномий предпринимает разрешить их искусными оборотами доказательств, говоря так: «знаем, знаем свет истинный, знаем сотворившего свет после неба и земли, слышали самую жизнь и истину Христа, говорящего Своим ученикам: «Вы есте свет мира» (Мф. 5:14), знаем, что блаженный Павел светом неприступным именует Бога, Который над всем (1 Тим. 6:16), прибавлением ( «неприступный») отграничивая оный свет и показывая его превосходство. Затем, узнав такое различие света, неужели станем равнодушно выслушивать, что одно и то же понятие света?» В самом ли деле он выставляет против истины подобные умозаключения или обманчивостью их пытает бессмыслие своих последователей: смогут ли они понять столь детский паралогизм лжеумствования или не почувствуют и столь явного обмана? Ибо я думаю, нет никого столь неразумного, кто бы не понял обмана от одноименности, которым Евномий оглушает и себя, и своих. Светом, говорит, наименованы ученики, светом же называется и свет сотворенный. Но кто не знает, что в этих (предметах) общего одно только имя, а означаемое в том и другом различно? Ибо свет солнечный дает зрению способ различать вещи, а слово наставления учеников вносит в души озарение истины. Итак, если такое же различие известно ему и в том свете, так что он признает один телесным, а другой духовным светом, то мы уже не станем с ним говорить, так как самая его защитительная речь осуждает его и прежде нас. Если же в том свете такого различия по образу действия найти не может, потому что оный свет не есть озарение: один телесных очей, а другой — очей разумения, — но одно действие того и другого света, производимое ими, то как солнечными лучами и апостольскими словами доказывает отличие Единородного света от света Отчего? Но Сын, говорит, называется светом истинным, а Отец — неприступным, эти определяющие слова указывают на различие Отчего света относительно великости; ибо иным чем–то почитает истинное и иным — неприступное. Но кто столь глуп, чтобы не видеть тожества означаемых (сими названиями понятий)? Ибо и истинное, и неприступное одинаково недоступно тому, что мыслится как противоположное, ибо как истинное не принимает смешения с ложью, так и неприступное не допускает приближения противного. Злу вполне неприступно Неприступное, но свет Сына не есть зло, ибо как возле видел бы кто–нибудь истину? Если же истина — не зло, то пусть никто не говорит, что и истине недоступен свет, (находящийся) в Отце, потому что если бы он отстранял от себя истину, то вполне сблизился бы с ложью. Ибо таково свойство противоположных (предметов), что при отсутствии лучшего является мыслимое противным тому. Итак, если кто скажет, что свет, находящийся в Отце, должно умопредставлять далеким от прямой противоположности (свету Сына), тот будет толковать речение «неприступный» сообразно с апостольским намерением. Если же скажет, что слово «неприступный» означает отчуждение от блага, то предположит не иное, как то, что он враждебен и чужд сам себе, будучи благом и противоположным благу. Но это невозможно, ибо благо имеет сродство с благом, посему сей свет не отличен от того, ибо как Сын есть свет истинный, так и Отец — свет неприступный. Дерзну даже сказать, что и заменивший эти названия одно другим не погрешит, ибо истина неприступна для лжи, и опять неприступное во всей чистоте объемлется истиною. Итак, неприступное тожественно с истинным, потому что означаемое тем и другим равно недоступно злу. Итак, какое придумывает различие между ними обманывающий себя и своих одноименностью того и другого света? Но не оставим без замечания и того, что, переделав изречение Апостола по–своему, выдает оное за его слова. Павел говорит: «во свете живый неприступнем» (1 Тим. 6:16), большое же различие между выражениями «быть чем» или «быть в чем». Ибо сказавший «во свете живый неприступнем» выражением обитания указал не на Него, но на свойственное Ему, что, по нашим словам, одинаково с евангельским речением, что Отец имеет бытие в Сыне (Ин. 14:11); потому что Сын есть истинный свет, а истина недоступна лжи, следовательно, Сын есть свет неприступный, в котором обитает Отец или в котором есть Отец.
3. Но Евномий упорно борется за нелепость и говорит: «на основании самого дела и достоверных изречений признаю за верное сказанное». Таково обещание, но сообразно ли обещанному ведет речь, конечно, увидит разумный слушатель. «Блаженный, — говорит, — Иоанн, сказав, что Слово имеет бытие в начале, и присовокупив, что Оно есть жизнь, затем жизнь наименовав светом, немного далее затем говорит: «И Слово плоть бысть» (Ин. 1:14). Итак, если свет есть жизнь, а жизнь — Слово, «Слово же плоть бысть», то отсюда ясно, что во плоти был свет». Что же? Поелику свет, и жизнь, и Бог, и Слово явилось во плоти, то истинный свет различен от Света во Отце? Но и Евангелие свидетельствует, что и во тьме быв, он пребыл недоступным для противного естества, ибо сказано: «свет во тьме» воссиял «и тьма его не объят» (Ин. 1:5). Итак, если бы свет, бывший во тьме, изменился в противное и стал подвластным мраку, то это сильно бы послужило доказательством для желающих показать, как много изменился к худшему этот свет в сравнении со светом, усматриваемым в Отце. А если Слово, хотя и является во плоти, пребывает Словом, и свет, хотя и во тьме светится, тем не менее есть свет, не приемлющий общения с противным, и жизнь, хотя и в смерти была, сохраняется в самой себе, и Бог, хотя восприял образ раба, не становится сам рабом, но возносит до господства и царства подчиненное (Ему), соделывая Господом и Христом смиренное и человеческое (естество), то как отсюда доказывает изменение света к худшему, когда тому и другому равно принадлежит непревращаемость во зло и неизменность? Не обращает он внимания и на то, что взиравший на воплощенное Слово, которое было и свет, и жизнь, и Бог, через видимую им славу познал Отца славы, говоря: «видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца» (Ин. 1:14).
Но Евномий дошел до спорного выражения, в котором и прежде мы уличили его на основании последовательности сказанного им, но которое теперь он излагает открытыми словами. Он хочет показать, что сущность Сына какая–то страстная и тленная и ничем не отлична от вещественного и текучего естества, чтобы отсюда доказать различие (ее от Отца). Он говорит: «Если может доказать (т. е. Василий Великий), что и Бог, Сущий над всеми, Который и есть свет неприступный, был или мог быть во плоти, прийти под власть повиноваться повелениям, подчиняться человеческим законам, понести крест, то пусть говорит, что свет равен свету». Если бы эти (слова) предложили мы, извлекая оные на основании последовательного вывода из подготовленных прежде (положений), не подтверждая вместе с тем его (собственными) выражениями, то кто не обвинил бы нас в клевете, в том, что мы некоторым извращением слов доводим учение противников до такой нелепости? Теперь же некоторым доказательством, что мы тщательно и сообразно с истиной излагали учение ереси, служит то, что и сами они не умолчали о нелепости, которая открывалась из последовательного хода их мыслей. Ибо вот как неприкрыта и дерзка брань против Единородного Бога, и дело человеколюбия понято врагами как клевета и осуждение естества Сына Божия, как будто не по промышлению, но естественно ниспал Он до жизни во плоти и крестного страдания. И как камню естественно стремление книзу, а огню — кверху, и как вещества не переменяют взаимно своих свойств, так, чтобы камню нестись кверху, а огню тяготеть стремясь книзу, так, доказывают они, естеству Сына свойственны немощи, и посему Он приходит к сродному и свойственному своему естеству. Естество же Отца, как свободное от сих немощей, недоступно приражению зла, ибо говорит, что Бог, Сущий над всеми, Который и есть свет неприступный, не был и не мог быть во плоти. Достаточно было бы сказать первое из того, что сказано, именно, что Отец не был во плоти, теперь же через прибавление оказывается двоякое какое–то построение нелепости; он или Сына обвиняет во зле, или Отца в бессилии. Потому что, если приобщение плоти зло, то он Единородному Богу приписывает зло, если же человеколюбие добро, то он представляет Отца бессильным для добра, говоря, что Он не мог совершить такого благодеяния через плоть. Но кто не знает, что «якоже» Отец «живит, тако и Сын, ихже хощет, живит» (Ин. 5:21) (как говорит Писание), называя мертвыми, очевидно, нас, отпавших от истинной жизни? Если же как живит Отец, так же и не иначе совершает то же благодеяние и Сын, то как (этот) богоборец воздвигает хульный язык на того и другого, оскорбляя Отца бессилием ко благу, а Сына сродственностью со злом? Но свет, говорит, не равен свету, поелику один называется истинным, а другой неприступным. Итак, истинный свет почитается меньшим? Почему? Они говорят, что потому Божество Отца почитается большим и высшим Божества Сына, что Отец называется в Евангелии истинным Богом, а Сын Богом без прибавления «истинный». Но как одно и то же слово означает относительно Божества приращение, а относительно света умаление того, что разумеется под ним? Если потому Отца называет большим Сына, что Он есть истинный Бог, то на том же самом основании Сына должно признать большим Отца, потому что первый именуется истинным светом, а Отец нет. Но сей, говорит, Свет совершил дела человеколюбия, а тот остался бездейственным при таком благодеянии. Новый способ предпочтения! Недейственное относительно человеколюбия почитают высшим действовавшего. Но нет и не будет когда–либо между христианами такой мысли, из которой бы следовало, что не всякое благо, какое только ни есть, имеет причину (бытия) от Отца. Главным же из всех наших благ всеми благомыслящими признается возвращение к жизни, а оно совершается через домостроительство Господа по человечеству, причем Отец не остается праздным и недеятельным во время домостроительства, как того хочет ересь. Ибо не это указывает говорящий: «пославый Мя со Мною есть» (Ин. 8:29), и «Отец же во Мне пребывали, Той творит дела» сии (Ин. 14:10). Итак, как же ересь, приписывая одному Сыну благодеяние нам, лишает Отца части в благодарности за соделанное? Ибо воздаянием благодарности обязаны мы одним естественным благодетелям, а бессильного благодетельствовать, конечно, не должно и благодарить. Видишь, как во всем у них цель их — хула на Единородного — обращается в противное, и по последовательному ходу мыслей переходит в хулу на Отца. И мне кажется, это случается необходимо, ибо если чтущий Сына чтит Отца (Ин. 5:23), по Божественному изречению, то ясно, что и забота о противном относительно Сына имеет отношение к Отцу. А я говорю, что для приемлющих самую простую проповедь о кресте и воскресении, одно и то же благодеяние должно быть основанием равной благодарности как Отцу, так и Сыну; так как Сын совершил волю Отца, то есть «всем человеком хощет спастися» (1 Тим. 2:4), как говорит Апостол, и одинаково за сие благодеяние должно чтить Отца и Сына, поелику не совершилось бы наше спасение, если бы благая воля Отца не перешла в действие собственной силою Его, а что сила Отца есть Сын, мы знаем из Писаний.
4. Но опять размыслим о сказанном. «Если может доказать, — говорит, — что Бог, Сущий над всем, Который и есть свет неприступный, был или мог быть во плоти, то пусть говорит, что свет равен свету». Из самого состава речений ясна цель сказанного, он не думает, что бы Сын всесильным Божеством возмог совершить и сей вид человеколюбия, но восприял крестное страдание, потому что имел естество, способное к страданию. Но когда я рассматривал и изыскивал, откуда он впал в такие предположения о Божестве, чтобы думать, будто нерожденный свет недоступен для противного, и чисто бесстрастен, и не смешан ни с чем, а рожденный по естеству может быть тем и другим, потому что не сохраняет божественность несмешанной и чистой в бесстрастии, но имеет сущность, некоторым образом смешанную и срастворенную из частей противных, и желающую участия в благом, и склоняющуюся к восприятию страданий, то, поелику в Писании нельзя было найти оснований для такой нелепости, пришло мне на мысль, — не пред баснословиями ли египтян о божестве благоговея, он примешивает мнения их к речам о Единородном? Ибо рассказывают, что они о том странном идольском произведении, когда к человеческим членам прилаживают образы некоторых бессловесных животных, говорят, что это есть гадательное изображение смешанного естества, которое называют демоном. Но хотя сие естество гораздо тонее человеческого и много превосходит наше силой, однако же не имеет несмешанной и чистой божественности, а имеет срастворенную с естеством души и с чувством тела, восприемлющую как удовольствие, так и труд, чего совершенно нет в нерожденном Боге. Ибо и они употребляют это имя, приписывая нерожденность преимуществующему, по их предположениям, Богу. Итак, нам кажется, что сей мудрый богослов из египетских святилищ вводит в христианскую проповедь Анува, или Изиду, или Озириса, не произнося только их имен. Но относительно нечестия, конечно, нисколько не различаются как тот, кто признает имена идолов, так и тот, кто твердо держится мнений об них, но остерегается произносить имена. Итак, если в Божественном Писании нельзя найти какого–нибудь подтверждения сему нечестию, а в иероглифических загадках мнение евномиан находит силу, то совершенно ясно, что должно думать о сем людям благомыслящим. А что не из желания опозорить мы взводим такое обвинение, свидетелем пусть будет нам сам Евномий и его собственные слова, где он Нерожденного называет неприступным светом и не могущим дойти до испытания страданий, а относительно рожденного утверждает, что Ему такое расположение (к страданию) соответственно и сродно, так что человек не обязан и благодарностью Единородному Богу за то, что Он пострадал, так как Он, по их мнению, снисшел до претерпения страданий не самопроизвольно, ибо доступная страданию сущность увлечена к сему естественно, а это не заслуживает никакой благодарности. Ибо кто станет с благодарностью принимать то, что случается по необходимости, хотя бы это было прибыльно и полезно? Ибо мы ни к огню не чувствуем благодарности за тепло, ни к воде за текучесть, относя это к необходимости естества, потому что ни огонь не может не иметь теплотворного действия, ни вода остаться стоячей на покатой плоскости, когда наклонение места необходимо увлекает ее к дальнейшему движению. Итак, если они говорят, что по необходимости естества совершено Сыном для людей благодеяние воплощения, то они не признают, конечно, никакой благодарности, потому что относят сие событие не к свободной силе, но к естественной необходимости. А если, чувствуя дар, не ценят благодеяния то боюсь, чтобы опять нечестие у них не обратилось к противному и чтобы способное к страданию расположение Сына они не предпочли Отчему бесстрастию, судя о достоинстве блага по тому благу, которое их касается. Ибо, если бы и Сыну, как учат они об Отце, случилось быть неспособным к восприятию страдания, то несчастье естества нашего осталось бы неисправленным, так как не было бы никого, кто возвел бы человека в бессмертие через собственное испытание (страданий). И таким образом, проницательность софистов не замечает, что тем самым, чем усиливается унизить величие Единородного Бога, ведет к более великим и досточестным мнениям о Нем, поелику могущий сделать доброе преимуществует пред тем, кто немощен для сего.
5. Но я чувствую беспорядочность моего слова, ибо оно не остается в надлежащем течении, но как бы на горячих и ярых конях несется вместе с хулами противников к нелепым предположениям. Итак, нужно сдержать его необузданное стремление сверх меры выводить нелепое. А благомыслящий слушатель, конечно, извинит за сказанное, нелепость, вытекающую из (сего) исследования, приписывая не нам, но полагающим (в основание) худые начала. Нам же должно перенести рассуждение к чему–нибудь другому из сказанного (им). Говорит, что «Бог делается для нас сложным, как скоро мы предположим, что свет один, но разделим (в нем) некоторыми свойствами и разнообразными различиями один (свет) от другого. Ибо и сложное тем не менее соединено одной общностью, а разделяется некоторыми различиями и сочетаниями свойств». Но об этом речь у нас будет кратка и недолга. Он обвиняет наши догматы, за исключением того, что он выводит из них собственными словами, мы признаем сие обвинение на нас. Рассмотрим же написанное им. Истинным светом он называет Господа, а Отца — неприступным светом; итак, общность по свету признал и он, наименовав так того и другого. А так как наименования естественно приспособлены к предметам, как многократно он утверждал, то мы думаем, что не пустое наименование света без какой–нибудь мысли прилагается к Божескому естеству, но оно указывает на какое–либо подлежащее. Итак, с общностью по имени они признают и тождество означаемых, поелику «у каких предметов имена одни и те же, те, как они объявили, не могут иметь и сущностей разных». Если теперь одно и то же означается светом, то прибавление «неприступный» и «истинный», по учению сей ереси, разделяет общее особенностями, так что иным мыслится свет Отца и иным свет Сына, различаясь друг от друга особыми свойствами. Итак, или пусть возьмет назад свои собственные слова, дабы тем, что говорит, не сделать Божество сложным, или пусть уже не обвиняет и нас в том, что видит в своих собственных словах, ибо этим не нарушается простота, потому что как общность, так и особенность не есть сущность, так чтобы соединение их делало предмет сложным. Но хотя сущность сама по себе остается тем, что она есть по естеству, будучи тем, чем есть, однако же всякий, кто имеет смысл, скажет, что сии свойства принадлежат к числу мыслимых и усматриваемых при ней. Поелику и в нас, людях, можно усматривать нечто общее с Божеским естеством, но поэтому божественность не есть человечность или человечность — божественность. Мы, веруя, что Бог есть благ, знаем, что и человеку дается сие имя Писанием, но общность, происходящую от сей одноименности, различает особенность значения (благости), усвояемой тому и другому. Ибо один, будучи источником благости, от нее и имеет наименование, а другой, участвуя в благости, соучаствует и в сем имени. Но Бог не есть сложен оттого, что имеет общее с человеком наименование Благого. Итак, из сего ясно, что иное понятие общности и иное — сущности, и в простое и бесколичественное естество нимало не вводится какой–нибудь сложности и многочастности от того, если что–нибудь из усматриваемого в нем или созерцается в отдельности, или имеет значение чего–либо общего.
Но если угодно, перейдем к другому из сказанного, простившись с лежащей в промежутках глупостью. Трудолюбиво применяя к нашему слову Аристотелево разделение существ, он рассуждает о родах и видах, и различиях, и неделимых, и всю утонченность, заключающуюся в категориях, употребляет для оклеветания наших догматов. Итак, оставив сие, перейдем (нашим) словом к тяжкому и неудобооборимому у него. Ибо придав своему слову тон демосфеновской гневности, он явился пред нами другим каким–то Екзолтисиридом Пеанийским, подражая едкости сего ритора в борьбе против нас. Но я изложу буквально самые речи сего писателя. «Подлинно, — говорит он, — если рожденное противоположно нерожденному, то таким же образом рожденный свет будет относиться к нерожденному свету как низший; один будет светом, а другой — тьмою». Остроту и ловкость его ответов на возражение, кому досуг, пусть узнает из слов его; а я от лжетолкователя наших слов потребовал бы или говорить наше, или как можно ближе делать подражание сему слову, или, как он научен и может, то, чем он воспользовался в своей речи, излагать от своего лица, а не от нас; ибо никто из наших никогда не обманется таким образом, чтобы, когда рожденное противоположно нерожденному по значению, думать о подчинении одного другому. Ибо все противоположное не различается только относительным уменьшением, но всецело противопоставляется как иное по значению. Так, мы говорим, что кто–нибудь спит или не спит, сидит или не сидит, родился или не родился, по тому же самому образцу говорим и о всем прочем, в чем отрицание одного бывает положением противоположного. Итак, как жизнь не есть уменьшение нежизни, но всецело противоположна ей, так и о рождении мы мыслили не как об уменьшении нерожденного, но как о некотором противоположении и непосредственном противопоставлении; так что означаемое каждым никаким образом не может иметь общности с другим — ни в малом, ни в большом. Итак, тот, кто говорит, что мыслимое по противоположности уступает противоположному, пусть ведет речь от своего лица. Ибо наше обычное словоупотребление говорит, что предметы, имеющие сходство с противоположными вещами, точно так же различны между собою, как и в первообразах. Таким образом, если и в свете Евномий усматривает такое же различие, какое в рожденном по отношению к нерожденному, то я повторю наше слово, что, как там одна часть противоположения остается не имеющей общности с противоположной частью, так если бы и свет имел соответствие с одной частью противоположения, то остальная часть, конечно, окажется имеющей союз с тьмою, поелику необходимость противоположения согласно с предшествующим и понятие о свете различает от того, что ему противоположно. Вот что говорим мы простым, деревенским языком новому Пеанийцу — мы, решившиеся писать без логической тщательности, как говорит наш поноситель. Как же с сим возражением боролся бросавший против нас с демосфеновской силой эти горячие и огнедышащие слова? Кому за удовольствие смеяться, тот пусть обратится к самому писанию сего ритора. Ибо наше слово, хотя всегда готово к обличению нечестивых догматов, но к осмеянию невежества неучей совершенно не пригодно.
Книга двенадцатая, часть вторая
Первый отдел состязания с Евномием при Божественном содействии достаточно уже выполнен в предшествующих трудах; желающие из самых трудов наших могут узнать, каким образом в первом отделе (наших) книг обман по силе обличен, и ложь, как показали наши исследования, не имеет уже никакой силы против истины для тех, которых бесстыдство против истины не очень сильно. Но поелику у него против благочестия составлена и вторая, так сказать, разбойническая книга, то опять, при Божием содействии, истина через нас вооружается против строя врагов, как бы военачальник какой, предводя наши слова и направляя против врагов, как ей угодно. Следуя за нею по пятам, с бодростью дерзнем (приступить) ко второму отделу состязаний, нисколько не устрашившись строя лжи, хотя бы она являлась и во множестве слов. Ибо верен возвестивший, что «тысящи поженет един, и два двигнут тьмы» (Втор. 32:30), так как силу в брани имеет благочестие, а не множество рук. Как плотный Голиаф, потрясая пред израильтянами тяжелым оным копьем, не навел никакого страха на мужа–пастыря, и не упражнявшегося в военном искусстве, с которым схватившись, лишается в борьбе головы, вопреки своей надежде; таким же точно образом и наш Голиаф, предводитель иноплеменного знания, простирая на противников клевету, как бы какой взятый за рукоятку и обнаженный меч, и вместе сверкая новоизощренными софизмами, — нам, людям простым, не показался страшным и неодолимым, как имел он возможность хвастаться при отсутствии противников; но нашел, что и мы из стада Господня неприготовленные воители, и не выучившиеся препираться словами, и не считающие ущербом не выучиться сему бросили в него простое и грубоватое слово истины. Итак, поелику и тот упомянутый пастырь, низвергший пращею иноплеменника, когда пробит был камнем шлем и от силы вержения прошел вовнутрь, не то сделал пределом своего мужества, чтобы смотреть на падшего противника, но, набежав и овладев головою противника, победоносно возвращается к своим, велеречивую эту голову унося в стан единоплеменников; посему и нам, взирая на сей пример, прилично не разнеживаться, приступая ко второму отделу книг, но сколько можно более подражать мужеству Давида и подобно ему после первого поражения наступить на лежащего, дабы сей враг истины явился (в особенности) лишенным головы; потому что у отрешившегося от веры отсечена голова еще более, чем у (того) иноплеменника. Поелику «глава всякому мужу Христос», как говорит Апостол (1 Кор. И, 3), а мужем совершенно справедливо называться верующему, ибо Христос не есть глава неверующих, то, конечно, отсеченный от спасающей веры, подобно Голиафу обезглавлен своим собственным мечом, который изощрил против истины, будучи отделен от истинной главы. Теперь наше дело уже не отсекать от него главу, но показать отсеченную.
И пусть никто не думает, что по какому–нибудь любочестию или пожеланию человеческой славы, с готовностью вступив в эту непримиримую и непрекращаемую борьбу, я схватился с противниками. Ибо, если бы можно было без хлопот в тишине проводить мирную жизнь, то совершенно далеко было бы от моего намерения добровольно возмущать спокойствие, возбуждая и вызывая добровольно их на брань против нас. Но поелику осаждается град Божий — Церковь, потрясается великая стена, кругом обложенная осадными орудиями ереси, и есть немалая опасность расхищенному слову Господню быть плененным воинством демонов, то почитая страшным не участвовать в борьбе христиан, я не склонился к покою и пот трудов предпочел бездействию покоя, зная точно, что как, по слову Апостола, каждый «мзду приимет по своему труду» (1 Кор. 3:8), так и все получат наказание за пренебрежение посильных трудов. Посему и первую словесную борьбу я с добрым дерзновением выдержал, из пастырского сосуда, то есть из церковных догматов, пустив на ниспровержение хулы сии неприготовленные и самородные слова, не имея для сей борьбы нужды ни в каком вооружении внешней мудрости. И ныне от второй битвы не уклоняюсь, по примеру великого Давида возложив упование на научающего «руце на ополчение и персты на брань» (Пс. 143:1). О если бы как–нибудь и нам удалось при помощи Божественной силы направить пишущую руку на истребление еретических догматов, а перстами воспользоваться для ниспровержения злого ополчения, искусно и воинственно расположив их против слова врагов! И как в человеческих войнах превосходящие прочих мужеством и силою, обезопашенные вооружением и знакомством с опасностями, получившие опытность в воинском деле, стоят во главе строя, подвергаясь опасности прежде выстроенных вдали, а прочая толпа, составляя плотно сжатый строй, только воображению большинства представляется приносящей некоторую пользу общему делу, так и в наших битвах благородный воин Христов и сильный борец против иноплеменных великий ратник Духа Василий, облекшись в апостольское всеоружие и оградившись щитом веры, потом всегда простирая вперед оборонительное оружие (говорю о мече духовном), воинствует впереди рати Господней — в слове, составленном им против ереси, — живой, и защищающий, и имеющий преимущество над врагами. Мы же, толпа, прикрыв себя щитом передового защитника веры, как будто бы (сей) военачальник предводительствовал нами против врагов, не будем удерживаться от битв, которые по силе нашей. Итак, поелику он, обличая лживое и несостоятельное мечтание ереси, говорит, что наименование нерожденности прилагается к Богу отнюдь не иначе, как по примышлению, и приводит доказательства, утвержденные свидетельствами как обыкновенными, так и из Писания; а изобретатель лжи Евномий и с сказанным не соглашается, и опровергнуть оное не в силах, но, стесняемый истиною, чем ярче блистают догматы благочестия, тем более, по обычаю Ночных животных, не видя света и не находя обычных убежищ в софизмах, тщетно блуждает, и, зашедши в безвыходную ложь, теснится около одного и того же; так что у него почти весь второй труд занят одною и тою же болтовней, то посему хорошо, чтобы и у нас борьба с противниками была о том, к чему и противник наш указал нам путь через собственное слово.
Прежде должно, говорю, в главных чертах пройти все наше учение о догматах и разногласие с нами врагов, чтобы в порядке можно было усмотреть, что предлежит нам. Итак, сущность христианского благочестия состоит в том, чтобы веровать в Единородного Бога, Который есть истина, и истинный свет, и сила Божия, и жизнь, что Он истинно есть все то, что о Нем говорится, как прочее, так и прежде прочего то, что Он — Бог и истина; то есть Бог по истине всегда сущий тем, что мыслится о Нем и чем именуется; и никогда не бывший несущим, никогда не имеющий быть таковым, Которого бытие тем, что Он есть по сущности, недоступно никакому способу постижения и любопытству. Нас же, как говорит слово Премудрости (Прем. 13:5), приводит к познанию сего бытия величие и красота созданий по некоторому сходству с познаваемым, то есть даруя только веру (в сие бытие) через указание его действия, а не знание. Итак, когда сия мысль твердо содержится всеми христианами, достойными сего имени, — теми, говорю, которые научены законом не поклоняться ничему, что не есть истинный Бог, а поклоняться Самому Единородному Богу, и которые исповедуют, что Он по истине, а не лжеименно есть Бог; явилась тлетворная для Церкви роса, делающая бесплодными благочестивые семена, сходная с иудейской ложью, имеющая нечто и из еллинского безбожия; ибо тем, что вымышляет Бога созданного, она делается согласной с ложью еллинов, а тем, что не принимает Сына, она совпадает с иудейским заблуждением. Итак, сия ересь ограничивает истинную божественность Господа и ведет к тому предположению, что должно почитать Его созданным, а не тем, что есть Отец по существу, силе и достоинству. Поелику при сиянии истины отовсюду эти темные мысли не имеют никакой опоры, то, оставив без внимания все имена, изобретенные Писанием для некоторого приличного Богу славословия и одинаково изрекаемые и об Отце, и о Сыне, они пришли к имени «нерожденность», составленному самими ими для отрицания величия Единородного Бога. Ибо тогда как благочестивое исповедание полагает догматом веру в Единородного Бога: «да еси чтут Сына якоже чтут Отца» (Ин. 5:23), они, отвергнув все благочестивые слова, которыми обозначается величие Сына равночестно с достоинством Отца, придумывают отсюда для себя начала и основоположения безбожного преступления относительно сего догмата. Ибо, поелику Единородный Бог, как научает голос Евангелия, исшел из Отца (Ин. 8:42) и есть от Него (Ин. 16:27–28), то они, заменив мысль «от Него» другими именами, растерзывают ими истинную веру. Ибо так как истина учит, что Отец не имеет бытия из какой–либо вышележащей причины, то они такое понятие назвали нерожденностью, а ипостасное бытие Единородного от Отца обозначают словом «рождение». Потом, сопоставив сии два слова — «нерожденность» и «рождение», буквально противоположные одно другому, этим обманывают неразумных своих последователей. Ибо «рожден» и «не рожден», если объяснить это примером, значит то же, что «сидит» и «не сидит» и тому подобные выражения. Они же, лишив сии речения естественного значения слов, стараются приспособить к ним другой смысл для истребления благочестия. Ибо поелику, как сказано, значение сих речений равносильно с выражениями «сидит» и «не сидит» (ибо одним из означенных слов как бы уничтожается другое), то они лжеумствуют, что сие противоречие в образе произношения указывает на отличие по сущности, определяя, что у одного сущность есть рождение, а другого — нерожденность. И как нельзя почитать сущностью человека то, что человек сидит и не сидит (ибо никто не выразил бы одним и тем же словом сидение человека и самого человека), так нерожденная сущность по сходству с примером, нами представленным, есть, конечно, нечто иное по собственному значению в отношении к тому, что обозначается словом «не быть рожденным». Но они, имея в виду ту злую цель, чтобы как можно более утвердить отрицание Божества Единородного, не говорят, что нерожденность не есть сущность Отца, но, превратив это слово, определяют сущность как нерожденность, дабы противопоставлением с рожденным из противоречия имен вынести различие естеств. И хотя к нечестию обращают взоры тьмами глаз, но бесплодности усилий в сем не видят, как бы смеживши очи души. Ибо кто из людей, не вовсе потерявший здравые чувства души, не видит нетвердости и несостоятельности начала их учения и что ни на чем не утверждено у них слово, Делающее нерожденность сущностью? Так у них готовится ложь. Подам же и свой голос, сколь возможно сильно возражая на слова врагов.
Говорят, что Бог именуется нерожденным; Божество просто по естеству, а простое не принимает никакой сложности; итак, если не сложен по естеству Бог, Которому принадлежит имя нерожденного, то нерожденное будет именем самой сущности, и естество есть не иное что, как нерожденность. Мы говорим им вот что: иное значение несложности и иное нерожденности, ибо первое представляет простоту подлежащего, а второе — бытие не из причины; и значения сих имен не заменяются одно другим, хотя бы и оба говорились об одном. Но из наименования нерожденным мы узнаем, что наименованный таким образом существует без причины, а из наименования простым — то, что Он чист от сложности; но ни одно из них не говорится вместо другого. Итак, никакой нет нужды естество Божества именовать нерожденностью на том основании, что Оно по естеству просто. Но в том отношении, что Оно есть без частей и несложно, Оно называется простым, а в том отношении, что не рождено, — нерожденным. А если название «нерожденный» не означает бытия без причины, но значение сего имени заступает простота, то, по учению ереси, нерожденным назывался бы Бог потому, что Он прост и несложен. А если одно и то же значение как простого, так и нерожденного, то и простота Сына, конечно, будет называться нерожденностью. Ибо они не будут отвергать, что и Единородный Бог прост по естеству, если только не станут отвергать, что Он есть Бог. Итак, простота по значению не будет иметь ничего общего с нерожденностью, как будто бы по причине несложности естество должно бы считать нерожденностью, иначе они должны бы против себя выбрать одну из двух нелепостей: или отвергнуть божественность Единородного, или провозгласить Его нерожденным. Ибо если Божество просто по естеству, а имя простоты, по их мнению, есть нерожденность, то они или допускают, что Сын сложен, вместе с чем показывается, что Он не есть Бог, или, если признают в Нем божественность, а Божество, как сказано, просто, то допускают, что Он же совершенно есть и нерожден по причине простоты, так как простота считается за одно и то же с нерожденностью. А чтобы яснее были наши слова, опять повторю сказанное. Мы говорим, что в каждом из сих имен есть некоторое особенное значение; и ни неимеющее частей не одно и то же, что нерожденное, ни нерожденное не есть то же, что простое; но под простым мы разумеем несложное, а под нерожденным понимаем бытие не из какой–либо причины. А о Сыне должно верить, мы думаем, что Он есть Бог сущий от Бога, и при том, что Он прост, потому что Божество чисто от всякой сложности. Точно таким же образом при этом ни наименованием Сына не означается простота сущности, ни самою простотою не выражается значение Сына, но из первого (наименования) открывается его существование от Отца, а из простоты — то, что показывает сие слово. Итак, поелику понятие простоты по сущности одно и то же и прилагается и к Отцу, и к Сыну, не различаясь ни каким–нибудь недостатком, ни избытком, а рожденное от нерожденного имеет большое различие по значению, ибо при том и другом из сих имен должно мыслить то, чего нет в другом; то посему мы и говорим, что нет никакой необходимости, когда Отец нерожден, называть Его сущность нерожденностью, потому что сущность Его проста. Ибо от того, что Сын, о Котором мы веруем, что Он также и рожден, прост, (мы) сущность не называем простотою; но как сущность есть проста, а не простота, так сущность есть и нерожденна, а не нерожденность. Точно таким же образом от того, что Сын рожден, никак не необходимо, поелику сущность Его есть проста, рожденность почитать Его сущностью. Но и здесь каждое из имен имеет особое значение. Ибо наименование «рожденный» представляет тебе бытие из чего–нибудь, а простым означается отсутствие сложности. Но не так кажется им, ибо, поелику сущность Отца проста, они хотят, чтобы она почиталась не иным чем, как нерожденностью, почему Он и называется нерожденным. Им можно сказать и то, что поелику они называют Отца и Творцом, и Создателем, а называемый так по сущности есть прост, то пора уже сим мудрецам сущность Отца объявить и творчеством, и созиданием, поелику учение о простоте возводит в сущность всякое значение имени, которым Он называется. Итак, или пусть отдалят от определения Божеской сущности нерожденность, оставив ее при одном своем значении, или если уже вследствие простоты подлежащего захотят определять сущность как нерожденность, то по той же самой причине пусть усматривают в сущности Отца и созидание, и творчество не так, как будто бы создавала и творила сила (находящаяся) в сущности, но так, как будто бы сама сила была мыслима как созидание и творение. А если отвергают это как злое и нелепое, то пусть последовательность убедит их вместе с сим отвергнуть и то их слово. Ибо как творение не есть сущность Творца, так и нерожденность не есть сущность Нерожденного. А для краткости и ясности я опять повторю те же слова: если Отец называется нерожденным не по причине нерожденности, но потому, что Он есть простая и несложная сущность, то по той же самой причине будет почитаться нерожденным и Сын, ибо по сущности и Он однороден и несложен. А если Сына необходимо признать рожденным, потому что Он рожден, то ясно, что и Отца назовем нерожденным потому, что Он нерожден. А если это вынуждает как истина, так и последовательность положений, то ясно, что нерожденность не есть имя сущности, но означает некоторое различие понятий, отличающее рожденное от нерожденного. Затем к сказанному присоединим и такого рода рассуждение: если говорят, что имя «нерожденность» означает сущность, а не существование без причины, то какое имя установят для того (понятия), что Отец есть без причины, когда нерожденность назначена ими для указания сущности? Если через речение «нерожденный» узнаем не разделяющее отличие Ипостасей, но полагаем, что оно служит для указания самого естества, как бы истекая некоторым образом из подлежащего предмета и через возглашение слогов открывая искомое, то совершенно необходимо или не быть Богу нерожденным, или не называться им, поелику не будет уже никакого слова, которое бы допускало в нем такое значение. Если нерожденность, как они говорят, не означает бытия без причины, но показывает естество, то сей софизм обратится совершенно в противное им (мнение) и окажется, что нерожденность в Боге далека от их учения; ибо когда никакое другое речение или имя не представляет, чтобы Отец был нерожден, а нерожденность, по их мудрованию, означает нечто другое, а не то, чтобы не быть рожденным, то сходится и сливается с Савеллием их шаткое слово. Потому что совершенно необходимо по сей последовательности думать, что одно и то же Отец есть с Сыном, как скоро в их учении потеряно различие между рожденным и нерожденным; так что одно из двух: или они должны переменить мнение о сем имени, признав, что оно обозначает различие той и другой особенности, а не естество, или, оставаясь при признанном ими, должны относительно сего речения согласиться с Савеллием. Ибо не видно, как различие Ипостасей будет иметь неслиянность, когда оно не разделяет рожденного от нерожденного. Так что если слово «нерожденность» означает различие, то сущность через сие наименование уже не будет означаться, потому что иное понятие различия и иное сущности; если же значение сего слова относят к естеству, то последовательно увлечены будут в ложь так называемых сыноотцев, когда ясность учения об Ипостасях исчезнет. А если говорят, что ничто не препятствует словом «нерожденность» и означать различие с рожденным, и его же представлять сущностью, то пусть различат нам родственные значения сего имени, так чтобы можно было точно приспособлять к тому и другому имеющее различный смысл слово «нерожденный». Ибо, будучи употребляемо для указания различия, это имя не имеет обоюдности, как скоро оно сопоставляется с различаемым понятием; ибо и мы соглашаемся вместо того, чтобы говорить, что Сын рожден и Отец нерожден, по некоторому сходству речений одного называть нерожденным, а другого — рожденным. Но из какого разумения этого слова можно объяснить указание на сущность — сказать было бы ему невозможно.
Но, умолчав об этом, новый богослов, приплетая для нас иную болтовню к предыдущему словописанию, рассуждает (так): «Так как Бог, — говорит, — потому называется нерожденным, что прост, поэтому Бог есть нерожденность». Что общего имеет понятие простоты с мыслью о нерожденном? Ибо Он есть и Единородный, и рожденный, и не подлежит сомнению, что есть прост.
«Но Он и не имеет частей, и несложен». Какое же отношение и сего к исследуемому? Ибо и Сын ни многообразен, ни сложен, однако ж не есть нерожден вследствие сего. «Но, — говорит, — Он чужд и количественности, и величины». Пусть будет так, ибо Сын не определим величиною и неколичествен и однако ж — Сын. Но вопрос исследуемый не в этом, предлежит указать, какое значение слова «нерожденный» указывает на сущность? Ибо как от этого наименования берется основание различия (личных) свойств, так они желали бы, чтобы посредством какого–либо из значений этого же самого названия было двусмысленно и указание бытия.
Но об этом Евномий умалчивает, а говорит, что «не по примышлению должно чествовать Бога именованием нерожденного, ибо сказанное так обыкновенно рассеивается вместе с самими звуками». Но что из того, что говорим, не разрушается вместе с тем, как оно сказано? Ибо произносимое в звуке (слово) мы не можем сохранить неразрушимым в форме слова, однажды образовавшейся в устах, как сохраняется выработанное из глины или кирпичей; но вместе с тем, как в звуке произнесено слово, сказанного уже нет, потому что по разлиянии снова в воздухе дыхания звука в том месте, в котором последовало излияние звука, уже не отпечатлевается никакого следа того, что сказано; так что если он тем характеризует слово «по примышлению», что оно не остается словом, но исчезает«вместе со звуком говорящего, то не избегнет (необходимости) назвать всякое слово примышлением, так как ни от какого слова не остается ничего существенного после произнесения. Он не в состоянии будет доказать, что и самая нерожденность, которую он исключает из области примышления, остается неразрушимой и твердой после произнесения, так как речение, посредством звука вышедшее из уст, не остается в воздухе. Но можно таким еще образом доказать несостоятельность его слов: хотя бы и молча мы стали изображать на письме мысли души, но нельзя сделать, чтобы твердое в понятиях получило обозначение в письменах, а нетвердое осталось без обозначения посредством письмен; ибо все, что ни приходит на ум, будет ли оно верно по разумению или нет, можно по произволу предать письму. Для обозначения мысли звук есть то же, что письмо, ибо одинаково посредством того и другого мы выражаем мыслимое. Потому не могу понять, что имея в виду, он вместе с чистым звуком разрушает и мысль. Ибо при всяком слове, произносимом при помощи какого бы то ни было звука, бывает переход дыхания, передающего звук в то, что ему сродно, а смысл слов напечатлевается посредством слуха в памяти, в душе слушающего, будет ли то смысл истинный или неверный. Итак, пошло то изъяснение «примышления», какое представляет наш писатель, когда характеризует и определяет оное как разрешение звука; и потому оный «разумный послушателъ», как говорит Исаия (Ис. 3:3), отвергает это недоступное для смысла учение о примышлении, доказав, что оно совершенно «разрушается и не имеет существенности», как он говорит. Он искусно рассуждает о силе, заключающейся в речении, при помощи известных примеров направляя слово к учению о догматах. Против него Евномий, надмеваясь (чтобы стать в уровень с) этим почтенным писанием, старается разрушить ясно раскрытое там о примышлении таким способом.
Но, может быть, лучше будет, прежде чем опровергать написанное, исследовать цель, что имея в виду, он избегает прилагать к Богу наименование нерожденным по примышлению. У всех, признавших учение благочестия, получил силу тот общепризнанный догмат, что во Христе должно полагать всю надежду спасения, так что иначе и невозможно получить блаженства, если вера во Христа не даст сего вожделенного блага. А когда эта мысль крепко утверждена в душах верующих, и всякая честь, и поклонение, и слава воздаются от всех Единородному Богу, как Начальнику жизни, «творящему дела Отца» (Ин. 10:37), как Сам Господь говорит в Евангелии, и нисколько не меньшему по превосходству во всем, что бы ни понимали как благо; то не знаю, откуда возбуждаемые ненавистью и завистью к чести Господа, как бы ущербом для себя почитая поклонение, воздаваемое верующими Единородному Богу, говорят против божеских (Ему) почестей и стараются убедить, что ничто из того, что говорится о Нем, не говорится истинно. Так (у них) Он не есть истинный Бог, хотя и именуется так в Писании; называемый Сыном не имеет естества, точно соответствующего наименованию; ни по достоинству, ни по естеству у Него нет никакого общения с Отцом; да и невозможно Рожденному быть равночестным с Творцом по достоинству, или могуществу, или естеству, потому что у Отца жизнь беспредельна и существование — от вечности, а у Сына жизнь некоторым образом ограничена: поелику начало, от которого Он произошел, поставляет предел продолжению жизни на предшествующее время и препятствует Ему сраспростираться с вечностью Отца; так что и Его жизнь признается недостаточествующею, и Отец не всегда был тем, что Он есть и чем именуется теперь, но есть иной, сравнительно с прежним; так как после Он восхотел быть Отцом, а лучше сказать, не быть, но именоваться. Ибо Он не по истине наименован Отцом Сына, но название твари подменено названием Сына. Во всяком же случае, говорят, что то, что получило бытие после, необходимо уступает древнейшему, ограниченное — вечному, происшедшее по хотению Создавшего — Самому Создавшему и в могуществе, и в достоинстве, и в естестве, и в старейшинстве по времени, и во всех преимуществах. А кто далек от совершенства по тем понятиям о Божестве, какие Ему соответствуют, того как стал бы кто–нибудь достойно прославлять почестями, свойственными истинному Богу? Так из этого выводится ими заключение, что Того, Кто несовершенен по могуществу, имеет недостаток в совершенстве жизни, подчинен Владычествующему, ничего не творит Сам от Себя, кроме того, что заповедано Ему повелением Владыки, — сего должно признавать неимеющим никакой приличествующей Богу чести и ничего соответствующего понятию о Боге, но называть Его Богом, усваивая имя, лишенное всякого величественного смысла. Словами, сказанными в таком виде, без покрова умствований, он возбудил бы ярость и новым учением привел бы слушателя в ужас. Ибо кто примет злого наставника, открыто и безыскусственно поучающего извращению величия Христова? Потому–то, прикрывая эти злые козни словесные некоторыми вероподобными и льстивыми отводами, обольщают неразумных слушателей примышлениями (заимствованными) от внешней мудрости. Подготовив все, посредством чего мысли слушателей возможно было бы самодеятельно увлечься к таким мнениям, они вывод конечного заключения предоставляют самому слушателю. Ибо, сказав, что Единородный Бог по существу нетождествен с истинным Отцом, и софистически выводя такое заключение из противоположения нерожденного с рожденным, они умалчивают о том, что отсюда следует, поелику нечестивая мысль тут сама собой получает силу через последовательность вывода. И как составитель ядов делает яд удобоприемлемым для отравливаемого, подсластив пагубу медом, и только дает яд, а уже яд сам, примешанный ко внутренностям, производит разрушение без всякого участия составителя яда, так нечто подобное делается и ими. Утонченными умствованиями, как бы ядом, подсластив смертоносное учение, они после того, как вольют в душу слушателей то заблуждение, что Единородный Бог не есть истинный Бог, уже молча совершают вместе с сим и все прочее. Ибо за убеждением, что Он не есть Бог истинный, следует, что и ничто из того, что говорится о Нем, как приличествующее Богу, не говорится истинно. Потому что, если и Сыном, и Богом Он не по истине именуется, но тем и другим по неправильному словоупотреблению, то, конечно, и прочие из имен, какими именуется Он в Божественном Писании, будут чужды истины, ибо если одно будет сказано о Нем неистинно, то и другое будет чуждо истины. Конечно, все будет следовать одно за другим, так что если Он есть истинно Бог, то необходимо быть Ему и Судиею, и Царем, и вообще всем тем, что представляет каждое из имен, какое дается Ему. Если же Божество ложно усвояется Ему, то и все прочее относительно Его неистинно. Итак, если обольщенные убеждены, что именем Божества ложно именуется Единородный, то вместе с сим утверждается, что не должно ни служить Ему, ни поклоняться, ни вообще воздавать подобающую Богу честь. А чтобы покушение против Спасителя было действительным, они изобрели такой способ богохульства: они учат, что не должно обращать внимание на общение в прочих именах, которыми означается равночестность достоинства Сына с Отцом, но что должно заключать о различии естества из противоположения нерожденного Рожденному, ибо то составляет Божеское естество, что означается именем нерожденности. Потом, так как все люди, имеющие разум, думают, что какой бы то ни было силой речений невозможно выразить неизреченное естество, и наше ведение на столько не простирается, чтобы постигнуть превышающее все познаваемое, и способность дара слова не получила в нас такой силы, чтобы могла изобразить мыслимое, если что–либо всецело высокое и божественное будет составлять предмет мышления, то опять эти мудрецы, обвиняя большинство в тупости и незнании науки рассуждать, сами утверждают, что знают ее и могут приобрести знание обо всем, о чем ни захотят. Потому они и говорят, что Божеское естество есть не что иное, как самая нерожденность, и, называя ее главнейшею, верховнейшею и высшею, заключают в этом звуке все величие Божества. Отсюда следует: если нерожденность есть главнейшее (выражение) сущности и остальные приличествующие Божеству имена связаны с нею, как–то: божественность, могущество, нетление и прочие, — если такова и такое имеет значение нерожденность, то, конечно, если она неприложима, неприложимы и те, другие (свойства). Ибо как способность мыслить, смеяться и приобретать знание есть особенность человека, а нечеловек, конечно, не будет иметь и особенностей естества (человеческого), так, если нерожденность есть истинная божественность, то в том, кому это наименование несвойственно, конечно, не окажется и никакого другого (из свойств), характеризующих Божество. Отсюда, поелику нерожденность неприложима к Сыну, то сим самым уже доказано, что к Нему неприложимы в собственном смысле и все прочие высокие и приличные Богу наименования. Итак, в этом они полагают разумение Божественных тайн, чтобы отвергать Божество Сына, едва не явно восклицая всякому, кто пожелает их слушать, что совершенным в познании можно быть (только) тебе, не верующему в Единородного Бога, в то, что Он есть Бог истинный, тебе, не почитающему Сына так, как почитается Отец, признающему, что Он не Сын, но тварь по естеству, не Господь, не Владыка, но раб и подвластный. Ибо к этому направлен конец их внушений, хотя хула и прикрывается другими выражениями. Для сего, в прежнем сочинении разнообразно потешаясь круговращением софизмов и различными способами упражняя свое искусство над понятием нерожденности, отнимает смысл у обольщенных, когда говорит: «Итак, если не по примышлению, не в смысле лишения, не как часть (потому что неделим), не как что–нибудь иное в Нем Самом, потому что Нерожденный един и единичен, то Он и будет нерожденная сущность». Учитель наш сознавал вред, по необходимости проистекающий отсюда для обольщенных, именно, что допущение мнения, что Он не есть истинно Бог, мнения, по которому извращается догмат последовательностью сих речений, есть ниспровержение самого исповедания Господа; по этой причине он, с одной стороны, не противоречит, что нерожденность не усвояется Богу как часть, и сам согласно с ним исповедует, что Божество просто, неколичественно, не имеет величины и сложности, а с другой, — и возражает, и приводит доказательства против той мысли, что наименование не должно прилагать к Нему по примышлению. Не останавливаясь на этом, наш сочинитель во втором слове снова противопоставляет нам свою мудрость, борясь против сказанного о примышлении.
Но благовременно было бы и им самим припомнить остальное в рассуждении о сем (Василия); мы же прибавим к этому только то, что в человеческой природе нет силы точно познать существо Божие; а может быть, еще и мало будет сказать это об одной человеческой силе; но если кто скажет, что и бестелесная тварь ниже того, чтобы вместить и объять ведением Бесконечное Естество, конечно, не погрешит совершенно, как можно усмотреть из близких нам примеров. Многие и различные существа получили жизнь во плоти: крылатые, сухопутные, и вверх поднимающиеся силой крыльев, и живущие и кроющиеся в глубинах. Если сравним их между собой, то окажется, что обитающие в воздухе немало отстоят от земных; если же сравнивать с звездами и неподвижной сферой, то должно будет признать, что носящееся в воздухе при помощи летания отличается от небесного нисколько не меньше, чем от животных земных. Так и сила ангельская, сравниваемая с нашею, кажется имеющею весьма много преимуществ, потому что, неотягощаемая никаким (внешним) ощущением, чистою и неприкровенной силой ведения стремится к горнему. Если же рассматривать и их способность разумения относительно к величию Истинно Сущего, то осмелившийся сказать, что и их сила относительно уразумения Божества недалеко отстоит от нашей малости, явит смелость, не выходящую из должных пределов. Ибо велико и непроходимо расстояние, которым Несозданное Естество отделено от созданной сущности. Одно ограничено, другое не имеет границ; одно объемлется своей мерой, как того восхотела премудрость Создателя, другое не знает меры; одно связано некоторым протяжением расстояния, замкнуто временем и местом, другое выше всякого понятия о расстоянии; сколько бы кто ни напрягал ума, столько же оно избегает любознательности. В сей жизни можно усматривать и начало существ, и конец, а Блаженство превыше твари не допускает ни начала, ни конца, но, будучи выше означаемого тем и другим, пребывает всегда одним и тем же. Одно в себе самом имеет движение жизни, а не через какие–либо расстояния переходит в ней от одного (состояния) к другому (ибо не через общение с иною жизнью приходит к жизни, причем следовало бы думать, что есть и конец, и начало общения), но Само, что есть, то и есть жизнь, в нем действующая, — жизнь, которая не делается ни большею, ни меньшею от какого–либо приложения или отъятия. Ибо приращение чего–либо для увеличения не имеет места в бесконечном, а мысли об уменьшении не допускает бесстрастность Естества Так, рассматривая небо и некоторым образом входя в соприкосновение с красотой небесной при помощи зрительных органов, мы не сомневаемся, что существует то, что является; а когда нас спросят: что это такое? — мы не можем словами объяснить естество этого и только дивимся, видя круговое обращение целого, согласное движение планет, какой–то круг, называемый зодиаком, начертанный наискось на своде небесном, на котором сведущие в том наблюдают движение светил, влекомых по противоположному направлению. Дивимся и различию светил по величине, и особенностям блеска, восходу и закату их, всегда неизменно происходящему в одни и те же времена соответственно круговому годовому обращению, соединениям блуждающих светил, подходам ниже идущих и исчезновению верхних, затмениям на земле, возвращениям исчезающих светил, многообразному изменению луны, движению солнца посреди полюсов и тому, как оно, будучи полно собственного света, кругом увенчано лучами и, все объемля светоносной силой, иногда и само затмевается, когда, как говорят, заслоняет его лунное тело, и как, совершая всегда свое течение по воле Уставившего, обращается по предустановленному пути удаления и приближения, само собою производя четыре времени года. Видя это, мы на основании того, что видим, не сомневаемся в бытии явлений, но от разумения сущности причин каждого из сих предметов мы столько же далеки, как если бы и вовсе не узнали явлений при помощи ощущения. Так и о Творце мира, что Он существует, мы знаем, но и не отрицаем, что понятия о существе Его не знаем.
А хвалящиеся знанием сего пусть прежде ответят относительно доступного: что такое, по их мнению, небесное тело? Что за орудие, производящее во всем вращательное движение? В чем состоит движение? Кто бы что ни придумал рассудком, непременно размышление, подвигаясь далее, кончит неразрешимым и непостижимым. Ибо если кто–нибудь скажет, что иное подобное по очертанию тело, приспособленное по форме, обнимает собою движение, так что этот бег, всегда наклоняемый, однообразно вращается вокруг себя, необходимо встречая препятствия в этом объемлющем теле к стремлению по прямому направлению; то каким образом объяснить то, что эти тела при беспрерывном трении остаются, не разрушая одно другое? И как происходит движение, когда два однородных тела, хотя и приспособлены одно к форме другого, но одно из них остается неподвижным? Ибо, при неподвижности тела объемлющего, тело, тесно сжатое внутри, конечно, неспособно будет к собственному действованию. А что такое скрепляет прочность этого объемлющего тела так, что оно остается неколебимым, непотрясаемым от того движения, которое к нему прилажено? Если же по любознательности мышления предположить, что есть у него какое–нибудь место (закрепления), сохраняющее его положение твердым, то, конечно, мысль, последовательно идя далее, полюбопытствует относительно основания и этого основания, и потом иного основания для сего (последнего), и иного еще дальнейшего; и, таким образом, исследование, восходя так, прострется в бесконечность и кончит неразрешимым, потому что если напоследок тело полагается в основание всего, то опять спрашивается, что за ним; так что разум никогда не остановится, постоянно допытываясь, что окружает это объемлющее тело.
Но это не так; по пустому предположению философствующих об этом, в небесных пространствах разлито нечто пустое, по нему скользит круговращение всего и возвращается к себе самому, не встречая ни от чего плотного никакого сопротивления, которое могло бы остановить противодействием и прервать идущее вперед круговое движение. Что же такое это пустое, которое, говорят они, не есть ни тело, ни мысль? До чего оно простирается, и что сменяет его? Какое сродство крепко сжатого и плотного с этим пустым и несущественным? Что служит посредством между предметами, различными по природе? Как из разнородного составляется такое стройное согласие целого? А кто скажет, что такое небо? Смешение ли объемлемых им стихий, или единое (образующееся) из всех их, или что–либо иное, отличное от них? Что такое сами звезды? Откуда им сообщается блеск? Что такое он и как составляется? Какое основание различия их по красоте и величине? А что касается планет, совершающих внутри семи орбит движение, противоположное общему движению, то что это значит и какой необходимостью вынуждается? А тот невещественный и эфирный огонь и разлитый в промежутке воздух, служащий как бы преградой между естеством теплотворным и разрушающим и между естеством влажным и удоборазрушимым? И как земля в нижней части прикреплена к целому, и что сохраняет твердым ее положение? Что удерживает ее стремление вниз? Если об этом и подобном кто–нибудь спросит нас, способен ли будет кто–нибудь возвыситься настолько, чтобы обещать понятие о сем, — здравомыслящим не остается ничего ответить, кроме того, что «все премудростию Сотворивший» (Пс. 103:24) один знает основание создания; а мы «верою разумеваем совершитися веком глаголом Божиим», как говорит Апостол (Евр. 11:3).
Итак, если низшая природа, подлежащая нашим чувствам, выше меры человеческого ведения, то как Создавший все единым хотением может быть в пределах нашего разумения? «Суета и неистовления ложная» (Пс. 39:5), как говорит пророк, думать, что для кого–нибудь возможно уразумение непостижимого. Подобное можно видеть на малых детях: по неведению, свойственному возрасту резвых и вместе любознательных, часто, когда через окно ворвется к ним солнечной луч, они, обрадовавшись красоте, кидаются к появившемуся (лучу) и стараются нести луч руками, спорят между собой, захватывают свет в горсть, зажимая, как думают они, самое сияние; а когда разожмут сжатые пальцы, исчезновение луча из рук производит в детях смех и шум. Так и младенцы нашего поколения, как говорит притча, играют сидя «на торжищах» (Мф. 11:16), видя Божественную силу, действиями Промысла и чудесами осиявающую души, как бы какой луч и теплоту, истекающие из солнечного естества, не дивятся благодати и не поклоняются познаваемому в сем; но, переступая пределы вмещаемого душой, хватают неосязаемое руками лжеумствований и своими умозаключениями думают удержать то, что представляется им. А когда разум разлагает и раскрывает сплетение лжеумствований, для имеющих рассудок не оказывается ничего, что можно было бы взять. Так, подобно малолетним и по–детски, попусту занимаясь невозможным, как бы в какой–нибудь детской ладони, заключают непостижимое естество Божие в немногих слогах слова «нерожденность», защищают эту глупость и думают, что Божество только и таково, что может быть объято человеческим разумом через одно наименование. Они принимают вид, будто следуют словам святых; но, поставляя себя выше их самих, не оказывают им благоговения. Ибо чего не оказывается сказавшим никто из блаженных мужей, которых слова, заключенные в письмени в божественных книгах, известны; о том они, «не разумеюще», как говорит Апостол, «ни яже глаголют, ни о нихже утверждают» (1 Тим. 1:7), говорят однако ж, что и сами они знают, и хвалятся, что и других руководят к познанию. И потому–то твердо стоят на том понятии, что Единородный Бог не есть истинно то, чем именуется, ибо так велит необходимость умозаключений.
Какие жалкие остроумцы! Как несчастно и пагубно для них изучение философии! Кто так старательно сам стремится в бездну, как они с трудом и усердием роют себе яму богохульства? До какой степени отлучились они от надежды христианской! Какой пропастью отделились они от спасающей веры! Как удалились от недра веры отца Авраама! Он (если согласно с великой мыслью Апостола нужно, оставив букву, иносказательно понимать смысл повествования, причем, разумеется, историческая истина остается), — он по Божественному повелению удалился из своей земли и от своего рода, исшел, как прилично мужу пророку, стремящемуся к познанию Бога (Евр. 11:8). Мне кажется, что не какое–нибудь местное переселение должно разуметь здесь, если искать духовного смысла; но он, отрешившись сам от себя и от своей земли, то есть от земного и низменного понимания, возвысивши свою мысль, сколько возможно, над обычными пределами естества и покинув сродство души с чувствами, так чтобы, будучи необременяемым ничем из являющегося чувству, уже не подвергаться помрачению при уразумении невидимого; и, ходя, по слову Апостола, «верою, а не видением» (2 Кор. 5:7), когда ни слух уже не оглашал, ни зрение не вводило в заблуждение видимым; столько вознесся величием ведения, что тут можно полагать и предел человеческого совершенства, столько познал он Бога, сколько этой скоротечной и привременной силе возможно вместить при всем ее напряжении. Посему Господь всей твари, соделавшись как бы чем–то найденным для патриарха, именуется особенно Богом Авраама (Исх. 3:6). Однако что же говорит о нем Писание? Что он «изыде не ведый, камо грядет» (Евр. 11:8). Но, не узнав даже и имени Возлюбленного, не огорчился сим незнанием и не стыдился его. Итак, для него то служило твердым указанием пути к искомому, что в мыслях о Боге он не руководился никаким из сподручных средств познавания, и что раз возбужденная в нем мысль совершенно ничем не задерживалась на пути к превышающему все познаваемое. Но, покинув силой размышления свою туземную мудрость, то есть халдейскую философию, остановившуюся на явлениях, и став выше познаваемого чувством, он от красоты видимой и от стройности небесных чудес возжелал узреть красоту, не имеющую образа. Так и все иное, что постигал он, идя вперед по пути размышления, — силу ли, благость ли, безначальность ли, или беспредельность, или если открывалось иное какое–нибудь подобное понятие относительно Божеского естества, — все делал он пособиями и основаниями для дальнейшего пути к горнему, всегда твердо держась найденного и простираясь вперед, прекрасные оные «восхождения» полагая в сердце, как говорит пророк (Пс. 80:6); и, восходя далее всего постигаемого собственной силой, как еще низшего сравнительно с искомым, после того, как в мнениях о Боге возвысился над всяким представлением, происходящим из наименования естества, очистив мысль от подобных предположений и восприяв веру чистую и без примеси всякого мнения; вот что он сделал непогрешимым и ясным знаком познания Бога, знаком превосходнейшим и высшим всякого отличительного знака, — именно веру, что Бог есть. Потому–то после такого вдохновения, возбужденного высокими созерцаниями, снова опустив взоры на человеческую немощь, говорит: «аз же есмь земля и пепел» (Быт. 18:17), то есть безгласен и бессилен к истолкованию блага, обнятого мыслию; ибо земля и пепел, по моему мнению, означают то, что безжизненно и вместе бесплодно. Таким образом, закон веры становится законом для последующей жизни, историей Авраама научая приступающих к Богу, что нельзя приблизиться к Богу иначе, как если не будет посредствовать вера и если исследующий ум она не приведет собою в соприкосновение с непостижимым Естеством. Ибо, оставив любопытство знания, «верова», сказано, «Авраам Богу, и вменися ему в правду» (Быт. 15:6); «Не писано же бысть за того единого точию», говорит Апостол, «но и за ны» (Рим. 4:23–24), что не знание Бог вменяет людям в праведность, но веру. Ибо знание имеет как будто какую торгашескую склонность, вступая в связь с одним познаваемым, а вера христианская не так. Она служит осуществлением не одного познаваемого, но и ожидаемого (Евр. 11:1), а то, чем уже обладают, не бывает предметом надежды. Ибо если кто имеет что–либо, говорит Апостол, «что и уповает» (Рим. 8:24)? Недающееся нашему разумению вера делает нашим, собственной твердостью ручаясь за не явившееся еще, ибо о верующем так говорит Апостол, что «невидимого яко видя, терпяше» (Евр. 11:27). Итак, суетен тот, кто говорит, что знанием, напрасно надмевающим, возможно познать Божескую сущность. Потому что человек не так велик, чтобы равнять с Богом свою познавательную силу. Ибо «кто во облацех уравнится Господеви» (Пс. 88:7)? — говорит Давид. И не так мало искомое, чтобы быть ему объятым помышлениями человеческого ничтожества. Послушай совета Екклезиаста не износить слово пред лицом Божиим, яко Бог, говорит он, «на небеси горе, ты же на земли долу» (Еккл. 5:1). Взаимным сопоставлением этих частей мира или, лучше сказать, их расстоянием, по моему мнению, он показывает, сколь много Божеское естество выше мудрости человеческих рассуждений. Ибо сколько звезды выше прикосновения к ним пальцами, столько же или, лучше, много раз более Естество, превосходящее всякий ум, выше земных умствований.
Итак, узнав, сколь велико различие по естеству, будем спокойно пребывать в своих границах. Ибо и безопаснее и вместе благочестивее веровать, что величие Божие выше разумения, нежели, определяя границы славы Его какими–нибудь предположениями, думать, что не существует ничего выше постигаемого разумом; и даже в том случае, когда бы кто находил это безопасным, не оставлять Божескую сущность неиспытуемой как неизреченную и недоступную для человеческих рассуждений. Ибо гадание о неизвестном и приобретение некоторого знания о сокровенном из примышления человеческих рассуждений пролагает доступ и ведет к ложным предположениям; потому что составляющий догадки о неизвестном будет предполагать не только истину, но часто и самую ложь вместо истины. А ученик евангельский и пророческий тому, что Сущий есть, верует на основании того, что слышит в священных книгах, на основании гармонии в видимой природе и дел Промысла; что же Он есть и как есть, о сем не исследуя, как о бесполезном и непригодном, он не даст лжи доступа к истине; ибо при большой пытливости находит место и неправильное умствование, а при бездействии пытливости совершенно пресекается и необходимость заблуждения. А что справедлива такая мысль, можно видеть из того, как церковные ереси уклонялись в разнообразные и различные предположения о Боге, когда каждый различно обольщал себя, судя по какому–либо движению мысли. Как сами те, о ком идет речь, погрузились в такую бездну нечестия! Не безопаснее ли всего, по совету мудрости (Еккл. 5 1), не исследовать глубочайшего, но спокойно сохранять для себя ненарушимым простой залог веры? Но как скоро человеческое ничтожество начало безрассудно касаться непостижимого и давать силу догматов изобретениям собственного пустого мнения, то отсюда произошел длинный список враждующих против истины, и сами те, о которых идет речь, явились учителями лжи; представляя Божество чем–то описуемым, они почти явно творят из своего мнения идола, когда обожествляют смысл, являющийся в слове «нерожденность», так что она не есть уже качество, в известном отношении приписываемое Божескому естеству, но сама есть Бог или сущность Божия. Конечно, им надлежало, взирая на лик святых, разумею пророков и патриархов, которым многочастно и многообразно возвещалось слово истины, и потом на бывших самовидцами и служителями Слова, благоговеть пред достоверностью тех, кои свидетельствованы Самим Духом, пребывать в границах их учения и знания, а не дерзать на то, что не было доступно разумению святых. Ибо они, Бога, неведомого дотоле человекам по причине господствовавшего тогда идольского заблуждения, делая известным и ведомым для людей, как из чудес, которые являются в делах Его, так и из имен, посредством которых уразумевается многовидность Божеского могущества, руководят к разумению Божеского естества, делая для людей известным одно (только) величие усматриваемого в Боге; а понятие сущности как такое, которое невозможно вместить и не приносит пользы для пытливых, они оставили неизреченным и неисследимым. Ибо хотя они и повествовали о всем прочем, что произошло, — о небе, земле, море, временах, веках и тварях в них, но что такое каждое из сих творений, и как, и откуда, о том умолчали. Так и о Боге, что Он «есть и взыскающим Его мздовоздатель бывает» (Евр. 11:6), они научают веровать, а естество Его, как высшее всякого имени, и не означили именем, и не заботились о том. Если же мы знаем какое–нибудь наименование для уяснения разумения Божества, то все таковые имена имеют сродство и сходство с теми именами, которые обозначают особенность какого–нибудь человека. Ибо когда изображающие неизвестного (человека) какими–нибудь признаками говорят, что он высокого рода, если так случится, и происходит от благородных, славен богатством, замечателен по заслуге, Цветущего возраста, такого–то роста и тому подобное, то этим изображают не естество описываемого, но некоторые отличительные черты того, что известно о нем. Ибо ни благородство, ни богатство, ни известность по заслуге, ни замечательность по возрасту не есть сам человек, но каждое из этого есть качество, в известном лице усматриваемое. Так и все речения, в священном Писании открытые к прославлению Божества, означают что–либо, открываемое о Боге, каждое представляя особенное значение; из них узнаем или могущество, или непричастность несовершенства, или безвиновность, или неописанность, или то, что над всем Он имеет власть, или вообще что–нибудь о Нем. Самую же сущность, как невместимую ни для какой мысли и невыразимую словом, Писание оставило неисследованной, узаконив чтить оную молчанием, когда запретило исследование глубочайшего и изрекло, что не должно «износити слово пред лицем Божиим» (Еккл. 5:1).
Посему исследователь всех богодухновенных изречений не найдет в них учения о Божеском естестве и ни о чем ином, что касается до бытия по сущности. Относительно сего мы, люди, живем в неведении о всем, не зная прежде всего себя самих, а потом и всего прочего. Ибо кто достиг до уразумения собственной души? Кто узнал ее сущность? Вещественна она или невещественна? Совершенно бестелесна, или у нее есть нечто, похожее на тело? Как она происходит? Как примешивается (к телу)? Откуда вводится (в тело)? Как отходит? Что служит связью и посредством между ею и естеством телесным? Как, будучи неосязаемой и не имеющей образа, она объемлется некоторым свойственным ей очертанием? Какое различие в ней по действиям? Как она одна и та же и стремится к небу, исследуя невидимое, и ниспадает, увлекаемая тяготою тела, в страсти земные, в гнев и страх, печаль и удовольствия, милосердие и жестокость, надежду и память, робость и отважность, любовь и ненависть и во все прочие противоположные между собой действования сил души? Кто, имея это в виду, не подумал бы о самом себе, что в нем собрана целая толпа душ, потому что каждое из поименованных (действований) совершенно отлично от остальных? И как одно из них делается преобладающим, получая владычество над всеми, так что и сама сила разума подпадает и подчиняется преобладанию таких движений и присоединяет свое содействие к этим порывам, как бы насильно служа некоторому властелину? Какое же слово богодухновенного Писания научило нас относительно этой многочастности и многовидности того, что усматривается в душе мыслью? Слагается ли из всего нечто единое? И что за смешение и сочетание взаимно противоположного, при чем множественное делается единым, но каждое из многого, представляемое отдельно, заключено в душе, как бы в некоем обширном сосуде? И отчего не всегда ощущаем все заключенные в ней (силы), так чтобы чувствовать вместе и отвагу, и страх, ненависть и любовь и испытывать в себе слитное и смешанное движение всех прочих ощущений, но узнаем силу каждого из них в отдельности, когда одно из них получит перевес, а прочие утихают? В чем вообще состоит сочетание, и самое расположение, и многовместительная в нас широта, так что каждой из сил отведено особое место, и как будто какие среды и преграды препятствуют смешаться с соседней силой? Какое слово истолковало и самое то, имеет ли самостоятельную сущность гнев, или страх, или прочие из вышесказанных (действий души), или это суть какие–то не имеющие самостоятельности движения? Если имеют самостоятельность, то в нас не одна душа, как сказано, но заключено какое–то сборище душ, как скоро каждое из сих движений выделять как особую и отдельную душу. А если нужно признать каждое такое движение не имеющим самостоятельности, то как же господствует и властвует над нами не имеющее самостоятельности, и по какой–то неограниченной власти делает нас своими рабами всякое из таких движений, которому случится получить преобладающую силу? И если душа есть нечто умопостигаемое, то как в этой умопостигаемой сущности усматривается многочастность и сложность, тогда как такое понятие о ней должно быть мыслимо собственно без этих телесных качеств? А сила души, возвращающая, возбуждающая, питающая, изменяющая, и то, что хотя все части тела питаются, но не во всех проходит ощущение, но некоторые из них, подобно бездушным вещам, лишены ощущения, например, кости и хрящи, ногти и волосы, которые питание имеют, а ощущения не имеют; кто, скажи мне, выразумел все это? Но зачем говорить о душе? Даже и для плоти доселе не уловлено ничьим сильным соображением выражения, определяющего ее телесные качества. Если кто–нибудь будет разлагать своим рассудком являющееся нам на то, из чего оно состоит, и, отвлекши качества, будет стараться понять подлежащее в самом себе, то не вижу, что будет постигнуто таким умозрением. Если отнять от тела цвет, фигуру, плотность, тяжесть, количественность, положение места, движение, страдательность, и деятельность, и отношение к чему–либо, — из чего ничто порознь не есть тело, но все в совокупности принадлежит телу, то что останется для того, что собственно называется телом? Этого мы не можем понять сами собой, этому не научило нас и Писание. А не знающий самого себя как же познает то, что выше его? Приученный к незнанию себя самого не ясно ли научается тем самым не касаться ничего из сокровенного вне его? Потому–то мы познаем своими чувствами и стихии мира лишь настолько, насколько полезно для нашей жизни получать знание о каждой из них. А какое понятие их сущности, сему мы не научены, и незнание сего не приносит нам вреда. Ибо что мне пользы заботливо исследовать естество огня, как он возникает от трения, как воспламеняется, как, охватывая предлежащее ему вещество, прекращается не прежде, как пожрав и истребив что лежит пред ним? Как в камне таится искра? Как железо, холодное на осязание, рождает пламень? Как трение дерева одного о другое воспламеняет огонь? Как издающая блеск на солнце вода производит пламень? Оставляя в стороне заботливые изыскания и исследования о причине стремления огня вверх, и о его вечно движущейся силе, и о всем подобном, мы дошли до познания только о том одном, что в нем полезно для нашей жизни, зная, что извлекающий пользу, не заботясь об исследовании, получает нисколько не менее заботливого исследователя.
Посему и Писание не вдается в рассуждения о сущности созданного, как о предмете излишнем и бесполезном. И мне кажется, что Иоанн, сын громов, велегласно провозгласивший предшествующую проповедь своего учения, именно это имея в виду, при конце своего евангельского повествования сказал, что много есть содеянного Господом, «яже аще бы по единому писана быша, ни самому мню всему миру вместити пишемых книг» (Ин. 21:25). Говоря все сие, он разумел не чудесные исцеления, потому что ни одно из них не оставлено без упоминания в повествованиях, хотя и не все исцеленные упомянуты поименно. Ибо когда Писание говорит, что мертвые воскресали, слепые прозирали, глухие слышали, хромые ходили и что исцелялась всякая болезнь и всякий недуг, то сими словами оно не опустило в повествовании ни одного из чудес, включив каждое из них в общие понятия. Но, может быть, Евангелист по глубине своего видения говорит о том, что величие Сына Божия должно быть познаваемо не из одних чудес, соделанных Им во плоти. Они незначительны, если сравним их с величием прочих дел; а ты взгляни на небо, посмотри на его красоты, пронесись мыслию по всему пространству земли, по глубинам водным, объяв мыслью весь мир и представив в своем разуме премирное естество, узнай, что это суть истинные дела Пожившего с тобой во плоти. «Яже», говорит, «аще бы по единому писана быша», то есть что, и как, и откуда, и сколько, — то обилие учения о мире превысило бы вместимость мира. Поелику Бог все «премудростию сотворил» (Пс. 103:24), а премудрость Божия не имеет предела, ибо «разума Его», сказано, «несть числа» (Пс. 146:5), то мир, ограниченный своими пределами, не вместит в себе понятия беспредельной премудрости. Итак, если целый мир мал, чтобы вместить учение о делах Господа, то коликие меры вместят повествование о (Самом) Боге всяческих? Быть может, и хульный язык не отринет, что бесконечен Творец всего изведенного в бытие единым хотением. Итак, если вся тварь не способна вместить учение о себе, как свидетельствует, по нашему объяснению, великий Иоанн, то как же человеческая малость вместит учение о Владыке твари? Пусть скажут велеречивые люди, что такое человек в сравнении со всем миром? Какая геометрическая точка столь неспособна делиться? Какой из Епикуровых атомов так истончается в пустых умствованиях, рассуждающих о сем, и так приближается к небытию, как человеческая малость, которая в сравнении с целым миром есть как бы ничто, как говорит и великий Давид, прекрасно определивший немощь смертных словами: «состав мой яко ничтоже пред Тобою» (Пс. 38:6). Не говорит: совершенно ничто, но «яко ничтоже», обозначая сим всю чрезмерную малость сравнительно с Самосущим.
Однако ж, происходя от такого естества, евномиане расширяют уста свои против силы неизглаголанной и одним наименованием измеряют Естество беспредельное, заключая сущность Божию в слове «нерожденность», чтобы сим проложить путь для своей хулы на Единородного. Великий Василий исправил их ложное мнение и относительно наименований показал, что они не из самого естества проистекают, но прилагаются к предметам по примышлению; но они так далеки от обращения к истине, что как будто клеем каким–то приклеены к тому, что раз высказали, и не отстают от лжеумствования, а полагают, что слово «нерожденность» не по примышлению нашему прилагается, но представляет самое естество. Потому пытаться разбирать всю их речь и слово за словом опровергать их вздорное и длинное пустословие потребовало бы и долгого труда, и много времени, и большого досуга. Слышу, например, как Евномий, много лет со тщательностью и в совершенном покое сидя над этой троянской войной среди долгого сна сочинил для себя это великое сновидение, тщательно стараясь не о том, чтоб объяснить смысл какого–либо понятия, но о том, чтобы к речениям насильственно притянуть какой–нибудь смысл, и собирая благозвучнейшие выражения из некоторых сочинений. Как нищие по недостатку платья из разной ветоши сшивают себе лоскутные одежды, так и он, из разных мест натаскивая для себя фразы, сшивает из них лоскутную речь, жалким образом склеивая и прилаживая набор слов. Мелочность и ребячество его страсти к спору так же заслуживают презрение от человека, имеющего в виду истину, как для могучего и зрелого возрастом борца презренны заботы о женоподобном наряде. Я намерен оставить в стороне его длинные периоды, кратко проследить смысл всех его рассуждений.
Сказано нами (ибо слова наставника я признаю своими), что при помощи умозаключений мы получаем неясное и весьма малое понятие о Божеском естестве и что однако из наименований, благочестиво усвояемых сему Естеству, мы приобретаем ведение, достаточное для наших слабых сил. Мы говорим, что значение всех этих наименований не однообразно, но одни из них означают присущее Богу, а другие выражают отсутствие чего–либо в Нем; называем Его, например, праведным и нетленным; именуя праведным, означаем, что Ему присуща правда, а именуя нетленным, означаем, что тление не присуще Ему. А можно также и наоборот, правильно прилагать к Богу имена, изменив их значение так, чтобы вместо несоответственного представить свойственное Ему, а вместо присущего — чуждое Ему, потому что если правде противоположна неправда и тленности противоположна вечность, то, возможно, и противоположные выражения прилично прилагать к Богу и не погрешить против истины, сказав, что Он вечно один и тот же и не есть неправеден. Это все равно, что сказать: Он праведен и не подлежит тлению. Так и прочие имена при известном изменении значения пригодны для выражения того же смысла, как–то: наименование Его благим и бессмертным и все другие имена, прилагаемые к Нему подобным же образом; ибо каждое из них, так или иначе измененное, выражает присутствие или отсутствие чего–либо в Божеском естестве; так что при изменении внешнего вида наименований благочестивая мысль о подлежащем (наименованию) остается неизменной. Одно и то же — наименовать Бога непричастным злу и назвать Его благим, исповедать Его бессмертным и назвать Его живущим вовеки. Ибо в этих выражениях по их смыслу мы не представляем никакого различия, но каждым из них означаем одно и то же, хотя одно из выражений кажется заключающим в себе утверждение, а другое — отрицание чего–либо. Точно так же, именуя Бога началом всего и в другом случае называя Его безначальным, мы нисколько не разногласим по смыслу, и тем, и другим выражением означая, что Он есть началовождь и виновник всего, так что назовем ли Его безначальным или началовождем всего, в первом случае представим присущее, а в другом — неприсущее Ему. Ибо, как сказано, возможно при помощи изменения значений изменять смысл наименований в противоположные и посредством некоторого изменения формы означать присущее Богу даже таким именем, которое дотоле было несоответственно Ему, а другим можно означать другое. Так, вместо выражения «Он не имеет начала» можно дать определение «Он есть начало всего», и наоборот, вместо этого выражения можно исповедать Его единым существующим нерожденно. С изменением формы речения кажутся различными между собой, но смысл выражений остается один и тот же. Говоря о Боге, не о том должно стараться, чтобы придумать благозвучный и приятный для слуха подбор слов, а нужно отыскивать благочестивую мысль, которая бы хранила соответствующее понятию о Боге. Итак, поелику о Виновнике всего благочестиво мыслить так, что Он не имеет выше Себя иной причины, то с утверждением этой мысли какой же для имеющих смысл остается еще повод к спору о словах, когда каждое из выражений, которым высказывается эта мысль, представляет то же самое? Скажешь ли, что Он есть начало и вина всего, или назовешь Его безначальным, или нерожденным, или существующим от вечности, или виною всего, или единым не имеющим никакой причины (бытия), — все такие речения одинаковы между собой по силе значения и равного достоинства. Вдающийся в споры из–за такого, а не другого звука голоса занимается пустым делом, как будто бы благочестие заключается не в мысли, а в слогах и звуках. Такова мысль, раскрытая наставником нашим, при помощи которой людям, не закрытым темной завесой еретической, возможно видеть ясно, что Божество по отношению к его естеству остается недоступным, недомыслимым, превышающим всякое разумение, получаемое посредством умозаключений. Человеческий же многозаботливый и испытующий разум при помощи возможных для него умозаключений стремится к недоступному и верховному Естеству и касается Его; он не настолько проницателен, чтобы ясно видеть невидимое, и в то же время не вовсе отлучен от всякого приближения, так чтобы не мог получить никакого гадания о искомом; об ином в искомом он догадывается ощупью умозаключений, а иное усматривает некоторым образом из самой невозможности усмотрения, получая ясное познание о том, что искомое выше всякого познания; ибо, что не соответствует Божескому естеству, разум понимает, а что именно должно думать о Нем, того не понимает. Он не в силах познать самую сущность того, о чем так именно рассуждает, но при помощи разумения того, что присуще и что неприсуще Божескому естеству, он познает одно то, что доступно для усмотрения, именно что Оно прибывает в удалении от всякого зла и мыслится пребывающим во всяком благе; и однако же, будучи таковым, как я говорю, Оно неизреченно и недоступно для умозаключений. Таким образом, наставник наш отстранил все несоответственные мысли в понятии о Божеском естестве, а наставил и научил всему, что достохвально и боголепно должно думать о Нем, так что первая Причина не есть ни что–либо подлежащее тлению или изведенное в бытие через (временное) происхождение, но мысль о Ней чужда всякого подобного предположения. Из отрицания же не присущего Ему и из признания благочестиво мыслимого о Нем получается понятие о Его бытии.
Против сказанного ратует ревностный противник истины и хочет, чтобы такой–то именно звук речи (разумею слово «нерожденность») ясно выражал сущность Божию. Но всякому и посредственно знакомому с употреблением наименований ясно, что при помощи отрицательной частицы нетленность означает, что Богу не присуще ничто подобное — ни тленность, ни рождение. И многие другие имена, составленные подобным же образом, выражают отрицание неприсущего, а не утверждение чего–либо существующего; таковы именования незлобивым, беспечальным, нелукавым, безмятежным, безгневным, бесстрастным, неукоризненным и тому подобные. Эти наименования усвояются и совершенно справедливо составляют как бы перепись какую и перечень тех понятий худого, которые к Божеству неприложимы; однако же сими наименованиями слово (наше) ничего не говорит о том, что такое то, о чем говорится. Ибо что нездраво (мыслить о Боге), то мы узнали из того, что услышали; а что Он есть, сила вышесказанных (слов) нам не показала. Если кто–нибудь, желая сказать нечто о человеческом естестве, называет его не бездушным, не бесчувственным, не летающим, не четвероногим, не водным, тот не укажет, что оно такое есть, а только объяснит, что оно не есть; говоря так о человеке, он не лжет, но и не обозначает ясно сущность предмета. По тому же основанию из многих подобных выражений, прилагаемых к Божескому естеству, мы научаемся к надлежащему образу мыслей о Боге, но не познаем из этих выражений того, что такое Он по существу. Всячески избегая внесения каких–нибудь нелепых мыслей в представления о Боге, мы употребляем многие и разнообразные наименования Его, приспособляя имена к различию понятий. Так как не отыскано никакого имени, объемлющего Божеское естество и пригодного к соответственному выражению Его существа, то многими именами соответственно различным понятиям выражая то или другое особенное представление о Нем, именуем Его Божеством, извлекая из разнообразных и многоразличных обозначений Его некоторые общие наименования для познания искомого. Спрашивая себя и исследуя, что такое Божество, мы отвечаем различно, например: Оно есть существо верховное над всем устроением и управлением сущего; Оно не имеет начала от какой–либо причины, но составляет причину бытия всего прочего; для Него нет рождения и начала, тления и конца, нет ни перемены на противное, ни ослабления в совершенстве, ни зло не имеет в Нем места, ни добро не отсутствует в Нем. Если же кто–нибудь пожелает выразить эти понятия в именах, то ему совершенно необходимо не допускающего изменения на худшее наименовать непреложным и неизменяемым, первого виновника всего назвать нерожденным, не доступного тлению — нетленным, бессмертным и нескончаемым — не имеющего предела существования, вседержителем — всем управляющего. Так, образуя и все прочие имена на основании благочестивых представлений, мы сообразно с различием понятий именуем Его так и иначе, означая наименованиями или силу, или владычество, или благость, или бытие не от причины, или вечное существование.
Посему говорю: такое образование имен находится во власти людей, прилагающих предмету названия, как кому покажется соответственным. И нет никакой нелепости в том признании, которое этот сочинитель, желая запугать нас, выставляет страшным и ужасным, именно в признании, что усвояемые Богу имена недавни сравнительно с самим предметом именуемым, то есть с Самим Богом. Ибо Бог не есть речение, и не в голосе и звуке имеет бытие. Но Бог Сам в Себе есть то, чем и признается когда–либо в нашем веровании; призывающими же Его именуется не само то, что Он есть (ибо естество Сущего неизглаголанно), но Он получает наименования от действий, которые, как мы верим, касаются нашей жизни; таково и то самое сейчас высказанное наименование, ибо, именуя Его «Богом», называем так, имея в мысли, что Он надзирает, и призирает, и провидит тайное.
Если же сущность предшествует действиям, а действия мы постигаем на основании того, что чувствуем, и по мере возможности выражаем сие словами, то какое же еще остается место для опасения называть имена недавними сравнительно с предметами? Ибо если говоримое о Боге мы изъясняем не прежде, чем мысленно представим, а представляем на основании знания, даваемого действиями, действиям же предшествует сила, а сила зависит от Божеского хотения, а хотение лежит во власти Божеского естества, — то не ясно ли научаемся, что наименования, означающие происходящее, по происхождению позже самих предметов, и слова суть как бы тени предметов, образуемые соответственно движениям существующего? Что это действительно так, в сем ясно убеждает Божественное Писание устами великого Давида, называющего Божеское естество как бы некими особенными и соответственными Ему именами, познанными им из действий. «Щедр и милостив Господь», говорит он, «долготерпелив и многомилостив» (Пс. 102:8). Как скажут: действие означают эти слова или естество? Никто не скажет, что они означают что–либо иное, кроме действия. Итак, когда Бог, в действии явивший щедроты и милость, от такого действования получил наименование? Прежде ли существования человеческого? Но кто нуждался тогда в милости? Конечно, милость явилась после греха, а грех после человека. Посему после происхождения человека получили начало и действие милосердия и имя милости. Итак, что же? Мудрствующий паче пророков не осудит ли и Давида за то, что наименовал Бога по тем (действиям), по которым познал Его? Или и с ним будет состязаться, выставляя на вид как бы из трагедии взятое оное почтенное речение, что Давид примышленными именами возвеличивает блаженнейшую жизнь Божию, славную в единой самой себе и прежде происхождения существ, способных примышлять. Защитник слов пророческих, конечно, скажет, что Божеское естество славно само в себе и прежде происхождения мыслящих существ, но ум человеческий говорит о сей славе потолику, поколику вмещает, научаемый действиями Божескими, ибо, как говорит Премудрость, «от величества и красоты созданий сравнительно рододелателъ всяческих познается» (Прем. 13:5). Мы усвояем таковые наименования Божескому, превосходящему всякий ум существу, не Его возвеличивая сими именами, но себя самих руководствуя тем, что говорим о Нем, к познанию сокровенного. Далее пророк говорит Господу: «Бог мой еси Ты, яко благих моих не требуеши» (Пс. 15:2). Каким же образом мы так возвеличиваем, как говорит Евномий, блаженнейшую жизнь Божию, о которой пророк говорит, что она не имеет нужды в человеческих благах? Или слово «возвеличивать» (αγαλλειν) он придумал вместо слова «именовать» (ονομαζειν)? А от употребляющих правильные выражения и научившихся точно ставить слова мы слышим, что слово «возвеличивать» (αγαλλειν) означает не просто «выражать» ; для сего употребляются слова «делать известным» (γνωριζειν), «объяснять» (ρηλουν), «означать» (σημαινειν) и другие подобные. А слово «возвеличивать» (αγαλλειν) равнозначно с словами «хвалиться» (επικαυχασθαι), «величаться» (επευφραινεσθαι) и другими, имеющими то же значение. Он говорит, что мы примышленными наименованиями возвеличиваем блаженную жизнь. А мы думаем, что прибавлять какую–нибудь честь к Божескому естеству, высшему всякой чести, есть дело, превышающее человеческую немощь; но при этом не отрицаем, что посредством благочестиво примышленных речений и имен стараемся дать некоторые понятия о свойствах сего Естества. И посему, по мере возможности последуя благочестию, мы понимаем, что первая причина не от какой–либо высшей причины имеет свое существование. Кто примет сие как истину, то ради единой истины это будет достойно хвалы. Если же кто признает эту истину высшим из всех прочих представлений о Божеском естестве и на основании одной этой мысли скажет, что Бог услаждается и радуется, как свойственно радоваться кому–либо из имеющих преимущество, то сие будет свойственно одной Евномиевой поэзии, поелику Евномий говорит, что основание радования заключается в самой нерожденности, которую он признает сущностью и именует блаженною и Божественной жизнью.
Но послушаем, как он соответственным делу способом и по прежде принятому образцу (ибо он опять красуется пред нами составленными по одинаковому образцу именами), как он при помощи их думает разрушить, как говорит, составившееся о нем мнение и прикрыть невежество обольщенных. Воспользуюсь заключительными словами этого высокопарного сочинителя. «Сказав, — говорит он, — что говоримое по примышлению обыкновенно разрешается в ничто вместе с самими звуками, прибавляем к сему: но Бог и при безмолвии, и при глаголании всего получавшего бытие и прежде, чем произошли имена, был и есть не рожден». Итак, признаем, что примышление слов или усвоение имен имеет нечто общее с самими предметами, которые обозначаем известным звуком имен и слов. Посему если Бог существует нерожденно прежде создания человека, то слово, выражающее такое понятие, нужно признать не имеющим собственного значения, как разлагающееся вместе со звуком, если оно дано по человеческому примышлению, ибо бытие — не одно и то же с именованием. Но то, что мы именуем Богом, есть по естеству; выражается же это нашим словом, сколько возможно выразить при бедности нашего естества, по которой оставались бы в душе неведомыми ее расположения, если бы они не обнаруживались в звуке и слове. Итак, постигая мыслью, что Он не от какой–либо причины имеет бытие, это понятие мы по примышлению выражаем словом «нерожденный». Посему какой же вред, если о Сущем так (то есть нерожденно), сказать как Он есть? Не от того, что наименовали Его нерожденным, Он и действительно существует нерожденно, но от такого существования происходит и именование. Этого не уразумел сей остроумец, да и не понял ясно собственных же положений, иначе он перестал бы порицать производящих имя нерожденности от примышления. Ибо заметьте, что он говорит: «Говоримое по примышлению разрешается в ничто вместе со звуками, а Бог и был, и есть нерожден прежде всего, получившего бытие, и прежде происхождения имен». Видите, что бытие тем, чем есть, Он имеет прежде существования всех и безмолвствующих, и говорящих, будучи ни более, ни менее как тем, чем Он есть. Употребление же слов и имен придумано после сотворения людей, которых Бог удостоил дара слова. Итак, если тварь позднее Создателя, а из всей твари последнее создание есть человек, если слово составляет особенность человека, если речения и имена суть части слова, и если (слово) «нерожденность» есть имя, то как он не понимает, что сражается против того самого, что утверждает? Ибо и мы говорим, что имена, придаваемые существующим предметам для различения одного от другого, изобретены человеческим примышлением; и он признает, что пользующиеся словом явились позднее Божеской жизни; Божеское же естество как теперь существует нерожденно, так и всегда существовало. Итак, если он признает, что блаженная жизнь существовала прежде людей (снова возвращаясь к сему, воспользуемся теми же словами), то и мы не противоречим, что по времени люди явились позднее, и говорим, что мы стали употреблять слова и имена с того времени, как произошли и получили от Творца разум. Но слово «нерожденность» есть имя, выражающее свое особое понятие; всякое же имя есть часть человеческой речи; следовательно, признавая, что Божеское естество существует прежде человеческого, он соглашается, что придуманное (человеком) наименование позже (Божеского) естества. Ибо несообразное дело — чтобы употребление слова возникло прежде создания тел, кто им пользуется, точно так же как и возделывание земли не появилось прежде земледельцев или мореплавание — прежде плавающих, и вообще прежде возникновения человеческой жизни не появилось ничего, что делается в жизни. Зачем же он вступает с нами в спор, не умея быть последовательным в своих же собственных рассуждениях?
«Бог, — говорит, — прежде происхождения человека был тем, что Он есть». И мы не отвергаем этого. Ибо все, что не постигаем мыслью в Боге, все это было прежде создания мира; но, говорим мы, это постигаемое получило наименования после происхождения того, кто именует. Ибо если употребляем имена потому, что они научают нас чему–либо относительно предметов, а требует научения только неведущий, Божеское же естество выше всякого научения, потому что объемлет в себе всякое ведение, то из сего открывается, что не ради Бога, а ради нас примышлены имена для уяснения понятий о Сущем. Он усвоил Своему естеству имя нерожденности не для того, чтобы познать Себя Самого, ибо Ведущий вся и Себя Самого прежде всего не нуждается в слогах и словах для того, чтобы познать, каково Его естество и достоинство. Но дабы иметь некоторое понятие о благочестиво мыслимом о Нем, мы при помощи некоторых слов и слогов образовали различения понятий, сочетаниями слов как бы начертывая некоторые знаки и приметы на различных движениях мысли, так чтобы при помощи звуков, приспособленных к (известным) понятиям, ясно и раздельно выразить происходящие в душе движения. Итак, чем же он обличает нашу речь, в которой мы сказали, что имя нерожденности примышлено для означения безначального существования Божия, когда говорит, что «Бог был и есть нерожден прежде и говорящих, и безмолвствующих, и мыслящих, и прежде всякого примышления сотворенных»? Если бы кто–нибудь утверждал, что Он не был нерожденным прежде, чем изобретено нами это имя, то простительно было бы написать эти слова в опровержение подобной нелепости. Если же всеми признано, что Бог по бытию предшествует и слову, и мысли, а усвоение имени, которым выражается мысль ума, названо нами изобретенным по примышлению, и если цель его борьбы с нами — доказать, что это имя не людьми примышлено, но существовало и прежде, чем мы произошли, будучи изречено неизвестно кем, то какую связь с предложенною им для себя задачей имеют его слова, что Бог прежде всего сущего существует нерожденно, и его усилия доказать, что (измышление имени) позднее по своему происхождению, и вообще все то, что он наговорил? Потому что только помешанным свойственно думать, что примышление древнее самих мыслящих. Притом дальнейшие его рассуждения не касаются даже и думающих таким образом, то есть что люди, будучи позднейшими из созданий Божиих, должны считать примышление более древним, чем они сами. Речь его получила бы великую силу, если бы кто–нибудь по безумию или помешательству говорил, что Бог есть примышление. Если же таких речей нет и не было (ибо кто дойдет до такой степени сумасшествия, чтобы сказать, что истинно Сущий и все существующее приведший в бытие не имеет собственного существования, но является только в примышлении имени?), то зачем напрасно сражается с тенями, вступая в борьбу с тем, чего никто не утверждал? Конечно, очевидна причина этой безумной спорливости, — та именно, что стыдясь обольщенных лжеумствованием относительно нерожденности, так как вполне доказано было, что имя отлично от значения сущности, он произвольно смешивает то, что было сказано, от названия перенося спор на предметы; дабы таким смешением удобно обмануты были несведущие, подумав или то, что, по нашим словам, Бог есть примышление, или то, что Он имеет бытие после изобретения людьми имен. Посему–то, оставляя в стороне наше неопровержимое доказательство, он переменяет предмет спора. Как сказано, наше рассуждение было такое, что имя «нерожденность» не означает Естества, но усвоено Естеству вследствие примышления, которым означается существование Его без причины. А они доказывали, что это слово выражает самую сущность. Где же доказано, что такова сила этого имени? Конечно, это скрыто где–нибудь в других рассуждениях, а у него весь труд устремлен на утверждение мысли, что Бог существует нерожденно, как будто кто прямо его спрашивал о том, какое понятие он имеет об имени «нерожденность», признает ли оное за слово, примышленное для выражения безначального бытия первой причины или для объяснения самой сущности? И он очень важно и решительно отвечает, что не сомневается в том, что Бог есть Творец неба и земли. Но как эта речь уклоняется от главного предмета и не имеет с ним связи, точно так же и в его красноглаголивом споре с нами найдешь отсутствие всякой связи с предположенной целью. Рассмотрим это.
Евномиане говорят, что Бог нерожден, и мы согласны с этим, но что нерожденность есть и сущность, этому противоречим, ибо, говорим мы, это имя означает, что Бог существует нерожденно, а не то, что нерожденность есть Бог. Слова наши Евномий обещает опровергнуть. Какое же его опровержение? То, что «нерожденный был, — говорит он, — до происхождения человека». Как же это относится к искомому, к тому, что он обещал доказать, то есть что имя есть одно и то же с (именуемым) предметом, так как, по его определению, нерожденность составляет сущность? Каково доказательство обещанного? Доказывает, что Бог существует прежде тварей, одаренных словом! Какое неоспоримое и удивительное доказательство! Не оно ли самое и есть искусное логическое произведение диалектического искусства? Кто из непосвященных в тайны его учения в силах противостоять ему? В своих различениях значений слова «примышление» он с важностью осмеивает перед нами самое название «примышление»: «из так называемых примышлений, — говорит он, — иное существует только на словах, не имея никакого значения, а иное существует только собственно в мысли, и из сего последнего иное только вследствие увеличения, как например, колоссы, а другое — вследствие уменьшения, например, пигмеи; иное — вследствие прибавки, как, например, многоглавные, другое — вследствие сложения, например, полузвери и полулюди». Видишь, на какую мелкую монету этот мудрец разменял нам «примышление», не удостоив проследить его смысл далее; примышление, говорит он, ничего не значит, не имеет смысла, выдумывает, чего нет в природе, то сокращает, то расширяет установленную меру природы, или слагает из разнородных предметов, или морочит уродливыми прибавками. При этом, играя названием «примышление», он по–своему доказывает, что оно бесполезно и непригодно для жизни. Откуда же высшая из наук? Откуда геометрия, мудрость счисления, учение о логических и физических положениях, изобретения в механике и чудные наблюдения времени и часов при помощи меди и воды? Откуда и самое любомудрие о сущем, и созерцание умопостигаемого, и, сказать кратко, всякое занятие души великими и высокими предметами? А земледелие? А мореплавание? А прочее устроение относящегося к нашей жизни? Отчего море стало проходимо для человека? Как живущему на земле стало служить живущее в воздухе? Как дикое делается ручным? Как укрощается свирепое? Как сильнейшее не сбрасывает узду? Не примышлением ли изобретено все это в человеческом быту? По моему рассуждению, примышление есть способность открывать неизвестное, отыскивающая дальнейшее при помощи ближайших выводов из первого познания о том, что составляет предмет занятий. Ибо, составив некоторое понятие об искомом, мы, при помощи вновь находимых понятий соединяя выводы с тем, что понято в начале, ведем до конца начатое нами исследование.
Но к чему перечислять мне важнейшие и величайшие из успехов примышления? Ибо человеку, не имеющему страсти спорить против истины, легко видеть, что и все прочее, что время открыло полезного и нужного для жизни человеческой, открыто не иначе, как через примышление. И мне кажется, что кто признает примышление драгоценнейшим из всех благ, каким дано действовать в нас в сей жизни и какие вложены в нашу душу Божественным Промыслом, тот не погрешит против правильного образа мыслей. Говорю так, будучи научен Иовом именно теми словами, где Бог является в буре и тучах беседующим с рабом Своим. Вещая то, что прилично вещать Богу, Он говорит при этом и то, что Он Сам научил человека искусствам и даровал жене умение ткать и вышивать узоры (Иов. 38:36). И, конечно, никто, кроме наклонного к плотскому и грубому разумению, не будет возражать против того, что Бог научил нас таким искусствам не какими–либо действиями, не сидя пред нами Сам за работой, как видим это у научаемых плотским образом. Сказано же, что от Него научены мы этим искусствам, потому что, дав нашему естеству способность примышлять и изобретать желаемое, Он Сам довел нас до искусств. На этом–то основании все открываемое и совершаемое примышлением относится (нами) к Виновнику этой способности. Так и врачебное искусство открыла жизнь, однако же не погрешит тот, кто скажет, что врачебное искусство есть дар Божий. И все, что изобретено в жизни человеческой для мира или войны пригодного и полезного к чему–нибудь, не откуда–нибудь отвне появилось у нас, но есть дело ума, все соответственно нам примышляющего и изобретающего. А ум есть произведение Божие; следовательно, от Бога даровано все то, что дано нам умом. Если же противники говорят, что примышлением выдумываются и создаются баснословные выдумки и ложные чудища, то этому и я не противоречу, их мысль даже полезна для нашей цели. Ибо и мы говорим, что знание предметов противоположных между собой, как приносящих пользу, так и оказывающих инаковое действие, — одно и то же само по себе, как например, в науке врачевания, управления кораблем и тому подобное. Умеющий лекарствами помогать больным сумел бы, если бы стал употреблять искусство во вред, внести яд и в здоровых, а направляющий судно при помощи кормила к пристани мог бы направить его на скалы и утесы, если бы ему по злобе хотелось погубить плывущих. И живописец при помощи одного и того же искусства пишет на доске самый изящный образ, и он же опять дает живое изображение самого гнусного вида. Точно так же и учитель детей (гимнастик) при помощи гимнастических приемов приводит вывихнутый член (тела) в должное положение и тем же самым искусством, если захочет, портит здоровый член.
Но к чему обременять речь множеством подробностей? Никто не будет возражать против сказанного, то есть что изучивший какое–нибудь искусство, чтобы делать из него наилучшее употребление, может пользоваться тем же самым искусством и для ненадлежащего приложения. Так, говорим, и способность примышления на благо сообщена Богом человеческому естеству, но у злоупотребляющих способностью примышлять она часто служит и содействует изобретениям бесполезным. Итак, из того, что примышление может создавать ложное и заведомо несуществующее, не следует, что оно не может исследовать подлинно сущее и истинно существующее; самая способность к первому служит для здравомыслящих свидетельством способности и ко второму. То, что представлено с целью произвести в зрителях какое–либо изумление или удовольствие, не обошлось без примышления, направленного к этой цели; но выдумывание ли каких–нибудь (существ) многоруких, или многоголовых, или дышащих пламенем, или обвитых клубами драконов, преувеличивание ли соразмерности частей, сокращение ли размеров естества до смешного, рассказы ли о превращении людей в источники, дерева и птиц, — все подобное (в чем могут находить утеху услаждающиеся такими выдумками) служит, по моему мнению, очевиднейшим доказательством того, что при помощи способности изобретать можно достигать познания и самых лучших из наук. Ибо нельзя же думать, что Подателем вложен в нас совершенный ум для вымысла не могущих существовать предметов, а для изыскания того, что полезно душе, не уделено никакой способности, при помощи которой можно бы достигнуть того, что нам полезно. Но как способность нашей души желать и иметь произволение сообщена естеству преимущественно для того, чтобы стремиться к прекрасному и доброму, если же кто–нибудь употребит эту силу не на то, на что должно, то никто не скажет, что случившееся стремление к дурному служит свидетельством того, что воля не склонна ни к чему доброму; так и устремление примышления на предметы пустые и бесполезные не свидетельствует о его бессилии к полезной деятельности, а доказывает, что оно способно производить и полезное для души, и необходимое. Ибо как там оно изобрело что служит для удовольствия или для изумления, так и здесь оно не уклонится от того, что ведет к истине. А один из исследуемых вопросов состоял в том: первая причина, то есть Бог, безначален ли или имеет бытие, зависящее от какого–нибудь начала? Постигнув же разумом, что «первого» невозможно мыслить происходящим от чего–либо иного, мы для выражения этого понятия примыслили имя и говорим, что существующий без всякой высшей причины существует безначально и нерожденно. Имеющего таковое бытие мы наименовали нерожденным и безначальным, означая сим именем не то, что Он есть, а то, что Он не есть. Чтобы значение этого имени стало совершенно ясно, я попытаюсь представить самый наглядный пример. Пусть о каком–нибудь дереве будет исследование, саженное оно или само выросло. Если оно будет посаженное, то, конечно, назовем дерево саженным; если же само выросло, назовем несаженным. Такое название не уклоняется от истины, потому что, конечно, ни тем, ни другим названием не обозначается отличительная природа растения. Из названия «несаженное» мы узнали, что оно самородное; а платан ли это, или виноградная лоза, или другое какое–нибудь их подобных растений указываемое дерево, этого мы не узнали из такового наименования.
Если пример понят, то время перейти к предмету, для которого представлен пример. Мы уразумели, что первая причина имеет бытие без всякой высшей причины, посему Бога, существующего нерожденно, мы, облекая эту мысль в форму имени, наименовали нерожденным. Что Он имеет бытие не путем рождения, это мы выразили значением сего имени; какова же по своему естеству самая сущность, нерожденно имеющая бытие, к разумению сего нисколько не ведет нас это наименование. Ибо умозаключающему примышлению неестественно иметь столько силы, чтобы возвысить нас над пределами (нашей) природы, возвести к непостижимому и недоступное для разумения обнять нашим ведением.
Но Евномий продолжает терзать (нашего) наставника, издевается над его словами о примышлении, опять позорит сказанное, обычной трескотней словишек осмеивая то, что сказано, и говорит: «Постыждается свидетельствами тех самых, чьими объяснениями пользуется». Указав на некоторую часть рассуждений нашего наставника о примышлении, ту именно, где он говорит, что примышление употребляется не на одну суетную деятельность, но имеет некоторую силу и для деятельности более высокой, и объясняет сказанное примерами пшеницы, семени и пищи, обвиняет его в том, что он следует внешней философии и ограничивает Божественное примышление, не признавая происхождение названий предметов от Самого Бога, что он оказывает содействие безбожникам, восстает против Промысла, уважает их образ мыслей более, нежели законы Божеские, усвояет им большую мудрость, не обратив внимания на начальные слова Писания, где дается наименование плоду и семени еще прежде изведения человека в бытие (Быт. 1:11–12). Таковы возводимые им на нас обвинения. Эти мысли изложены им не в таких выражениях, но мы изменили изложение лишь настолько, насколько нужно для исправления грубости и жесткости в словосочинении сказанного им. Что же мы скажем? Что ответим охранителю Божественного промысла?
Он обвиняет нас в неправде за то, что мы не отрицаем, что человек создан от Бога разумным, но изобретение речений относим к силе разума, данной Богом естеству человеческому. В этом и состоит самое тяжкое преступление, за которое учитель благочестия обвиняется в переходе на сторону безбожников и называется наследником и защитником преступной привычки и другими страшными именами. Пусть же отвечает исправитель наших погрешностей. Бог дал имена существующим (предметам) — так говорит новый толковник таинственных учений, — потому что и ростку, и былью, и траве, и семени, и дереву, и прочему дал имена прежде создания человека, когда повелением своим творил все, что получило бытие. Итак, если он останавливается на одной букве, и в этом отношении держится иудейского образа мыслей, и если еще не научился тому, что христианин есть ученик не письмени, но духа, ибо «письмя», по слову Апостола, бо «убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6), но выставляет нам одно дословное чтение букв и убежден, что их произносил Сам Бог, то он допускает не иное что, как то, что и Бог по подобию людей употреблял пространные речи, выражая мысли при помощи голоса и звука. Если он так разумеет сие, то, конечно, не будет отвергать и того, что из этого следует. Наше, человеческое, слово произносится при помощи голосовых органов, дыхательного канала, языка, зубов, рта, при чем произведению звуков содействуют течение воздуха и дыхание изнутри. У нас дыхательный канал снизу дает звук, будучи прилажен к горлу наподобие флейты, в небо посредством верхней пустоты, простирающейся до ноздрей, сверху усиливает звук звонкостью, как будто какая–нибудь струнная подставка. И щеки содействуют речи, сообразно с различием звуков то делаясь впалыми, то поднимаясь, и затем проводя звук далее через тесный проход соответственно многоразличным поворотам языка, производимым той или другой частью его, когда при помощи зубов или неба он как бы делает шероховатым или сжимает проходящее по нему дыхание. Помогает несколько и содействие губ, разнообразно различными родами движения определяющих звук и довершающих образование слов. Итак, если Бог, именуя и росток, и былье, и Дерево, и плод, дает предметам имена, как изъяснил новый толкователь Божественной истории, то Ему совершенно необходимо произносить каждое из этих имен не иначе, как так, как говорят обыкновенно, то есть при помощи сочетания слогов, из которых одни образуются посредством движения губ, другие посредством языка и иные при помощи того и другого органа. Итак, если имя изрекается не иначе, как с помощью голосовых органов, производящих посредством известного движения слоги и слово, то, конечно, он припишет Богу и эти органы и ради употребления слова придаст Божеству форму. Ибо всякое устроение органов, производящих голос, непременно имеет форму, а форма есть очертание тела, всякое же тело неизбежно имеет сложность. А где усматривается сложность, там, конечно, разумеется и разложение сложного; разложение же, по своему понятию, есть одно и то же с нетлением. Итак, торжество над нами этого сочинителя кончается тем, что ему приходится признать своего Бога, которого он создал при помощи имени «нерожденность», говорящим, дабы не остаться ему чуждым изобретению имен, признать снабженным голосовыми органами, дабы изрекать имена, и даже не лишенным телесного естества, как требует того очертание, ибо никакое очертание само по себе не может быть умопредставляемо без представления тела. Затем, постепенно подвигаясь далее, «дойдем до представления (в Божестве) страстей, сродных телу, от сложности дойдем до разрушения, а от него — до конечного нетления. Вот какое естество у нового бога открыл (нам) последовательный вывод из сказанного новым творцом богов!
Но он стоит за Писание и говорит, что Моисей весьма ясно возглашает: «рече Бог», и приводит самые речение: «да будет свет, да будет твердь, да соберется вода, да явится суша, да прорастит земля, да изведут воды» и все прочее, что написано за сим (Быт. 1:3; 1:6; 1:9; 1:11; 1:20). Исследуем же смысл сих слов. Кто даже из младенцев не знает, что слух и слово имеют взаимное соотношение и что как слух не обнаруживает деятельности, если не раздаются звуки, так не действительно и слово, не направленное к чьему–либо слуху? Итак, если утверждает, что Бог говорил, то пусть укажет нам и слух (тех), для кого Он говорил. Или он скажет, что Бог говорил Себе Самому? Следовательно, давая сии повеления, Он повелевает Себе Самому. Кто же согласиться на то, что Бог сидел, давая Себе повеления, что должно делать, и Самого же Себя употреблял служителем и исполнителем повелений? А если бы и согласился кто–нибудь признать это благочестивым, то кто даже из людей имеет нужду в речах и разговорах с самим собой? Каждому достаточно одного движения мысли для того, чтобы выполнить стремление своей воли. Он скажет, конечно, что Бог беседует с Сыном, но зачем же тут нужен звук? Естеству плотяному свойственно словами выражать помышления сердца, посему и изобретено равносильное с употреблением голоса выражение (мыслей) посредством письмен, ибо одинаково выражаем мысль, говорим ли или пишем. На расстоянии не очень далеком голосом достигаем слуха, а для находящихся далеко выражаем мысли письменами; да и для присутствующих, смотря по расстоянию, мы или напрягаем силу звука, или ослабляем. А иногда и одним мановением объясняем находящимся вблизи, что нужно сделать, так что и то или другое выражение глаза указывает явившееся в душе намерение, и известное движение руки допускает или отвергает что–либо. Итак, если облеченные телом часто выражают присутствующим сокровенные движения мысли без помощи звука или слова и без письменного собеседования, и при этом молчание не причиняет никакого вреда делу, которое нужно исполнить, то для невещественной, и неосязаемой, и, как говорит Евномий, высочайшей, и первой сущности неужели нужны речения, которые объясняли бы мысль Отца и Единородному давали бы знание о изволении Отчем, — речения, которые, по выражению самого Евномия, рассеваются вместе с звуком? Не знаю, кто из обладающих рассудком примет это как истину, особенно когда всякий звук всегда изливается в воздух. Ибо звук не иначе может существовать, как составляясь в воздухе, и совершенно необходимо допустить какую–либо среду, находящуюся между говорящим и тем, к кому обращена речь. Если нет (чего–либо) посредствующего, то как звук от говорящего перейдет к слушающему? Итак, какую назовут они среду, которой отделят Сына от Отца? Для тел такая среда, составляющая по своему естеству нечто отличное от сущности человеческих тел, заключается в воздухе. А если Бог, неосязаемый, не имеющий образа и чистый от всякой сложности, сообщая свои изволения Единородному Богу, подобному Ему, или, лучше, точно так же, как и Он, невещественному и бестелесному производит это сообщение при помощи голоса, то что же в сем случае служит средою, через которую слово, протекая и проходя, доходит до слуха Единородного? Нет нужды указывать и на то, что в Божестве не разделены действия познания наподобие того, как у нас каждое из орудий чувства отдельно воспринимает сродное себе чувство, например, зрение воспринимает видимое, чувство слуха — слышимое, а ни осязание не вкушает, ни слух не воспринимает испарений или вкусов, но каждое чувство остается при одной деятельности, для которой оно устроено природой, и некоторым образом остается бесчувственным к тому, что для него необычно, и не ощущает удовольствия, каким пользуется соседнее чувство. А там не так, но все Божество всецело есть ведение, и слух, и знание; а другие более животные чувства непозволительно приписывать чистому Естеству, разве только можно предположить в нем и что–либо дольнее и низвести понятие Божества до грубых представлений. Итак, при мысли, что Отец изрекает слова устами и что слух Сына при сем действует, какую предположим среду, проводящую голос Отца к слуху Сына? Она должна быть созданная или несозданная. Но созданной ее нельзя признать, ибо слово (Отца) было прежде, чем последовало создание; а несозданного, кроме естества Божеского, нет ничего. Итак, если ничего созданного еще не было, а слово, упоминаемое при сотворении мира, было старше (всякого) творения, то утверждающий, что сим словом обозначаются речения и звуки голоса, какую предположит между Сыном и Отцом среду, в которой образовался звук и речения? Ибо если есть среда, то, конечно, она имеет свое особое естество, так что не тождественно с Отцом и не сходно по естеству с Сыном, но есть нечто совершенно иное, отделяющее взаимно Отца от Сына, втесняющееся между Обоими. Что же это такое? Оно не создано, ибо творение позднее слова, рожден же, как мы научены, (один) Единородный, а нерожденного, кроме Отца, нет ничего. Итак, истина по необходимости не допускает мыслить никакого посредства между Отцом и Сыном. А где пространственное разделение не мыслимо, там, конечно, допускается соприкосновение (το συνημμενον), а во всем соприкасающееся не имеет нужды в посредстве голоса и речи. Соприкасающимся я называю неотделимое ни в чем. Ибо по отношению к естеству умопредставляемому слово «соприкосновение» означает не какое–либо телесное сращение, но единение и срастворение умопостигаемого с умопостигаемым по силе тождества хотений. Ибо между Сыном и Отцом нет разности в хотении, но по первообразной красоте благости и (Сын) есть образ благости. Если кто смотрится в зеркало (ничего не препятствует представить мысль при помощи плотских примеров), то образ отразится во всем согласно с первообразом, так как причина образа в зеркале есть образ смотрящийся; отображение само собой не двинется и не уклонится, если в первообразе не последует начало уклонения или движения; если же находящееся перед зеркалом сделает движение,.то вместе с тем совершит движение и отображаемое в зеркале. Так, говорим, и образ Бога невидимого Господь непосредственно и неотступно сопоследует Отцу во всяком движении изволения. Отец восхотел чего–либо, и Сын, сый во Отце, познал изволение Отца, или, лучше, Сам соделался изволением Отчим. Поелику имеет в Себе все Отчее, то для Него нет ничего Отчего, чего бы не имел Он. Если же имеет в себе все Отчее или, лучше, и Самого Отца, а с Отцом, конечно, и то, что принадлежит Отцу, то в Себе Самом Он имеет всецелое изволение Отчее. Посему Он не имеет нужды из слова узнавать изволение Отца, Сам будучи Словом Отчим в высшем значении слова. Да и какое могло бы быть слово к Слову истинному? И как опять Слово истинное нуждается еще в ином слове для научения? По слову Апостола, сый в Боге «вся испытует, и глубины Божия» (1 Кор. 2:10). Итак, если Бог изрекает какие–либо речения, а всякое слово принимается слухом, то объявляющие, что Бог действует при помощи раздельных слов, пусть укажут нам и собрание слушателей Божественных слов. Себе говорить Он не имеет нужды; Сын не нуждается в научении речениями; «Дух», сказано, «вся испытует, и глубины Божия» ; твари же еще не было; к кому же обращена была речь? Но не лживо же, говорит он, Писание Моисея, из которого знаем, что Бог говорил нечто. И великий Давид не к лживым свидетелям принадлежит, а он ясно говорит именно сими словами: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум» (Пс. 18:2–3). И сказав, что небеса и твердь поведают, а день и нощь возвещают разум и глаголы, он снова прибавляет к сказанному, что это «не суть речи, ниже словеса, ниже не слышатся гласи их» (Пс. 18:4). Каким же образом поведания, возвещения и глаголы не суть ни речи, ни глас, воспринимаемый чувством слуха? Или пророк себе противоречит? Или повествует он о чем–то невозможном, говоря о глаголах без звуков, о поведании без речей и о возвещении без голоса? Или же, лучше, истинное слово пророческое не научает ли сими словами тому, что поведание небес и глаголы, возвещаемые днем, не суть членораздельные звуки, но что учение о Божеском могуществе сообщается умеющим слышать и безмолвный глас?
Как же думать об сем? Если уразумеем сие, то, может быть, уразумеем и слова Моисея. Для ясного уразумения объясняемого предмета Писание часто пользуется рассмотрением умопостигаемого в чем–нибудь более плотском, как например, и в том учении, которое, по моему мнению, возвещает Давид. Своими словами он научает тому, что ничто существующее не получило бытия от какого–то самопроизвольного случная, как думали иные, что случайные и неуправляемые разумом самосочетания первоначальных стихий образовали весь наш мир и все, что в нем, без всякого участия провидения; но что есть некая Причина создания всего и управления, от которой зависит вся природа, от нее получая свои начала и причины, к ней направляясь и обращаясь и в ней пребывая. И поелику, как говорит Апостол, «присносущная сила Его и Божество, от создания мира помышляема, видима суть» (Рим. 1:20), то посему всякая тварь и прежде всего, как говорит Писание, устроение небесное являет премудрость Творца в искусстве, открывающемся из созданного. По моему мнению, Пророк желал представить из области видимого свидетельство, что существующее устроено премудро и с великим искусством и силой Правящего всем пребывает навсегда; сами небеса, говорит он, тем самым, что являют премудрость Создателя, едва не голосом говорят, вопиют и проповедуют премудрость Творца без (пособия) голоса. Можно слышать, как они учат сему, как бы словами говоря: «Взирая на нас, о люди, и на нашу красоту, величие и вечно движущийся небесный круг, на движение благоустроенное и согласное, всегда совершающееся одинаково, помыслите об Установителе нашего устройства; по красоте видимой судите о красоте первообразной и невидимой; в нас нет ничего неподвластного Владыке — или самодвижущегося, или произвольного, но и видимое в нас, и усматриваемое мыслью зависит от верховного и неизреченного могущества». Это не членораздельная речь, но посредством видимого она влагает в души познание о Божеском могуществе лучше, чем если бы проповедовало слово, выражаемое звуками. Посему как небеса проповедуют, не издавая звуков, и как твердь возвещает творение Божие, не нуждаясь в голосе, и день не произносит глаголов, и речей здесь нет, и никто не скажет, что слово пророческое погрешает; таким же образом единый Учитель обоих: и Моисея, и Давида, — то есть Дух Святой, говоря, что созданию предшествовало повеление, являет нам Бога Создателем не речений, но предметов, указываемых значением речений, дабы мы не почитали творения никому не подвластным и происшедшим от себя самого, но на основании порядка, изложенного Моисеем в виде повествования о мироздании догматически, мудрствовали, что тварь произведена. Лучше сказать, каждым выражением сего повествования ясно изобличается заблуждение и неосновательность мысли наших противников. Каждый желающий, читая написанное нами объяснение на книгу Бытия, может оценить, что основательнее: наше ли учение или учение противников. Но возвратимся к предстоящему нам делу.
Выражение «рече» нисколько не указывает на голос и речь Божию, но, означая могущество, соприсущее изволению Божескому, представляет с большей доступностью для наших чувств умопостигаемое учение. Поелику все существует по воле Божией; а люди привыкли наперед выражать хотение свое словами и потом производить действие согласно с хотением; описание же творения мира служит для начинающих некоторым введением кбогопознанию, и могущество Божеского естества представляет в чертах, наиболее пригодных для уразумения; а всего легче познание умопостигаемого достигается при помощи чувств; то, говоря, что Бог изрек повеление чему–либо произойти, Моисей изображает свободное хотение воли, а прибавляя: «и бысть тако», показывает, что для Божеского естества нет никакого различия между изволением и действием. Он научает, что у Бога мысль предшествует действию, и однако же действие не запаздывает явиться вслед за помышлением, но что то и другое представляются вместе и совокупно, и движение произволения в уме, и сила, совершающая действие. Ибо понятие произволения и действия нисколько не допускает мысли о чем–либо, посредствующем между ними; но как при воспламенении огня одновременно является и свет, который и происходит от огня и вместе с ним сияет, так и действие Божеского изволения есть самое осуществление происшедшего и не занимает после хотения второго по порядку места. Здесь не так, как у других существ, у которых от природы есть сила совершать что–либо; иное у них умопредставляется в возможности, а иное в действительности исполнения. Мы, например, говорим, что кораблестроитель всегда обладает кораблестроительным искусством в возможности, но обнаруживает его в действительности, когда на деле показывает свое знание. Не так в Жизни блаженной, но все в ней умопредставляемое действительно и есть деятельность, и изволение переходит в осуществление предположенной цели без всякого посредства. Посему как устроение небесное, свидетельствуя о славе, подобающей Зиждителю, поведает Творца и не нуждается в звуках голоса, так и всякий, противопоставляющий моим словам Писание Моисеево, пусть рассудит, что Бог, все осуществивший повелением Своим, и говорит, что мир Его творение, и в то же время для возвещения сей мысли не имеет нужды в словах. Как слышащий проповедание небес не ищет услышать от них членораздельную речь, ибо для обладающего разумением мир говорит посредством того, что совершается в нем, предоставляя другим существам объяснять словами; так и слышащий слова Моисея, что Бог как бы поименно дает повеление и заповедь относительно каждой из частей мира, пусть не предполагает, что пророк говорит ложь, и пусть не унижает высокое учение мелкими и грубыми представлениями, усвояя в них Божеству человекообразное действование и предполагая, что Бог изрекает повеления голосом подобно людям. Повеление должно означать изволение, а наименования созданного должны означать сущность сотворенного. Таким образом, слова научают двум истинам: той, что Бог сотворил все по Своей воле, и той, что Божеское изволение без усилий и труда стало естеством.
Если же кто выражение «рече Бог» толкует более плотским образом, утверждая на основании сего, что Бог произносил членораздельные слова, тот и на основании выражения: «виде Бог» (Быт. 1:4), конечно, будет предполагать, что Бог познает посредством деятельности очей по подобию нашего, имеющего способность воспринимать, чувства зрения. А так же выражения: «слыша Господь и помилова мя» (Пс. 29:11), и: «обоня воню благоухания» (Быт. 8:21) и все прочее, что Писание человекообразно повествует о главе Божией, ногах, руках, веждах, перстах, обуви, — приняв в ближайшем значении, представить нам Божество человекообразным, сходно с тем, что есть у нас. Если же слыша о произведении перстов Его — небесах, о крепкой руке Его, высокой мышце, об оке, веждах, ногах, обуви, разумеет при каждом из таких выражений понятия, Богу приличествующие, и не оскверняет речь о чистоте естества нечистой примесью плотских мнений; то по требованию последовательности должен признать и изглаголание слов за обозначение Божеского изволения, не считать их членораздельными звуками, но размыслить о том, что Создатель разумного естества даровал нам слово, соответственное мере естества, чтобы мы могли, при помощи его, возвещать движения души. А в какой мере отстоит естество от естества, Божеское — от нашего, в такой же мере все принадлежащее к нашему существованию, что усматривается в нас, различно от величайшего и Богу приличного образа бытия. И как наша сила, сравниваемая с могуществом Божиим, есть ничто, и как наша жизнь сравнительно с Его жизнью, и все вообще наше в сравнении с принадлежащим Ему, есть «яко ничтоже» пред Ним (Пс. 38:6), по выражению Пророка, — так и наше слово, в сравнении с Словом истинно сущим, есть ничто. Наше слово в начале не существовало, но создано вместе с нашим естеством; его нельзя понимать как имеющее собственную сущность, но оно, как говорит где–то наставник наш, исчезает вместе со звуком языка; нельзя также представить наше слово делом, но оно имеет свое существование в одном голосе и письме. А слово Божие есть Бог, Слово, сущее в начале и вечно пребывающее, Им все существует и стоит, «Оно над всем владычествует и имеет всякую власть над небесным и земным…» Оно — жизнь и истина, правда, и свет, и всякое благо, и сохраняет бытие всего. Вот каково и сколь высоко Слово, разумеемое в Боге; а Евномий дарит Богу как нечто великое слово, составленное из имен, глаголов и союзов, не разумея того, что даровавший естеству нашему деятельную силу не может быть назван Творцом каждого нашего действия. Он дал естеству нашему силу, а уже мы сами делаем дом, скамью, меч, плуг и вообще нужное для жизни; каждое в отдельности из сих произведений есть наше дело, но имеет отношение к Виновнику нас самих, создавшему наше естество способным ко всякому знанию. Так и сила слова есть дело Создавшего наше естество таковым, а изобретение слов, каждого в отдельности, придумано нами самими, чтобы пользоваться ими для обозначения предметов. Сие подтверждается тем, что повсюду признаются постыдными и неприличными многие слова, изобретателем которых ни один здравомыслящий не признает Бога. И хотя в божественном Писании от лица Божия изрекаются некоторые из обычных у нас речений, но нужно знать, что Дух Святый беседует с нами нашими же словами. Так и из повествования книги Деяний (Деян. 2:6) знаем, что каждый принимал учение на собственном природном языке, внимая силе слов при помощи известных ему речений.
А что это истинно, узнает более, кто тщательнее исследует левитское законоположение, ибо там Моисей при описании таинственных священнослужений упоминает «о сковраде и опресноке» (Лев. 2:4–5), и «пшеничной муке» (Лев. 9:4) и о подобных именах, символически и загадочно указуя на некоторые душеполезные догматы. Поименовывает и меры некоторые, тогда обычные, говоря о некоей «ифи», и «невел (мех)» (1 Цар. 1:24), и «ин» (Лев. 23:13) и о многом таковом. Но сотворил ли Бог сии названия и наименования и установил ли изначала, чтобы так было и называлось, приказал ли, чтобы такое–то семя называть пшеницей, сотрение же его именовать мукой, обыкновенные, подобные перепонке и распластанные печенья называть опресноками, а такой–то сосуд, в котором изжаривается и иссушается жидкость теста, наименовать «сковрадою», такое–то количество жидкости называть именем «ин» или «невел», а более сухие плоды измерять «гомором» ? Болтовня и суетность иудейская, совершенно чуждая возвышенности образа мыслей христиан, думать, что великий, и вышний, и превысший всякого имени и мысли Бог, единою силой изволения все обдержащий и изводящий в бытие и в бытии сохраняющий, — сей (Бог), как бы некоторый грамматик, сидит, занимаясь тонкостями такого установления имен. Но как глухим посредством знаков и движений рук означаем, что должно делать, не потому, чтобы сами не имели собственного голоса, когда это делаем, но потому что для неслышащих совершенно бесполезно изъяснение посредством слов, так, поелику и человеческое естество некоторым образом глухо и не слышит ничего горнего, то и благодать Божия, говорим мы, «многочастне и многообразие» глаголавшая «во пророцех» (Евр. 1:1), руководит нас к уразумению горнего, сообразуя речения святых пророков с тем, что нам ясно и привычно, а не предлагает научения, соответственного собственному величию (ибо как в малом вместилось бы великое?), но снисходит к скудости нашей силы. Как Бог, дав животному силу движения, уже не управляет и каждым порознь его шагом, потому что естество (его), однажды получив начало от Творца, само себя движет и направляет, совершая какое куда угодно движение, исключая только того случая, когда (как) говорится: «от Господа исправляются стопы мужу» (Притч. 20:24), так и получив от Бога возможность говорить и произносить звуки и голосом возвещать желаемое, естество (наше) действует само собой, налагая на существующие (предметы) некоторые знаки посредством известного различия звуков. Таковы произносимые нами речения и имена, которыми мы означаем свойства предметов. И хотя у Моисея говорится о плоде прежде рождения плодов и о семенах прежде семян (Быт. 1:11–12), но этим не опровергаются наши слова и сказанному (нами) о примышлении не противоречит мысль Законодателя. Ибо то самое, что мы называем плодом предел прошедшего земледелания, а семенем — начало будущего, научает (нас), что самые вещи, подлежащие наименованию, будет ли то пшеница или иное что из размножающегося посредством сеяния, не сама собой происходит, но по воле Творца рождается с такой силой, чтобы тому же самому быть плодом и опять само себя производить, став семенем, и избытком питать человека. Происходит же по Божественному изволению вещь, а не имя; так что вещь по своему существованию есть дело силы Сотворившего, а звуки, служащие для распознания существующих вещей, посредством которых разум означает каждую порознь, чтобы дать точное и неслитное познание о ней, суть дело и изобретение способности слова; самая же сия способность слова и естество (наше) есть дело Божие. А поелику дар слова находится у всех людей, то необходимо, по различию народов, усматриваются и различия имен. Если же кто скажет, что Богом изречены по–человечески слова «свет», или «небо», или «семена», — тот, конечно, допустит мысль, что сии слова составлены на одном каком–либо наречии языка. Какое же это наречие, пусть укажет; ибо знающему то, конечно, не следует не знать и этого. И при Иордане после (снишествия) силы Духа, и опять в слух иудеев (Ин. 12:29), и во время преображения был глас свыше, научающий людей, чтобы они Являющегося им не почитали только каким–то призраком, но веровали, что Он есть истинно возлюбленный Сын Божий; таковой глас для вразумления слушающих был образован Богом в воздушной стихии соответственно преобладающей привычке говорящих. Так Бог, «всем» хотящий «спастися, и в разум истины прийти» (1 Тим. 2:4), сочленил в воздухе слово, имея целью спасение слушающих, как и Господь говорит иудеям, думавшим, что «гром бысть» потому, что звук составился в воздухе, что «не Мене ради глас сей бысть, но» вас «ради» (Ин. 12:29–30). А говорящий, что Бог употреблял речения прежде создания всего, когда не было никого, воспринимающего слово, или какой–либо вещественной стихии, в которой мог бы образоваться членораздельный звук, как может воздать должное слову? Сам (Бог) бестелесен, твари не было, ничего вещественного около Него разум мыслить не дозволяет, а те, кои могли бы получить пользу от слышания, еще не существовали, людей не было, и даже совершенно еще не образовались наречия по какой–либо особенности народов. Итак, обращающий внимание на одну только букву (Писания), какими доказательствами подтвердит то разумение, что Бог говорил самые те речения и мысли?
Пусть же и из следующего узнают пустоту тех, кои говорят это. Как естественные свойства стихий, будучи делом Творца, всем являются одинаково и нет никакого различия относительно ощущений, когда испытывают действие огня, или воздуха, или воды, но естество у всех одно и неподвижно, одинаково действует и нисколько не изменяется по различению испытывающих его действие, так и имена, если бы были установлены и согласованы с вещами Самим Богом, у всех были бы одни и те же. Но теперь, естество вещей, как водруженное Богом, пребывает недвижимым, а звуки, служащие для обозначения их, разделились на столько различий языков, что даже и исчислить (их) по множеству нелегко. Если же кто смешение (языков) при столпотворении представит как противоречие сказанному, то и здесь не говорится, что Бог творит языки людей, но смешивает существующий язык, чтобы не все понимали всех (Быт. 11:6–9). Потому что пока все жили одинаково, и люди еще не разделились на многие различия народов, вся совокупность вместе живших людей говорила одним языком; после же того, как по Божественному изволению должна была соделаться обитаемой вся земля, по расторжении общения языка, люди рассеялись по разным местам, и каждый народ (вновь) образовал особый характер речений и звуков, получив в удел единогласие, как бы некоторую связь взаимного единомыслия, так что, не разноглася относительно знания предметов, люди стали различаться образом именования (их). Ибо не иное что кажется камнем или деревом (одним и не иное) другим, а имена (сих) веществ у каждого (народа) различны, так что остается твердым наше слово, что человеческие звуки суть изобретения нашего рассудка. Потому что мы не знаем из Писания ни того, чтобы в начале, когда еще человечество было само с собою единогласно, сообщены были слова от Бога каким–либо научением, ни того, чтобы, когда языки разделились на разные отличия, Божественный закон установил, как каждый должен говорить; но Бог восхотел, чтобы люди были разноязычны, предоставил им идти естественным путем и каждому (народу) как угодно образовать звук для объяснения имен. Итак, Моисей, живший много поколений спустя после столпотворения, употребляет один из последующих языков, повествуя нам исторически о происхождении мира и приписывая Богу некоторые слова, излагает их на своем языке, на котором был воспитан и к которому привык. Он не отличает слов Божиих особенностью какого–нибудь инородного и странного звука, чтобы необычайностью и отличием имен показать, что это слова Самого Бога, но, употребляя обычный язык, одинаково излагает и свои слова, и Божий. А некоторые из тщательнее изучивших Писание говорят, что еврейский язык даже и не так древен, как остальные, но что вместе с другими чудесами совершилось у израильтян и то чудо, что этот язык вдруг дан народу после (исшествия из) Египта. И у пророка есть одно место, удостоверяющее это: «внегда изыти ему», говорит, «из земли Египетския, тогда языка, егоже не ведяше услыша» (Пс. 80:6). Итак, если еврейский язык новее других и произошел позже всех по создании мира, если Моисей — еврей и излагает речения Божий на своем языке, то не ясно ли он учит, что не приписывает Самому Богу таковой речи, образованной по–человечески, но говорит так потому, что разумеемого им иначе и не возможно выразить, как человеческими звуками, а означает тем, что говорит какую–либо боголепную и величественную мысль? Не знаю, как здравомыслящий может согласиться с той мыслью, что Бог употреблял еврейский язык, когда не было никого, кто бы мог слышать слова этого языка. Книга Деяний учит нас, что Божественная сила для того разделилась на многие языки, чтобы никто из иноязычных не лишился полезного; но Бог, говоря по–человечески прежде творения, кому имел в виду принести пользу такой речью? Соображать свое слово со способностью слушателей для (достижения) пользы никто не сочтет недостойным Божеского человеколюбия, потому что и подражатель Господа Павел умел стройно применять свою речь к свойствам слушателей, предлагая млеко младенцам и крепкую пищу совершенным (Евр. 5:12–13). Если (же не смотря на то, что) не было никакой цели, которая бы достигалась таковым употреблением слов, утверждают, что Бог произносил некоторые такого рода речения для Себя (так как не было никого, кому бы нужно было изъяснение посредством этих слов), то не знаю, как не назвать такого мнения не только смешным, но и вместе хульным. Итак, речь Божия не произносится ни на еврейском, ни на другом каком–либо из употребляемых между народами языке, но все, какие ни есть Божий слова, написанные Моисеем или пророками, суть указания Божеской воли, то так, то иначе сообразно с достоинством причастников благодати озаряющие чистую и владычественную силу (ума) святых. Итак, Моисей говорил тем языком, который был для него природным и в котором был воспитан, а Богу приписывал эти слова, как не раз было сказано, по незрелости только что приводимых еще к богопознанию для яснейшего представления Божеской воли, дабы удобнее убедить слушателей, внушая им страх достоверностью Того, Кто говорил им.
Но не соглашается с этим Евномий «наследник и защитник преступной привычки» (так как он произносит против нас такое оскорбление, то я в замену обиды буду его приветствовать к его бесчестию его же собственными словами). Он усиливается утверждать, что сам Моисей свидетельствует в пользу его мнения, что Создавший природу даровал людям пользование как предметами именуемыми, так и самими именами, и что название того, что дано, старее самого происхождения пользующихся оным; все это он говорит именно так буквально. Если он приобрел своего какого–нибудь Моисея? у которого научается такой мудрости, побуждаемый которой дерзает утверждать такие речи, что Бог законополагает, как сам он говорит, людские речения повелевая прилагать к предметам слова (именно) так, а иначе воспрещая, то пусть говорит какой угодно вздор, имея споборником своих слов потаенного Моисея. Если же один (только) есть Моисей, Писание которого общеизвестно всем изучающим слово Божие, то мы признаем себя виновными, если будем обличены Моисеевыми законами. В самих Писаниях Моисея излагается происхождение мира, вслед за тем родословие людей, история некоторых событий и различные законоположения, относящиеся к богослужению и к правилам жизни. Если же Евномий говорит, что там есть какое–нибудь законоположение касательно речений, то пусть укажет закон, и я замолчу. Но он не может сего сказать, потому что, оставив в стороне более ясные доказательства, не станет предлагать таких, которые для всех здравомыслящих делают его более смешным, чем убедительным. Ибо не признак ли крайней простоты думать, что верх благочестия — приписывать Богу изобретение речений, — Богу, для восхваления Которого мал целый мир и чудеса его, и оставив великое, прославлять Божество, приписывая Ему человеческие дела. Творение предварялось повелением, выраженным у Моисея по–человечески, но бывшим как прилично Богу. Творческое начало всего созданного Божеской силой есть воля (Божия), а оный, тонкий знаток Писания, объявляет, что это начало есть наука речений. И как будто бы Бог сказал: да будет речь, — или: да создастся слово, — или: да получит то–то такое–то название, — он в защиту своих бредней указывает на самостоятельное движение творчества в Божеской воле, от большой внимательности и опытности в изучении Писаний не зная даже того, что и устремление мысли часто в Писании называется словом. Свидетель тому сам Моисей, которого часто терзая, в этом отношении не знает. Кто из сколько–нибудь знакомых с его книгами не знает, что народ израильский, незадолго бежавший из Египта, внезапно приведен был в ужас в пустыне нашествием египтян? Когда отовсюду угрожали им опасности, — там море заграждало проход, позади неприятели возбраняли бегство, — обступив пророка, они обвиняли его в своей беспомощности. В то время, когда он утешал пораженных страхом и внушал им мужественную бодрость, слышится глас от Бога, зовущий пророка по имени: «что вопивши ко Мне» (Исх. 14:15)? И хотя прежде этого Писание не упоминает ни о каком гласе Моисея, но мысль пророка (устремленная) к Богу названа некоторым гласом, и при молчании вопиющим в сокровенном помысле сердца. Если же Моисей и не говоря вопиет пред свидетелем, слышащим воздахания неизглаголанные (Рим. 8:26), то что странного, если пророк, зная, сколько возможно было ему сказать, а нам выслушать Божескую волю, объяснил ее посредством нам известных и обычных слов, описав, как телесную, речь Божию, бывшую не в словах, но возглашаемую самими делами? «В начале сотвори Бог», говорит он, не имя неба и земли, но «небо и землю» (Быт. 1:1); также «рече: да будет свет», а не название света; и разделив свет от тьмы, «нарече», говорит, «Бог свет день, а тьму нарече нощь» (Быт. 1:3; 1:5).
Вероятно, наши противники станут опираться на эти слова. Соглашусь с тем, что они скажут, а что представлено ими, приведу после при дальнейшем исследовании, чтобы сильнее утвердить наше учение, не оставив без исследования никакого противного мнения. «Нарече», говорит, «Бог твердь небо и сушу землю» ; и «свет день, и тму нарече нощь» (Быт. 1:10; 1:5). Спрашивают: когда Писание признает, что сии названия положены Богом, то как вы говорите, что имена придуманы людьми? Что сказать нам на это? Опять прибегаем к обычному слову и говорим, что изведший всю тварь из небытия в бытие есть Создатель вещей, рассматриваемых в их сущности, а не имен, не имеющих существенности и составленных из звуков голоса и языка; вещи же вследствие находящейся в каждом природной способности именуются каким–либо служащим для означения их звуком; так что название соглашается с предметом сообразно с местным у каждого народа обычаем. Но поелику большая часть вещей, усматриваемых в творении, имеют не простое естество, так чтоб предмет мог быть вполне выражен словом (так, в огне: иное здесь предмет, по своей природе подлежащий названию, и иное — название, обозначающее предмет; первый есть нечто святящее, жгущее и истребляющее то вещество, которое охватит, а название есть некий короткий звук, выражаемый одним слогом πυρ), то поэтому слово, разделяя усматриваемые в огне силы и качества, каждое именует особенно, и, как мы прежде сказали, никто не скажет, что дано только одно имя огню, когда поименовывает или светлость, или истребительность, или другое какое из замечаемых в нем качеств, потому что эти названия служат для обозначения естественно принадлежащих ему свойств. Таким же точно образом и относительно неба и тверди, тем и другим именем означается одно и то же естество, но различие названий указывает на некоторую особенность в том, что произошло при этом творении. Так что мы, имея в виду это, иное нечто понимаем под именем неба, и иное–под твердью. Ибо когда слово Божие описывает предел чувственного творения, за которым следует область разумного и премирного бытия, то по сравнению с неосязаемым, и бестелесным, и безвидным называет твердью начало и предел всего вещественного бытия. Когда же обращаем внимание на то, что окружает предметы, чем сдерживается вокруг вся вещественная природа, то называем это небом (ουρανος), как границу (ορος) всего видимого. Таким же точно образом и относительно земли и суши, поелику обеим этим стихиям уделено естество, тяготеющее книзу и тяжелое, — говорю о земле и воде, то первая названием суши как бы отличена от противоположного ей качества, потому что наименована сушей по противоположению влаге, когда по Божескому повелению совлекшись покрова обливавшей ее воды, явилась со свойственным ей качеством. А имя земли по своему значению указывает уже не на одно какое–либо ее качество, но, по смыслу в нем заключающемуся, объемлет все, что разумеем в (этой) стихии, как–то: твердость, плотность, тяжесть, неупругость, пригодность ко всякому питанию плодов и животных. Итак, не переименовано слово «суша» в последнее, приданное ей, имя, ибо от второго имени суша не перестала и быть, и именоваться сушею, но при существовании и сего, и того названия, в каждом из имен остается некоторое особое значение; первое означает отличие от инородного естества и свойства, а последнее то, что она заключает в себе всю усматриваемую в ней силу. Так и относительно света и дня и опять относительно ночи и тьмы находим, что не звук слогов создается здесь Творцом всего, но что через эти названия познаем сущность (сих) предметов. По повелению Божию с явлением света рассеивается господствовавшая при первом творении тьма, поелику же земля помещена в середине и отовсюду ее сдерживали окружающие инородные стихии (как говорит Иов: «повешаяй землю ни начемже» — Иов. 26:7), то было необходимо, чтобы тогда, как свет падал на одну часть ее, а земля собственной массой преграждала ему путь на противоположную сторону осталась некоторая область тьмы от производимой ею тени. Поелику же вечно движущаяся окружность небесного свода необходимо увлекает вместе с собою и происходящий от производимой землею тени мрак, то нужно было Богу привести в порядок это круговое движение, чтобы была мера протяжения времени; а эта мера есть день и ночь. Поэтому Моисей, по своей мудрости исторически объясняя нам таковое учение, происходящий от преграждения (света) мрак наименовал (разлучением) между светом и тьмой, а всегдашнее равномерное преемство на земной поверхности света и тьмы назвал днем и ночью (Быт. 1:18). Так что не свет уже наименованный назван днем, но как был свет, а не простое только название света, так была и мера времени, имя же последовало за мерой; не в звуке речений оно произошло от Творца, но самая природа вещи влекла за собой обозначение звуком. И как если бы законодателем ясно было сказано то, что все являющееся и именуемое не само собой и несотворенно существует, но имеет бытие от Бога, то мы сами собою заключили бы, что весь мир, и его части, и усматриваемый в нем порядок, и сила для познания сущего сотворены Богом; так и сказанным ведет нас к такой мысли, чтобы веровать, что все существующее имеет начало. И это имея в виду, он по порядку излагает, что следует далее, последовательно исчисляя, что произошло; а это не иначе можно было представить в слове, как обозначая предметы служащими для распознания их именами. Итак, если написано, что «нарече Бог день», то должно разуметь, что Бог сотворил из света день, который есть нечто иное по своему понятию, ибо ты не скажешь, что понятие дня и ночи одно и то же, но свет мы понимаем как противоположность тьме, а день — как такую–то меру расстояния в свете. Точно так же и ночь, и тьму уразумеешь по такому же разделению понятия, тьму определяя как нечто разумеемое по противоположности свету, а ночь именуя таким–то отграничением тьмы. Итак, всем подтверждается наше слово (хотя оно и неискусственно построено по правилам диалектики), доказывающее, что Бог — Создатель предметов, а не простых речений, ибо не ради Его, а ради нас прилагаются предметам имена.
Поелику нам невозможно иметь всегда перед глазами все существующее, то нечто из того, что всегда перед нами, мы познаем, а другое напечатлеваем в памяти. Но сохраниться раздельное памятование в нас иначе не может, если обозначение именами заключающихся в нашем разуме предметов не даст нам средства отличать их один от другого. Богу все присуще, и Ему не нужно что–либо помнить, поелику Он все обдержит и созерцает Своей всепроницающей силой. Итак, какая Ему нужда в речении или имени, когда самая находящаяся в Нем мудрость и сила неслитно и раздельно объемлет естество сущего? Итак, все сущее и существующее — от Бога, а для нашего руководства к тому, что существует, прилагаются имена, означающие предметы. Если же кто скажет, что сии имена образуются как угодно людям, сообразно их привычкам, тот нисколько не погрешит относительно понятия Промысла, ибо мы говорим, что имена, а не естество существующих предметов происходит от нас. Иначе именует небо еврей и иначе — хананей, но тот и другой понимают одно и то же, от различия звуков нисколько не ошибаясь в разумении предмета. А через меру предусмотрительное мнимое благочестие этих мудрецов, которое утверждает, что если допустить мысль о происхождении названий предметов от людей, то люди будут выше Бога, обличается как суетное и несостоятельное и самим упомянутым нами примером (наречения) Моисея (Исх. 2:10). Не дочь ли фараона наименовала его от случайного обстоятельства? Ибо «Моисей» на египетском языке значит «вода». Итак, поелику по приказанию тирана родители, положив младенца в ковчежец, предали реке (ибо так рассказывают об этом некоторые историки), а ковчежец по воле Божией носимый круговоротом волн был прибит к берегу и сделался находкой царевны, омывавшей тело в этой реке, то, как говорит Писание (Исх. 2:10), в память того случая, что дитя было приобретено ею из воды, дано дитяти это имя. И Сам Бог не пренебрег употреблением этого имени для (именования) своего слуги и не почел недостойным попустить, чтобы было собственным именем пророка название, данное чужестранкой. Так и прежде него Иаков, державшийся за пяту брата, назван запинателем (Исх. 25:26; 27:36) от положения как родился, ибо это значит слово «Иаков» в переводе на еллинский язык, как учат те, кои разумеют это. И Фареса опять наименовала так бабка от случившегося при рождении (Быт. 28:29); и никто, следуя Евномию, не возревновал, будто она превысила властью Бога. И патриархам дают имена матери — Рувиму, Симеону, Левию, равно и всем, за ними следующим (Быт. 29:32–35; 30:1–25), и никого в тогдашние времена не явилось подобного нынешнему писателю охранителя Божественного Промысла, чтобы воспретить женщинам через возложение имен быть высшими Бога. А что, если из (священной) истории укажет кто в частности «воду пререкания» (Чис. 20:13), и «место плача» (Быт. 50:11), и «холм обрезаний» (Нав. 5:3), и «дебрь грезновную» (Втор. 1:24), и «поле крови», и все подобные имена, нареченные людьми, но упоминаемые часто и от лица Божия? Отсюда можно узнать, что ни обозначение предметов речениями не превышает человеческого достоинства, ни сила Божеского естества не имеет в том свидетельства (против себя).
Другие бредни, которые Евномий вымыслил против истины, как не имеющие никакой силы против догматов, прейду (молчанием), почитая излишним долго останавливаться на пустяках. Ибо кто столь безрассуден и свободен от более важных забот, чтобы тратить труд над безумными речами и препираться с говорящими, будто мы человеческую заботливость объявляем высшей и более главной, чем попечение Божие, а нерадение, которым страдают беззаботные, переносим на Его Промысл? Таковы буквально выражения нашего клеветника. А я почитаю одинаковым останавливать на них внимание, как и заниматься снами старух. Потому что думать, будто достоинство начальства и господства Божеского естества сохраняется в форме каких–то звуков, и в этом указывать великую силу Божию, опять клеветать на нас, будто мы почитаем Бога нерадивым и беззаботным в подобающем Ему промысле оттого, что люди, получив от Бога силу слова, затем по произволу употребляют слова для объяснения предметов, — что это иное, как не сказка старухи или сон нетрезвых? Истинная сила Божия, и власть, и начальство, и господство, по нашим словам, не в слогах имеет бытие (иначе каждый изобретатель речений стал бы равночестным Богу), но беспредельные века, и красота мира, и сияние светил, и чудеса на земле и море, воинства ангельские и премирные силы, и иной ли какой горний удел, о бытии которого загадочно слышим из Писания, — вот что свидетельствует о высшей всего силе Божией. А приписывающий звук голоса тем, коим по природе свойственно говорить, не скажет ничего нечестивого против Даровавшего голос, ибо мы и не считаем чем–либо великим изобретать звуки для означения предметов. То же подобное нам создание, которое Писание в истории мирообразования нарекло именем «человек», Иов именует «смертным» (βροτος) (Иов. 14:1), а некоторые из языческих писателей «мужем» (φως), а иные «говорящим» (μεροψ), — опущу различные названия его у каждого народа. Неужели станем равнять их честь с честью Божиею, потому что и они изобрели некоторые звуки, имеющие равную силу с названием «человек», посредством которых также объясняется данный предмет? Но мы оставим без внимания, как прежде сказали, это пустословие и не дадим никакого значения следующим затем ругательствам, в которых он говорит, будто мы искажаем смысл Божественных речений и бесстрашно клевещем на все прочее и на Самого Бога. Перейдем к остальному.
Опять Евномий предлагает слова наставника, которые таковы: «И в слове Божием находили, что подобным, а не иным образом употребляется примышление. Господь наш Иисус Христос, открывая людям естество Божества, обозначает оное некоторыми умопредставляемыми в Нем свойствами, называя Себя «дверию» (Ин. 10:9), «хлебом» (Ин. 6:51), «путем» (Ин. 14:6), «лозою виноградною» (Ин. 15:1), «пастырем» (Ин. 10:11), «светом» (Ин. 8:12)». Что сказано Евномием по поводу этих слов в обиду нам (ибо так научила его сражаться с противоречащими ему диалектика), то я думаю, прилично оставить без внимания и нисколько не смущаться ребяческим безумием. Но исследуем это острое и непреодолимое изречение, которое он выставляет в ниспровержение наших слов: «Кто из святых, — говорит он, — свидетельствует, что эти имена приписаны Господу по примышлению?». А кто, скажу я ему, возбраняет, это почитая хульным, видеть в употреблении имен примышление? Если в том (обстоятельстве), что об этом не сказано, находит признак того, что это возбранено, то, конечно, согласится, что невозбранение есть знак позволения. Господь именуется сими именами, неужели и их будет отрицать Евномий? Но если станет отрицать, что эти выражения говорятся о Христе, то мы без битвы победили. Ибо какая победа может быть славнее той, как доказать, что противник явно восстает против Бога, вычеркивая речения божественного Евангелия? Если же истинно признает, что Христос именуется этими именами, то пусть скажет, каким образом они благочестиво применяются к Единородному Богу? Не полагает ли, что камень указывает на естество Его? Не разумеет ли сущность Его под секирой? Не означается ли дверию свойство Божества Единородного? И в каждом из других названий (не станем переполнять слово исчислением имен) — каждое из сих имен не есть ли естество Единородного, не есть ли Божество или свойство сущности? Он нарицается сими именами, а название имеет собственное значение, ибо благочестиво думать, что в Божественных речениях нет ничего праздного и неимеющего значения. Итак, если отвергает, что сии (имена) употребляются по примышлению, пусть даст ответ, почему они применены ко Христу? Мы говорим, что поелику Господь многовидно промышляет о человеческой жизни, то каждый вид благодеяния раздельно познается через каждое из таковых имен; так как умопредставляемый в Нем промысел и благодеяние передается (нам) в образе наименования, а именование того или другого имени у нас называется примышлением. Если же это не нравится нашим противникам, то пусть будет, как кому угодно. Но противоречит тому, что говорим, необращающий внимания на имена, употребляемые в Писаниях. Потому что если бы изучил Божественные речения, то, конечно, узнал бы, что по различным (способам) примышления Господь называется в Писании и «клятвой» (Гал. 3:13), и «грехом» (2 Кор. 5:21), и «юницею стрекалом стречемою» (Ос. 4:16), и «скимном львовым» (Быт. 49:8), и «медведицею лишаемою» (Ос. 13:8), и «рысью» (Ос. 13:7), и подобными именами, которыми святые и отменные мужи верно объяснили цель той мысли, какую имели в виду. Сии имена по ближайшему их значению по видимому пошлы, и если не допустить, что каждое из них благочестиво прилагается к Богу по некоему примышлению, то подобные выражения не будут свободны от подозрения в нечестии. И долго было бы выставлять на вид все (такие выражения) и раскрывать их смысл, — как они и пошлы по обыкновенному пониманию их в ближайшем значении и как понятие о примышлении примиряет эти имена с благочестием относительно Бога. Но перейдем к тому, что следует по порядку дальше.
Снова повторим сказанное: сказуются подобные имена о Господе, и никто из изучавших богодухновенные Писания не будет говорить напротив, что они не сказуются. Что же? Полагает ли Евномий, что эти выражения означают самое естество? Итак, он допускает, что Божеское естество как–то многовидно и обнаруживает многосложную разность по различию (понятий), обозначаемых именами. Ибо не одно и то же значение хлеба и льва, двери и юницы, секиры и воды, но каждому (из сих) имен можно дать особенное определение, не имеющее ничего общего с другими. Итак, должен сказать, что (сии имена) не означают (естества). Но никто не осмелится сказать, что наречение имен не имеет собственного смысла и значения. Итак, если они сказуются, но не о естестве, а все сказуемое Писанием, конечно, имеет собственный смысл и прилагается (к предмету) соответственно, то какое иное остается основание приличного применения таковых выражений к Единородному Богу, кроме того, что они приписываются Ему по примышлению? Ибо очевидно, что Божество нарицается именами по различию действий сообразно различным значениям (оных), чтоб мы разумели Его по сим именам. Итак, вредит ли сколько–нибудь благочестию то действие нашего ума к уразумению существующего, которое мы называем примышлением? Если же кто захочет назвать его как–нибудь иначе, то мы спорить не станем. Но подобно сильным борцам, не оставляем этого неизбежного для нас нападения и говорит буквально так: «Те имена существуют через примышление человеческое и сказуются по примышлению некоторых, которым не научил нас никто из апостолов или евангелистов». И после такого непреоборимого возражения, приводит оное священное изречение (наставника нашего), снова привычным к тому языком оплевывая нас зловонной бранью. «Ибо, — говорит, — относит к человеческому примышлению одноименность, основанную на аналогии, — дело души, по справедливости лишенной крепкого ума и исследующей слова Господа со слабым разумением и с некоторой преступной привычкой». Каково диалектическое доказательство! Как искусно слово достигает у него цели! И кто еще станет стоять за примышление, когда на намеревающихся что–либо сказать из уст его изливается такое зловоние! Даже и нам, пытающимся сказать нечто по этому поводу, надобно удержаться от исследования его слов, дабы он не подвинул на нас оный поток злословия, или, лучше, потому, что только малодушным свойственно с жаром восставать против ребяческих нелепостей. Следовательно, должно дозволить злоречивому употреблять какой угодно образ речи. Но надобно повторить его слова, дабы и из них открылась нам помощь для истины.
Упомянул об «аналогии» и указал на основанную на ней «одноименность». Но откуда узнал сие, и от кого сии речения? Моисей не говорил их, от пророков и апостолов не слышал, евангелисты молчат о таких словах, никакое Писание не дает сведения о них. Итак, почему же так говорит он? Не изобретение ли рассудка говорящего есть такое слово, которое называет аналогией известное обозначение мысли? Как не понимает, что те самые (слова), против которых борется, употребляет как соратоборцев для борьбы? Сам же борется со словом «по примышлению» посредством слов так же по примышлению, утверждая однако ж, что ничего не должно говорить по примышлению! «Но никто из святых, — говорит, — не учил сему». А к кому же из древних можешь ты отнести слово «нерожденность» и то, что оно есть имя, выражающее самую сущность Божию, и даже более, что самая нерожденность есть сущность? Или тебе позволено там, где имеется в виду вывести какую–либо нечестивую мысль, вводить новые и изобретать пригодные тебе слова, а если говорится что–либо другим для ниспровержения нечестия, то у пререкающего отнята власть? Будешь уличен в великом насилии, если за собой укрепишь такую власть, что, чему препятствуешь у других, то самое позволишь делать себе одному, и на что сам произвольно дерзаешь, то станешь возбранять другим. Указом запрещаешь приписывать таковые имена Христу по примышлению, потому что никто из святых не установил, что так должно говорить. Каким же образом, употребляя слово «нерожденный», ты узакониваешь, что правильно могут быть изрекаемы только те одни речения, кои указаны богодухновенным словом Писания? Из твоих сочинений должно бы быть выброшено имя «нерожденность», так как никем из святых не установлено такое слово. Но ты принимаешь это выражение на основании смысла, какой заключен в сем речении; и мы так же точно приняли слово «примышление» на основании мысли, в нем заключающейся. Итак, или оба извлечем из употребления, или ни то, ни другое; что ни допустим, в том и другом случае победим. Ибо если совершенно предадим молчанию слово «нерожденность», то с тем вместе уничтожится и вся речь противников против истины, и отовсюду воссияет слава, подобающая Единородному Богу, потому что не будет никакого имени, которое умаляло бы величие Господа через противоположение (Его Отцу). А если останется то и другое, то и в таком случае одолеет с нами истина, как скоро имя «нерожденность» превратится из сущности в примышление. Но пока не изгладит из своих речей слово «нерожденный», пусть восстающий против нас фарисей поставит себе правилом не рассматривать нашей соломинки прежде, чем извергнет из глаз лежащее у него бревно.
«Но Бог, — говорит, — и слабейшему на земле даровал самые почтенные имена, не дав вместе с этим равномерных (именам) достоинств, и важнейшему — самые низкие, не придав оному вследствие имен естественной низости». Это сказано от слова до слова и именно так, как мы переписали. Если эти слова заключают некоторый в глубине сокрытый и от нас убегающий смысл, то пусть выскажут оный постигшие далекое от нашего постижения, посвященные им во внутреннее и таинственное посвящение. Если же не означают ничего более, кроме непосредственно уразумеваемого, то не знаю, кого более считать достойным сожаления, говорящих ли это или слушающих их. «Слабейшему на земле, — говорит, — даровал самые почтенные имена, не дав равномерных (именам) достоинств». Всмотримся в смысл сказанного. Слабейшее, говорит, удостаивается простого почетного названия, не будучи по естеству таковым, как называется. И это он называет делом Божиим — худшему естеству ложно приписывать более почетное название, и наоборот, говорит, что Бог превосходнейшему по естеству прилагает унизительные названия, не изменив естества вместе с именем! Но чтобы сказанное вполне было ясно для нас, нелепость должна быть доказана на самом деле. Если кто прославляемого за великую добродетель назовет развращенным, или, наоборот, обвиняемого во всяком зле, добрым и благонравным, то будет ли имеющими ум сочтен таковой здравомыслящим или сколько–нибудь внимательным к истине, когда изменяет в противную сторону названия при несоответствии значения имен естеству? Не думаю. Итак, он говорит, что у Бога бывает то, что не согласно ни со здравым смыслом, ни со свидетельствами Писания. Ибо в обыкновенной нашей жизни одним обезумевшим от пьянства или бешенства свойственно ошибаться в рассуждении имен и употреблять о предметах слова не согласно с их значением, но собаку, например, называть человеком, и наоборот, к собаке прилагать название человека. Но божественное Писание так далеко от того, чтобы дозволять такое смешение имен, что даже ясно можно слышать негодующее на сие пророческое слово: «Горе», говорит, глаголющему «тьму свет, и свет тьму, полагающему горькое сладкое, и сладкое горькое» (Ис, 5:20);Почему же думает, что такую нелепость должен он усвоить своему Богу? Пусть скажут посвященные им в неизреченные тайны, что почитают они слабейшим на земле, что от Бога почтено почетнейшими названиями. Слабейшие из существ суть такие животные, которых рождение происходит от гниения влаг; почетнейшее же в существующем — добродетель, и святость, и все угодное Богу. Поэтому и мухи, и мошки, и лягушки, и все, коих рождение из назема, почтены названием святого и добродетели, так что удостоены почтенных имен, не имея «равномерных (именам) достоинств», как говорит Евномий? Но мы не слышали еще того, чтобы эти слабые существа именовались величественнейшими названиями или чтобы великое и честное по естеству было оскорблено, быв названо одним из этих существ. Праведен был Ной, говорит Писание, верен Авраам, кроток Моисей, мудр Даниил, целомудрен Иосиф, безупречен Иов и исполнен великодушия Давид. Итак, пусть скажут, получал ли каждый из них названия от противных (качеств)? Или из тех, порочность которых засвидетельствована, каковы: Навал Кармильский, Фараон египтянин, Авимилех филистимлянин, равно из всех упоминаемых по причине порочности, Божественным словом почтен ли кто более славными названиями? Вовсе нет, но каковы естество и истина существ, так судит о них и называет их Бог, давая названия не вопреки их существу, но с тем, дабы означаемое было вполне ясно, быв выражено в свойственных оному названиях.
Так крепкий разумением обвинитель преступной привычки, влекущий на суд (нас), лишенных разума, полагает, что имеет такое познание о Божеском естестве, излагает такие мнения о Боге, будто Он издевается над вещами, придавая им несоответственные именования, сообщает слабейшим почетнейшие названия и оскорбляет достойных общими именами с худыми вещами. Даже и человек из тех, взор коих устремлен к добродетели, отступив, и часто непроизвольно, от истины, покрывается стыдом, а он думает приписать Богу подобающую Ему честь, объявляя, что Он дает обманчивые имена предметам. Не то свидетельствуют пророчества о Божеском естестве. «Долготерпелив и многомилостив, и истинен» Бог, говорит Давид (Пс. 144:8). Но как истинен тот, который ложно представляет вещи и изменяет истину в значениях имен? Он же опять называет Господа Бога правым (Пс. 91:16). Но свойственно ли правоте чествовать почетнейшими именами недостойное и, давая пустое наименование, как бы из зависти, у получившего название отнимать выражаемое в речении достоинство? Таково свидетельство сих новых богословов о новом боге; вот предел пресловутой диалектической тонкости — показать, что бог их услаждается обманами и несвободен от страсти зависти. Ибо обману свойственно называть слабые вещи не по естеству и достоинству, но всуе давать им названия, заимствуемые от превосходных (предметов), не соглашая силы именуемого с именем; а зависти — когда тот, кто может придать почетнейшее выражение именуемому во уважение превосходства, медлит милостью, как бы почитая вредом для себя благополучие слабого. Но я посоветовал бы благоразумным, (хотя насилие умозаключений и принуждает бога этих ученых быть таковым) не таковым почитать Бога истинного, Бога Единородного, но взирающим на истину предметов, свидетельствующим о каждом по достоинству и дающим название по делам. «Придите», говорит, «благословеннии», и «идите от Мене проклятии» (Мф. 25:34; 25:41), не чествуя именем благословения достойного проклятия и, наоборот, не отвергая вместе со злодеями стяжавшего себе благословение.
Но какое значение сказанного писателем? И к какой цели стремится его слово? Пусть не предположит кто–либо, что, не имея, что сказать, и желая придать своему слову возможно большую широту, он, лепеча с какими–то несмысленными, растянул свою болтовню. И бессмыслица сказанного им имеет нечто, подлежащее подозрению в ереси. Ибо в сказанном им, что почтеннейшие имена прилагаются и к слабейшим (предметам), хотя по естеству они и не имеют соответствующего именам достоинства, заключается у него некоторое подготовление, скрытно полагающее путь к хульному выводу, дабы ученики его узнали от него, что хотя Единородный и называется Богом, светом и истиной, Судией и Царем, Богом над всеми и великим Богом, Князем мира и Отцом будущего века, и всем подобным сему, — но Ему принадлежит только честь имени, к самому же достоинству, на которое указывает значение имен, Он не причастен. И что мудрый Даниил совершил у вавилонян, исправляя их заблуждения в рассуждении идолов, дабы не поклонялись меди или змию, почитая имя Божие, которое сими суетными людьми было придаваемо этим (предметам), и своим действием ясно показал, что высокое имя Божества не приличествует ни пресмыкающемуся животному, ни тому образу, который дан меди, — то самое и враг Божий наоборот усиливается посредством своего учения применить к Единородному Богу, возглашая в этом предшествующем у него изречении вот что: не смотрите на имена, воспринятые Господом, как будто из них можно было заключать о неизреченности и возвышенности Его сущности, ибо и многое другое самое слабое почтено превосходными названиями, но хотя название оного имеет высоту, естество не изменяется соответственно величию наименования. Посему говорит, что Бог одними только простыми именами приобщает чести низшее, но название не сопровождается равенством в достоинстве, так что на основании хитро высказанного им все, что высокого по знаменованию ни знаем о Сыне, мы должны почитать только именем и приписывать Ему честь только на словах, не допуская, чтобы Он был причастен соответственного (именам) достоинства.
Но, останавливаясь на бессмысленном, по–видимому, доставляю втайне нечто приятное противникам. Ибо, противополагая истину пустоте сказанного, кажется, навожу скуку на слушателей моего слова прежде борьбы с важнейшим. Итак, надобно предоставить сие, каково бы ни было, более внимательным слушателям, мы же должны обратить речь к дальнейшему. Умолчу также и о том, что находится в непосредственной связи с исследованным, потому что сие таким образом расположено, чтобы власть давать имена не выпала надолго человеческого примышления. Но кто говорит, что рассматриваемое не в собственном существе властно в каком–либо деле? Только тому, что управляется собственным произволом, принадлежит власть что–либо делать. Но примышление есть действие нашего разума, зависит от произвола говорящих, и не само собой существует, но имеет существование в побуждении тех, кто говорит. «Но все сие, — говорит, — создал Бог: и отношение, и действие, и соответствие, и согласовал название с каждым из именуемых (предметов) соответственно с законами». Это или совершенно не имеет смысла, или противоречит прежде изложенному. Ибо если приписывает Богу теперь соответственное согласование имен с предметами, каким образом выше сказанным утверждает, что Бог низкому дарует высшие имена, не сообщая вместе с тем достоинства, заключающегося в значении имен, и наоборот, великое по естеству оскорбляет низкими названиями, хотя вместе с низостью речений естество и не изменяется? Но, может быть, несправедливо поступаем, возводя такие обвинения на такой бессмысленный набор его слов. Ибо умеющие тщательно исследовать находят сие чуждым всякой мысли, не только, говорю, правильной по отношению к благочестию, но и неимеющим даже никакого смысла. Итак, поелику речь его, наподобие морского слизняка, по наружности имеет вид некоторого вздутого тела, а вздутое тело есть мокрота, которую противно видеть и еще противнее взять в руки, то, почитая молчание самым приличным ответом на пустословие, пройду безмолвием сказанное. Каким законом управляется действие, соответствие и расположение? И кто законодатель, давший Богу законы и способы соответствия и отношения?
Было бы лучше оставить сие без исследования, нежели, обращая на оное внимание, производить тошноту в слушателях и отдалять слово от более достойного внимания. Но боюсь, что и все предлежащее нам в писаниях Евномия есть равномерно какие–то вздутые тела и морские слизняки, так что необходимо нам пришлось бы прекратить речь о сказанном им, не находя в написанном никакого предмета для (нашего) труда. Ибо как дым или туман сгущает и делает нечистым воздух и, остановившись в оном, препятствует естественному действию зрения, но не так, однако же, сгущается сам в себе, чтобы желающий мог схватить и удержать руками и отразить его приражение; точно так же, если скажет кто и о сем знаменитом писании, не погрешит против истинного представления. Ибо многотрудное пустословие этого пухлого и мокротного слова и не весьма проницательному умом представляется, как туман смотрящему издали, имеющим некоторую твердость и очертание. Но если кто обладает собой и испытующим умом прикоснется к сказанному, то мысли подобно дыму ускользают от понимания, рассеиваются в ничто и не отражают ударяющего слова ничем твердым и сопротивляющимся. Итак, что должно делать, неизвестно. Какой бы способ не избрали любящие возражать, тот и другой одинаково подвергаются обвинению: станем ли, перескакивая, как бы через некоторые рвы, через пустословие, направлять слово к выдающемуся вперед и ровному, и опровержением восставать против того (только), что, по–видимому, имеет некоторую силу против истины, или соответственно всей его болтливости будем растягивать борьбу против пустословия. Так нелюбящим труда будет тяжело и бесполезно рвение, растянутое на многие тысячи речей без всякой пользы. А если остановимся только на том одном, что, по–видимому, имеет некоторую силу против истины, то противникам доставим предлог к обвинению, будто мы пропустили нечто, не допускающее противоречия. Итак, поелику нам представляются два пути: или проследить в своем слове все, или обратить внимание только на более необходимое; но первое тяжело для слушателей, а последнее подозрительно для противников, то за лучшее почитаю некоторое среднее направление, во избежание, сколь возможно, укоризны с той и другой стороны. Итак, какое же это направление? От всего пустословия, им выработанного, отделив кучу сора, кратко рассмотрим главные мысли, так чтобы ни углубляться безрассудно в бессмысленное, ни оставлять что–либо из сказанного вовсе без исследования. Все слово его занято одним делом — старанием доказать, что Божество разговаривает по–человечески и что слова, означающие предметы, применяются к существующим вещам самим Создателем предметов. Посему, и сражаясь со сказавшим, что эти имена суть дело разумного естества, которое мы получили от Бога, говорит, что он и от истины отступает, и сам не выдерживает собственного основания; взводя же на него это обвинение, для доказательства употребляет такие умозаключения.
«Василий, — говорит, — сказал, что возникающее у нас после первой мысли о предмете более тонкое и тщательное исследование мыслимого называется примышлением». При помощи такого соображения Евномий, как думает, обличает слова его тем, что, в ком нет первой и второй мысли, в том, говорит, не может иметь места и другое, более тонкое и тщательное примышление. И здесь каждый, слышащий это, уличит его в коварном искажении слов (Василия). Потому что учитель наш дал такое определение не всякого примышления, но, сделав как бы некоторое частное подразделение рассматриваемого по примышлению, дабы не ввести большой запутанности в слово, по разъяснении этой части предоставил затем имеющим ум самим от части заключать о целом. И как тот, кто, имея в виду многие и различного рода существа и назвав их животными, не будет уличен в уклонении от истины, если в пример (животного) в частности приведет человека, так не будет он подлежать исправлению в погрешности и тогда, если о летающем, и четвероногом, и живущем в воде не даст того же самого определения, какое выскажет о человеке; при такой многовидности и таком различии, усматриваемом в понятии примышления, нельзя сказать: если примышление не есть то–то, то оно непременно вот что. Поэтому если бы был открыт и другой какой вид примышления, то прежде представленный не был бы ложным. «Если бы, — говорит, — кто–либо из апостолов и пророков оказался употребляющим сии имена о Христе, то ложь имела бы утешение». Какую тщательность в изучении божественных Писаний обнаруживает в писателе сказанное! «Никто из пророков или апостолов не называл Господа хлебом или камнем, источником, или секирою, или светом, или пастырем». Что же и о ком говорит Давид, что «Господь пасет мя» (Пс. 22:1), и: «Пасый Израиля вонми» (Пс. 79:2)? И есть ли какое различие сказать: «пастырь» или «пасый» ? Еще: «у Тебе источник живота» (Пс. 35:10). Следовательно, допускает, что Господь назван источником. И опять сказано: «Камень, егоже небрегоша зиждущий» (Мф. 21:42). А Иоанн, когда обозначал именем секиры сокрушительную силу в Господе для зла, говорит: «Уже и секира при корени древа лежит» (Мф. 3:10), не оказывается ли достойным веры свидетелем сказанного? А Моисей, зрящий Бога во свете, и Иоанн, именующий (Господа) светом истинным, Павел, озаренный сим же светом в первом богоявлении и слышавший затем слова Света: «Аз есмь Иисус, Егоже ты гониши» (Деян. 9:5), — разве не достаточны для свидетельства? О хлебе же (Евномий) пусть прочтет в Евангелии, что пища, с неба подаваемая Израилю Моисеем, Самим Господом принята за образ Господа: «не Моисей даде вам хлеб: но Отец Мой дает хлеб истинный» (называет так Себя Самого), сшедший с «небесе» и дающий «живот миру» (Ин. 6:32–33). Между тем настоящий слушатель закона утверждает, что никто из пророков или апостолов не прилагал таких имен ко Христу. Что же у него следует далее? «Если Сам Господь называл Себя сими именами, а между именами Спасителя нет ни первого, ни второго, ни более тонкого и точного одного пред другим, но все Он познает вместе и с одинаковою точностью, то ни к одному из них невозможно применить высказанного им понятия о примышлении».
Много уже начерпал я бредней из его слова, но прошу читателей извинить, если не оставим без внимания и явно пустого, не потому впрочем, чтобы нас радовало бесстыдство писателя (ибо какую пользу приносит нам обличаемое безумие противников?), но дабы истина пролагала себе путь, находя во всем подтверждение себе. «Поелику, — говорит, — Господь приложил к Себе такие названия, не представляя которое — нибудь ни первым, ни вторым, ни более тонким или точным, то нельзя сказать, что имена сии происходят из примышления». Как помнит он свою цель! Как знает те слова, против которых вступил в борьбу! Вождь наш для изъяснения примышления упомянул кое о чем из обыкновенно встречающегося и, объяснив смысл (сего слова) примерами, заимствованными из дольних предметов, таким образом ведет речь (свою) к созерцанию горнего. Ибо сказал, что пшеница сама по себе является нам как бы одним предметом по существу, но по усматриваемым в ней разнообразным свойствам изменяет название, бывая и семенем, и плодом, и пищей, и чем бывает, так и называется. Подобным образом, говорит, и Господь Сам по Себе есть то, что есть по естеству, но будучи называем по различным действиям, не одно имеет по всем им название, но принимает имя по каждому понятию, получаемому нами из действия. Итак, в чем же опровергается сказанным наше слово, что многие названия, по различию действий и по отношению к производимому, могут быть применены к одному по существу Сыну Божию, подобно тому как и пшеница, будучи одной, по различию понятий о ней получает различные частные названия? Каким образом опровергает сказанное тот, кто говорит, что такие имена изрекает о Себе Христос? Ибо вопрос не о том, кто дал имена, но рассмотрению подлежало понятие имен: означается ли ими естество, или (предметы) получают имена по примышлению от действий? Но сей проницательный и многообъемлющий разумом муж, извращая данное определение примышления, которое, говорит, что для одного подлежащего можно найти много названий по значениям действий, с силой вооружился против нас, говоря, что такие слова не другим кем–либо приложены к Господу. Но как это относится к предположенной цели? Поелику Господом изрекаются сии имена, то ужели он и не станет признавать оные ни именами, ни названиями, ни словами, означающими понятия? Но если не признает их именами, то вместе с уничтожением названий уничтожается и примышление. А если не оспаривает, что слова эти суть имена, то вредит ли сколько–нибудь понятию о примышлении то его доказательство, что не другим кем, но Самим Господом положены эти названия? Ибо сказано было, что подобно тому, как представлено в примере пшеницы, Господь, будучи единым по существу, имеет еще и имена, сообразные с действиями. Но если признано, что пшеница имеет название по примышлению усматриваемого в ней, то вместе с сим следовало и то, что такие слова о Господе означают не естество Его, но на основании примышления выражают то, что разумевается в Нем. Впрочем, возражатель от большой внимательности ведет борьбу не против того, что предположено, но говорит, что Господь Сам Себя так наименовал. Это подобно тому, как если бы кто спрашивал о значении имени Исаак: означает ли оно смех, как говорят некоторые, или что другое значит это имя, а кто–либо из евномиан решительно отвечал бы: мать возложила имя дитяти. Но спрашивалось не о том, мог бы сказать кто–нибудь, кем дано название, но что означает понятие имени в переводе на наш язык. Так и здесь, когда вопрос состоит в том, прилагаемые к Господу различно имена говорятся ли о Нем по примышлению, нимало не указывая на естество; то тот, кто в подтверждение мнения, что на названия нельзя смотреть как на примышления, приводит такое доказательство, что сии названия даются Самим Богом, может ли быть поставлен в числе благоразумных, — тот, кто сражаясь против истины, употребляет такие пособия для брани, при помощи которых сильнейшим является противоборствующий?
Потом, идя далее, как будто его слово достигло уже цели, готовит против нас жесточайшие, как говорит, обвинения, нежели высказанные, предварительно много жалуется, и вперед клевещет, и сильно настраивает внимание слушателей к тому, что имеет быть сказано; где обвиняет нас, будто мы утверждаем еще более нечестивые мнения, (что) не только Богом данные в удел названия вещам относим к нашему примышлению (хотя и не говорит, какое именно, когда и как сделано распределение названий), но спутываем все предметы и сводим к тождеству и сущность, и действие Единородного. Нисколько не рассудив о сем самом и не показав, каким образом утверждаем мы тождество сущности и действия, напоследок приводит самое главное из обвинений, говоря такими словами: «уже, — говорит, — переходя от сего, и Бога сущего над всем осыпает крайними хулами», и своими словами прерывает наши слова и устраняет некоторые из наших примеров. Не имею вовсе нужды входить в рассмотрение сего, но желаю только указать на набор и несвязность слов писателя, которыми оглушая старух между мужами и величаясь великим шумом мелких слов перед удивляющимися сему слушателями, не понимает, что этим поставил себе позорный столб пред людьми опытными в искусстве слова. Но это не имеет никакого отношения к нашей цели. О если бы до сего только простирались вины его, и ни в чем не погрешая относительно веры, почитаем был погрешающим в одном произнесении слов, так что не за что было бы его хвалить или порицать, как только за такой или иной образ речи!
Вслед за сказанным против нас присовокупляет еще следующее: «После разнообразного, — говорит, — упражнения примышления относительно пшеницы и Господа подобным образом утверждает, что и святейшая сущность Божия разнообразно допускает примышления». Вот самое тяжкое обвинение, ради которого и прежде в сказанном выше возглашал против нас оные тяжкие обвинения в нечестии и нелепости и тому подобном. Но какое же доказательство нечестия? Евномий говорит нечто о пшенице и разъясняет обыкновенно и всем непосредственно известное, то есть как она рождается и как, созревши, питает плодом, рождаясь, возрастая и поступая в употребление некоторыми естественными силами. И сказав это, говорит, что нет ничего непристойного, что и Единородный Бог допускает различные примышления как по понятиям, так и по разностям действий, равно как по некоторым соответствиям и отношениям. И о таких именах Его разглагольствует до пресыщения. «Но как не нелепо, — говорит, — или, лучше, как не нечестиво сравнивать с сим Нерожденного?» С чем сим? «С пшеницею, — говорит, — и с Единородным Богом?» Видишь благоговение? Утверждает, что равно далеки от достоинства нерожденного Бога малоценная пшеница и Бог Единородный. А что не возводим клевету на его слова, то мысль его можно узнать из самого написанного им. Ибо «как не нелепо, — говорит, — или, лучше, как не нечестиво сравнивать сим Нерожденного?» — и, сказав это, ведет речь о пшенице и Господе, как о предметах одинакового достоинства, почитая равно нелепым сравнивать Бога с тем или другим из них. Но всякому, конечно, известно, что предметы, отстоящие в равной мере от чего–либо, и сами равны между собою; так что, по мнению мудрого богослова, Творец веков, объявший все естество сущего, оказывается равным малому семени, так как и Сам, и пшеница равно далеки от Бога при сравнении с Ним.
Таково нечестие (Евномиева) слова. Теперь время исследовать самое основание хулы, из которого последовательно выводится оная в (его) слове. Сказав, что нелепо сравнивать Бога с пшеницею и Христом, о пшенице говорит, что «Бог не способен изменяться наподобие сих», а о Единородном, что Он также неспособен к изменению, умолчал; и тем ясно показал уничиженность Его достоинства, — именно в том, что говоря: не должно сравнивать Его, как и пшеницу, с Богом, — оставил свои слова без опоры, никаким другим умозаключением не доказав с этой стороны неравенство Сына в отношении к Отцу; как будто бы его рассуждений о зерне было достаточно, чтобы доказать вместе и различие Сына от Отца в смысле низшего достоинства. И о нетлении Отца рассуждает, что оно присуще ему не от действия. Но если действительная жизнь, сама себя производящая, есть какое–либо действие, и если по значению одно и то же всегда жить и никогда не разрешаться в тление, то я еще не соглашаюсь с таким словом, но держусь собственного мнения. Что одно понятие нетления одинаково мыслимо и в Отце, и Сыне, и что нетленность Отца ничем не отличается от нетления Сына, что ни уменьшением, ни прибавлением, ни другим каким видом разности не открывается различие в нетлении, — это благовременным считаю говорить ныне и всегда, так чтобы вследствие сего не имело никакого места его слово, на основании понятия нетления утверждающее, что Отец не имеет общности с Сыном. Ибо как понимается нетление в Отце, так, несомненно, есть и в Сыне. Что не подвержено тлению, что и есть, и называется нетлением, то имеет равное или, лучше, то же самое значение, чему бы ни приписывалось. Итак, на каком основании приписывает одному нерожденному Богу то, что нетление Его происходит не от действия, как будто доказывая сим различие Единородного от Отца? Ибо если своего сотворенного бога предполагает тленным, то различием тленного от нетленного хорошо доказывает разность по естеству. Если же и тот, и другой равно не подвержены тлению, и в нетлении по естеству непонятно ни увеличение, ни уменьшение, то каким образом доказывает несравнимость Отца с Единородным Сыном? Или чего хочет, утверждая, что нетленность Отца не от действия? Но открывает (свою) цель в последующих за этим словах. «Не от действий, — говорит, — нетленен и нерожден, но как Отец и Создатель».
Здесь особенно прошу у слушателя внимания ко мне. Каким образом почитает тождественными понятия, означаемые сими двумя именами, то есть создания и отчества? Ибо утверждает, что то и другое равно есть действие, ясно возвещая это таким образом: «нетленен не от действия, Отцом же и Создателем называется от действий». Итак, если одно и то же назвать ли Его Отцом или Создателем, так как у него действие составляет причину обоих имен, то совершенно необходимо должны быть однородны между собой и следствия действий, по тому самому, что Он одинаково происходит от действия. Но к какой крайней хуле последовательно приводит это, явно для всякого, умеющего усматривать последствия. А что думаю я об сем, желаю прибавить к исследованию (его) слов. Не может быть, чтобы действие производящее какую–нибудь вещь, имело самостоятельность само по себе без чего–либо, воспринимающего движение действия. Так, о кующем медь говорим, делает (ενεργειν) нечто, о веществе же, подлежащем искусству, — выделывается (ενεργεισθαι). Следовательно, действующая и страдательная силы имеют некоторое необходимое отношение одна к другой, так что если одну из них отделить в уме, то не будет иметь самостоятельности сама по себе и остальная; если не будет страждущего, не будет и действующего. Итак, что же будет следовать из сего? Если действие, производящее какую–либо вещь, не имеет самостоятельности само по себе без подлежащего страждущего, а Отец, как говорят они, есть не иное что, как действие, то вследствие этого Единородный Сын представляется страдательным; образованным для движения произведшего Его действия. Ибо как говорим, что Создатель всего соделал Свою зиждительную сущность действующей, полагая пред Собой некоторое страдательное и покорное вещество, в области чувственного придавая искусно подлежащему различные и многообразные качества для совершения каждого из получающих бытие (предметов), а в области разумного бытия образуя то, что подлежит, иным способом, посредством не качеств, а произвольных стремлений; так необходимо, если кто отчество определит как действие, не иначе может представить ипостасное бытие Сына, как по примеру соделанного некоторого страдательного вещества. Ибо если бы стали почитать Его нестрадательным, то нестрадательность будет, конечно, сопротивлением действующему, а когда действию полагается препятствие, то не будет, конечно, и производимого действием; так что одно из двух: или сделают они через сие сущность Единородного страдательной, чтобы она приняла действие, или, не отваживаясь на это по причине очевидности нечестия, ведут дело к I тому, что ее вовсе нет; ибо что по природе не может страдать, то, конечно, 1не допускает до себя и творческого действия. Посему утверждающий, что Сын есть произведение некоторого действия, утверждает, что Он есть одно из страдательных существ, которые произошли посредством действия, или если отринет страдательность, то отринет вместе с страдательностью и существование Его. Но поелику в том и другом дилемма открывает нечестие, и говорить, что Его нет, и считать его страдательным, то очевидна истина, обнаруживающаяся через устранение нелепостей. Если же Он истинно есть и не есть страдательный, то явно, что Он существует не от действия, но как прилично, есть истинный Бог, от истинного Бога Отца бесстрастно от века воссиявший и возблиставший. «Но Бог, — говорит, — по самой сущности нетленен». Какое же другое из приличных Богу понятий не соединено с самой сущностью Сына? Праведность, благость, вечность, непричастность всякому злу, неограниченность во всем, что мыслится благим, — неужели кто скажет, что какое–либо из совершенств есть приобретенное в естестве Божием, и что не все, что ни есть благого, из Него происходит и в Нем созерцается, когда так говорит пророк: «Аще что благо есть и аще что добро» от Него (Зах. 9:17)? К этому присоединяет, что и «нерожденность существует по сущности». Если он говорит это в том смысле, что сущность Отца нерожденна, то я соглашаюсь со сказанным и не противоречу сему учению. Ибо и совершенно никто из благочестивых не полагает, что Отец Единородного рожден. Если же на эту мысль указывает внешним видом слов, а ведет дело к тому, что самая нерожденность есть сущность, то я нахожу нужным не оставить этого неисследованным, чтобы от легко обольщаемых не укрылось, что он подготавливает (их) к согласию на хулу. Что иное есть по понятию нерожденность и иное — Божеская сущность, это можно видеть из того самого, что сказано им. «По самой сущности, — говорит, — Он нетленен и нерожден, так как она беспримесна и чиста от всякой инаковости и различия». Он говорит это о Боге, сущность Которого, по его словам, есть нетленность и нерожденность. Итак, он высказал о Боге три имени: сущность, нетленность и нерожденность. Если эти три имени, относящиеся к Богу, выражают одно понятие, то, конечно, все три суть божественность; все равно, как если бы кто, желая изобразить человека, сказал, что он разумен, способен смеяться и имеет широкие ногти; в этом случае, так как нет никакого различия по природе в каждом из этих свойств, мы говорим, что эти имена имеют равную силу одно с другим и что в подлежащем три суть одно — человечность, описанная именами. Итак, если божественность есть нерожденность, нетленность и сущность, то, по всей необходимости, при отъятии чего–нибудь одного из них вместе с тем уничтожает и божественность. Ибо как тот, кто не назовет человека разумным и способным к смеху, не назовет его и человеком, так и по отношению к сим трем именам, то есть нерожденности, нетленности и сущности, если ими изображается Божество, когда одного какого–нибудь из трех нет, то, конечно, у остального отнято и понятие божественности. Итак, пусть отвечает, какое мнение он имеет о Единородном Боге, рожденным или нерожденным считает Его? Конечно, он назовет рожденным, если не будет противоречить собственным словам. Посему если одно и то же с нерожденностью есть сущность и нетленность, составляющие признак божественности, то у кого нет нерожденности, у того, конечно, отнята вместе сущность и нетленность, при отсутствии которых, по всей необходимости, отымется и божественность. Итак, до двоякой крайности доводит мысль последовательность их хулы. Ибо если в одном и том же значении приписывается Богу сущность, нетление и нерожденность, то ясно оказывается, что этот новый боготворен созданного им Сына признает тленным, потому что не признает нерожденным, и не только тленным, но и совершенно несуществующим, потому что не может он признавать Божеством того, в ком не усматривается нерожденности, так как считает нерожденность и нетленность за одно и то же с сущностью. Поелику же гибельность сего очевидна, то пусть посоветует кто–нибудь несчастным этим обратиться мыслью к остающемуся (предположению) и не бороться заведомо против истины, но согласиться, что у каждого из этих имен особенное значение, которое лучше можно понять из того, что противополагается им, потому что нерожденность открывается из противоположения рожденности, нетленность познается из сравнения с тленностью, сущность усматривается из различия с несуществующим. Ибо как то, что не родилось, называется нерожденным, и что не истлевает — нетленным, так и то, что имеет неслучайное бытие, мы называем сущностью. И наоборот, как рожденное мы не называем нерожденным, так и тленное не называем нетленным. Итак, сущность мыслится как бытие чего–нибудь, а благость или тленность — как качество бытия. Посему иное понятие бытия и иное понятие, указывающее собой на образ или качество бытия.
Мне кажется лучшим, минуя лежащую посреди блевотину (ибо так, я думаю, надобно назвать бессмысленные нападения его на примышление), остановиться на представленной нами мысли, потому что то, что, как бы какая мокротная влага, изблевано писателем для опровержения рассуждений наставника относительно примышления, таково, что не представляет никакой опасности для читателя, хотя бы случился между ними кто–нибудь весьма глупый и легко увлекаемый. Ибо кто так бессмыслен, чтобы, когда Евномий высказанные наставником для примера положения о пшенице, посредством которых он предложил слушателям как бы некоторое орудие и путь к созерцанию горнего, прямо применяет к сущности Бога всяческих, — думать, что он говорит нечто и с некоторой ловкостью строит доводы против истины? Ибо в сказанном им, что приличнейшая причина рождения Богом Сына есть неограниченная власть и непревосходимое могущество (что можно сказать не только о мире и его стихиях, но и о пресмыкающихся и зверях, а почтенный богослов излагает это как нечто приличное в понятии о Единородном Боге), или в его словах, что Бог и прежде происхождения имен называет Себя нерожденным, или Отцом, или прочими именами, как бы опасаясь, чтобы при умолчании имени у тех, которые еще не произошли, не быть Ему в неведении относительно Себя Самого или не впасть в забвение Самого Себя, при отсутствии имени не зная, что Он такое; также в насмешливом нападении на наши слова, из которых он выводит ту нелепость, что Отец, бывший прежде всех веков и времен и прежде всякой чувственной и разумной природы, как бы ожидает людей, чтобы получить наименование от их примышления, не будучи именуем, как говорит он, ни Сыном, ни происшедшими через Него разумными существами; сколько во всем этом остроумия и замысловатости! Я думаю, что никто до такой степени не отягощен мокротой в голове, чтоб не знать, что Единородный Бог, сущий в Отце и зрящий в Себе Отца, не нуждается в имени или слове для познания данного предмета; что и Дух Святый, испытующий глубины Божий (1 Кор. 2:10), не посредством именовательного нарицания возводится к знанию искомого, и бестелесное естество премирных сил не голосом или языком именует Божество; потому что у невещественного и умного естества действие ума и есть слово, нисколько не имеющее при сем нужды в вещественной услуге органов. Ибо и в человеческой природе нисколько не нужно было бы нам употребление слов и имен, если бы возможно было открывать друг другу неприкровен–ные движения разума. Теперь же, так как возникающие в нас мысли по той причине, что природа наша заключена в телесной оболочке, не могут обнаружиться, мы по необходимости, наложив на вещи, как бы знаки, известные имена, посредством их объясняем друг другу движения ума. А если бы как–нибудь иначе возможно было обнаруживать движения разума, то мы, перестав пользоваться периодической услугой имен, яснее и чище беседовали бы друг с другом, открывая стремлениями разума самую природу вещей, которою занимается ум. Теперь же для этого мы одному из существующего дали имя «небо», другому — «земля», иному — иное какое–либо, и отношение какое–либо к чему–либо, или действие, или страдание, — все это обозначаем особенными звуками для того, чтобы движение в нас ума не осталось несообщенным и неизвестным. А оное премирное и невещественное естество, будучи свободно и отрешено от телесной оболочки, и в отношении к высшему Естеству не имеет нужды в именах или словах. Если же где и упоминается какое–нибудь слово умной природы, написанное в священных книгах, то это говорится для нас, слушающих, так как мы не можем иным способом понять открываемое, если оно не будет возвещено звуками и речениями. Хотя Давид Духом говорит, что Господом нечто речено Господу (Мф. 22:43), но говорящий есть Давид, который не мог бы иначе научить нас тому, что разумеет, если бы звуками и речениями не истолковывал полученного им от Бога разумения тайн.
Поэтому я считаю лучшим пройти мимо всего, что Евномий, любомудрствуя, говорит о примышлении, хотя бы он и обвинял в помешательстве тех, которые думают, что имя Божества изрекается людьми посредством примышления для обнаружения и превышнего могущества. Что имея в виду, думает он, что должно осмеивать примышление, желающие могут узнать из его слов. А что мы разумеем относительно употребления имен, это мы сказали выше, — именно, что, тогда как вещи существуют таковыми, какова их природа, звуки для объяснения сущего изобрела вложенная Богом в нашу природу разумная сила. Если кто относит причину их к Давшему силу, — и мы не противоречим. Как о движении, зрении и прочих действиях чувств мы говорим, что они происходят от Того, от Которого мы получили таковую способность, так и причина именования Бога, сущего по естеству, тем, что Он есть, по общему разумению должна быть относима к Нему Самому. А власть именовать все мыслимое так или иначе лежит в природе; и захочет ли кто назвать ее примышлением или иным чем–либо, мы не будем прекословить. В доказательство сказанного мы приводим то, что не у всех одинаково именуется Божество, но по произволу у каждого выражается это понятие. Итак, умолчав о всей пошлой болтовне его касательно примышления, будем держаться догматов, заметив для себя из того, что включено в середине его пустословия, только то место, где он полагает, что Бог, сидя пред первозданными, как бы какой детоводитель или грамматик, преподает учение о словах и именах, где он говорит, что сами первозданные Богом или непосредственно происшедшие от них, если бы не были научены, как каждая из вещей нарицается и именуется, жили бы вместе безгласно и бессловесно, и ничего, говорит, полезного для жизни не совершили бы, так как мысль каждого была бы неизвестной по причине недостатка знаков, то есть слов и имен. Таково безумие писателя, что он думает, будто недостаточно вложенной от Бога в природу силы для всякого способа разумной деятельности, но что, если бы люди не изучили каждого слова в отдельности, как, например, учащиеся языку евреев или римлян дословно, то не знали бы вещей, что они суть, не узнавая ни огня, ни воды, ни воздуха, ни прочих существующих (предметов), если бы не приобрели знания об этом из наложенных на них имен. А мы говорим, что Сотворивший все премудростью и Давший жизнь этому разумному созданию одним тем, что ниспослал в природу разум, вложил всю разумную силу. И как мы, силу, которая заключается в чувственных органах, получив от Образовавшего глаз и Насадившего слух с самой природой, пользуемся ими для того, к чему приспособлено каждое из чувств, и не нуждаемся ни в том, кто бы наименовал цвета, воспринимаемые зрением (потому что глаз — достаточный для себя наставник в этом), ни для познания того, что чувствуем слухом, или вкусом, или осязанием, — не нуждаемся в чужих наставниках, имея домашний критерий всего, чувственно воспринимаемого нами; так, говорим мы, и разумная сила души, происшедши таковою от Бога, затем сама собою движется и взирает на вещи, а для того, чтобы знание не потерпело никакой слитности, налагает на каждую из вещей, как бы какие клейма, обозначения посредством звуков. Удостоверяет это учение и великий Моисей, сказав, что Адамом положены наименования неразумным животным, так написав слово в слово: «И созда Бог еще от земли вся звери селъные и вся птицы небесные, и приведе я ко Адаму видети, что наречет я: и всяко еже аще нарече Адам душу живу, сие имя ему. И нарече Адам имена всем зверем земным и скотом и всем зверем сельным» (Быт. 2:19–20).
Но, кажется, сложенная им болтовня о примышлении, как бы какая клейкая и липкая грязь, задерживает нас и не позволяет коснуться более полезных вещей. Ибо как пройти мимо оной тщательной и обдуманной философии, где он говорит, что не только в делах обнаруживается величие Божие, но и в именах оказывается премудрость Бога, свойственно и естественно приспособившего названия к каждому сотворенному (предмету)? Говорит это, вероятно, или сам прочитав Кратила, разговор Платонов, или услышав от кого–нибудь из читавших, по великой, думаю, скудости мыслей сшивает с своим празднословием тамошнюю болтовню. Он делает нечто подобное собирающим себе пищу нищенством, ибо, как они, получая нечто малое от каждого из подающих, из различных и разнообразных веществ составляют себе пищу, так и речь Евномия по скудости истинного хлеба отовсюду собирает собственным трудом крохи речений и мыслей. Поэтому, оглушенный благозвучием Платоновой речи, он считает приличным сделать догматом церкви его философию. Сколькими, скажи мне, звуками по различию народов именуется здание тверди? Мы называем ее «небо» (ουρανος), еврей — «шамаим», римлянин — «соеluт», и иначе сириец, мидянин, каппадокиец, мавританец, скиф, фракиец, египтянин; даже исчислить нелегко различия имен, существующие в каждом народе относительно неба и прочих вещей. Какое же, скажи мне, естественное имя их, в котором обнаруживается величественная премудрость Божия? Если предпочтешь прочим еллинское имя, то тебе, быть может, противостанет египтянин, выставляя свое. Если отдать первенство еврейскому, сириец выставит свой звук, также и римлянин не уступит им первенства, мидянин также не допустит, чтобы не его слова первенствовали, и из прочих народов каждый сочтет достойным первенства свое. Итак, чего не потерпит это учение, при таких различиях слов разрываемое спорящими? «Но из них, — говорит, — как бы из законов, открыто положенных, открывается, что Бог дал существам приличные и свойственные названия». О величественное учение! Какие мнения дарит богослов Божественным наставлением, в которых люди не завидуют даже банщикам! Потому что и им мы уступаем составлять имена тех действий, над которыми они трудятся, и никто не величал их богоподобными почестями зато, что ими устанавливаются имена для бывающих у них: тазы, псилетиры, утиральники и многие таковые, естественно выражающие предмет значением слов.
Но я пройду мимо и это, и следующее дальше епикурейское естествословие их, о котором говорит, что оно равносильно примышлению, утверждая, что пустота, и атомы, и случайное происхождение сущего сродны с теми, что означается примышлением. Говоря — о как знает он Епикура — мы уличены! Да будет умолчано и о его вожде и соратнике в догматах — Аристотеле, мнение которого, как он говорит дальше, сходится со сказанным о примышлении; потому что, говорит, ему принадлежит учение, что провидение проникает не все сущее и не простирается до земных вещей. Он старается доказать, что это согласно с исследованиями о примышлении; вот что значит — осмотрительно и тщательно обсуживать учение! Но продолжая далее, он говорит, что надобно или не усвоять Богу происхождения сущего, или, допустив оное, не отнимать положения (Им) имен. Между тем о неразумных животных, как мы сказали прежде, учит нас противному Писание, что ни Адам не сотворил животных, ни Бог не наименовал, но от Бога происхождение, а от человека название происшедшего, как повествует Моисей. Потом в своем сочинении он пишет нам похвальную речь словам, как будто бы кто унижал силу слова, и после оного жалкого и многоречивого набора слов говорит, что провидение законом и мерой совершенно связало с знанием и употреблением необходимого передачу имен; и много такого напустословив в глубоком сне, переходит в своей речи к необоримой и непобедимой необходимости. Я буду говорить, излагая его учение не слово в слово, а только по мысли. Не надобно, говорит он, приписывать изобретение слов поэтам, лгавшим в предположениях о Боге. Вот что дарит Богу этот великодушный, приписывая Богу изобретения поэтического произвола, как будто Бог покажется от этого досточтимее для людей и выше, когда научаемые Евномием поверят, что выражения: λικριφις (со стороны), καρκαιρε (задребезжал), ευραξ (с боку), κεκαδε (прочь), φοχειρι, σιζε, δουπησε (оглушил), καναχιζε (зашумел), σμερδαλεον κοναβιζε (ужасно зазвучал), λιγξε (засвистал), ιαχε (завопил), μερμηριξε (раздумался) и все таковые поэты употребляют не по произволу, как вздумалось, но Самим Богом будучи введены в таинства этих слов, вставляют их в свои стихи! И это пропустим, и оное премудрое и непобедимое доказательство, что в летописи Писаний мы не можем указать святых мужей, изобретших новые слова. Ибо если бы до явления оных мужей человеческая природа была несовершенна и не вполне еще обладала даром слов, то, конечно, надлежало от них требовать восполнения (сего) недостатка; если же тотчас изначала природа (человека) стала достаточною и совершенною по словесной и разумной деятельности, то каким образом было бы удобно — для подтверждения учения о примышлении отыскивать святых, которые положили начало звуков или слов? Или, если мы не можем доказать сего, то как он может считать это достаточным доказательством того, что Бог законоположил нам такие–то слоги и слова?
Но «поелику, — говорит он, — Бог не гнушается беседой со служащими Ему, то следует думать, что Он свойственные вещи наименования положил изначала». Что мы скажем на это? Что Бог допускает беседу с человеком, причиной того мы полагаем человеколюбие. Но так как малое по природе не может возвыситься над своей мерой и достигнуть превосходящей природы Вышнего, посему Он, низводя человеколюбивую силу до нашей слабости, сколько нам возможно принять, уделяет Свою благодать и что нам на пользу. Ибо, как по устроению Божию, солнце, умерив через посредство воздуха чрезмерность и чистоту лучей, доставляет соразмерный принимающим блеск и теплоту, само по себе будучи недоступно по слабости нашей природы, так и сила Божия, сходно с приведенным нами примером бесконечно превышая нашу природу и будучи недоступна для общения, как бы какая благоутробная матерь, подражающая бессмысленному лепету младенцев, то уделяет человеческой природе, что она в состоянии принять. Поэтому в различных богоявлениях людям Она и принимает человеческий вид, и по–человечески говорит, и облекается в гнев, и милость, и подобные (человеческие) страсти, чтобы через все, свойственное нам, руководима была младенческая наша жизнь, наставлениями провидения будучи приводима в связь с Божескою природой. Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой–либо страсти удовольствия, или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать даже и из мало внимательных к познанию истины сущего. Но, хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потом, что Он милует, его же аще милует, также щедрит (Исх. 33:19), но каждым, думаю, из таковых изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие приспособляется к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на милость, а тщательно и право ведущие жизнь более восторгались добродетелями, как веселящие своей жизнью Надзирателя добрых. Но как нельзя назвать глухонемым разговаривающего с глухонемым посредством видимых знаков, которые он привык понимать, так нельзя приписывать Богу человеческого слова на том основании, что Он употреблял его с людьми по домостроительству. Ибо и мы обыкновенно управляем неразумными животными посредством шиканья, понукания и свиста; но не то у нас слово, которым мы действуем на слух неразумных животных, а то, которым по природе пользуемся между собой, а в отношении к животным достаточно употреблять соответственный крик и какой–нибудь вид звука.
Но этот осмотрительный муж не хочет, чтобы Бог употреблял наши (слова) по причине нашей наклонности к пороку, не зная, любезнейший, того, что Он ради нас не отказался сделаться даже клятвой и грехом. Столь велико Его человеколюбие, что Он добровольно пришел испытать не только доброе наше, но и худое, а приявший общение в худшем, каким образом умедлил бы участием в лучшей из наших (принадлежностей), разумею, в слове? Но Евномий в свою защиту предлагает Давида и утверждает, будто он говорит, что от Бога полагаются имена вещам, потому что написано так: «исчитаяй множество звезд, и всем им имена нарицаяй» (Пс. 146:4). А я считаю очевидным для всякого имеющего ум, что сказанное об этом не имеет ничего общего с предметом речи. Поелику же вероятно, что некоторые неосмотрительно согласятся с его словами, то кратко рассудим об этом. Божественное Писание часто прилагает к Богу такие слова, что кажется — они нисколько не разнятся от наших слов, например: «разгневася яростию Господь» (Пс. 105:40), «раскаяся о зле» их (Иона 3:10), «раскаяся, яко помаза Саула в царя» (1 Цар. 15:35). Кроме того, повествует еще о седалище, стоянии, движении и многом таковом, чего по природе нет у Бога, но что не бесполезно для приспособления к наставляемым; потому что более распущенных указание на гнев сдерживает страхом, нуждающимся во вра–чевстве покаяния говорит, что Господь также кается о зле, тем, которые при каких–либо удачах возносятся гордостью, показывает раскаянием о Сауле, что благополучие не останется при них, хотя бы казалось, что оно от Бога, тем, которые не погрязают в падении греховном, но как бы от некоторого сна восстали от пустой жизни, говорит, что вместе с ними восстает и возбуждается Бог, что Он стоит для неуклонно живущих в добре, сидит для пребывающих в добре, движется и ходит для подвигнувшихся от твердости в добре. Так, например, история об Адаме изображает Бога ходящим в раю вечером (Быт. 3:8), означая вечером склонение первозданного к темному, а движением — нетвердость и непостоянство человека в добре.
Но это, может быть, покажется многим далеким от предположенного нами исследования. А о следующем едва ли кто скажет, что оно несогласно с предметом речи, именно, что многие непонятное для них считают непонятным и для Бога и что ускользает от их разумения, то признают превышающим и силу Божию. Поелику мы сделали число мерою количества, а число есть ничто иное, как сложение единиц, так как единица многоразлично возрастает во множество, ибо и десяток есть единица, достигающая этого через сложение единиц, и сотня есть единица, слагаемая из десятков, равно и тысяча — другая единица, и десять тысяч подобным образом соответственно составляются из помножения: одна — сотен, другая — тысяч, то мы, определяя предметы, прежде всего делаем знаки количества исчисляемых вещей. Итак, для того, чтобы мы научились из божественного Писания, что нет ничего неизвестного Богу, оно говорит, что Богом исчисляется множество звезд, но не этим способом исчисления. Ибо кто столько прост, чтобы думать, что Бог постигает сущее нечетным и четным числами и посредством сложения единиц доводит число до суммы совокупляемого количества? Но так как в нас точное знание количества происходит от числа, то, чтобы мы и относительно Бога научились, что все объемлется знанием Его премудрости и ничто не избегает точного разумения, (пророк) сказал, что Бог исчисляет звезды; этими словами советуя думать, что Божество не по мере нашего знания постигает сущее, но что все непонятное и недомыслимое для нас объемлется знанием премудрости Божией. Ибо, тогда как звезды по причине множества ускользают от исчисления для человеческого мышления, Писание, от части научая целому, говоря, что они исчисляются Богом, свидетельствует, что ничто неизвестное нам не избегает знания Божия. Поэтому говорит: «исчисляй множество звезд», то есть не то, будто Он прежде исчисления не знает количества звезд. Ибо вероятно ли, чтобы Он не знал того, что сотворил? Попечитель всего не может не знать содержащегося в объемлющей все силе; кто же считает то, что знает? Ибо незнающим свойственно измерять количество числом, а Знающий все прежде происхождения не нуждается в числе, как учителе для познания предметов. Но у Давида говорится, что Он исчисляет; очевидно, (здесь его) слово для нашего научения нисходит до объяснения (мысли) сообразно тому, что нам понятно; значением числа Давид показал, что Бог точно знает неизвестное нам. Посему, как Он называется исчисляющим, нисколько не нуждаясь для познания сущего в рядах чисел, так говорит о Нем пророчество и то, что Он всем имена нарицает, означая, думаю, не оное название посредством звука; потому что мысль дойдет до чего–нибудь нелепого и недостойного мнения о Боге, если сказать, что Богом полагаются звездам имена, встречающиеся у нас обыкновенно. Ибо если бы кто допустил, что они наречены Богом, то совершенно необходимо было бы признать, что Им приписаны звездам названия еллинских идолов, и все, что в баснословном повествовании присоединяется к именам звезд, признать истинным, так как Бог закрепляет за ними эти названия. Так седмерица заключающихся на небесном своде светил, разделенных по еллинским идолам, сделает безупречными впавших в это заблуждение, так как они будут верить, что такой порядок устроен Богом. Так басня об Орионе и Скорпионе вводится в веру, равно как и рассказы об Аргусе, и Лебедь, и Орел, и Пес, и баснословие о венце Ариадны. Заставит также Евномий подозревать, что Бог же — изобретатель и названных по животным знаков зодиака, придуманных для явлений сообразно некоторому очертанию, если только верно думает, будто Давид говорит, что эти имена полагает им Бог.
Поелику же нелепо почитать Бога изобретателем таковых имен, чтобы не казалось, что и имена идолов от Него получили начало, то хорошо было бы не принимать сказанного без исследования, но подобно тому, что мы поняли относительно числа, уразуметь смысл и сего. Так как у нас свидетельством точности знания служит то, что известное называется нами по имени, то Писание учит нас этими словами, что из непонятного для нас не только полноту количества, собираемого в сумму, постигает знанием Объемлющий вселенную, но знает точно и каждое в отдельности. Поэтому Писание говорит, что не только множество звезд исчисляется Им, но и что каждая нарицается по имени; это значит, что точность знания Его простирается до мельчайших частностей, и с такой точностью познает Он каждое в отдельности, с какой человек знакомого ему по имени. Если же кто скажет, что данные Богом звездам имена, о которых, по предположению Евномия, сказал Давид, суть иные, коих, по его мнению, не знает человеческая природа, то таковой блуждает далеко от истины. Ибо, если бы у звезд были другие имена, то божественное Писание не стало бы упоминать те имена, которые находятся в употреблении по еллинскому обычаю; так Иов говорит: «творяй плиады и еспера, и арктура и сокровища южная» (Иов. 9:9), а Исайя именует Орион и Асирот (Ис. 13:10); из этого ясно, что Божественное Писание пользуется общеупотребительными в жизни именами для нашего наставления. Так, в книге Иова мы слышим о Амалфеином роге (Иов. 42:14), а у Исайи о сиренах (Ис. 13:21), потому что еллинское разумение так именует изобилие всех благ, а Исайя именем сирен указывает на удовольствия слуха. Посему, как здесь богодухновенное слово воспользовалось именами из баснословных рассказов, имея в виду пользу слушающих, так и там Писание, не стыдясь высказало названия, нареченные звездам человеческим примышлением, научая, что всякая вещь, именуемая людьми, имеет бытие от Бога, — вещь, а не имя. Ибо «не именуяй, а творяй», говорит, «плиады, еспера и арктура». Сказанного, думаю, достаточно для доказательства того, что и Давид говорит в пользу нашего мнения, научая нас пророчеством не тому, что Бог поименовывает звезды, но тому, что Он точно знает их, так как и между людьми те обыкновенно точнее знают предметы, которые по большой привычке к ним могут назвать их поименно.
А если изложить еще многими признаваемую в этих словах мысль псалмопения, то суетность Евномиева о сем мнении будет обличена гораздо больше. Ибо особенно тщательно исследовавшие смысл богодухновенного Писания утверждают, что не все сущее достойно Божественного исчисления. Так в упоминаемых Евангелием насыщениях, бывших в пустыне, не были признаны достойными счета ни дети, ни жены. И в исходе израильского народа счетом исчислены только те одни, которые уже могли нести оружие против врагов и отличаться в битве. И не у всех (предметов) имена такого рода, чтобы заслуживали быть произнесенными Божескими устами, но исчисляется разве только нечто прекрасное и небесное; что по высоте состояния пребывает свободным от смеси с тьмой, то называется звездой; именуется также, если окажется что–либо в том же смысле достойным написания в божественных книгах. Ибо о сопротивных говорит, что «ни помяну имен их устнама моима» (Пс. 15:4). А об именах, какие Господь прилагает таковым звездам, ясно узнаем из пророчества Исайи, которое говорит: «прозвах тя именем твоим: Мой еси ты» (Ис. 43:2), так что, если кто делает себя стяжанием Божиим, именем для него становится самое дело. Но это пусть будет так, как угодно читателям. А что Евномий присовокупляет к сказанному, будто первые слова миротворения свидетельствуют, что существующим вещам от Бога положены звуки слов, то предыдущие достаточные о том исследования повторять я считаю излишним. Пусть также и слова Адама, которые, как говорит Апостол, были пророчественными относительно Христа и Церкви (Еф. 5:31–32), толкует он по произволу, как хочет. Ибо никто не будет столь неразумен, чтобы вместо Павла, силой Духа открывающего нам сокровенные тайны, считать более достоверным толкователем божественных Писаний Евномия, явно противоборствующего словам богодухновенного свидетельства и усиливающегося через перетолкование изречения об сем (Писания) доказать, что виды бессловесных животных не были наименованы Адамом. Пусть обойдены будут и оскорбительные слова его, и та неприятная грубость, и смердящий наземом его голос, с обычным красноречием называющий нашего учителя сеятелем плевел, (находящий у него) и гнилость плода, и пагубу Валентина, и плод от него, который, как он говорит, скопился в душе наставника, и прочее, что им сказано гнусного, пусть прикроется молчанием, подобно гниющим телам, закрываемым землей, чтобы от их скопления не распространилось зловоние.
Но должно обратить речь к тому, что им сказано затем. Он снова излагает одно из речений наставника, которое таково: «Говорим, что Бог всяческих нетленен и нерожден, называя Его сими именами по различным применениям. Ибо когда обращаем взор на прошедшие века и находим, что жизнь Божия простирается далее всякого начала, тогда называем Бога нерожденным, а когда простираемся умом в грядущие века, тогда никаким пределом необъемлемого, беспредельного, бесконечного называем нетленным. Посему как нескончаемость жизни называется нетлением, так и безначальность оной — нерожденностью, если то и другое умопредставляем примышлением». Опять брань, которую он делает предисловием к рассмотрению сказанного, опустим, и изменение какого–то семени, и руководителя сеяния, и бессвязность порицания и все прочее, что излагает он, болтая попусту неутомимым языком; а в чем он усиливается обвинить нас, клевеща на слова (наставника), на то мы и обратим внимание. Обещает обличить нас, будто мы называем Божество нетленным не по естеству; мы же только то одно почитаем чуждым естества, что приобретается чем–либо и может быть утрачено, а не те (свойства), без коих нельзя мыслить естества; каким же образом обвинять нас в разделении естества самого от себя? Если бы в нашей речи утверждалось, что нетление у Бога есть нечто после привзошедшее, так что оно некогда у Него не существовало или не будет существовать когда–либо, тогда был бы повод говорить это против нас в обвинение наше. Но если наша речь утверждает, что Божество всегда то же и навсегда будет тем, чем есть теперь, что в Нем ничего не прибывает ни от приращения чего–либо, ни от приложения несуществующего, но всегда существует со всем, что разумеется и называется благом, то каким образом клевещет, будто приписываем Ему нетление не по естеству? Но он из выше прочитанных слов учителя воображает заимствовать поводы к обвинению его речи в том, будто мы приписываем Богу нетление через наращение веков. Если бы нами были приведены наши речения, то наша речь могла бы быть заподозрена в том, будто мы для защиты своей теперь исправляем и переменяем на правильные слова, подлежащие порицанию. Но когда наши слова высказываются врагом, то какое доказательство истины может быть сильнее свидетельства о ней в нашу пользу противников? В каком же теперь виде наша речь, на которую Евномий взводит клевету? «Когда, — говорит, — простираемся умом в грядущие века, тогда никаким пределом необъемлемого, беспредельного, бесконечного называем нетленным». Неужели Евномий думает, что одно и то же — усвоять и называть? Кто столь исступлен, чтобы не знать собственных значений этих слов? Ибо усвояет тот, кто приобретает себе неприсущее, а называет тот, кто обозначением именует существующее. Как же после сего не устыдится этот просветитель истины составлять обвинения при помощи явной клеветы? Как невидящие, вследствие какой–нибудь болезни, на глазах зрящих совершают постыдное, думая, что и здоровым неизвестно то, чего сами не видят, так подобное же нечто случилось и с этим дальновидным и быстрым умом, который собственную слепоту относительно истины предполагает и в слушателях. И кто столь неразумен, чтобы, сличив с обвинением оклеветанные слова, из сравнительного чтения того и другого не открыть коварства писателя? Наша речь называет Бога нетленным, а он обвиняет, что она усвояет нетление. Что общего между «иметь» и «называть» ? Справедливо для каждого отвечать за свои слова, а не подвергаться порицанию за чужие. А теперь он обвиняет нас и гневается на нас, а по истине сказать, не обвиняет никого, кроме себя самого. Ибо если усвоять Богу нетление предосудительно, а этого никто другой, кроме его одного, не говорит, то этот клеветник оказывается обвинителем себя самого, нападая на свое, а не на наше. Относительно же имени «нерожденность» мы говорим, что как нескончаемость жизни называется нетлением, так безначальность оной — нерожденностью; а он утверждает, будто мы от (продолжения) веков производим старшинство Бога пред всем, что рождено.
Умолчу о той хуле, что Единородного Бога равняет со всем рожденным, через одинаковость названия ведя к мнению о равночестности Сына Божия со всем существующим через рождение. Но для более разумных слушателей прибавлю к слову и бессмысленное его коварство. «Василий от (продолжения) веков производит старшинство Бога пред всем рожденным». Какое это бессмысленное пустословие! Человек оказывается предоставляющим нечто Богу и от веков предоставляет Ему старейшинство! Какая пустая болтовня в этих несостоятельных словах! Учителем сказано, что то в Божественном существе, что превышает измеряемое расстоянием протяжение веков с той и другой стороны, означается некоторыми знаменательными именами, — именно то, что Бог, как говорит Апостол, «ни начала днем, ни животу конца имея» (Евр. 7:3); так что различными речениями обозначается различная мысль; и потому, что превышает всякое начало, называется безначальным и нерожденным, а что не ограничивается никаким концом, именуется бессмертным и нетленным; Евномий же не стыдится писать, что это есть усвоение и предоставление, — и подобные глупости. Но говорит еще, что мы разделяем века на две части, как будто совсем не читав того, что передал, или предлагая свою речь забывшим сказанное им. Что говорит учитель? Когда помышляем о том, что прежде веков, и протекаем мыслью века, то, разумея неограниченность вечной жизни, означаем такое понятие названием нерожденности; когда же обратим мысль на последующее время и представим жизнь Божию как простирающуюся далее веков, то сию мысль изъясняем словом «бессмертие» и «нетленность». Где же в наших словах рассечение веков, когда вечность Божию, во всех ее значениях равно проявляющуюся и отовсюду одинаковую, никакими промежутками неделимую, мы по возможности выражаем и словами, и наименованиями? Поелику жизнь человеческая движется в промежутке времени и идет, поступая вперед от известного начала к какому–либо концу, и разделяется эта жизнь на прошедшее и ожидаемое, так что одно служит предметом надежды, другое — воспоминания, то по сей причине, что до нас касается, мы прошедшее и ожидаемое мыслим в перемежающемся протяжении. Точно так же, по неточному словоупотреблению, мы говорим и о Верховном естестве не потому, чтобы Бог в собственной жизни позади себя оставлял какое–либо протяжение и опять в течение жизни простирался к тому, что впереди, но потому что так свойственно нашему разуму, мыслящему о предметах по соответствию с нашей собственной природой и разделяющему вечность на прошедшее и будущее; между тем как ни то, что позади, не пресекает мысли о беспредельном продолжении неограниченного, ни то, что впереди, не обещает какой–либо остановки и предела бесконечной жизни. Если же сие мы и думаем, и говорим, то как он приписывает нам деление веков? Не скажет ли Евномий, что и Писание делит века на две части, когда, в том же смысле означая беспредельность Божеской жизни, Давид упоминает о царстве прежде веков, а Моисей указывает на царство Божие, простирающееся за века; так что и тот, и другой научают нас, что всякая мысль о промежутках времени в Божеском естестве объемлется беспредельностью Того, Кто содержит в Себе все отовсюду ограниченное? Ибо Моисей, взирая в даль, говорит, что Бог царствует «веки, и на век, и еще» (Исх. 15:18), а великий Давид, возводя разум к тому, что позади, сказал: Бог — «Царь наш» предвечный (Пс. 73:12), и опять: «услышит Бог Сый прежде век» (Пс. 54:20). Но мудрец Евномий, не обратив внимания на стольких руководителей, утверждает, будто мы говорим, что иная жизнь безначальная, а иная бесконечная, — и еще, будто мы признаем различие и разницу каких–то веков, самим своим различием разделяющих и представление о Боге. Но чтобы не продлить нам борьбы против сказанного, присовокупим и самое неиспытанное и неисследованное рассуждение об этом Евномия, так как самые усиленные труды его в пользу лжи для разумных удобно могут послужить к большему обнаружению истины.
Так, продолжая речь далее, спрашивает нас: что, наконец, мы считаем веками? Но было бы справедливее нам предложить ему этот вопрос. Ибо сам же говорит, что познал существо Божие, и полагает, что собственным разумом понял непостижимое для нас. Итак, пусть он сам, хвастающийся, что постиг высочайшее, даст нам понятие сущности веков. И пусть он не слишком грозно пред нами, простецами, потрясает и той обоюдоострой дилеммой ответа, — именно, что как не станем думать о веках, впадем в одинаковую нелепость в том и другом случае. «Если, — говорит, — скажете, что они вечны, то будете еллинами, валентинианами и варварами, а если, — говорит, — они рождены, то уже не будете признавать в Боге нерожденности». О какое непобедимое и неодолимое умозаключение! Если будет признано что–либо, Евномий, рожденным, то отринуто будет признание нерожденного! Но куда утекли у тебя искусные построения о рожденном и нерожденном, посредством которых ты доказывал несходство сущности Сына с Родившим Его? Кажется, из настоящих слов мы узнаем теперь, что Отец, рассматриваемый в отношении к Рожденному, не только не подобен Ему по сущности, но с признанием нерожденности совершенно разрешается в ничто, потому что если назовем века рожденными, то будем принуждены не признавать уже и нерожденного. Но посмотрим на необходимость, которой он нудит нас к признанию такой нелепости. Если, говорит, безначальность в Боге привходит от приложения (веков), то, когда нет их, не будет и прилагаемого. О какой это сильный и неотклонимый удар! Как ловко опутал он нас неразрешимыми узами! «Приложением веков, — говорит он, — привносится Богу нерожденность». Кто привносит? Кто говорит это, что Сущему безначально от приложения чего–то привносится нерожденность? Ни буква речи, ни смысл ее не уличают нашего слова в подобной нелепости. Речь сама для себя защита, не содержа ничего такого, что можно было бы обратить против нас; а что касается до значения сказанного, то кого считать более достоверным истолкователем оного, как не самих виновников слова? Посему справедливее будет нам высказать то, что думаем. Когда мы утверждаем, что жизнь Божия превыше веков, то говорим то, что сказано выше. «Но если нет, — говорит он, — приложения веков, то невозможно быть и тому, что прилагается Богу через это; прилагается же, — говорит, — нерожденность». Пусть же скажет и то, кем это прилагается Богу. Если им самим, то смешон он будет, обвиняя в собственном безумии наши слова; а если нами, то пусть снова прочитает сказанное нами, и мы примем на себя обвинение».
Но думаю, что нужно оставить без внимания и это, и все тому подобное, что за сим следует. Все это прямо игры детей, строящих какие–то домики из песка. Ибо сложив несколько частей периода и едва достигнув до конца, уже доказывает, что та же самая жизнь безначальна и бесконечна, исполняя в этом случае наше желание. Ибо и у нас не иное что говорится, как то, что Божеская жизнь есть едина, непрерывна сама в себе, беспредельна, вечна и ни с какой стороны не воспящается в безграничности каким–либо пределом. Доселе этот писатель свой труд и пот дарит нашей истине, как и мы, доказывая, что одна и та же жизнь не ограничивается ни в какой части, будет ли кто исследовать то, что прежде веков, или помышлять о том, что после оных. Но далее он снова возвращается к свойственному ему смешению (понятий). Ибо сказав, что одна и та же жизнь безначальна и бесконечна, оставив речь о жизни, все представления, какие усматриваются в Божеской жизни, сложив в одно понятие, сделал все одним. «Если, — говорит, — жизнь безначальная и бесконечная есть (вместе) и нетленная, и нерожденная, то нетление будет тождественно с нерожденностью, а безначальность с нескончаемостыо». А в подкрепление этому присовокупляет умозаключение такое: «Невозможно, — говорит, — чтоб жизнь была одна, а понятие нетленности не было тождественно с понятием нерожденности». Кстати прибавляет это доблестный муж. Ему кажется, что ни слово, ни праведность, ни мудрость, ни сила, ни благость, ни каждое из приличных Богу наименований не могут выражать чего–либо иного, кроме сказанного. Не должно быть никакого слова, имеющего свой частный смысл, а во всем списке имен заключается одно значение, и одно и то же слово вполне опишет и определит значение каждого из вышесказанных названий. Если тебя спросят, что значит Судия, ответь объяснением (слова) «нерожденность»; если тебе нужно будет сделать определение праведности, тотчас укажи в ответ на бесплотность; если спросят, что значит нетление, то, конечно, скажешь, что оно представляет значение или милости, или суда. Так ты и всякое понятие представляй одно вместо другого, потому что никакая особенность значения не отличает их одно от другого. Если же это узаконивает Евномий, то для чего Писание напрасно называет Божеское естество многими именами, именуя Бога судиею, праведным, крепким, долготерпеливым, истинным, милосердным и многими другими такими же (именами)? Ибо если никакого из этих имен не берется в особенном значении, но все они через слияние по значению смешаны между собой, то напрасно было бы и употреблять многие наименования для одного и того же, так как никакого различия не представляют эти имена по своему значению. Кто так бессмыслен, чтоб не знать, что Божеская природа по своей сущности есть едина, проста, единовидна, несложна и никаким образом не может быть умопредставляема в каком–нибудь разнообразном сложении. А человеческая душа, находящаяся на земле и погруженная в сию земную жизнь, по невозможности ясно созерцать искомое стремится понять неизреченное естество многообразно и многочастно при помощи многих понятий, не уловляя сокровенного в одном каком–нибудь понятии. Ибо понимание было бы удобно, если бы нам уделен был один какой–либо путь к познанию Божества, а теперь из проявляющейся во всем мудрости узнаем, что Правящий всем премудр, из величия чудес творения понимаем значение силы, а верование, что от Него все зависит, служит свидетельством, что нет никакой причины Его бытия. Опять представляя себе, что Он гнушается зла, разумеем совершенную Его неизменяемость и непричастность греху, а считая нетление смертное самым высшим злом, мы называем бессмертным и нетленным Того, Кто чужд всякого понятия о сем. Мы не разделяем на части вместе с сими понятиями и самого предмета, но, веруя, что Бог един по существу Своему, полагаем, что в мыслимом нами есть нечто соответствующее всем подобным понятиям. Ибо имена не противоречат между собой, как свойственно противоположным предметам, так что если есть в предмете одно (качество), то нельзя в то же время усматривать в нем другого; как, например, нельзя в одном и том же предмете мыслить вместе жизни и смерти; но значение имен, приписываемых Божеской природе, таково, что каждое из них хотя и имеет особое значение, но не содержит никакого противоречия с другим, вместе с ним приписываемым. Ибо разве противоречит праведность бестелесности, хотя сии речения по значению своему между собой и не согласны? А какое противоречие у благости с невидимостью? Точно так же и вечность Божеской жизни не разделяется вместе с различием имен, хотя познается при помощи двух имен и понятий: нескончаемости и безначальности, — и одно имя по значению своему не то же, что другое, ибо одно показывает отсутствие начала, а другое — конца, но в самом предмете различие имен, приписываемых ему, не производит никакого разделения.
Вот что говорим мы. А что говорит нам противник, то по самой букве выражения такого рода, что никак не может найти поддержки в доводах рассудка, так как он эти странные, надутые и бессмысленные речи в виде предложений и периодов выплевывает, как случится. Цель же того, что говорит, такова: показать, что по значению нет никакого различия между различными именами, так чтобы показалось, будто мы приписываем Богу нечто такое, чего у Него нет. «Поелику, — говорит он, — истинные слова получают свое значение от подлежащих и означаемых ими предметов, и различные из них согласуются с различными предметами, равно как тождественные с тождественными, то необходимо должно быть одно из двух: или и сам предмет означаемый — совсем иное, или и слово означающее — не иное». Это и многое притом другое подобное направляет он к достижению предположенной им цели, изложив некоторые формы слова, и сравнения, и вид, и меру, и часть, и время, и способ, так чтобы через изъятие всего этого выходило, что «нерожденность» есть слово, указывающее сущность. Такой вид имеет у него доказательство, а мысль его выскажу своими словами. Жизнь, по его словам, не должно признавать чем–либо иным, различным от сущности, чтобы в простом естестве не представить какой–либо сложности, когда понятие будет разделяться на то, что причастно (сущность) и на то, чему причастно (жизнь), но то же, говорит, что есть жизнь, есть и сущность. Хорошо любомудрствует об этом, ибо кто столько безумен, чтобы противоречить, что это не так! Но если, означая безначальность, как говорит, мы означаем жизнь, а сию самую жизнь истина принуждает назвать сущностью, то как он вывел в своем слове то, что имел в виду, — именно, что нерожденность означает самую Божескую сущность? Что Божеская жизнь не рождена другим (что означается понятием безначальности), — и мы сами соглашаемся, но полагать, что то самое, что означается выражением «не родиться» есть сущность, думаем, свойственно только дошедшим до безумного исступления! Ибо кто столько исступлен, чтобы нерожденность объявлять определением сущности? Ибо как рождение имеет близкое соотношение с рожденным, так, очевидно, и с нерожденным будет согласоваться нерожденность. Итак, если нерожденность указывает на то, чего нет в Отце, то каким образом мы примем за сущность то, что указывает на неприсущее? Но, составив сам себе то, что не было допущено ни нами, ни последовательными выводами из его собственных положений, он заключил, что нерожденность Бога есть обозначение Божеской жизни. Чтобы еще яснее обличить в этом месте его сумасбродство, мы посмотрим и исследуем при помощи тех самых умозаключений, которыми он относительно Отца понятие нерожденности обратил в понятие сущности, нельзя ли равным образом привести к нерожденности и сущность Сына?
«Должно, — говорит он, — чтобы для одной и той же жизни, совершенно единой, то же было и слово, хотя бы в наименованиях, в образе и расположении (их) и оказывалось различие. Поелику истинные слова получают значение от подлежащих и означаемых ими предметов, и различные из них согласуются с различными предметами, равно как тождественные с тождественными, то необходимо должно быть одно из двух: или и предмет означаемый — совсем иной, или и слово означающее — не иное; так как, кроме жизни Сына, нет никакого подлежащего предмета, к которому можно бы было или применить оное понятие, или приложить иное слово». Ужели в этих словах есть что–либо несогласное, чего бы нельзя было сказать или написать о Единородном? И Сам Сын не есть ли жизнь совершенно единая? И относительно Его не прилично ли быть одному и тому же самому слову, хотя бы в наименованиях или в образе и порядке (их) являлось различие? И касательно Его не можно ли утверждать необходимо одно из двух: что или и предмет означаемый — совсем иной, или и слово означающее — не иное, так как нет никакого подлежащего предмета, кроме Его жизни, к которому можно бы было или применить оное понятие, или приложить иное слово? Мы ничего не прибавили к тому, что сказано Евномием об Отце, а пришли к тому же исповеданию и следствию, вставив только имя Сына.
Итак, если и Он Сам есть единая жизнь, чистая от всякого сложения и свободная от смешения, и нет никакого предмета, кроме жизни Сына (ибо как в простом можно подозревать примеси чуждого предмета; не было бы уже и просто мыслимое вместе с другим); простая же жизнь есть вместе и сущность Отца; а в простой жизни, по самому понятию о жизни и простоте, нет никакого различия, так как ни прибавление, ни отъятие, ни различие по количеству или качеству не вносит в нее отличия; то совершенно необходимо, чтобы согласное по самим понятиям и именовалось теми же самыми названиями. Итак, если относительно простоты в Отце и Сыне понимается один предмет, так как понятие красоты, как сказано, не допускает никакого различия, то совершенно необходимо, чтобы имя, усвояемое одному, было соответственно и другому; так что, если простота жизни Отца означается именем нерожденности, то это же выражение не может быть несоответственным и для означения простоты Сына. Ибо как существо разумное и смертное, способное к мышлению и познанию, называется человеком одинаково в Адаме и в Авеле, и нимало не изменяется названия естества ни от того, что Авель получил жизнь через рождение, а Адам — без рождения, так же точно, хотя простота и несложность жизни Отца и называется нерожденностью, но необходимо то же самое понятие и с тем же самым названием должно быть применено к жизни Сына, так как, по словам Евномия, должно допустить одно из двух: что или предмет означаемый совершенно иной, или и слово означающее не иное.
Но что нам останавливаться на пустяках? Более трудолюбивым для обличения безумия должно бы предложить самую книгу Евномия и без дальних опровержений указать разумным не только хульное нечестие учения, но и обычную его бессвязность. Ибо многоразличным образом толкуя слово «примышление» несообразно с нашим понятием о нем, но по своему произволу, он как в ночном сражении, когда никто не различает своего от чужого, не понимает, что тем самым, чем думает нанести поражение нам, разит собственное учение. Ибо что особенно, по его мнению, должно отделять его от Церкви благочестивых, это то положение, что Бог сделался Отцом некогда и что имя отчества новее всех прочих имен, которые сказуются о Нем, ибо Он нарекся Отцом с того времени, когда предположил быть Отцом и стал Им. Теперь, поелику он в этой своей речи утверждает, что все наименования, прилагаемые Божескому естеству, в своем значении сходятся между собой и нет между ними никакого различия, а одно из прилагаемых имен есть «Отец», ибо Он называется Отцом так же, как именуется нетленным и вечным, то он или должен и об этом названии утвердить то же мнение, какое и о прочих именах, и уничтожить предыдущее положение (так как во всех наименованиях будет вместе заключаться и понятие об отчестве; ибо ясно, что если одно и то же значение слов «нетленный» и «Отец», то Он должен быть признан как вечно нетленным, так и вечно Отцом, поелику во всех наименованиях, как говорит он, находится одно значение). Или если он убоится приписать Богу отчество от вечности, то по необходимости разрушит свое доказательство, признав, что в каждом имени есть свое особое значение, и таким образом его длинное разглагольствование об именах уничтожается, лопаясь как пузырь. А ежели он станет защищаться (от обвинения) в противоречии тем, что одно только название Отцом и Зиждителем усвояется Богу, как после привзо–шедшее, потому что то и другое речение прилагается Богу от действий, как он говорит, то избавит нас от большей заботы исследования о сем предмете, признавая то, в чем мы должны были уличить его со многим трудом. Потому что если одно значение слов «Зиждитель» и «Отец» (поелику каждое заимствует ся от действия), то, конечно, совершенно равносильно между собой и то, что означается ими; ибо в тех словах, в которых означаемое то же, конечно, и подлежащее означению не различно. Итак, если и Отцом, и Зиждителем Он называется по действию, то желающему, конечно, возможно употреблять наоборот одно слово вместо другого и говорить, что и Зиждитель Сына, и Отец камня есть Бог, так как имя «Отец» по своему значению не имеет отношения к естеству. А что отсюда следует далее, уже представляет несомненную нелепость для здравомыслящих. Ибо как нелепо считать Богом камень или другое что сотворенное, точно так будет признано, что и Единородному Богу не должно приписывать Божества, так как, по словам Евномия, на основании одного и того же значения от действия, по которому именуется и Отцом, и Зиждителем, приписывается Ему то и другое название. Но обратимся к тому, что далее.
Нападая на нашу речь, утверждающую, что знание о Боге возбуждается в нас по различным применениям (мысли), говорит, будто мы уже не признаем Его простым, так как Он постепенно воспринимает понятия, означаемые каждым наименованием и через усвоение оных восполняет совершенство Своего собственного бытия. Это я сказал своими словами, сокращая его длинную болтовню. Но думаю, что на это пустое и неосновательное многословие ни один благоразумный не дал бы и ответа, не желая быть обвиненным в безумии. Ибо если бы было что–нибудь такое в наших словах, то, конечно, нам должно бы было или переменить дурно сказанное, или двусмысленность мысли исправить толкованием. А поелику нами и не сказано ничего такого, и последовательность сказанного не ведет мысль к необходимости такого вывода, то какая нужда, останавливаясь на очевидном, надоедать читателям распространением речи? Ибо кто столько безумен, чтобы, слыша, что благочестивые представления о Боге составляются при помощи многих понятий, подумал, будто и самое Божество сложено из различного, или что Оно собирает Себе совершенство через постепенное усвоение некоторых (свойств). Положим, что кто–нибудь изобрел геометрию, тот же самый может считаться изобретателем и астрономии, равно врачебного и грамматического искусства, земледелия и других подобных знаний. Ужели потому, что многие и различные наименования этих знаний умопредставляются об одной душе, душа должна считаться сложной? Хотя то, что означается именем врачебного искусства, весьма много различается от знания астрономического, и грамматика по значению не имеет ничего общего с геометрией, и опять не одно и то же мореплавание и земледелие; однако к душе можно приложить вместе понятие каждого из сих знаний, и от этого душа не станет сложной, и все наименования знаний не смешаются в душе в одно значение. Итак, если человеческий ум от столь много, что высказывается о нем, ничего не терпит в своей простоте, то как же может кто–нибудь подумать, что Бог, если Он мудр, праведен, благ и вечен и если называется у нас всеми другими боголепными именами (если только за всеми именами не признается одного значения), состоит из многих частей или из усвоения их составляет совершенство Своей природы?
Но исследуем и самое сильное его обвинение против нас, которое состоит в следующем. «И если должно сказать резче, Он и самую сущность не сохранит несмешанной и чистой от худого и противоречащего». Таково обвинение против нас. Какое же доказательство того, в чем обвиняет? Посмотрим на оное сильное и ораторское доказательство его против нас. «Если, — говорит он, — Бог нетленен только по нескончаемости жизни и нерожден только по безначальности, то в том отношении, в каком Он не есть нетленен, будет тленным, и к каком отношении не есть нерожден, будет рожденным». И опять, возвращаясь к тому же, говорит: «Итак, по (естеству) безначальности Он будет нерожденным и вместе тленным, а по (свойству) нескончаемости — нетленным и вместе рожденным». Итак, вот его резкое слово, которое он угрожал изречь против нас в обличение того, будто мы говорим, что сущность Божия смесилась с противоположным ей и худшим. Но для тех, которые обладают твердой способностью судить об истине, я полагаю, ясно, что так как в приведенных нами словах учитель не дал клеветнику никакого повода к обвинению, он сплел этот ребяческий софизм, извратив сказанное им по своему произволу. Впрочем, чтобы это яснее было для всех читателей, я опять буквально повторю те слова и сопоставлю с ними речи Евномия. «Называем Бога всяческих, — говорит учитель, — нетленным и нерожденным, употребляя эти имена по различным применениям. Ибо, когда обращаем взор на прошедшие века и находим, что жизнь Божия простирается далее всякого начала, тогда называем Бога нерожденным; а когда простираемся умом в грядущие века, тогда никаким пределом необъемлемого, беспредельного, бесконечного называем нетленным. Поэтому, как нескончаемость жизни называется нетлением, так безначальность оной нерожденностью, если то и другое умопредставляем примышлением». Вот речь учителя, научающая нас сказанным тому, что Божеская жизнь, будучи единой по естеству и в Самой Себе непрерывной, ни начинается от какого–либо начала, ни ограничивается каким–нибудь пределом, и что умопредставляемые о сей жизни понятия позволительно уяснять посредством некоторых наименований; ибо что Он имеет бытие не от какой–либо причины, это мы высказываем словами «безначальный» и «нерожденный», а что Он не ограничен каким–нибудь пределом и не причастен тлению, это обозначают речения «нетленный» и «беспредельный». Утверждается также сказанным и то, что в Божеской жизни свойство безначальности должно быть называемо нерожденностью, а свойство бесконечности должно быть именуемо нетлением, поелику все переставшее существовать, конечно, уничтожается, а когда слышим об уничтожении существующего, представляем себе разрушение имевшего бытие, то он и говорит, что никогда неперестающее существовать и неспособное к прекращению своего бытия через разрушение именуется нетленным.
Что же на это Евномий? «Если, — говорит, — Он нетленен только по причине бесконечности жизни и нерожден только по причине безначальности, то, поколику не есть нерожденный, Он будет рожденным». Кто тебе сказал это, Евномий, будто нетление соусматривается не со всей жизнью Божией? Кто, разделив жизнь Божескую надвое, называет каждую половину своим особенным именем, как будто говоря, что которой части приличествует одно имя, той не приличествует другое? Только твоей острой диалектике свойственно утверждать, что жизнь, будучи безначальной, тленна, и что с нетленностью не умосозерцается вместе безначальность. Это подобно тому, как если бы кто–нибудь назвал человека существом, обладающим даром слова, и умом, и способностью познания, усвояя подлежащему то или другое из этих имен, смотря по различию намерения и мысли; и потом был поднят за это на смех кем–нибудь, рассуждающим подобно (Евномию), что, если человек есть существо, одаренное разумом и способностью познания, то поэтому не может быть существом словесным, но если одарен способностью познания, то и будет только этим одним, а быть другим не допустит его природа; и опять, если определишь человека существом словесным, то не допустишь в нем способности разума, так то самое, что он есть существо словесное, доказывает, что он не причастен разумению. Если же всякий совершенно ясно видит, что это смешно и бессмысленно, то и относительно того нисколько не может подлежать сомнению то же самое; и когда прочтешь слова учителя, то найдешь у Евномия только тень их, ребяческий софизм; ибо, как в примере о человеке, способность познания не устраняется даром слова или дар слова — способностью разумения, так и вечность Божеской жизни не будет лишена нетления, если она безначальна, и не перестанет быть безначальной, если кто припишет ей нетление. Таким образом, изыскующий истину с помощью диалектической хитрости, тем, что хотел от себя навязать нашему слову, и поражает, и ниспровергает только самого себя, а нас не касается. Ибо нами было сказано не что–либо иное, как то, что Жизнь, будучи безначальной, от примышления называется, а не делается нерожденного, и что если продолжение в беспредельность означается названием нетления, то название не делает ее нетленной, а означает только то, что в ней уже есть; так что быть Божеской жизни беспредельной в том и другом отношении — это свойство самого предмета, а так или иначе будут названы свойства, усматриваемые в предмете, это зависит только от слова, выражающего обозначаемое свойство. Одно из свойств Божеской жизни то, что она есть без причины, — это выражается речением «нерожденный»; другое свойство этой жизни то, что она беспредельна и бесконечна, — это обозначает слово «нетленный»; так что предмет есть безначальный и бесконечный, что выше всякого имени и понятия, а что он не есть от причины и не обратится когда–нибудь в небытие, это означается примышлением сих имен.
Итак, что в наших речах вызвало его к этому бессмысленному глумлению, так что, опять повторяя, говорит то же самое в таких словах: «По свойству безначальности Он нерожден и вместе нетленен, а по свойству бесконечности нетленен и вместе рожден?» Хотя это и оставлено нами без разбора, но для всякого, хотя сколько–нибудь имеющего смысла, совершенно ясно, до какой степени это смешно и бессмысленно или, лучше, нечестиво и достойно осуждения. Ибо в той самой речи, где он устрояет сочетание нетленного с безначальным, он таким же точно образом посмеивается над всяким благочестивым и боголепным именем, поелику не только эти два свойства усматриваются в Божеской жизни (то есть что она безначальна и не подлежит тлению), но также именуется Он и невещественным и безгневным, неизменяемым и бесплотным, невидимым и неимеющим образа, истинным и праведным, и тысячи есть других понятий относительно Божеской жизни, из которых каждое само по себе обозначается особым словом, соответственно особой, выражаемой им мысли. Таким образом, каждое имя, обозначающее собой боголепное понятие, может быть поставлено в измышленное Евномием чудовищное сочетание! Например, невещественность и безгневность, — то и другое говорится о Божеской жизни, но не в одном и том же смысле, ибо что Божество не причастно вещественному примышлению, это мы разумеем из понятия «невещественный», а понятием «безгневный» означается, что Оно чуждо страсти гнева. Так Евномий, по всей вероятности, сделает свой набег и на сии имена и подобным же образом будет глумиться и над сейчас сказанным, ибо, соплетая ту же нелепую связь понятий, будет говорить: если потому, что чужд вещественного примышления, называется невещественным, то поэтому не будет безгневным, и если потому, что непричастен гневу, есть безгневный, то уже нельзя поэтому признать его вещественным, но, по всей необходимости, вследствие непричастности веществу должен быть признан невещественным и вместе гневным, а по непричастности гневу должен быть точно так же признан безгневным и вещественным, и то же самое найдешь и относительно всех других имен. И если угодно, предложим другое такое же сочетание имен, например: неизменяемость и бесплотность. Каждое из этих двух имен в своем особенном значении употребляется о Божеской жизни, но мудрость Евномиева подобным образом и с ними устроит нелепость; ибо если всегда пребывающее одним и тем же обозначается словом «неизменяемый», а духовность сущности выражает наименование «бестелесный», то и относительно этих имен Евномий скажет то же самое, то есть что они не соединены и чужды одно другому и что не имеют взаимной общности содержащиеся в сих именах понятия, поелику в том, что Божество пребывает всегда одним и тем же, содержится только понятие неизменяемости, а не бесплотности, а в духовности и безвидности сущности содержится понятие бестелесности и не заключается понятие неизменяемости; так что следует, что когда созерцается в Божеской жизни неизменяемость, то вместе с неизменяемостью она должна быть признаваема и телесной, а когда берется во внимание духовность, то должно полагать, что она бесплотна и вместе изменяема. Таковы мудрые изобретения Евномия против истины! Но зачем попусту растягивать слово, опровергая все порознь, когда и во всем также можно усмотреть вывод подобной нелепости? Ибо по предыдущему лжеумствованию находятся во вражде друг с другом и истинное с праведным, поелику иное означается истиной, и иное — праведностью; так что, оставаясь последовательным, и здесь Евномий должен сказать, что праведному не присуще истинное, а истине не достает праведности, и таким образом будет следовать, что когда кто–нибудь будет мыслить о Боге, что он чужд неправде, то на основании этого объявит Божество праведным и лживым, а если будет мыслить о Его непричастности лжи, то Божество окажется истинным и вместе неправедным. То же должно сказать и о невидимости, то же о безвидности, ибо на основании подобного вышеизложенному мудрования и здесь может сказать, что ни безвидному неприсуща невидимость, ни в невидимом нет безвидности, но с понятием невидимого он свяжет вид, а видимое по противоположности будет почитать неимеющим вида. Он и о сем скажет то, что измыслил относительно нетленности и безначальности, именно, что когда мыслим о несложности Божеской жизни, то признаем ее безвидной, но не вместе и невидимой, а когда помышляем о невозможности видеть Бога телесными очами, то усвояя Ему невидимость, не допускаем вместе с тем, что Он не имеет вида. Итак, если это кажется для всех смешным и вместе бессмысленным, то тем более имеющий ум найдет достойным осуждения то их нелепое мнение, исходя от которого (его) слово последовательно дошло до такой нелепости.
Но он нападает на слова учителя, который будто бы несправедливо в бесконечном созерцает нетленное и в нетленном мыслит бесконечное. Поговорим же о смешном и мы, подражая остроумию Евномия. Рассмотрим его мнение об этих именах, которое такого рода: нечто есть иное, говорит, по значению бесконечное, нежели нетленное, или оба составляют одно и то же. Но если то и другое будет считать за одно, то он окажется согласным с нами, если же скажет, что иное значение слова «нетленный», и иное — слова «бесконечный», то совершенно необходимо, чтобы чуждые одно другому (слова) не были одним и тем же по силе; следовательно, если иное есть понятие «нетленный» и опять иное — «бесконечный», и каждое из них есть то, что не есть другое, то ни нетленное не может быть признано бесконечным, ни бесконечное нетленным, но беспредельное будет тленным, а нетленное имеющим конец. Усердно прошу читателей не осуждать за насмешку, ибо шутнику мы по необходимости отвечаем шуткой, чтобы подобной игрой разорвать ребяческое сплетение его софизма. Но если читателям не покажется утомительным и тяжким, то неизлишне опять буквально повторить слова Евномия. «Если, — говорит, — только по (свойству) бесконечности жизни Он нетленен и только по свойству безначальности не рожден, то в какой мере не есть нетленный, будет тленным, и в какой мере не есть нерожденный, будет рожденным», — и, повторяя то же самое (я опускаю неуместные и ненужные вставки, как ничего нового к подтверждению сказанного не прибавляющие), опять говорит: «Итак, по (свойству) безначальности будет нерожденным и вместе тленным, а по свойству бесконечности нетленным и вместе рожденным». Я думаю, каждый легко приметит, что смысл наших слов, которые он сам привел, не имеет ничего общего с тем обвинением, которое он возводит на нас. Учитель говорит, что мы называем Бога всяческих нетленным и нерожденным, употребляя сии имена по различным применениям, ибо поелику Он не ограничивается веками ни по какому расстоянию временного протяжения, будем ли разуметь предыдущее или последующее время, то, имея в виду то и другое понятие о беспредельности и неограниченности вечной жизни, одно означаем именем нетленности, а другое — нерожденности. А он утверждает, будто мы учим, что безначальность есть сущность и бесконечность тоже есть сущность, так что мы допускаем разделение сущности на две противоположные части, и таким–то образом выводит он нелепое, полагая свои собственные мнения и вступая с ними в борьбу и составленные им самим мнения доводя до нелепости, но до наших (мыслей) это нисколько не касается. Ибо, что Бог нетленен только по бесконечности жизни, это его, а не наше (мнение); равным образом и то, что нетленное не есть безначальное, есть изобретение того же остроумия, которое неприсущее (Богу) включает в понятие сущности. Ибо мы ничего из неприсущего не называем сущностью, не присуще же Богу не то, чтобы жизнь оканчивалась уничтожением, не то, чтобы бытие начиналось рождением, — что изображается сими двумя именами: нетления и нерожденности; а он, примешав свои собственные бредни к нашему учению, не понимает, что обвинением, взведенным на нас, позорит самого себя. Ибо утверждающий, что нерожденность есть сущность, последовательно дойдет до той нелепости, в которой обвиняет наше учение, потому что иное есть начало и иное конец по раздельному представлению этих понятий; если кто–нибудь отсутствие одного из сих (например, начала) назовет сущностью, тот допустит существование жизни только в (одной) половине, в одной безначальности, а в бесконечность она простираться уже не будет по (самому) естеству, так как естеством считалась бы нерожденность; если же заставит быть сущностью то и другое, то совершено необходимо по данному Евномием понятию, чтобы то и другое имя по заключающемуся в нем смыслу имело бытие и в понятии сущности, содержась (в нем) не более, как сколько указывает значение наименования. И таким–то образом явится основательное мнение Евномия, что ни безначальное не имеет бесконечности, ни бесконечное — безначальности, поелику, по его словам, и каждое из вышеуказанных (имен) есть сущность, и оба остаются по своим понятиям несмешивающимися одно с другим, и ни начало не имеет одного и того же значения с концом, ни имена, отрицающие их, не совместимы друг с другом по своим значениям.
Но чтобы и он сам признал свой бред, обличим его при помощи его собственных слов. Восставая против наших слов, он говорит, что Бог и по (свойству) бесконечности не рожден и по (свойству) нерожденности бесконечен, как будто одно и то же значение обоих имен. Итак, и по (свойству) беспредельности Он не рожден, если одно и то же по значению бесконечность и нерожденность, а что Сын бесконечен, в этом он соглашается, то по сей последовательности он необходимо должен признать нерожденным и Сына, так как он сказал, что бесконечность есть одно и то же с нерожденностью. Ибо как в нерожденном усматривает бесконечность, так признает, что и в бесконечном он мыслит безначальность, ибо не делал бы перестановки имен, если бы они были равны. Но Бог, говорит он, нерожден по естеству, а не по приравнению к векам. Кто же спорит о том, что Бог не по естеству есть все то, что ни говорится (о Нем)? Ибо и праведным, и всемогущим, и Отцом, и нетленным называем Бога не по приравнению к векам, и не по отношению к чему–нибудь другому из существующего, но всякое благочестивое понятие (о Нем) относим к самому предмету, как Он есть по естеству; так что если бы предположить, что ни века, ни что–нибудь другое из мыслимого в творении не было сотворено, то тем не менее Бог был бы тем, чем Он признается ныне, нисколько не нуждаясь в веках для бытия тем, чем есть. Но, говорит он, Бог имеет жизнь ни заимствованную, ни сложную, ни изменяющуюся, ибо Сам есть вечная жизнь, по самой жизни бессмертный, по самому бессмертию нетленный. Сему научились мы и относительно Единородного, и не найдется противоречащего сему, разве только кто захочет явно прекословить словам Иоанна. Не «отъинуду» дана жизнь Сыну: «Аз есмь», говорит, «живот» (Ин. 11:25), ни сложна Его жизнь, ни подвержена изменениям, но по самой жизни Он бессмертен (ибо в чем другом усмотрит кто–нибудь бессмертие, кроме жизни?) и по самому бессмертию Он нетленен, ибо то, что могущественнее смерти, конечно, не допускает и тления. До сих мест согласны с ним и наши речи, а приписанную к сказанному далее загадку пусть растолкуют искусные в мудрости Пруника, потому что из этого запаса, кажется мне, предложил он сказанное. Ибо что говорит? «Безначальным будучи безначально, Он есть нерожденный нерожденно, бесконечный бесконечно и называется так не по другому, не через другого, не в отношении к другому». Имеющий чистый слух и проницательный разум видит и без моих слов, что кроме трескотни имен, которыми оглушил через их чудовищное сплетение, не находится в сказанном даже и следа разумной мысли; если же найдется хотя тень какая–нибудь мысли в громких словах, то найденное будет или совершенно нечестивым, или смешным. Ибо, что разумея, скажи мне, говоришь сие, — именно, что безначальный есть бесконечно и бесконечный есть безначально? Или ты полагаешь, что начало есть одно и то же с концом и в одном значении употреблены два слова? Как наименования «Петр» и «Симон» указывают собой на одно и то же известное подлежащее, то поэтому думаешь, что так как начало есть одно и то же с концом, то, соединив в одно значение два слова, из которых каждое взаимно уничтожает другое, то есть слова «конец» и «начало», принимая по противоположности бесконечное за одно и то же с безначальным, через слияние двух слов ты сделал их по отношению одного к другому тождественными? И к этому приводит тебя смешение имен, когда ты говоришь, что нерожденный есть бесконечно и бесконечный нерожденно! Но как не видишь в словах своих нечестивого и вместе крайне смешного? Ибо, если через это новое смешение имен происходит их взаимное заменение одних другими, так что нерожденное бесконечно есть нерожденное, и бесконечное нерожденно есть бесконечное, то совершенно необходимо, чтобы бесконечное не иначе было бесконечным, как если было бы нерожденно. И таким–то образом, о возлюбленнейший, знаменитая нерожденность, одна, по твоим словам, характеризующая сущность Отца, оказывается у тебя общей всему бессмертному и делающей все единосущным Отцу; так как она одинаково принадлежит всем вообще (существам), жизнь которых по причине бессмертия простирается в бесконечность: архангелам, ангелам, человеческим душам и, может быть, самим отпадшим силам — диаволу и демонам; ибо если, по твоим словам, бесконечное и нетленное нерожденно, то, конечно, необходимо, чтобы во всем, не имеющем конца и нетленном, усматривалась вместе и нерожденность.
В такие нелепости впадают те, которые, прежде чем выучиться тому, чему надлежит научиться, обнаруживают свое невежество через то, чему решаются учить. Ибо, если бы (Евномий) умел сколько–нибудь рассуждать, то не не знал бы, какое особенное понятие заключается в слове «безначальный» и какое — в слове «бесконечный» и что бесконечность есть общая принадлежность всего, что признается способным продолжать жизнь в беспредельность, а беспредельность есть свойство одного существующего без причины. Итак, каким образом общее всем может быть принимаемо за равносильное тому, что всеми признается принадлежащим преимущественно пред всеми (существами) одному Богу? На этом основании или всем причастным бессмертию должна быть усвоена нерожденность, или, если бесконечность есть свойство только нерожденного, ничто не должно быть признаваемо бессмертным; и, наоборот, если только одному бесконечному свойственно быть нерожденным, то таким образом все, не имеющее конца, должно быть признаваемо нерожденным. Но оставим и это, а вместе с этим умолчим и о его обычных хулах, которыми он наполнил приведенные выше речи. Обратимся к чтению следующего далее.
Но думается мне, не лучше ли оставить без рассмотрения и большую часть того, что следует далее, ибо везде он остается одним и тем же, нисколько не поражает наших речей, но как бы по поводу нашего слова самому себе дает случаи к противоречию, случаи, тщательно исследовать которые иной из привыкших здраво судить, пожалуй, найдет ненужным, так как всякий из одаренных смыслом читателей его писания из самих слов его усмотрит клевету. Он говорит, что «достоинство Божие старее примышления нашего путеводителя». И мы нисколько не противоречим этому, ибо достоинство Божие, как бы оное ни разумели, не только старее нашего (человеческого рода), но предшествует и всякому творению и самим векам. Но что из этого следует по отношению к нашим словам, если достоинство Божие признается старейшим не только Василия, но и всего сущего? Да ведь имя, скажет, есть достоинство? Но кто доказал, что наименование есть одно и то же с достоинством, чтобы и мы могли согласиться со сказанным? «Закон природы нашей, — говорит, — учит нас, что достоинство имен зависит от именуемых предметов, а не от произвола именующих». Но что это за закон такой природы и почему он не на все простирается? Если природа законно положила что–нибудь таковое, то ее закон должен простираться на все. Если природа законно положила это, то ее закон должен иметь силу для всех, имеющих одну и ту же природу, как и все прочее, что принадлежит природе. Итак, если бы закон природы повелевал рождаться для нас именам из самых предметов, как из семян или корней (рождаются) растения, и не предоставил наименования, служащие к обозначению предметов, произволу рассматривающих эти последние, то все бы мы, люди, имели один и тот же язык; ибо если бы не различались одни от других данные предметам имена, то и мы не отличались друг от друга особыми языками. «Праведно, — говорит он, — и весьма сообразно с законом Промысла, чтобы имена предметам даны были свыше». Но каким же образом не познали того, что праведно, и не научились закону Промысла пророки, никогда (как бы надлежало), по твоему слову, не обоготворявшие нерожденности? Каким образом не знает такого рода праведности и Сам Бог, Который не свыше налагает наименования сотворенным от Него животным, но дарует власть измышления имен Адаму? Ибо если сообразно с законом Промысла и праведно, как говорит Евномий, чтобы имена предметам даны были свыше, то, конечно, нечестиво и нелепо, чтобы наименования предметов были составляемы находящимися долу существами.
«Но, — говорит он, — Промыслитель всяческих по закону зиждительства судил насадить (имена предметов) в наших душах». Если они насаждены в душах людей, то каким образом от Адама и до самого твоего преступления не возрос насажденный, как ты говоришь, в душах людей плод сего суесловия, именно, чтобы сущность Отца звать именем нерожденности? Сказал бы это и Адам, и все, происшедшее от него, если бы сие насаждено было в природу от Бога, ибо как теперь вырастающее из земли постоянно остается тем же от первого творения через преемство семени, и никакое новое семя в настоящее время не создается природой, так и слово это, если бы было, как ты говоришь, от Бога насаждено в природу, произросло бы вместе с первым звуком речи первозданных и сопутствовало бы преемственному ряду рождающихся. Но поелику этого не было в начале, так как никем от первых до самых нынешних людей не было оно изречено, то ясно, что нечто ненастоящее и подложное произошло от плевельного посева, а не от оных добрых семян, которые, выражаясь евангельски, Бог посеял на поле природы (Мф. 13:24). Что действительно есть в обыкновенной природе, то имеет начало бытия не ныне, но явилось вместе с природой при первом устроении ее, как например, деятельность чувств и то, что человек имеет к чему–нибудь склонность, или отвращение, или все другое подобное, что признается общим (его) природе; ничего из этого природа не создала вновь в последующих поколениях людей; но существо человека постоянно сохраняется с одними и теми же свойствами от первых до последних (людей); из того, что существует от начала, природа ничего не отбрасывает, и чего не существует, не принимает. Так, например, зрение признается природной способностью, но умение видеть искусственно приобретается упражнением теми, кои занимаются науками, потому что не всем доступны научные понятия, приобретаемые при помощи диоптры, или доказательная теория геометрических линий, или что–нибудь другое подобное, посредством чего изобретена искусством не способность зрения, но умение для каких–нибудь целей пользоваться зрением. Таким образом, и способность мышления можно назвать общим достоянием человеческой сущности и особенностью, от начала соприсущей природе (человека), а изобретать существующим предметам служащие к их обозначению слова и наименования принадлежит получившим от Бога способность мышления людям, которые всегда по своему произволу для яснейшего представления предметов изобретают известные речения, указывающие их свойства. «Но если это (мнение) признать сильным, то, — говорит он, — надлежит допустить одно из двух: или что примышление старее измышляющих, или что приличествующие Богу по естеству и древнейшие всего (существующего) наименования имеют позднейшее чем люди происхождение». Нужно ли сражаться с подобными речами или препираться словом против столь явного безумия? И кто столько несмыслен, чтобы мог быть введен в заблуждение этим и подумать, что если слова почитать произведением силы мыслящей, то должно признавать звуки слов древнейшими говорящих или почитать грехом против Божества то, что люди после того, как стали людьми, именуют Божество, как умеют? Что Естество, все превосходящее, не нуждается в словах, произносимых голосом и языком, об этом уже сказано и излишне было бы обременять нашу речь повторением того же самого. Ибо ни в чем ненуждающееся по естеству, и совершенное, и не имеющее излишка ни лишено ничего необходимого, ни имеет чего–либо ненужного. Если же явно доказано прежде сказанным и признается общим согласием всех имеющих ум, что Оно не нуждается в наименовании посредством имени, то никто не станет спорить, что признак крайнего нечестия- — усвоять Богу то, в чем Он не имеет нужды. Но думаю, что незачем обращать внимание на это и долго останавливаться на подобных (мнениях), а также и подробно опровергать сказанное далее, ибо для внимательных из самой речи, составленной противником, откроется ясно заключающееся в ней нечестивое учение. Говорит, что нетление, а также и бессмертие составляют самую сущность. Я же говорю: присущи ли только свойства эти Божескому естеству, или они, по указанному, составляют самую сущность, — во всяком случае, думаю, нет нужды вступать в борьбу с ним, ибо которое бы из указанных мнений ни одержало верх, во всяком случае совершенно будет подтверждать наши слова. Ибо если присуще естеству свойство нетления, то необходимо будет присуще ему и свойство нерожденности, и таким образом понятие нерожденности не будет иметь значения сущности; если же кто–нибудь потому, что Бог нетленен, назовет нетление сущностью, а потому, что Он могущественнее смерти, определит, что бессмертие есть самая сущность, то, поелику Сын нетленен и бессмертен, нетление и бессмертие будут сущностью и Единородного. Итак, если Отец есть нетление, Сын есть нетление, и оно составляет сущность Того и Другого, а в понятии нетления немыслимо никакое различие, то, конечно, ни в чем не различествует сущность (одного) от сущности (другого), так как обоим одинаково (не) чуждо естество. Опять повторяя то же самое, он думает, что запутывает нас в безвыходные затруднения дилемм, когда говорит: «Если будет различаемо нами присущее от сущего, то Божество окажется сложным; если же Оно есть простота, то совершенно ясно, что нетление и нерожденность означают собою сущность». Но мы докажем, что он опять говорит в нашу пользу. Ибо если сказать, что Божеской сущности присуще нечто, значит делать ее совершенно сложной, то все–таки из сущности нельзя ему исключить совершенно отчества; но он должен признать Отца Отцом по естеству, так же как нетленным и бессмертным; но таким образом против воли примет Сына в единение естества, ибо невозможно, когда Он по природе есть Отец, отстранить Сына от естественного отношения к Нему. Если скажет он, что (указанные свойства) присущи Отцу вне естества, так что простоте не наносится никакого ущерба, то вне сущности и то, что обозначается словом нерожденность. Если же скажет, что нетление и нерожденность означают самую сущность, и станет утверждать, что то и другое имя однозначащи, так как нет между ними никакого различия, поелику то и другое имеют одно и то же значение, и что одно и то же есть понятие нетленного и нерожденного, то будет следовать, что тот, который есть одно из этих, есть всецело и другое. То что Сын нетленен, против этого не спорят и они; следовательно, по Евномию, Он будет и нерожденным, если нетленность значит то же, что и нерожденность. Итак, одно из двух: или он должен согласиться, что нерожденность значит нечто иное, чем нетление, или, упорно держась своего мнения, он выскажет различного рода хулы относительно Единородного Бога, то есть или должен будет признать Его тленным, чтобы не назвать нерожденным, или станет признавать нерожденным, чтобы не представить его тленным.
Но не знаю, что надлежит делать, по порядку ли разбирать все предложенное им или только сим ограничить борьбу с суесловием. Ибо как у торгующих ядами проба малой части служит для покупающих удостоверением гибельной силы всего снадобья, и никто, узнав посредством какого–либо опыта губительное действие частицы яда, не станет сомневаться в ядовитости всего снадобья, так, думаю, и ядовитость этого словесного состава, доказанная сделанным выше испытанием, не оставит места сомнению для тех, которые имеют ум, в том, что и все его слово таково же, как то, что изобличено сказанным выше; и поэтому думаю, что предпочтительнее было бы не растягивать речь, останавливаясь долго на его суесловии. Но поелику защитники лжи много приискивают себе с разных сторон убедительных доказательств, и следует опасаться, чтобы опущение чего–нибудь измышленного ими не было благовидным предлогом клеветы на нас, будто важнейшее мы прошли молчанием, то прошу читателей, не пренебрегая нашей многоречивостью, с готовностью следовать за нашим словом, всюду по необходимости всесторонне борющимся против нападений лжи. Итак, едва только перестал в глубоком сне создавать сновидение о «примышлении», как, вооружившись оными нелепыми и бессмысленными умозаключениями, обращает речь к другому сновидению, гораздо более бессмысленному предшествующего бреда. Понявшему его хитрые рассуждения о лишении надлежит узнать и сей тщетный труд. Но заниматься весьма много этим пустословием пусть будет предоставлено самому Евномию и его последователям, не имеющим никакой заботы о чем–либо более достойном занятия; мы же обозрим его речи кратко и в общем их содержании, чтобы и не опустить какой–либо из (его) погрешностей, и не растянуть надолго нашей речи какими–нибудь пустяками.
Ибо, имея в виду предложить ученое рассуждение об именах, означающих лишение, обещает доказать, что наше учение неисцелимо, как говорит, нелепо, а благочестие притворно и достойно осуждения. Таково обещание, какое же доказательство этих обвинений? «Так как некоторые, — говорит, — утверждают, что Бог не рожден вследствие лишения рожденности, то мы в опровержение этого говорим, что к Богу никак не применимо ни это выражение, ни Понятие». Пусть укажет первого виновника этих слов, и если окажется, что кто–нибудь с того времени, как явились люди, доныне между варварами ли то или между еллинами высказал это, то и мы умолкнем. Но во все продолжение времени, как существуют люди, не найдется никого, кто бы сказал это, разве только в безумии. Ибо кто до такой степени обезумел от опьянения, кто до такой степени лишился рассудка от сумасшествия или беснования, чтобы сказать эти слова, именно, что нерожденному Богу по естеству принадлежит рожденность, но Он, лишившись того, что принадлежит по естеству, из рожденного прежде стал потом нерожденным? Но это ухищрение риторическое — приписывая то, в чем обличают, подставным каким–то лицам, самому избегать стыда обличения; так и в этой апологии он защищается, возлагая ту вину, в которой осуждают его, на судей и обвинителей, не имея возможности указать ни обвинителей, ни суда, ни судилища. И теперь, исправляя как будто чужую глупость, говорит, что дошел до необходимости сказать так. Вот доказательства нашего неисцелимого безумия и притворного и достойного осуждения благочестия! Но говорит, что мы в замешательстве не знаем, что делать в настоящем случае, и для прикрытия своей беспомощности голословно обвиняем его в мирской мудрости, а себе усвояем учение Святаго Духа. Это другая сонная мечта — думать, что он так силен внешней мудростью, что кажется от этого страшен Василию. Так некоторые часто мечтают, что они сидят на одном престоле с царями и находятся в самых высоких чинах, когда сильное желание в бодрственном состоянии производит (во сне) призрачный вид этого. Василий, говорит он, не зная, что отвечать на сказанное, обвиняет его в мирской мудрости. Евномий придал большое значение этому обвинению, чтобы сила его слова показалась страшной и кому–либо из читателей (конечно, не Василию), и кому–либо из его последователей, если только есть или был кто–нибудь, кто вполне ему следовал. Но находящиеся в промежутке его речи (так как эти речи — невежественная брань и грубые шутки, которыми думает он поразить наше учение) я все прейду молчанием, почитая гнусным и неприятным наполнять наше слово такой мерзостью подобно тем, для кого отвратительны вздутые и вонючие нарывы и невыносимо зрелище тех, у кого поверхность тела, изменившись от злокачественного какого–то худосочия, покрылась бородавками и наростами. Изложив же в немногих словах смысл его речей, мы пройдем мимо большого зловония, кроющегося в них, пока мы будем вести речь (вперед) свободно, нисколько не обращаясь по сторонам, чтобы отвечать на какую–нибудь брань, сказанную им.
Всякое слово, то есть истинное слово, есть звук, обозначающий какое–либо движение мысли, а всякое действие и движение здравого рассудка относится к познанию и умопредставлению существующего, сколько это возможно. Естество же существующего разделяется на две части: на постигаемое умом и чувствами. Но знание явлений чувственных по причине легкости уразумения, одинаково у всех, так как свидетельство чувств не дает никакого повода к недоумению касательно суждения о предметах, отличия цвета и прочих качеств, о которых судим посредством зрения и слуха, или обоняния, или при помощи чувства осязания, или вкуса, все мы, имея то же общее естество, согласно познаем и именуем, равно как и прочие, кажущиеся наиболее доступными уразумению предметы, встречающиеся в жизни и относящиеся к жизни общественной и нравственной. В созерцании же умопостигаемого естества, поелику оно превышает чувственные уразумения, разум по догадкам стремится уловить то, что убегает от чувств; каждый иначе идет к искомому и соответственно рождающемуся у каждого разумению о предмете, сколько то возможно, выражает мысли, сближая, сколько возможно более, значение речений с сущностью понимаемого. При этом часто то, о чем заботимся, удачно достигается с той и с другой стороны, когда и разум не погрешает относительно искомого, и звук (слова) метко выражает мысленное посредством соответственного изъяснения. А иногда случается неудача и в том, и в другом или в одном чем–либо, когда прилагается не так, как должно, или постигающий рассудок, или способность изъяснения. Итак, поелику от двух условий зависит правильное направление слова — от достоверности по мысли и от произношения в речениях, то лучше было бы, если бы оно имело достоинство того и другого. Но не менее хорошо не ошибаться относительно должного понимания (предмета), хотя бы слову и случилось быть ниже разумеваемого. Итак, поелику разум заботится о высоком и незримом, чего не достигают чувства (я говорю о Божеском и неизреченном естестве, относительно которого было бы дерзко и мыслить что–нибудь по поверхностному разумению, а еще более дерзко каким ни попало выражениям доверять изъяснение находящейся в нас мысли), то мы, оставляя без внимания звук речений, так или иначе произносимый по мере способности говорящих, обращаем внимание на один смысл, который открывается в словах, здрав ли он или нет, предоставив искусству грамматиков эти тонкости употребления речений или имен. Поелику одно только доступное познанию мы обозначаем посредством названия именем, а то, что выше познания, невозможно понять при помощи каких–либо служащих для означения названий (ибо как мог бы кто–нибудь означить неведомое?), то, не находя никакого соответственного названия, которое бы удовлетворительно представило предмет, принуждены бываем многими и различными именами, сколько то возможно, раскрывать находящееся в нас понятие о Божестве. Но подпадающие нашему пониманию предметы такого рода, что непременно или умопредставляются в некотором протяжении расстояния, или дают мысль о местном помещении, в котором представляются каждый порознь, или для нашего воззрения являются в ограничении началом и концом, одинаково ограничиваемыми с той и другой стороны небытием (ибо все, имеющие начало и конец бытия, начинается из несущего и оканчивается несуществованием), или, наконец, мы понимаем являющееся нам через сочетание телесных качеств, соединяя с ним уничтожение и страдательность, и перемену, и изменение и тому подобное. Посему, дабы видимо было, что высочайшее Естество не имеет никакого сродства с дольними предметами, мы о Божеском естестве употребляем понятия и речения, показывающие отличие от таковых (предметов). Мы называем (Естество) превысшее веков — предвечным, не имеющее начала — безначальным, нескончаемое — бесконечным, существующее без тела — плотным, неподлежащее тлению — нетленным, недоступное перемене, или страданию, или изменению — бесстрастным, непременяемым и неизменяемым. О такого рода именах желающие пусть при помощи науки судят, как угодно, и прилаживают к этим именам другие, которые они называют означающими лишение, отрицательными или как им угодно. А мы, предоставив учить или учиться этому желающим, исследуем один только смысл — согласен ли он с благочестивым и достойным Бога пониманием или чужд его. Если бы Бога или не было прежде, или когда–либо не будет, то Он не назывался бы ни бесконечным, ни безначальным в собственном смысле, точно так же не именовался бы Он ни неизменяемым, ни бесплотным, ни нетленным, если бы разумеемо было в Нем или тело, или тление, или изменение, или что–нибудь таковое. Если же не мыслить в Боге ничего подобного благочестиво, то, конечно, было бы нечестиво употреблять о Нем отрицательные и показывающие, что несвойственно Ему, речения и называть Его (как уже часто говорили об этом) нетленным, и бесконечным, и нерожденным, так как заключающееся в каждом из этих наименований значение указывает на одно только отстранение ближайшего к нашему разумению, а не изъясняет самого Естества, от которого отстранено несвойственное Ему. Ибо, что такое Божество не есть, значение этих наименований показывает, а что такое по естеству то, что не есть это, остается неведомым. Но и прочие имена, значение которых указывает на нечто положительное и существующее, заключают указание не на самое естество Божеское, но на то, что благочестиво умопредставляется о Нем. Ибо размышляя, что ничто из существующего как (чувственно) являющегося, так и умом постигаемого, не составилось самопроизвольно и случайно, но все, что ни заключается в понятии сущего, зависит от Естества превысшего всех существ и в нем имеет причину существования, усматривая красоту и величие чудес в творении; из всего этого и подобного получая другого рода понятия о Божестве, каждое из рождающихся в нас понятий изъясняем особенными именами, следуя совету Премудрости, которая говорит, что от величества и красоты созданий должно сравнительно Рододелателя их познавать (Прем. 13:5). Называем Зиждителем творца смертных, мощным — имеющего власть над таким творением, у кого достаточно было силы изволение соделать сущностью; имея в мысли благо нашей жизни, Правящему течением ее даем название благого, зная из Божественного Писания о будущем нелицеприятном суде, называем посему Его судьею и праведным; и говоря вообще, все рождающиеся у нас понятия о Божеском естестве мы выражаем в форме имен, так что никакое название не прилагается к Божескому естеству без какого–либо особенного понятия. И самое слово «Бог», мы знаем, получило начало от назирающей Его деятельности, ибо, веруя, что Божество всему присуще, все видит и все проницает, такое понятие означаем сим именем, руководимые в этом Священным Писанием, потому что сказавший: Боже мой, «вонми ми» (Пс. 54:3), и: «виде Бог» (Быт. 1:4), и: «Бог весть потаенная сердце» (Пс. 7:10), ясно истолковал заключающуюся в этом слове мысль, что Бог (0е6д) именуется так от того, что Он зрит (Ошалей), ибо, строго говоря, нет никакого различия между выражениями «видеть» и «зреть». Итак, поелику кто зрит, видит зримое, то Бог, как и должно, называется зрителем видимого. Таким образом, познав отсюда некоторые частные действия Божеского естества, мы при помощи этого слова не достигли уразумения самой сущности. Но мы не полагаем, чтобы недостаток соответственного имени служил к какому–либо ущербу Божеской славы; бессилие выразить неизреченное, обличая естественную нашу скудость, тем более доказывает славу Божию, научая нас, что одно есть, как говорит Апостол, соответственное Богу имя, — вера, что Он выше всякого имени (Флп. 2:9). Ибо то, что Он превосходит всякое движение мысли и обретается вне постижения при помощи наименования, служит для людей свидетельством неизреченного величия.
Вот что мы знаем об именах Божиих, какова бы ни была форма их выражения, что и изложили безыскусственно и просто для благомыслящих слушателей, почитая постыдным и вместе неприличным и для нас самих с раздражением отвечать на бессильную брань против этого Евномия. Ибо, что отвечать тому, кто говорит, будто мы форму имен почитаем важнее достоинства именуемого, давая именам предпочтение пред предметами и неравным (вещам) приписывая равную честь? Это именно так говорит он. Но пусть, кто способен внимательно судить, рассудит, заключает ли что–нибудь верного это сильное обвинение против нас клеветника, в чем бы стоило защищаться, — обвинение, будто мы даем предпочтение именам пред предметами; когда для всех ясно, что никакое имя само по себе не имеет существенной самостоятельности, но всякое имя есть некоторый признак и знак какой–либо сущности и мысли, сам по себе и несуществующий, и немыслимый. Но как можно отдавать предпочтение тому, что не существует, пусть научает учеников лжи тот, кто изъявляет притязание употреблять имена и речения соответственно (предметам), а я и не упомянул бы об этом, если бы не нужно было посредством этого представить доказательство бессилия (нашего) сочинителя и по смыслу, и по выражению. Прейду молчанием и то, что он нескладно и не к делу привлекает из богодухновенного Писания, хитроумно различая бессмертие ангелов и людей, не знаю, что имея в виду и что выводя отсюда. Ибо бессмертное, пока оно бессмертно, не допускает сравнительно больше или меньше (бессмертности), ибо если бы одна из противополагаемых частей в сравнении с другой имела какое уменьшение в отношении к понятию бессмертия, то совершенно необходимо, чтобы она и не именовалась бессмертной. Ибо как можно назвать в собственным смысле бессмертным то, чему по противоположению сравнительно приписана смертность? Что сказать об оной утонченной точности, о неповелении быть нетленным, о среднем понятии лишения, о том, что лишением должно называть отстранение лучшего, а отсутствие худшего не может быть обозначаемо этим именем, потому что если бы это имело силу, то, по его мнению, уже не было бы истинно апостольское слово, которое говорит, что Он един имеет и другим сообщает бессмертие (1 Тим. 6:16)? Что имеет у него общего приведенное изречение с предыдущими словами? Ни нам, ни другому кому–либо, имеющему ум, невозможно этого понять. И поелику мы не могли постичь этой мудрости и тонкости, он называет нас невеждами и в суждении о предметах, и в употреблении имен, — именно этими словами он пишет. Все это, как не имеющее силу против истины, я оставляю без разбора, равно как и порицание им изложенного у нас понятия о нетленности и бесплотности, по которому последняя означает отсутствие протяженности в том, в чем не усматривается трех измерений тела, а первое — недоступность тлению. Далее он говорит (именно этими словами), что, не имея правильного понятия о форме имен, мы впадаем в неосновательные мнения и почитаем каждое из имен означающим небытие или неприсутствие (чего–либо), а (не) самое бытие; и это, почитая заслуживающим умолчания и глубокого забвения, опущу, предоставив самим читателям уличать смешанное с бессмыслием нечестие.
Он думает, что тленное не противоположно нетленному и что отрицательное значение (понятия) не означает отсутствия худшего, но что подлежащим означается самое бытие. Итак, если, по мнению этого пустого умствователя, словом «нетленный» не означается отсутствия тления, то, конечно, совершенно необходимо эта форма имени будет выражать противное; ибо если нетление не есть отчуждение тления, то мы, конечно, должны будем допустить противное тому; ибо таково свойство противоположных (понятий), что с отрицанием одного является взамен утверждение противоположного. Оставляем без внимания и тот глубокомысленный вывод, что Бог недоступен смерти по естеству, — как будто кто–нибудь имел об этом противное мнение. Ибо относительно противоположных (понятий) мы думаем, что нет никакого различия, сказать ли, что что–нибудь есть или не есть противное тому; так и в настоящем случае, называя Бога жизнью, в силу такого признания возбраняем мыслить в Нем смерть, хотя и не выражаем сего словом; и когда исповедуем, что Он недоступен смерти, то тем же самым выражением утверждаем, что Он есть жизнь. «Но не вижу, — говорит, — каким образом через отрицание несвойственного Богу Он будет превосходить самые творения?» — и при этом мудром умозаключении называет не только нечестивым, но и глупым великого Василия, осмелившегося сказать это. Я сказал бы ему, что он не стал бы так беспощадно осыпать порицаниями говорящих это, если бы знал, что те же порицания падают и на него. Но, может быть, и сам не станет противоречить тому, что величие Божеского естества познается в том, что оно не имеет ничего общего с тем, что составляет принадлежность дольнего естества. Ибо, если бы Оно было одним чем–нибудь из этого, то не имело бы и большего, но было бы непременно тождественным с каждым предметом, имеющим общее с Ним свойство. Если же Оно выше этого, то ясно, что самым неимением сего Оно превышает предметы имеющие; так–мы говорим, что безгрешные выше тех, кои находятся во грехах, потому что отдаление от зла есть доказательство обилия добра. Но пусть порицатель наш поступает как ему свойственно; мы, заметив нечто немногое из сказанного в этой части (его сочинения), перейдем к дальнейшему.
«Бог, — говорит, — одинаково превосходит смертное как бессмертный, тленное как нетленный, рожденное как нерожденный». Всем ли ясно нечестие умствования богоборного (писателя) или нужно в слове раскрывать его лукавство? Кто не знает, что (предметы) превосходимые в одинаковой мере непременно равны друг другу? Ибо если одинаково Бог превосходит тленное и рожденное, а рожден и Господь, то Евномий из своих положений выводит явное нечестие, ибо ясно, что рождению приписывает такое же значение, как тлению и смерти, поелику и в предшествовавших словах он нерожденное объявлял тождественным с нетленным. Итак, если он видит равное значение и в тлении, и в рождении и в одинаковом смысле говорит, что Бог далек от того и другого, а Господь рожден, то никто не будет требовать, чтобы мы изложили последствие его слов, но каждый сам выведет окончательное заключение, так как естество Божие одинаково и в том же самом смысле далеко и от рожденного, и от тленного. «Но нельзя, — говорит, — называть Его нетленным или бессмертным по отсутствию смерти и тления». Пусть верят сказанному водимые за нос и увлекающиеся каждым произвольным мнением и говорят, что Богу должно быть присуще тление и смерть, чтобы мог быть назван бессмертным и нетленным. Если не отсутствие смерти и тления, как говорит Евномий, означают выражающие отрицание их названия, то, конечно, этим умствованием готовится заключение, что Ему присуще противное тому и иное. Ибо каждое из понятий или непременно не присуще чему–либо, или присуще; так, например, свет и тьма, жизнь и смерть, здоровье и болезнь и тому подобное; если кто скажет, что одно из этих понятий не присуще (предмету), то, конечно, признает, что ему присуще другое. Итак, если говорить, что Бог называется бессмертным не по отсутствию смерти, то явно, что он допускает в Нем присутствие смерти и поэтому совершенно отрицает бессмертие в Боге всяческих. Ибо как еще будет поистине бессмертным и нетленным Тот, о Котором он говорит, что Ему не присуще тление и смерть? Но скажет, может быть, кто–нибудь, что мы выводим насильственный смысл из его слов, ибо никто не дойдет до такого безумства, чтобы утверждать, что Бог не бессмертен. Но сокровенных чьих–либо мыслей не знает никто из людей, а о сокрытом мы догадываемся на основании сказанного. Итак, опять обратимся к сказанному им.
«Не по отсутствию смерти, — говорит, — Бог называется бессмертным». Как нам понять сказанное? Что Богу не присуща смерть, хотя и называется Он бессмертным. Итак, если это велит понимать, конечно, Евномиев бог будет смертным и подлежащим тлению, потому что кому не присуща смерть, тот не может быть бессмертным по естеству. Если названия «бессмертный» и «нетленный» не означают отсутствия ни смерти, ни тления, то они или попусту прилагаются к Богу всяческих, или заключают в себе иной какой–либо смысл. Какой же это смысл, пусть изъяснит этот ученый муж. Но мы невежды, как говорит Евномий, и в суждении о предметах, и в употреблении имен научены называть безболезненным не того, у которого нет крепости тела, но того, у кого нет болезни, и неизувеченным — не того, кому чужды пиршества, но того, у кого нет никакого увечья. Точно так же и в других случаях по присутствию или отсутствию чего–либо именуем мужественным, немужественным, сонным, несонным и прочими (именами), как обычно. Но не знаю, какая прибыль удостаивать разбора подобного рода болтовню, ибо покрытому сединами и имеющему в виду истину, немало предосудительно передавать своими устами все, что есть смешного и бессвязного у спорливого противника. Посему прейду молчанием как это, так и то, что за сим следует. А он говорит вот что: «ни истина не приписывает Богу ничего соестественного…» Если бы это не было сказано, то называл ли бы кто Бога двуестественным, кроме тебя, который всякое понятие имени сродняешь с сущностью Отца и говоришь, что нет ничего, чтобы было присуще Ему вне (сущности), но каждое из Божеских имен прививаешь к сущности Божией. «Ни благочестие (продолжает) не начертало в законах такового понятия отвне и нами составляемого». Но опять относительно сказанного уверяю, что я изложил эти смешные выражения не для того, чтобы смешить читателей, но чтобы убедить слушателя, от какого подбора слов, полагая начало, затем дерзко устремляется против истины, насмехающийся над нашей простотой, каков по мыслям и по выражениям потешающийся и величающийся пред тупоумными слушателями, которые, нескладно распространяя эти надутые его речи, провозглашают его (борцом) преодолевшим всех силой слова. Но бессмертие, говорит, есть самая сущность. Сказал бы я ему: а Единородного бессмертие есть ли сущность или нет? Что скажешь? В (сущности), как говоришь ты, простота не допускает никакого сродства. Итак, если отрицает, что бессмертие есть сущность Сына, то явно к чему это ведет, ибо не нужно много тонкости ума, чтобы понять, что противоположно бессмертию. Ибо как вследствие противоположения оказывается, что не нетленное тленно и не неизменяемое изменяемо, так точно окажется, что и не бессмертное непременно смертно. Итак, что же, толкователь новых догматов? Что скажет собственно о сущности Единородного? Опять предложу (нашему) сочинителю тот же вопрос. Допустит ли, что и она есть бессмертие или не допустит? Если не допустит, что бессмертие есть сущность Единородного, то необходимо должен согласиться признать противное тому и утверждать, что вследствие отрицания лучшего (то есть бессмертия) сущность его есть смерть. Если же, избегая нелепости, и сущность Единородного назовет бессмертием, то должен будет необходимо согласиться, что нет (между Ним и Отцом) никакого различия по сущности. Ибо если бессмертие есть равно естество как Отца, так и Сына, а бессмертие ни в каком отношении не представляет в себе различия, то и самими врагами нашими не признается ли, что нет никакого основания различать сущность Отца и Сына?
Но время изложить то тяжкое обвинение против нас, которое находится у него при конце сочинения. Говорит, будто мы утверждаем, что Отец произошел из совершенно несущего. Похитив некоторое речение из связи речи и вырвав оное одно и без порядка из прочего состава, начинает рвать его, ужасными зубами терзая или, лучше, оплевывая (наши) слова. Сперва выскажу мысль, какая заключается в прекрасном рассуждении о сем наставника, затем буквально изложу самые слова, чтобы всем было ясно, как он на вред истине вносит порчу в труды благочестивых. Уясняя для нас своими словами значение слова «нерожденный», наш наставник, желая доказать, что означаемое словом «нерожденность» далеко от понятия сущности, предлагает нам такой путь к познанию искомого. Так как Евангелист, говорит, начал родословие Господа по плоти от Иосифа, потом, восходя постоянно далее к старейшему по времени, в Адаме положил предел родословию, и поелику у первозданного не было затем телесного отца, сказал, что он «Божий» (Лк. 3:38), то каждый, говорит, своим рассудком легко может понять, что Бог, от Которого Адам не по подобию тех, родословие которых изложено по–человечески, и сам имеет бытие от другого. Поелику, прошедши все, после всего представляем в уме Бога, мыслим начало всего; а всякое начало, как скоро будет зависеть от чего–либо другого, не есть (уже) начало; то если Бог — начало всего, не будет ничего, что было бы выше начала всех (вещей). Вот изложение значения (слова) «нерожденный» у наставника. А для доказательства, что ничего не приписано ему нами, что не было бы истинно, буквально изложу самые слова его о сем. «Евангелист Лука, — говорит, — излагая плотское родословие Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и от последних возвращаясь к первым, начал с Иосифа, сказав, что он сын Илиев, а Илий сын Матфанов, и таким образом, в обратом порядке возводя повествование к Адаму, когда дошел до самых древних, сказав, что Сиф от Адама, а Адам от Бога, прекратил восходящий ряд… Посему как Евангелист сказал, что Адам от Бога, так спросим самих себя: от кого же Бог? Не готов ли у каждого в мысли ответ, что Бог ни от кого? А сие «ни от кого», очевидно, есть безначальность, безначальность же есть нерожденность. Потому как в рассуждении людей произойти от кого–нибудь не составляет сущности, так и в рассуждении нерожденности Бога всяческих нерожденность нельзя назвать сущностью». Какими глазами смотрите еще на вашего руководителя, — вам говорю, стаду погибающих? Как еще склоняете слух к воздвигшему этими словами такой позорный столб собственному бесстыдству? Не постыдитесь ли хотя теперь, если не прежде, доверяться этому руководителю к истине? Не послужит ли для вас признаком его беснования относительно догматов то, что он так бесстыдно восстает против истины написанного? Так он толкует нам и Божественные слова! Так он защищает истину догматов, обличая Василия, будто он производит род сущего над всем Бога из совершенно несущего! Выскажу сказанное ими, изложу бесстыдные речи, но прейду молчанием обиды, не буду гневаться на оскорбления; не обвиняю за зловоние того, у кого зловонны уста, за увечье, у кого изувечено тело, потому что это природное несчастье, на которое никто здравомыслящий не может гневаться. Так и старание оскорблять есть болезнь мышления и несчастье души, в которой искажен здравый смысл. Итак, не скажу ни слова на его оскорбления; но оное сильное и непреоборимое сплетение умозаключения, посредством которого обвинение против нас применил к своей цели, выпишу прямо, буквально. «Чтобы, — говорит, — не было для него препятствия Сына назвать Сыном по причастности Сущему, он забыл, что сам называл сущего над всем Бога, происшедшим из совершенно несущего. Ибо если ничто по понятию то же, что совершенно несущее, а равнозначащие (выражения) невозбранно могут быть взаимно заменяемы, то говорящий, что Бог имеет бытие из ничего, называет Бога получившим бытие из совершенно несущего». На что из прежде сказанного обратим внимание? Будем ли разбирать то, что он почитает Сына Сыном (только) по причастности Богу, и на недопускающих этого изливает зловоние своих уст, то есть отвратительный и полный сонного бреда поток лжеумствования? Но что производить сыновей от причастности божескому естеству есть дело одних поэтов и составителей мифов, это не безызвестно каждому, кто сколько–нибудь имеет смысла. Так в стихах слагающие мифы вымышляют каких–то Дионисов, и Гераклов, и Миносов и других им подобных от совокупления богов с человеческими телами и превозносят таковых над прочими людьми на том основании, что они от причастности высшему естеству совершеннее других. Итак, те его слова, как явно обличающие его безумие и вместе нечестие, должно прейти молчанием. А лучше предложить вниманию оное непреоборимое умозаключение, чтобы наши простецы узнали, сколько и какого вреда потерпели они, не изучив искусственных изворотов. «Если «ничто», — говорит, — по понятию то же, что совершенно несущее, а равнозначащие (выражения) беспрепятственно могут быть взаимно заменяемы, то говорящий, что Бог имеет бытие из ничего, называет Бога получившим бытие из совершенно несущего». Кто сказал потрясающему пред нами аристотелевским копьем, что говорить, что кто–нибудь не имеет отца, значит то же, что сказать, что он произошел из совершенно несущего? Ибо исчисливший по порядку тех, родословие которых изображает Писание, очевидно, всегда того, кто находится пред упомянутым, разумеет отцом. Ибо чем был для Иосифа Илий, чем для Илия Матфан, чем для Сифа Адам? Не ясно ли и самим младенцам, что список этих упомянутых имен есть перечисление отцов? Ибо если Сиф сын Адама, то, конечно, Адам есть отец родившегося от него. Теперь скажи мне: Бога, Который над всем, кто отец? Скажи тому, кто тебя спрашивает, открой уста, отвечай, устреми все свое логическое искусство на этот вопрос. Не найдешь ли, что некоторое понятие избегает сети твоего лжеумствования? Кто отец нерожденного? Можешь сказать: кто? Итак, Он не есть нерожден. Но поневоле скажешь, конечно, что и необходимо сказать: «никто». Что же, любезнейший? Или еще не разрушилось пред тобой оное слабое сплетение лжеумствования? Не согласен ли, что ты наплевал в собственную пазуху? Что говорит великий Василий? Что нерожденный имеет бытие «от никакого отца». Ибо на основании родословия предшествующих отцов последовательность дозволяет прилагать слово «отец» и там, где об этом умалчивается. А ты из выражения «от никакого отца» сделал «ничто»; и далее, «ничто» обратив в «совершенно несущее», составил оное шаткое умозаключение. Итак, эти мудрования тонкого искусства обращаются против тебя. Спрашиваю: кто отец нерожденного? По необходимости скажешь: никто, ибо нерожденный, конечно, не имеет отца. Итак, если «никто» отец нерожденного, а «никто» у тебя обратилось «ничто», а «ничто», по твоим словам, то же по понятию, что и «совершенно несущее», а взаимное заменение равнозначащих выражений, как говоришь, невозбранно, то и сказавший, что «никто» есть отец нерожденного, утверждает, что Бог, Который над всем, произошел из совершенно несущего! В том–то и беда, как кажется, Евномий, что не должно (воспользуюсь твоими же словами) казаться себе мудрым, прежде чем другие тебя почтут им. Это, может быть, не велико еще несчастье. Но, не зная себя, ты не знаешь и того, какое различие между высоко парящим Василием и (тобой) земным животным. Если бы его острое и божественное око еще озирало нашу жизнь, если бы он еще облетал человеческую жизнь крылом мудрости, то, налетев на тебя ударом слова, показал бы, каков черепок сроднего тебе безумия и на кого коварно восстал ты, желая показаться чем–то пред старухами и скопцами. Однако ж не надейся избежать когтей его. Ибо хотя в сравнении с его словом о нашем много было бы сказать, что оно есть и часть когтя, но в отношении к тебе оно достаточно, чтобы разбить скорлупу коварства и показать прикрытое черепком бесстыдство.
Письма
1. Григорий Нисский Флавиану
Не в хорошем положении, человек Божий, наши дела. Ибо злоба, возрастающая в людях, питающих к нам несправедливую и незаслуженную нами ненависть, уже не по каким–нибудь догадкам подозревается, но обнаруживается открыто с дерзновением, как бы какое доброе дело. Вы же, доселе не угрожаемые сим злом, не радите о прекращении пламени, свирепствующего в вашем соседстве; между тем как люди, благоразумно пекущиеся о собственном (имуществе), с великим усердием тушат пожар у соседей, и таким образом помогая своим ближним, делают не нужною их помощь при подобных обстоятельствах. Но о чем я говорю? Оскудело в мире преподобие, удалилась от нас истина (Пс. 11:1); прежде хотя имя мира было у всех нас в устах, теперь же не только нет у нас мира, но не осталось даже самого имени его. Для того же, чтобы яснее знать тебе, на что жалуюсь, вкратце изложу тебе самую трагедию.
Некоторые сообщили, что достопочтеннейший Елладий враждебно расположен против нас и между всеми распространяет, будто я сделался виновником величайших для него зол. Я не доверял тому, что говорили, имея в виду себя самого и (мою) правоту в делах. Но когда от всех единогласно до нас стало доходить одно и то же и когда слухам стали соответствовать и дела, то я почел приличным не оставлять без врачевания это еще не укоренившееся и не возросшее враждебное расположение. Посему я и занялся тщательно сим предметом, послав письма и к твоему благочестию и ко многим другим, кои могли быть полезны чем–либо в настоящем деле. Наконец, совершив поминовение блаженнейшего Петра, в первый раз совершаемое у севастийцев, и обычно празднуемые у них памяти святых мучеников, которые приходились в одно и то же время с этим поминовением, я возвращался обратно к своей церкви. Когда же некто дал мне знать, что Елладий находится в соседних горах, совершая памяти мучеников, я сначала продолжал прежний путь, рассуждая, что приличнее будет устроить свидание в главном областном городе. Но когда на пути нарочито встретил меня один из знакомых и уверял меня, что он болен, то я, оставив повозку на том месте, на котором дошел до меня этот слух, остальной путь, скалистый и неудобопроходимый от крутых подъемов, совершил на коне. Расстояния между нами было пятнадцать стадий. Прошедши иные из них пешком, иные с трудом на коне, ранним утром, захвативши даже некоторую часть ночи, в первом часу дня я прибыл в Андумокины. Так называется местность, где он с другими двумя епископами отправлял церковное служение. Увидев издали, с некоторого холма, лежащего выше селения, что под открытым небом собралось церковное собрание, мы тотчас пешком отправились к этому месту, я и мои спутники, ведя за собой лошадей; так что к одному и тому же времени пришлось и то и другое — и он возвратился из церкви домой, и мы приблизились к храму мучеников. Без малейшего промедления от нас послан был человек возвестить ему о нашем прибытии; по прошествии непродолжительного времени встретился с нами прислуживающий ему дьякон, которого мы просили поскорее уведомить его, чтобы нам долее пробыть с ним и найти (достаточно) времени для полного разъяснения и врачевания всех (недоразумений) между нами. После сего я сел под открытым небом, ожидая, не позовет ли кто нас, и был неблаговременным зрелищем для всех, пришедших в собрание. Прошло немало времени; притом, дремота, уныние, усталость от пути, усиливавшая уныние, сильный зной, люди, смотревшие на нас и указывавшие на нас друг другу пальцами, — все это было для меня до такой степени тяжело, что на мне оправдалось слово Пророка: «уны во мне дух мой» (Пс. 142:4). Приближался уже час полудня, и я стал сильно раскаиваться об этом приключении, как будто я сам подал повод к такому бесчестию. Но более тяжелые страдания, чем оскорбления моих врагов, причиняли мне собственные мои мысли, некоторым образом боровшиеся друг с другом и поздним размышлением осуждавшие то, что было мною предположено. Наконец, едва отверсты были нам царские палаты и мы вошли внутрь святилища, народу вход сюда был воспрещен, со мною же вошел мой дьякон, который поддерживал рукою мое тело, ослабевшее от утомления. Сделав приветствие Елладию и постояв немного в ожидании, не будет ли приглашения сесть, — поелику ничего такового не последовало, я обратившись присел на одной из дальних ступеней, ожидая, не скажет ли он нам чего–либо дружественного, человеколюбивого или, по крайней мере, не покажет ли чего такого хотя взглядом. Но все было вопреки нашим ожиданиям, с его стороны молчание, как бы ночью, трагическое смущение, удивление, изумление и совершенное безмолвие, прошло немало времени в тишине, будто среди глубокой ночи. Я же особенно поражен был тем, что он не удостоил ответить нам хотя бы обычным словом, как это обыкновенно водится между людьми при встрече, например: добро пожаловать, или откуда идешь, или зачем, или какая цель прибытия? Это безмолвие мне представлялось подобием жизни в аде. Впрочем, это сравнение я не признаю верным, потому что в аду господствует совершенное равенство положений; так как ничто из того, что составляет трагедию жизни на земле, не возмущает пребывающих там; ибо не сходит, как говорит Пророк, вместе с людьми слава (Пс. 48:18); но душа каждого, оставив все, о чем теперь заботится большая часть людей, разумею надменность, превозношение, гордость, — простою и без всяких прикрас переселяется в преисподнюю, и уже никакое из здешних злосчастий не касается их. Но то, что было тогда, для меня действительно казалось или адом, или темным узилищем, или другим каким мрачным местом наказания, когда я размышлял, каких благих обычаев наследниками мы были от отцов наших и что скажут о нас потомки. Что сказать о любвеобильном отношении между собою отцов? Ничего нет удивительного в том, что люди, будучи все равночестны по естеству, не хотели ничего иметь один больше другого, но по смирению готовы были один почитать другого большим себя. Но особенно то приходило мне на мысль, что Владыка всей твари, Единородный Сын, Сущий в недрах Отчих, Сущий в начале, во образе Божий Сый, всяческая носящий глаголом силы Своей, — не тем только смирил Себя, что плотью водворился в человеческом естестве, но и предателя своего Иуду, приближавшегося с лобзанием, допустил к своим устам, и вошедши в дом Симона прокаженного, как человеколюбивый, порицал его за то, что он не приветствовал Его лобзанием. Меня же не сравняли даже и с прокаженным. Кто? Кого? Не могу найти различия. Откуда он низошел? Где повержен я? Ежели только кто станет обращать внимание на мирские преимущества. Ибо если кто станет разбирать (преимущества) плоти, то, вероятно, без обиды можно сказать, что у обоих нас равночестно и благородство, и свобода. Ежели кто станет искать истинной свободы и благородства по душе, то мы оба равно рабы греха, равно имеем нужду во Вземлющем грехи; не мы, а Он избавил нас своею кровью от смерти и грехов, Он и искупил нас, и не обнаружил никакого превозношения в отношении к искупленным, призывая мертвых к жизни, исцеляя всякую болезнь и душ, и телес.
Поелику же эта гордость в отношении к нам и эта высота надмения едва не досягала высоты небес; а я не усмотрел никакой причины и повода к такому негодованию, чем извинялся бы этот недуг (страдают этою болезнью вследствие известных обстоятельств, когда или происхождение, или образование, или превосходство каких достоинств надмевают людей суетных нравом); то я не знал, как удержать себя в спокойствии, так как сердце мое волновалось от безрассудности всего, что происходило, и не могло удержать помыслов в пределах терпения. В это время я проникся особенным удивлением к божественному Апостолу, который так ясно изобразил происходящую в нас брань, говоря, что есть в удах наших некоторый закон греховный, противовоюющий закону ума и часто пленяющий и покоряющий себе ум (Рим. 7:23). Такую брань двух противоположных помыслов я ощущал в себе самом: один раздражал за обиду от высокомерия, другой — умерял волнение. После того как по благодати Божией худшее побуждение не одержало перевеса, я так сказал ему: «Мое прибытие не препятствует ли тебе заняться врачеванием твоего тела и не благовременно ли мне уйти»? Когда он ответил, что ему нет нужды пещись об исцелении тела, то я сказал ему несколько по возможности успокоительных слов. Когда же он в немногих словах дал заметить, что огорчен многими обидами с нашей стороны, то я так отвечал ему: «Ложь имеет между людьми великую силу обмана; но суд Божий не может быть введен в заблуждение обманом; моя совесть во всех делах, касающихся тебя, так спокойна, что позволяет мне молиться о прощении других моих согрешений; если же я что сделал против тебя, то пусть останется это навсегда без прощения». Оскорбившись этими словами, он не хотел уже и слушать дальнейших объяснений. Было более шести часов, была и благоприличная баня, готовилось и угощение — день был субботний и праздник мучеников. А ученик Евангелия как подражает евангельскому Владыке? Тот, когда ел и пил с мытарями и грешниками, порицавшим его отвечал, что делает это по человеколюбию; сей же почитает беззаконием и оскорблением общение в трапезе после такого труда, какой понесли мы в путешествии, после того зноя, в каком пеклись мы, когда сидели под открытым небом у его дверей, после того печального унижения, какому подверглись мы в его очах; и он отсылает нас опять на прежнее мест тем же путем, когда телом мы уже изнемогли от слабости и утомления; так что перенесши на пути еще множество злоключений, мы едва поздним вечером достигли до своих спутников, потому что и облако, внезапно нагнанное бурею в воздухе, промочило нас обильным дождем до самых костей; а мы по причине чрезмерного зноя не запаслись чем защитить себя от дождя. Но по милости Божией, как бы избавившись от бури и кораблекрушения, мы с радостью достигли своих спутников, и отдохнувши ночью, живы и целы вместе с другими добрались до наших мест, вынесши из этой встречи то только, что недавно полученная нами обида обновила в памяти все прежде бывшее. Теперь необходимость заставляет нас подумать о самих себе или лучше о нем самом; ибо то самое, что его намерения, обнаружившиеся в прежних поступках, не получили отпора и Довело его до такой непомерной надменности. Потому, чтобы он стал лучше, чем каков есть, может быть, надобно и мне с своей стороны предпринять нечто, чтобы он научился, что он человек и что не имеет никакого права наносить обиды и бесчестить людей, с ним одинаково мыслящих и равночестных. Допустим, что с моей стороны действительно было сделано что–либо неприятное для него. Состоялся ли какой над нами суд за действительные или подозреваемые поступки? Какие доказательства изобличили нас в неправде? Какие против нас приведены были правила? Какой законный епископский приговор утвердил наше осуждение? Если же и было что подобного, то по законам во всяком случае была бы опасность относительно степени. А оскорбление людей свободных и нанесение бесчестия равночестным какими канонами узаконено? Праведный суд судите, вы обращающие взоры к Богу, чем извините оказанное нам бесчестие? Если принимать во внимание достоинство по священству, то обоим нам усвоены собором равные и одинаковые права или, лучше, одинаково поручено попечение об исправлении общих дел. Если же кто, оставив в стороне достоинство по священству, обратит внимание на нас самих, то в чем один из нас имеет преимущество пред другим? В роде? В образовании? В свободе отношений к знатным и благородным? В познаниях? Все это и у нас можно найти или в равной степени, или во всяком случае не в меньшей. Может быть, станут говорить о богатстве? Не дай Бог дойти до необходимости рассказывать о нем с этой стороны; достаточно указать только то одно, каков он был вначале и каков стал теперь, и представить другим расследовать способы, какими увеличилось (его) богатство, до настоящего времени каждый почти день возрастающее и как бы питаемое добрыми распоряжениями. Итак, какую власть он имеет оскорблять нас, когда нет ни превосходства по происхождению, ни преимущества достоинств, ни избыточествующей силы в слове, ни какой–либо услуги в предшествующее время? Если бы все это и было, то и в таком случае обида в отношении к свободным не извинительна. Но так как ничего такого нет, то я не думаю, чтобы мы хорошо сделали, оставив такую болезнь гордости без врачевания. Врачевание же состоит в том, чтобы смирить превозношение, уничтожить эту пустую надутость, чтобы несколько рассеялась горделивая надменность. А как сего достигнуть, предоставим попечению Божию.
2. О тех, которые предпринимают путешествия в Иерусалим
Поелику ты, возлюбленный, письмом спросил меня, то я почел приличным ответить тебе обо всем по порядку. Для посвятивших себя однажды высшему роду жизни я признаю весьма полезным, чтоб они постоянно обращались к словам Евангелия. И как выравнивающие что–либо правилом, находящиеся в руках их кривые вещи по прямизне правила делают прямыми; так, думаю, должно и мне, применяя к своим действиям как бы некое прямое и неизменное правило, разумею образ жизни по Евангелию, по нему направлять себя к Богу. Итак, поелику есть люди из избравших иноческую и отшельническую жизнь, которые считают делом благочестия посетить места иерусалимские, в которых видны памятники пребывания во плоти Господа, то хорошо бы им посмотреть на правило, и если требует этого руководительство заповедей, то делать это дело, как повеление Господне. Если же нет этого в заповедях Владыки, то не знаю, где бы заповедано было желать делать что–либо, ставя себя самого законом в выборе доброго. Там, где Господь призывает благословенных к наследию царства небесного, путешествия в Иерусалим Он не поставил в числе добрых дел. Там, где Он возвещает блаженства, не внес в число их усердия к сему. Имеющий же ум пусть размыслит, зачем стараться делать то, что не делает ни блаженным, ни к царствию небесному близким? Хотя бы и было это дело полезно, и в таком случае совершенным не так хорошо об нем ревновать. Но поелику это дело по тщательном рассмотрении оказывается приносящим и вред душевный избравшим строгую жизнь, то оно должно быть предметом не ревности особой, но величайшей осторожности, чтобы решившийся жить по Богу, не испытал какого–либо вреда. Что же в сем вредного? Благочестивый образ жизни обязателен для всех — и для мужей, и для жен, отличие же жизни любомудрой — целомудренность; а она сохраняется при несмешанном и отдельном образе жизни, чтобы природа не оскорблялась смешением и тесным сближением ни женщин с мужчинами, ни мужчин с женщинами, коль скоро они стремятся к соблюдению целомудрия. Но во время путешествия необходимость всегда приводит к нарушению осторожности и к безразличию в соблюдении правил; ибо женщине неудобно было бы совершить такой отдаленный путь, если б она не имела охранителя; по физической слабости она и поднимается (кем–либо) на вьючное животное, и спускается с него, и в трудных случаях поддерживается. А для того, чтобы поднимать, нужно иметь или знакомого, который исполнял бы эту услугу, или наемника, который бы прислуживал, в обоих случаях неизбежно здесь нарекание. Ибо вверяет ли себя чужому или своему — все не сохраняет закона целомудрия. А поелику в восточных странах, в постоялых дворах, в гостиницах и городах много распущенности и повода ко греху, то как может быть, чтобы у ходящего в дыму не стало резать глаза? Где оскверняется слух, оскверняется и зрение, оскверняется и сердце, принимая непотребное чрез зрение и слух. Как можно пройти бесстрастно места, где действуют страсти? Да и что большего получит тот, кто побывает в этих местах, как будто Господь доселе телесно обитает в них, а от нас удалился, или как будто Дух Святый обилует между иерусалимлянами, а к нам не может прийти? Напротив, если заключить о присутствии Божием по тому, что видим, то скорее можно бы подумать, что Бог более пребывает среди каппадокийцев, нежели в других местах. Ибо сколько у них Жертвенников, при которых прославляется имя Божие! Едва ли в целой почти вселенной насчитает кто столько жертвенников. Потом, если бы большая была благодать в местах иерусалимских, то грех не водворился бы в живущих там. А теперь нет вида нечистоты, на который бы они не дерзали; у них и лукавство, и прелюбодеяние, и воровство, и идолослужение, и отравление, и зависть, и убийство; особенно между ними обыкновенно последнего рода зло, так что нигде нет такой готовности к убийству, как в сих местах; единоплеменные, подобно зверям, ищут крови друг друга ради гнусной корысти.
Итак, там где это бывает, чем ты докажешь, чтобы в этих местах была большая благодать? Но знаю, что возражают многие против моих слов. Они говорят: зачем же ты себе самому не предписал этого закона? Ибо если нет никакой пользы живущему по Богу быть там, для чего ты напрасно предпринимал такой путь? Выслушайте же мое оправдание в сем. Мне по той необходимости, в какой поставлен я жить от Правителя вашей жизни, случилось быть в тех местах ради святого Собора, созванного для устройства церкви аравийской. А так как Аравия сопредельна стране иерусалимской, то я обещался предстоятелям святых иерусалимских церквей прибыть к ним на совещание, так как дела были в замешательстве и нужен был у них посредник. Притом же и благочестивейший император доставил удобство пути, дав общественную колесницу, а потому мне не было нужды терпеть то, что, как узнали, терпят другие. Ибо колесница была для нас и церковью, и монастырем, где мы всю дорогу вместе воспевали Господу и постились. Итак, нами никто да не соблазняется, только более должен быть убедителен совет наш, потому что мы советуем о том, что видели своими очами. Что явившийся Христос есть истинный Бог, это мы исповедовали и прежде, чем были на месте, и после сего вера не уменьшилась и не увеличилась. О вочеловечении чрез Деву мы знали и прежде, чем были в Вифлееме; и воскресению из мертвых мы веровали прежде, нежели видели гроб; что истинно было вознесение, исповедали прежде, нежели увидели гору Масличную. Ту только принесло нам пользу путешествие, что по сравнению мы узнали, что у нас более святого, чем в других странах. Посему боящиеся Господа хвалите Его в тех местах, в которых находитесь. Ибо перемена места не приближает к нам Бога. Но где бы ты ни был, Господь придет к тебе, если обитель души твоей окажется такою, чтобы Господь мог вселиться в тебе и ходить (Лев. 26:12). А если внутренний твой человек полон лукавых помыслов, то хотя бы ты был на Голгофе, хотя бы на горе Масличной, хотя бы под памятником воскресения — ты столько далек от принятия Христа в себя, сколько и те, которые не исповедали и начала веры. Итак, возлюбленный, советуй братьям из тела путешествовать к Господу, а не из Каппадокии в Палестину. Если же кто выставит на вид против сего слово Господа, заповедавшее ученикам не отлучаться от Иерусалима, пусть уразумеет смысл сказанного. Поелику благодать Святого Духа и раздаяние (Его даров) еще не было сообщено апостолам, то Господь приказал им оставаться в том же месте, пока не облекутся силою свыше. Если бы то, что было сказано, продолжалось доныне, то есть если бы Дух Святый раздавал бы каждому дары в виде огня, то всем следовало бы быть в том месте, где совершается раздаяние дарований. А если Дух, где хощет дышит, то и здесь уверовавшие делаются причастниками дарования по сходству веры, а не по причине путешествия в Иерусалим.
3. Поистине почтеннейшим и благоговейнейшим сестрам Евстафии и Амвросии и почтеннейшей и честнейшей дочери Василисе, Григорий «о Господе радоватися» (Деян. 15:23)
Встреча с добрыми и приятными людьми и памятники великого человеколюбия к нам Господа, которые показывали мне на месте, были для меня предметом величайшей радости и веселья; потому что в том и другом открылся для меня праздник Божий: и в том, что я видел спасительные следы (пребывания здесь) оживотворившего нас Бога, и в том, что встретил души, в которых духовно созерцаются таковые же знамения благодати Господней, так что веруешь, что поистине в сердце того, кто имеет Бога, находится Вифлеем, Голгофа, гора Елеонская, Воскресение. Ибо в ком чрез добрую совесть вообразился Христос и кто, пригвоздивши Божественным страхом плоть свою, сораспявшись Христу, и отложив от себя тяжелый камень житейской лести, и вышедши из телесного гроба, начал ходить как бы в обновлении жизни; кто, оставив дальнюю и низменную жизнь человеческую и взошедши высокою пламенною любовью в пренебесное жительство, мудрствуя «горняя» (пребывает там) «идеже есть Христос» (Кол. 3:1–2); кто, не отягчаемый дебелостью плоти, более чистою жизнью соделался настолько легким, что плоть сопутствует ему в горняя подобно облаку; тот, по моему мнению, есть сам одно из вышеупомянутых селений, в которых видимы памятники человеколюбия о нас Господа. Итак, поелику я видел и чувственным взором святые места, видел притом и в вас явные знамения таких мест, то исполнился такой радости, которую никакое слово передать не может. Но так как, по обыкновению, для человека трудно, если не сказать невозможно, наслаждаться каким–либо благом без примеси зла; то и у меня ко вкушению сладкого примешалось некоторое ощущение горького; отчего после приятного наслаждения радостным снова возвращался я в отечество опечаленным, рассуждая, что справедливо слово Господне: «мир весь во зле лежит» (1 Ин. 5> 19); так что никакая часть вселенной не свободна от своей доли зла. Ибо если место, принявшее святой след истинной жизни, не свободно от злого терния, что же должно думать о прочих местах, которым участие в благе сообщено посредством одного только слышания и проповедания? Что имея в виду, говорю я это, о том совершенно нет никакой нужды излагать на словах, так как самые дела явственнее всякого громкого голоса гласят об этих прискорбных (вещах). Одну вражду узаконил нам Законоположник нашей жизни, — разумею вражду ко змию, и ни в чем другом не повелел нам проявлять силу ненависти, как только в отвращении от зла Вражду положу, говорит Он, между тобою и между ним (Быт. 3:15). Так как зло различно и многоводно, то слово Божие дает разуметь его под образом змия, густым наслоением чешуи его означая многообразие зла. Но мы исполнением желаний противника сделались союзниками змия, а ненависть обратили друг на друга, лучше же сказать, не на себя, но на Того, Кто дал заповедь. Ибо Он говорит: «возлюбиши искренняго твоего, и возненавидиши врага твоего» (Мф. 5:43), повелевая признавать врагом одного только противника нашей природы, а всякого, кто имеет общее с нами естество, называя ближним каждого из нас Но жестокосердый наш век, удалив нас от ближнего, сделал то, что мы пригреваем змия и услаждаемся пестротою его чешуи. Я говорю о том, что ненависть к врагам Божиим законна, и такого рода ненависть угодна Господу. Врагами же я называю всех, кто каким бы то ни было образом отрицает славу Господа, — будут ли то иудеи, или явные идолопоклонники, или по учению Ария делающие для себя идолом тварь и воспроизводящие заблуждение иудейское. Если же Отец, Сын и Святый Дух благочестиво чествуются и принимают поклонение от верующих, ивнеслиянной и нераздельной Святой Троице признается единое и естество, и слава, и царство, и власть над всеми, то вражда может ли быть оправдана основательною причиной? Когда преобладали еретические догматы, тогда с опасностью для себя противодействовать властям ( которыми, казалось, поддерживалось учение противников), чтобы не порабощено было властями человеческими спасительное слово, было делом хорошим; ныне же, когда благочестие явно проповедуется по всей вселенной, от одного края неба до другого, враждующий против проповедников благочестия ведет брань не с ними, но с Тем, Кто благочестиво проповедуется ими. Ибо какая иная должна быть цель у того, кто имеет божественную ревность, как не та, чтобы всеми способами возвещать славу Божию? Ибо до тех пор, пока Единородному Богу воздается поклонение от всего сердца, души и помышления, с верою от всех, что Он есть то же, что и Отец; равным образом, до тех пор, пока и Дух Святый прославляется единочестным поклонением; без меры мудрствующие могут ли иметь какой благовидный повод к войне, раздирая не нешвенный хитон, разделяя имя Господа между Павлом и Кифою, гнушаясь приближением к тем, которые поклоняются Христу, и едва открыто не провозглашая этого словами: «Дальше от меня, не приближайся ко мне, ибо я чистый»! Да дастся же им приобрести несколько более знания, чем то, какого по своему мнению они достигли. И какое знание больше того, как веровать, что истинный Сын Божий есть истинный Бог? С исповеданием Его истинным Богом соединяются все благочестивые и спасающие нас понятия: что Он есть благ, праведен, силен, неизменяем, не делается иным, всегда тот же, не может измениться ни к худшему, ни к лучшему, потому что первое противно его природе, а второе невозможно; ибо что может быть выше высочайшего, что совершеннее всего временного? Так что созерцаемый во всем совершенстве блага Он в отношении ко всякому виду изменения имеет свойство неизменности и не в одно какое–либо время проявил ее в себе, но всегда был таковым же: и до времени домостроительства (спасения), и при самом домостроительстве, и после того; ничего в своем неизменном и неприменяемом естестве Он не изменил в несоответствующий сему естеству вид в действованиях по отношению к нам. Ибо нетленность и неизменяемость по естеству всегда остается тою же и не изменяется вместе с природою низшею, когда соединяется с нею по домостроительству, подобно солнцу, которое, бросая луч во мрак, не омрачает свет луча, но превращает посредством луча мрак в свет. Так и свет истинный, воссиявший во тьме нашей, не помрачался сам темнотою, но осветил собою мрак. Поелику же род человеческий был во тьме, как написано: «Не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходят» (Пс. 81:5); то осветивший омраченную природу, проведши луч Божества во весь состав наш, — разумею душу и тело, соделал человечество причастником в собственном свете, чрез тесное единение с собою сделавши его тем, что и Сам. И как Божество не подверглось тлению, будучи в тленном теле, так и не соделалось иным и не изменилось, врачуя изменяемость души нашей. Так и во врачебном искусстве занимающийся лечением тела хотя прикасается к болящему, но сам не делается больным, но исцеляет больного. Да не подумает однако кто–нибудь, превратно понимая изречение Евангелия, что природа наша во Христе вследствие усовершения последовательно, мало–помалу претворялась в более божественную; потому что выражения: преуспевать «премудростию и возрастом и благодатию» (Лк. 2:52) употребляются в повествовании Писания для доказательства того, что Господь истинно воспринял нашу природу, дабы не имело места мнение утверждающих, будто вместо истинного богоявления, явился некоторый призрак, имеющий вид телесного образа. Посему–то Писание не стыдится повествовать о Нем то, что свойственно нашей природе, (упоминая) о ядении, о питии, сне, утомлении, питании и преуспеянии в телесном возрасте, возрастании — обо всем, что составляет отличительную принадлежность нашей природы, кроме влечения ко греху. Ибо грех не есть существенное свойство нашей природы, но уклонение от нее. Подобно тому как и болезнь, и уродство не от начала прирожденны нашей природе, но составляют противоестественное явление; так и деятельность, направленную ко злу, должно признавать как бы каким искажением врожденного нам добра; зло мы понимаем не как нечто самостоятельное в нашей природе, но смотрим на него как на отсутствие только добра. Посему преобразовавший нашу природу, дав ей Божественную силу, сохранил ее в себе свободною от недостатков и болезни, не приняв повреждения воли, происшедшего от греха. Он «греха не сотвори» , говорит Писание, «ни обретеся лесть во устах Его» (1 Пет. 2:22). И это свойство мы усматриваем в Нем не по истечении какого–либо промежутка времени, но тотчас, как соделался (воплотившись) в Марии человеком, в котором Премудрость создала себе дом. По природе человеческой Он произошел из вещества, страстям подлежащего, но вместе с наитием Святаго Духа и осенением силою Вышнего, соделался тотчас тем, чем был по естеству своему осенивший Его. Ибо «без всякаго же прекословия меньшее от большаго» благословляется (Евр. 7:7).
Итак, поелику сила Божества есть нечто бесконечное и неизмеримое, а человеческое естество скоротечно и ничтожно, то как скоро Дух снизошел на Деву и Сила Вышнего осенила Ее; скиния, водруженная таким способом, не привлекла к себе ничего из человеческой тленности, так что в сем составе, хотя и был человек, но в то же время был и Дух, и благодать, и сила; особенность нашей природы осиявалась (в нем) преизбытком Божественной силы. И поелику существуют два предела человеческой жизни: один, с которого начинаем, и другой, когда перестаем жить; то необходимо было Врачующему всю нашу жизнь обнять нас с этих двух пределов, чтобы, воспринявши наше начало и конец, с той и другой стороны вознести горе долу лежащего. Итак, что мы видим при конце земного бытия, то же рассуждаем и о начале его. Ибо как там по домостроительству (спасения) Он попустил расторжение тела от души, причем неделимое Божество, раз соединившись с нашим естеством, не разлучилось ни от души, ни от тела, но будучи с душою в раю, чрез разбойника открыло вход в него людям, телом же находясь в сердце земли, уничтожило имущего державу смерти (почему и самое тело называется Господом вследствие присутствия в нем Божества); так и о душе рассуждает, что сила Вышнего, чрез наитие Святаго Духа примешавшись ко всему нашему естеству, стала существовать и в душе нашей, как прилично ей быть в душе, и соединилась с телом, чтобы спасение наше было всецелым во всех отношениях; причем как и в начале человеческой жизни, так и в конце ее Божество сохраняет богоприличное и высокое бессмертие. Ибо ни начало Его жизни не подобно началу нашей, ни конец его — нашему концу, но как там, так и здесь Он проявил Божескую власть, так как начало его не было осквернено страстью, ни конец не окончился нетлением. Итак, если мы провозглашаем и свидетельствуем, что Христос — Божия сила и Божия премудрость, всегда неизменен, всегда нетленен, хотя и пребывал в тленном теле, неоскверняемый Сам, но очищая оскверненное, что же несправедливого в том, и за что нас ненавидят? И что значит это устроение против нас новых жертвенников? Разве мы проповедуем иного Иисуса или другого указываем? Разве мы изъясняем другие писания? Разве кто из нас осмелился назвать Святую Деву Богородицу человекородицею, как слышим, дерзко называют ее некоторые из них? Разве мы баснословим о трех воскресениях? Или возвещаем тысячелетнее объядение? Или говорим о восстановлении снова иудейского заклания в жертву животных? Разве мы обращаем надежды людей к дольнему Иерусалиму, измышляя восстановление его из вещества более прекрасного, чем камни? Есть ли что–нибудь такое за нами, за что, по мнению некоторых, следует бежать от нас и воздвигать против нас другой жертвенник, как будто мы оскверняем святыню? Чувствуя раздражение и скорбь в сердце от таких (несправедливостей), я тотчас по возвращении в свой главный областной город положил написать к любви вашей, чтоб освободить от горечи свою душу. Вы же пребывайте в том, к чему будет руководствовать вас Дух Святый, ходя вслед Бога, не прилагаясь плоти и крови, не подавая некоторым повода хвалиться (вами), чтобы они не хвалились в вас и славолюбие их не возрастало от вашей жизни. Вспомните о святых отцах, которым вы поручены блаженным отцом вашим и которых мы удостоились по благодати Божией быть преемниками. Не преступайте пределов, которые положили отцы наши, не пренебрегайте языком более простого проповедания и не отдавайте предпочтения различным последующим учениям, но согласуйтесь с древним правилом веры, и Бог мира да будет с вами, здравыми душою и телом. Господь да сохранит вас в нетлении, о чем и молимся.
4. К Евсевию
Когда в зимнюю пору начинает увеличиваться продолжительность дня, с постепенным возвышением солнца на небосклоне, тогда мы празднуем Богоявление истинного света, воссиявшего человеческой жизни во плоти; ныне же, когда светило уже достигло в (своем) течении средины неба, так что и день, и ночь в отношении один к другой имеют Равную меру продолжительности, восхождение человеческого естества от смерти к жизни делается для нас предметом того великого и вселенского праздника, который совершает в это время весь род человеческий, принявший таинство Воскресения. 2. Какой же будет предмет моего послания? Так как есть обычай в эти всенародные священномесячия выражать всеми способами присущее душам нашим расположение, а многие ознаменовывают свое веселье приношением от себя даров, сочли и мы, что нам не пристало пройти мимо тебя, не одарив нашими дарами, но [что мы должны] приветствовать твою высокую и великомудрую душу бедным приношением от нашей скудости. 3. Приношение же наше предлагаем тебе в этом письме, а это письмо такого рода, что в нем нет ни одного слова, изукрашенного благозвучными и искусно сложенными выражениями, за что послание могло бы считаться подарком у словесников, но да будет тебе даром таинственное золото, обернутое, как бы неким платом, верою христианской. Я же постараюсь посредством этого письма, сколько возможно, раскрыть и обнаружить сокровенный его блеск.
4. Итак, нам нужно обратиться опять к началу [письма]. Что значит, что именно в то время, когда ночь достигла самого высшего предела и уже перестает увеличиваться в своей продолжительности, является нам во плоти объемлющий все и над всем владычествующий Своею силою, всем <сущим> не объемлемый, но все содержащий и вселившийся в теснейшем [жилище], так что великая сила содействует благой воле, и равным образом, куда только ни склоняется воля, там3 обнаруживает себя и сила. При этом ни в творении сила не оказывается слабее хотения, ни в намерении снизойти до уничиженного естества нашего, по благодеянию к людям, не оказывается бессильной для этой цели, но, являясь и в этом состоянии, не оставляет и вселенную без управления. 5. Но так как, без сомнения, есть какая–нибудь причина [в приурочении праздников] к тому и другому времени, то почему в то время Христос является во плоти, а в равноденствие — вновь восстановляет к жизни человека, некогда чрез грех разрешившегося в землю (ср. Быт. 3:19)? Изложив [причину этого] в слове, сколько возможно короче, представлю я тебе в качестве дара само Писание.
6. Конечно, ты своей проницательностью уже прозрел тайну, заключающуюся в том, что постепенное увеличение ночи прекращается с приращением света и тьма начинает уменьшаться с постепенным увеличением дневной продолжительности? И для многих других также, быть может, ясно, что тьма имеет нечто сродное с грехом, почему зло и называется этим именем в Писании (ср. Ин. 3:19; Рим. 13:12). 7. Поэтому время, в которое начинается таинство нашего [спасения], может служить некоторым объяснением домостроительства о душах наших. Ибо, при безмерном уже распространении зла, нужно было, чтобы и для нас начался день добродетельной жизни, при помощи Того, Кто вложил в души наши такой свет, так чтобы светлая жизнь, увеличиваясь преуспеянием в добре, расширялась бы как можно пространнее, а жизнь во зле, чрез постепенное уменьшение, сокращалась до самых малых размеров. Ибо увеличение добра есть уменьшение зла. 8. Равноденствие же, бывающее в праздник Воскресения, дает понять собою, что зло, с равными силами вступившее в борьбу с добром, уже не будет противостоять ему как равное равному, но светлая жизнь будет преодолевать, с прекращением мрака идолопоклонства, с увеличением дня. 9. Почему и луна, совершив свое потайное течение в продолжение четырнадцати дней, обращается лицом к солнечным лучам, полностью принимая на себя все обилие блеска и ни в одной части [ночи] не оставляя места для мрака. Ибо, приняв на себя [свет] заходящего солнца, сама она заходит не ранее, чем ее собственный [свет] смешается с истинными лучами солнца, так что свет сохраняется всегда, нигде не прерываясь ниспадением мрака на протяжении дневного и ночного течения.
10. Вот это тебе, о Любезная Глава, слабой моей руки словесное приношение, и да будет вся твоя жизнь праздником и великим днем, полностью очищенным от ночного мрака.
5. Послание не доверяющим православной <его вере>, по просьбе [христиан] Севастии [написанное]
1. Известили нас некоторые из единодушных с нами братьев о злоречии против нас, распространяемом людьми, «ненавидящими мира» (Пс. 119:7), «оклеветающими тай искренних своих» (Пс. 100:5) и не боящимися страшного и великого судилища Того, Кто возвестил, что потребуется отчет даже в праздных словах при будущем суде нашей жизни (ср. Мф. 12:36). Они говорят, что вины наши, о которых разглашает молва, состоят в следующем: что мы мыслим вопреки [отцам], изложившим в Никее правую и «здравую веру» (ср. 2 Тим. 4:3; Тит 1:13), и что мы без рассуждения и испытания приняли в общение вселенской Церкви людей, имевших некогда собрания в Анкире, [называемых] по имени Маркелла. 2. Поэтому, чтобы ложь не восторжествовала над истиной, мы в других писаниях представили достаточное оправдание в возводимых на нас обвинениях и утверждали, [призывая в свидетели] Господа, что не отступали от веры святых отцов и не сделали ничего без рассуждения и испытания относительно принятых в церковное общение из сборища Маркеллова. Но все сделали мы в согласии с православными <братьями> и сослужителями нашими на Востоке, которые поручили нам заняться делом этих людей и одобрили сделанное нами. 3. Поскольку в то время, как мы письменно издали оную апологию, некоторые из единомысленных нам братьев опять потребовали, чтобы мы отдельно и собственными словами представили изложение веры, которое вполне убедило бы, что мы во всем следуем богодухновенным Писаниям и преданию отцов, то мы признали нужным кратко рассудить и об этом.
4. Мы исповедуем, что учение Господа, которое Он предложил ученикам, предавши им таинство благочестия, есть основа и корень правой и здравой веры, и веруем, что нет ничего ни выше, ни тверже сего предания. Учение же Господа таково: «шедше» , говорит, «убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Итак, поелику животворящая сила при возрождении от смерти к вечной жизни действует чрез Святую Троицу в удостоившихся с верою благодати, и равным образом несовершенна благодать, когда одно какое–либо из имен Святые Троицы опускается в спасительном крещении (ибо не без Духа во едином Сыне и Отце совершается таинство возрождения; ни без упоминовения о Сыне во Отце и Духе происходит совершение жизни в крещении; так же ни в Отце только и Сыне с опущением Духа достигается благодать воскресения); то посему всю надежду и уверенность в спасении душ наших мы имеем в трех Ипостасях, означаемых сими именами, и веруем в Отца Господа нашего Иисуса Христа, который есть источник жизни, и во единородного Сына Отчего, который есть Начальник жизни, как говорит Апостол (Деян. 3:15), и в Святаго Духа Божия, о котором сказал Господь, что «Дух есть, иже оживляет» (Ин. 6:63). И поелику для нас, искупленных от смерти, благодать нетления, как мы сказали, совершается в спасительном крещении чрез веру в Отца, Сына и Святаго Духа, то руководимые сим мы веруем, что к Святой Троице не сопричисляется ничего служебного, ничего тварного, ничего недостойного величия Отца; поелику едина есть жизнь наша, которой достигаем чрез веру во Святую Троицу, истекающая из Отца всех, происходящая чрез Сына и совершаемая во Святом Духе. Имея таковое убеждение, крещаемся, как поведено, веруем же, как крещаемся, а славословим, как веруем, так что и крещение, и вера, и славословие единогласно бывает во (имя) Отца, Сына и Святаго Духа. Если же кто говорит, что два или три Бога или три Божества, да будет анафема. И кто, согласно с развращенным учением Ария, говорит, что Сын или Дух Святый произошли из несущего, да будет анафема. Те же, которые согласуются с правилом истины и исповедают три Ипостаси, познаваемые благочестиво в их собственных свойствах; и веруют, что едино есть Божество, единая благодать, единое начало, и власть, и сила, те которые не отвергают державы единоначалия и не впадают в многобожие, не сливают Ипостасей и не слагают Святой Троицы из инородных и несходных (сущностей), но в простоте принимают догмат веры, вверяя всю надежду спасения своего Отцу Сыну и Святому Духу, — таковые, по нашему суждению, мыслят одинаково с нами; с ними и мы молимся иметь часть в Господе.
6. Авлавию епископу
Как и следовало ожидать, Господь сохранил нас, напутствованных твоими молитвами, и я расскажу тебе о ясном свидетельстве Божия к нам благоволения. Ибо как только показалось солнце над тем местом, которое мы оставили за собою, нашли большие тучи и ясная погода сменилась глубоким мраком. Холодный ветер, подувший из тучи, влажный, обдававший сыростью наши тела, грозил и дождем, какого еще не было; по левую сторону слышен был неумолкаемый гром, а ослепительные и непрерывные молнии предшествовали ударам грома; все же горы — и впереди, и назади, и со всех сторон были покрыты облаками. Но небольшое облако, бывшее над нашею головою, разрешилось дождем после того, как унесено было сильным ветром, и мы, подобно израильтянам, чудесно водимым Богом, окруженные со всех сторон водами, немокренно совершали путь до Вестины. Уже тогда, когда мы остановились здесь и дали отдых мулам, Бог попустил идти проливному дождю. После того как мы провели здесь три или четыре часа и достаточно отдохнули, Бог опять удержал дождь, и повозка покатилась еще быстрее, чем прежде, потому что по сырой и слегка смоченной дождем земле колеса катились гораздо легче. Дорога от этого места до нашего города вся идет берегом реки, направляясь по течению ее. По берегам реки постоянно встречаются селения, все они расположены при дороге и находятся друг от друга на небольшом расстоянии. Вся эта дорога, вследствие частых жилищ на ней, постоянно наполнена людьми, которые то встречали, то сопровождали нас и к радости примешивали обильные слезы. Небольшой дождик освежил воздух, а недалеко до городка нависшее облако разрешилось сильнейшим ливнем, так что приезд наш совершился тихо, когда никто не ожидал нашего прибытия. Но как только мы въехали под портик и послышался шум от нашей повозки вследствие сухости почвы, не знаю откуда и как, как бы чудом каким, во множестве появился народ, столпившийся вокруг нас со всех сторон, так что нам невозможно было даже сойти с повозки, ибо нельзя было найти места, не занятого народом. Едва нам удалось упросить дать нам возможность выйти из повозки и дать дорогу нашим мулам; так были мы стеснены со всех сторон стекшимся народом, что чрезмерное расположение к нам чуть не сделалось причиною обморока. Когда же идя по галерее мы очутились недалеко от входа (в церковь), то увидели огненный поток, текущий в церковь; ибо хор девственниц, неся в руках восковые свечи, правильными рядами подвигался ко входу Церковному, со всех сторон освещенный огнями. Вошедши же в церковь и разделивши с народом и радость, и слезы (ибо невозможно было не испытать того и другого, видя выражение тех же чувств), я вместе и кончил молитвы, и мучимый жаждою поспешил начертать твоей святости сие письмо, чтобы после письма заняться удовлетворением потребности своего тела.
7. Иерию игемону
У нас есть закон, повелевающий плакать с плачущими и радоваться с радующимися (Рим. 12:15); но из двух частей этого закона у нас обыкновенно находит приложение в жизни только одна, потому что радующихся очень мало, так что нелегко найти таких, которым мы могли бы сочувствовать в их счастии; исполняющих же другую часть — великое множество. Это говорю я в виде предисловия к той несчастной трагедии, которую какой–то злой демон разыграл среди тех, которые издавна известны были своим благородством. Юноша благородного происхождения, по имени Синезий, не чуждый моему роду, в цвете лет, почти еще не начавший жить, находится в великой опасности, от которой избавить его может один только Бог, а после Бога ты, которому вверена власть утверждать приговор о смерти и жизни. Несчастие случилось невольно, да и кто добровольно желает быть несчастным? И теперь несчастие вменяют ему в преступление те, которые затеяли против него этот уголовный процесс. Но этих я собственными своими письмами попытаюсь убедить оставить гнев; тебя же прошу, чтобы твое благорасположение было неразлучно с справедливостью в отношении к нам, дабы над бедствием юноши одержало верх твое человеколюбие, изобрести все средства, чтобы юноша избавился от опасности, победивши при твоем содействии злого демона, восстающего против него. Вкратце я сказал все, чего желаю; рассуждать же в подробности о том, как бы лучше привести к концу это дел не стану; ибо не мне говорить об этом, и не тебе — выслушивать наставления.
8. Антиохиану
Чем в особенности возбуждает удивление мудрецов царь македонский (ибо удивляются не столько его победам в Мидии и его подвигам в Индии и по берегам океана, сколько его изречению, что в друзьях заключается его сокровище), тем и я сам осмеливаюсь превозноситься; что касается до этого дивного изречения его, то и мне прилично сказать те же слова. Потому что я богат друзьями и, может быть, этим стяжанием превосхожу даже того, кто хвалился этим. Был ли у него такой друг, как у меня ты, который стремится превзойти самого себя во всяком роде добродетелей? Никто, конечно, не может эти мои слова заподозрить в лести, если обратит внимание на мои лета и па твою жизнь; ибо лесть уже не пристала седине и старость не способна к льстивым речам; похвала же тебе, хотя бы то было впору лести, не может быть заподозрена в ласкательстве, когда жизнь лучше всяких слов говорит о твоих достоинствах. А так как богатым свойственно уменье пользоваться теми благами, которые они имеют; самое же лучшее употребление богатства состоит в предложении друзьям тех благ, которыми владеешь; друг же более всех близкий мне по благородству во всех отношениях — возлюбленнейший сын Александр; то позволь мне показать ему мое сокровище, и не только показать, но и дать ему возможность изобильно насытиться им, когда ты окажешь ему свое содействие в том, ради чего он идет к тебе, нуждаясь в твоем покровительстве. Но он расскажет все сам, ибо так будет гораздо приличнее, чем мне писать в этом письме обо всем подробно.
9. Стагирию
Говорят, что актеры в театрах производят такие чудные вещи: взявши рассказ из истории или какое–нибудь из древних повествований содержанием своей удивительной игры, они самим действием рассказывают зрителям историю и представляют таким образом в лицах исторические события. Надевая костюмы и маски и при помощи занавесов представляя некоторое подобие города близ оркестра, и приспособляя открытое место сцены для живого подражания действиям, возбуждают удивление в зрителях; сами они подражают историческим деяниям, а занавесы представляют как бы город. Но к чему веду я об этом речь? Так как нам необходимо не город показать приходящим как бы городом, то я прошу тебя сделаться на время жителем нашего города, хотя бы только показаться им, (я же постараюсь, чтобы пустынное место показалось городом); потому что для тебя и путь невелик, и удовольствие, которое ты доставишь, весьма значительно. Ибо мы желаем показать себя самих гостям в возможном блеске, украшая себя, вместо всякого другого украшения, вашим блеском.
10. Отрейю, епископу Мелитины
Какие цветы, какие голоса певчих птиц столько приятны весною, ласкают ли затихшее море столько легкие и приятные ветры, увеселяет ли столько земледельца поле или обильное посевом, или волнующееся плодоносными колосьями, сколько отрадна среди скорби для жизни нашей духовная весна, возникающая от умиротворяющего твоего света, благодаря блеску твоих писем? Таким образом, может быть, прилично будет нам применить к настоящим благам пророческое слово: «По множеству болезней моих в сердце моем, утешения» Божия, благодаря доброте Твоей, «возвеселиша душу» нашу (Пс. 93:19), подобно лучам солнечным согревая нашу жизнь, замерзшую от холода. Ибо то и другое одинаково достигло высшей степени, говорю о тягости наших скорбей и о сладости твоей доброты. И если только благою вестью о своем прибытии ты столько обрадовал нас, что во всем у нас крайняя печаль сменилась светлою радостью, то чего не сделает один вид твой, когда прибудешь к нам ты, муж достопочтенный и добрейший. Какое утешение получит душа наша, внимая сладкому твоему голосу! Но да исполнится все это как можно скорее при помощи Божией, подающей малодушным успокоение и сокрушенным отраду! А о нас знай, что когда мы взглянем на себя, то сильно скорбим о настоящих обстоятельствах, да и враги наши не перестают (преследовать нас); но когда обращаемся мыслями к твоей досточтимости, то исповедуем, что велика милость все устрояющего ко благу Владыки, потому что нам позволено по соседству насладиться твоим приятным и добрым расположением к нам и сколько угодно до избытка насытиться такою пищею, если бы только возможно было когда–нибудь насытиться ею!
11. Евпатрию схоластику
«Добрые боги, какой вы мне день даровали! О радость! Слышу, как сын мой и внук мой друг с другом о храбрости спорят» (Одиссея. Песнь 24:ст. 510).
Приискивая, какое бы сделать приличное и прямо свойственное письму начало, я в привычных для меня чтениях, говорю о (священном) Писании, не мог найти ничего такого, чем бы воспользоваться; не потому, чтобы не мог там найти ничего подходящего, но потому, что считаю излишним писать подобное незнающим (Писаний). Ибо занятия внешними науками служат нам доказательством того, что ты не имеешь ни малейшего попечения о науках божественных. Итак, я не буду говорить с тобой о них, а начну речь с твоей ученостью о знакомом тебе. Учитель вашей науки изображает, как некто по обычаю старцев радовался после продолжительной своей скорби, видя пред собою сына своего и вместе внука от этого сына, который служит предметом радости. Состязание Одиссея с Телемаком о первенстве в храбрости, которое еще памятно кефаллинам, очень пригодно для цели нашего слова. Потому что ты и твой достойный всякого удивления отец, разделивши меня ныне между собою, как те Лаерта, стараетесь превзойти всех благородных мужей в почтительности и благосклонности ко мне, он оттуда, а ты из Каппадокии осыпая меня письмами. Что же я, старец? Самым счастливым считаю тот день, в который вижу такое соревнование сына с отцом. Итак, никогда не переставай оправдывать справедливые желания относительно тебя доброго и дивного отца и старайся превзойти отеческую славу прекрасными подвигами. Для вас обоих я буду приятным судьей: тебе отдавая предпочтение пред отцом, отцу же — пред тобою. Мы же представим собою Итаку, страну грубую не столько вследствие каменистой почвы, сколько вследствие грубости нравов жителей; в ней много женихов и истребителей достояния женщины, за которую они сватаются, и тем самым оскорбляющих невесту, что грозят целомудрию браком, поступая, как думаю, достойно какой–нибудь Меланфы (служанки Пенелопы) или другой подобной. А владеющего в совершенстве луком нет нигде! Как я разговорился, по старческому обыкновению, о предметах, нисколько нам не приличных! Но да простится мне это снисходительно ради моей старости! Ибо естественно, что у стариков как зрение слабеет и все члены от расслабления старческого опускаются, так и в разговоре является болтливость. Ты же, как прилично юноше, встретив нас быстрыми и оживленными речами, как бы помолодишь старость, прекрасным и приличным попечением о старости оказывая помощь преклонному возрасту.
12. Ему же
1. Обыкновенно прелесть весны наступает не вдруг, но предвестниками этого времени года бывают лучи солнца, нежно обогревающие затверделую почву, цветы, полуприкрытые землею, и ветер, обвевающий землю, чтобы глубоко проникла в нее производительная и животворная сила воздуха. Можно видеть и едва зазеленевшую траву, и возвращение птиц, которых изгнал зимний холод, и многое другое, что можно назвать скорее признаками весны, чем самою весною. Но и это все приятно, потому что служит предвестником еще приятнейшего. 2. К чему же я направляю свою речь? Поелику предвестник того, что в тебе драгоценно, твоя благосклонность, достигшая до нас при помощи писем, хорошим началом возвещает о том, чего мы можем ожидать от тебя; то и принимаем мы любовь, проявляющуюся в этих письмах, как первый цветок весны и умоляем тебя доставить нам возможность скорее насладиться в тебе полною весною. 3. Ибо много, как хорошо ты знаешь, очень много потерпели мы огорчений от жесткости и грубости нравов здешних жителей. И как лед на кровлях домов мало–помалу увеличивается от прибывающей воды (заимствую сравнение из того, что бывает у нас), и вновь притекающая влага, если разольется по замерзшей поверхности, и сама застывает на льду и увеличивает его массу; так нечто подобное усматривается в нравах большинства жителей этого места, так что они постоянно придумывают и изобретают что–нибудь для огорчения и к совершенному прежде злу прилагают другое, а к этому еще иное, и опять новое, и так бывает непрерывно, и нет предела ненависти и приумножению зла. Так что нам нужно много молиться, чтобы вскоре повеяла благодать Духа, уничтожила горечь ненависти и сокрушила твердый лед их злобы. 4. Поэтому, хотя весна приятна и по самой природе своей, но она бывает вожделеннее самой себя для тех, кто ожидает после такой зимы тебя. 5. Итак, да не замедлит явиться эта радость. Кроме того при приближении уже священного для нас дня благоприличнее было бы отечеству украситься своими, чем Понту — нашими [добродетелями]. Итак, приходи, Возлюбленная Глава, неся нам обилие благ — самого себя; ибо в этом будет состоять полнота наших благ.
13. Либанию
Слышал я от одного врача рассказ о некоем странном действии природы. Вот что он рассказал: некто, говорит, страдал одной из самых трудноизлечимых болезней и упрекал врачебное искусство в том, что оно меньше может сделать, чем обещает. Ибо, что ни придумывали для излечения его болезни, ничто не имело успеха. Потом, когда он неожиданно получил какую–то радостную весть, счастливый случай заменил [врачебное] искусство и освободил этого человека от болезни, потому ли, что душа избытком радости подействовала вместе с тем и на состояние тела, или почему–нибудь иному — не могу сказать: мне любомудрствовать о подобных вещах недосуг, а рассказывавший об этом не указал причины [такого явления]. 2. Но думается мне, что я благовременно вспомнил теперь об этом рассказе. Ибо, чувствуя себя не так хорошо, как бы хотелось (теперь нет нужды перечислять в точности причины всех печалей, которые постигли меня с тех пор, как был я у вас, и доныне), я неожиданно услышал от кого–то о твоем, о единственный наставник, письме, и затем немедленно получив его и, пробежав написанное, тотчас пришел в такое состояние духа, как будто получил похвалу от всего мира за какие–нибудь прекрасные подвиги. Так высоко я чту твой похвальный отзыв, которым ты обрадовал нас в письме. После того и состояние тела моего тотчас изменилось к лучшему, и вот теперь я сам передаю тебе такой же странный рассказ, потому что то же самое письмо я читал сначала больной, а потом совершенно здоровый. 3. Но об этом довольно. Поелику же причиной этой радости для меня был Кинигий, то как велик ты, имея возможность в избытке твоего благодеяния делать добро не только нам, но и благодетелям нашим! Благодетель же этот наш, как я сказал, был поводом и причиною того, почему мы получили от тебя письмо, и поэтому достоин благодеяний. Если же желаешь узнать о наших наставниках, от которых, кажется, мы научились кое–чему, то найдешь, что это Павел и Иоанн и прочие апостолы и пророки, если не покажется дерзостью с нашей стороны, присвоять себе наставление от таких мужей. Если же ты говоришь о вашей мудрости, то умеющие судить говорят, что от тебя она истекает, распространяясь затем на всех, которым не чуждо искусство красноречия. Ибо я слышал, как при всех говорил это твой ученик, а мой отец и наставник дивный Василий. Знай же, что я не обильно пользовался наставлениями учителей, что не много жил в сообществе своего брата и лишь настолько наставлен был божественным его языком, насколько необходимо было, чтобы понимать невежество тех, кто не посвящен в тайны красноречия; потом же и сам я, когда находил свободное время, со всем усердием занимаясь им, был страстным почитателем красоты вашей речи и однако ж никогда не мог достигнуть желаемого. Итак, с одной стороны, как скоро я сам сужу о себе, у нас не было ни одного учителя (красноречия); а с другой стороны, непозволительно было бы признать неправильным твое мнение о нас. В таком случае, конечно, справедливы и ваши слова, и мы не заслуживаем быть отверженными судьей, как ты. Позволь же иметь смелость приписать тебе причину таких (успехов). Ибо если Василий есть виновник нашего красноречия, а он богатство своего слова получил от твоих сокровищ; то и мы владеем твоими богатствами, хотя и получили их чрез других. Невелико это богатство, но (и) немного воды в амфорах, однако ж эта вода из Нила.
14. Либанию софисту
По некоторому отечественному установлению римляне обыкновенно совершают праздник около той поры зимнего времени, когда солнце, поднимаясь в верхние пространства неба, начинает увеличивать продолжительность дня. Священным почиталось начало этого месяца, и по этому дню гадая о целом годе, тщательно замечают разные счастливые обстоятельства, радости и получения выгод, Что же я имею в виду, так начиная свое письмо? То, что и я провел этот праздник, подобно тем, обрадованный получением золота; ибо в этот день и в моих руках было золото, но не это обыкновенное золото, которое любят правители и которым дарят богатые, — тяжелое, постыдное и бездушное стяжание, но то, которое для людей, имеющих ум, выше всякого богатства, поистине самый прекрасный подарок, по Пиндару; я говорю о твоем письме и великом богатстве, в нем заключающемся. Ибо случилось так, что я, отправляясь в этот день в главный город каппадокийцев, встретился с одним из своих друзей, который и подал мне этот подарок — письмо, как бы некое свидетельство праздника. Я же, весьма обрадованный этим счастливым обстоятельством, предложил это сокровище всем со мною бывшим, и все пользовались им каждый вполне, без всякого соревнования, и я не потерпел от этого ущерба; ибо, переходя из рук в руки, письмо стало собственным богатством каждого, потому что одни при помощи постоянного чтения удержали изречения в памяти, другие же внесли их в записные книжки; и, наконец, оно опять было в моих руках, доставляя мне больше удовольствия, чем золото глазам богачей. Поелику же и в земледельцах (я беру сравнение из круга хозяйственного) возбуждает большую охоту к перенесению дальнейших трудов похвала за прежние; то и нам позволь отплатить тебе тем, что ты сам дал и посему написать к тебе, чтоб и тебя вызвать к дальнейшей переписке. Для общей пользы умоляю тебя не думать более о том, чем ты угрожал нам в намеках под конец письма. Ибо говорю, что нельзя назвать хорошим того твоего решения, что ты осуждаешь красноречие и решаешься на молчание во всю жизнь потому только, что некоторые дурно делают, изменяя греческому языку ради варварского и делаясь наемными воинами, славе красноречия предпочитают воинское жалованье. Ибо кто же будет говорить, если ты приведешь в исполнение свою жестокую угрозу красноречию? Но уместно, может быть, припомнить здесь нечто из нашего Писания. Ибо закон наш повелевает тем, которые имеют возможность делать добро, не взирать на расположение тех, кому оказывается благодеяние; не так чтобы заботиться только о признательных и отказывать в благотворении неблагодарным, но подражать Промыслителю вселенной, который допускает к участию в благах творения всех — как добрых, так и злых (Мф. 5:45). Имея в виду это, дивный муж, оставайся навсегда в жизни таким, каким был ты в прошедшее время. Ибо не видящие солнечного света не могут помешать существованию солнца. Итак, невозможно допустить и того, чтобы блеск твоего красноречия помрачился от того, что есть люди с помраченными чувствами души. Кинигия же умоляю как можно больше удаляться той общей болезни, которою ныне страдают юноши, и добровольно заниматься наукою красноречия. Если же он думает об этом иначе, то справедливо принудить его к этому и невольно, потому что те, которые прежде сего не занимались наукою красноречия, подлинно являются теперь жалкими существами и терпят великий позор.
15. Иоанну и Максимиану
И во всех почти вещах, которые делают счастливыми их обладателей, мы, каппадокийцы, нуждаемся, а в особенности недостаток у нас в переписчиках. Это–то обстоятельство и было причиной продолжительного молчания. Ибо много уже прошло времени с тех пор, как я составил «Обличение ереси», но у меня не было переписчика; такой недостаток в писцах по справедливости наводит на нас подозрение в лености или в бессилии что–нибудь написать. Но поелику теперь, по милости Божией, нашелся писец и исправитель написанного, то я и посылаю вам это сочинение, не в виде подарка, как говорит Исократ; ибо я не думаю, чтоб оно было такого рода, чтобы получивший мог считать его за ценное приобретение, но с тою целью, чтобы нам можно было возбудить (вас) цветущих в настоящее время силами юности к борьбе с противниками, возбуждающими посредством самой борьбы юношескую смелость. Быть может, в этом сочинении и покажется вам что–нибудь стоящим внимания, если вы рассмотрите некоторые его части, в особенности те, которые предшествуют полемике, насколько они относятся к тому же предмету; равным образом и некоторые догматические исследования не покажутся вам дурными. Но все, что ни найдете там, прочтите именно как следует наставнику и исправителю.
16. Стратигию
Вот что обыкновенно делают игроки в мяч: расположившись треугольником, они перебрасывают друг другу мяч, ловко на лету перенимая его один от другого, а того, кто находится в средине, вводят в обман; притворным движением лица и каким–либо знаком руки тому, кто хочет поймать мяч, показывают вид, что хотят бросить его в правую или левую сторону, а на самом деле отбрасывают мяч в сторону, противоположную той, куда он устремится за ним, — и хитростью уничтожают его надежду. Точно также поступают и ныне многие из нас; не заботясь о деле, мы искусно ведем с людьми игру в мяч: вместо верных надежд, которые возбуждаем, коварством своих действий обманывая души тех, которые надеялись на нас. Письма, исполненные миролюбия, выражения доброжелательства, знаки дружбы, подарки, любезные изъяснения в письмах — все это притворное метание мячика по видимому на правую сторону; но вместо ожидаемого от дружелюбия следствия — обвинения, происки, клеветы, пересуды, порицания, хитрое выманивание односторонних решений. Блаженны вы в своих надеждах, приобретая чрез оные дерзновение к Богу! Но умоляем вас обращать взоры не на то, что у нас происходит, но на Владычнее учение в Евангелии; ибо какое утешение в скорбях и надежду, что дела получат желаемый исход, может подать другому тот, кто превосходит его несчастиями? Писание говорит: «мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь» (Рим. 12:19). Ты же, муж достопочтеннейший, и поступай достойно себя, уповай на Бога, и пример наших несчастий да не препятствует тебе быть прекрасным и добрым; полезный же и праведный исход дел вручи Богу правосудному и действуй так, как направит тебя Божественная мудрость. И Иосиф, конечно, не огорчался завистью братьев, посему злоба его единокровных была для него путем к царству.
17. Пресвитерам Никомидийским
«Отец щедрот и Бог всяким утехи» (2 Кор. 1:3), все премудро уст–рояющий на пользу, да управит вас своею благодатью, да привлечет к себе, творя в вас благоугодное себе и да снидет на вас благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Его Святаго Духа для исцеления вас от всякой скорби и огорчения, для преуспеяния во всяком добре, для умиротворения Церкви и назидания душ ваших и в похвалу славы имени Его. Мы же в оправдание себя любовью вашею говорим, что не были нерадивыми в исполнении обязанностей (пастырского) надзора ни в предшествующее время, ни после кончины блаженного Патрикия; но много было смут среди церквей наших, велика же дряхлость тела, увеличивающаяся, как и следует, вместе с подвигающимися вперед годами, велико и небрежение ваше к нам, потому что никогда не было ни одного возбуждающего слова в письме и никакого отношения к нашей церкви, тогда как блаженный Евфрасий епископ любовью, как бы некоторыми узами, связал, благодаря своей высокой святости, меня с собою и вами. Но хотя бы прежде сего и не была исполнена обязанность любви ни нами чрез надзор, ни вашим благочестием чрез возбуждение нас к тому; но ныне мы, призывая на помощь нашему сильному желанию и вашу молитву к Богу, молим Бога, чтобы нам как можно скорее прийти к вам, вместе получить утешение и постараться, при руководстве Божием, найти средства и к исправлению уже совершившихся несчастий, и к ограждению себя от них на будущее время; так чтобы вы, разделяемые таким несогласием, что один стремится так, другой иначе отделиться от Церкви, уже не были предметом посмеяния для дьявола, желания и действия которого в противоположность Божественному изволению состоят в том, чтобы никто не спасся и не пришел к познанию истины. Ибо вы, братья, знаете, как мы скорбим, слыша от извещающих нас о ваших делах, что в них не произошло никакой перемены настоящего положения, но воля раз уклонившихся (с правого пути) постоянно увлекается тем же самым стремлением. Если вода в канале часто переливается чрез прилежащую плотину и, разлившись по сторонам, утекает от русла; то, не заваливши места, послужившего причиной разлива, трудно бывает возвратить ее к прежнему течению, так как она промыла уже углубление в почве. Так и стремление отступников, однажды из страсти к спорам уклонившись от прямой и правой веры, идет глубже и глубже уже от привычки и нелегко возвращается к прежней благодати. Посему ваши дела требуют мудрого и великого приставника, умеющего хорошо их управить, так чтобы он в силах был беспорядочное отклонение этого течения опять привести к прежнему благоустройству, дабы у вас пажити благочестия снова приносили богатые плоды при орошении притоком мира. Посему от всех вас требуется много тщания и усердия в этом деле, чтобы Святым Духом указан был такой предстоятель, который бы все внимание свое устремлял только надело Божие, не останавливая взоров своих ни на чем, о чем заботятся в сей жизни.
Ибо для того, думаю, ветхий закон устраняет Левита от наследия поземельной собственности, чтоб он предметом стяжания своего имел одного только Бога и это стяжание постоянно хранил в себе, не имея пристрастия ни к чему вещественному; если же некоторые и мы сами равнодушны к сему, то никто, имея это в виду, да не совершает того, что не должно. Ибо то, что у других делается, — не закон для простых людей делать недолжное; но вам надобно обратить внимание на собственные дела, чтоб они устроились как можно лучше, чтоб отделившиеся опять вошли в согласие единого тела и чтобы восстановлен был духовный мир теми, которые благочестиво славят Бога. Для этого, думаю, при избрании приличнее всего обращать внимание на добрые качества, которыми должен отличаться назначаемый для предстоятельства, а происхождение, богатство и мирскую знаменитость апостольское слово не узаконило причислять к достоинствам епископа. Хотя, конечно, мы не отвергаем всего этого, если оно само собою следует за высшими качествами, как тень за телом, но тем не менее мы будем выше ценить нравственные достоинства, хотя бы они и не были соединены с внешними преимуществами. Пророк Амос был пастырь коз, Петр — рыбарь, Андрей, брат его, и возвышенный Иоанн занимались тем же промыслом, Павел приготовлял палатки, Матфей — сборщик податей; подобно им и все прочие апостолы не были ни консулами, ни вое начальниками, ни префектами, ни знаменитыми риторами и философами, но бедными и простыми людьми, призванными к апостольству от самых скромных занятий. И несмотря на все это, «во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их» (Пс. 18:5). Видите, говорит, «звание ваше, братие: яко не мнози премудри по плоти, не мнози сильни, не мнози благородии: но буяя мира избра Бог» (1.Кор. 1:26–27). Может быть, и теперь кто–нибудь по наружности, пред очами людей кажется буйим, как ничтожный по бедности или как не знатный по телесному происхождению. Но кто знает, не на него ли склоняется рог благодатного помазания, хотя бы он был самым меньшим между высокими и знатными людьми? Что полезнее было в начале для Рима, избрать ли для предстояния кого–нибудь из благородных и самых знаменитых сенаторов или рыбаря Петра, у которого не было никаких мирских средств для достижения знаменитости? Был ли у него какой дом, были ли у него слуги, земля, доходами своими доставляющая избыток во всем? Но будучи чужестранцем, не имеющим крова и пищи, он был богаче всех обладающих, потому что неимением ничего он стяжал себе всего Бога. Так и месопотамляне, имея в своих сатрапиях знаменитых богачей, Фому признали достойнее всех для предстоятельства между ними, критяне — Тита, иерусалимляне — Иакова; и мы, каппадокийцы, — сотника, исповедавшего Божество Господа при (крестных) страданиях, несмотря на то, что в то время было много людей, знаменитых своим происхождением, и имевших коней, и занимавших первые места в совете; и во всей Церкви можно видеть, что люди великие пред Богом были предпочитаемы приобретшим мирскую известность.
Думаю, что и вам в настоящее время следует обратить внимание на то же самое, если вы желаете восстановить древнее достоинство вашей церкви. Ибо вы вполне знаете из истории своего города, что издревле, пока не расцвел соседний с вашим город, у вас была столица и между городами не было выше вашего; и ныне, хотя и исчезла красота зданий, но по жителям, по множеству и знаменитости граждан ваш город не уступит блеску древнего. Посему прилично было бы, чтобы ваш образ мыслей не был ниже достоинства тех благ, которыми вы обладаете, но чтобы заботливость о предлежащих вам делах равнялась знаменитости вашего города, так чтобы вы могли между народом найти себе такого предстоятеля, который бы оказался достойным вас. Ибо постыдно, братие, и вполне безрассудно, если (корабль) не имеет кормчего или кормчий не имеет сведений в искусстве управлять кораблем, а держащий кормило церкви не знает, как души плывущих с ним управить в пристань Божию. Ибо сколько уже случилось гибельных кораблекрушений в церкви от неопытности правителей! Кто исчислит происшедшие в глазах наших (несчастия), которые не случились бы, если бы предстоятели церкви имели сколько–нибудь правительственной опытности? И железо для приготовления из него каких–нибудь вещей мы вверяем опытным в кузнечном искусстве, а не тем, кто не знает его; так и души надобно вручать тому, кто хорошо разумеет, как умягчать их огнем Святаго Духа, — тому, кто посредством образования разумных органов, каждого бы из вас уготовал в сосуд избранный и благопотребный Богу. Такую осмотрительность повелевает соблюдать божественный Апостол, в Послании к Тимофею поставляя для всех слушающих его законом, что «подобает убо епископу быти непорочну» (1 Тим. 3:2). Не об одном только Апостол заботится, чтобы предстоятель священства был именно таков. И что за особенная польза, если достоинство это будет заключаться в одном человеке. Апостол знал, что подчиненные сообразуются с жизнью своего начальника и достоинства предводителя усвояются теми, которые находятся при нем. Ибо, каков учитель, таков бывает и ученик; потому что не может быть, чтоб обучающийся кузнечному мастерству приобрел сведения в ткацком искусстве; ученик ткача не может быть ритором или землемером; но что ученик видит в своем наставнике, то он усвоят и себе. Посему и сказано (в Писании): «совершен же всяк ученик будет, якоже и учитель его» (Лк. 6:40).
Итак, что же, братие? Ужели возможно сделаться смиренномудренным, кротким по нраву и умеренным, свободным от корыстолюбия, сведущим в делах Божественных, опытным в добродетельном и пристойном образе жизни тому, кто не видит этих качеств в учителе? Но я не знаю, каким образом обучившийся только мирскому, может сделаться духовным? Ибо как могут быть непохожими на него те, кои подражают ему? Какая польза для жаждущих в водоеме великолепной работы, когда в нем нет воды? Пусть колонны водопровода в разновидных формах высятся к небесам своими вершинами; что лучше избрал бы на свою потребу жаждущий — смотреть ли на камни, прекрасно сложенные, или найти самый поток, хотя бы он струился по деревянному желобу, лишь бы давал чистую и годную для питья воду? Так, братие, и тем, которые ищут благочестия, не следует обращать внимания на внешность скинии; если кто имеет много друзей, гордится длинным перечнем своих достоинств, хвалится тем, что получает много ежегодных доходов и, обращая внимание на свое происхождение, величается и всячески надмевается гордостью, то такого нужно обходить, как водоем, не имеющий воды, если он не обнаруживает в жизни высших достоинств; а напротив, пользуясь светочем Духа для испытания, надобно искать, насколько возможно, «вертоград заключен, источник запечатлен» (Песн. 4:12), как говорит Писание, дабы чрез рукоположение отверзши роскошный сад и открывши источник воды живой, сделать его общим достоянием вселенской церкви. Да будет же так, и да дарует Господь как можно скорее среди вас обрести такового, который был бы сосудом избрания, столпом церкви. Мы же верим Господу, что это и будет, если только вы при помощи благодати единомыслия захотите согласно обратить внимание на то, что благо; предпочетши собственным своим желаниям волю Господа нашего и то, что Ему приятно, благоугодно и (в очах Его) совершенно; дабы то, что совершается у вас, было такого рода, чему бы и мы порадовались, чем бы и вы были вполне Довольны и чем бы прославился Бог всяческих, Которому подобает слава во веки.
18. Отрейю, епископу Мелитины
Как прекрасны отображения прекрасных вещей, ко! да они сохраняют в ясности черты первообразной красоты! Я видел самый ясный образ твоей подлинно прекрасной души в приятных твоих письмах, которыми ты усладил нас, как говорит негде Евангелие, «от избытка бо сердца» твоего (Мф. 12:34). В них, казалось мне, я видел тебя самого и наслаждался твоем благорасположением, в приветливости твоих писем: письма эти я часто беру в руки и, прочитывая, испытываю еще большее желание вновь наслаждаться ими и не чувствую пресыщения. Здесь, как и при наслаждении некоторыми другими предметами, прекрасными и драгоценными по природе, удовольствие не может прекратиться (от пресыщения). Ибо как постоянное созерцание солнца не притупляет стремления видеть оное и постоянное наслаждение здоровьем не подавляет желания пользоваться им; так же точно и наслаждение твоим благорасположением, которое мы многократно испытывали лично, а ныне узнали из твоего письма, мы убеждены, не приведет к пресыщению. Но как страдают те, которые по какому–нибудь обстоятельству чувствуют неудовлетворенную жажду, так и мы чем больше наслаждаемся твоим добрым расположением, тем большую испытываем жажду его. Если же ты не заподозришь в таких словах какого–нибудь обмана и лживой лести (а ты. конечно, не заподозришь, оставаясь всегда таким, каков ты на самом деле и особенно в отношении к нам — добрым и искренним более, чем кто–либо другой), то вполне поверишь моим словам, что приятность твоих писем, подействовав на наши очи, подобно целительному врачевству, прекратила поток слез; и мы ожидаем, что, утвердив свою надежду на врачевство твоими святыми молитвами, скоро и вполне излечимся от таковой болезни нашей души. Впрочем, что касается до тех обстоятельств, в которых мы ныне находимся, то нужно пощадить слух любящих нас и покрыть истину молчанием, дабы искренно возлюбивших нас не сделать невольно сообщниками наших несчастий. Ибо как скоро подумаем, что мы, лишенные того, что всего дороже и ближе нам, вращаемся среди брани и что те, которых мы вынуждены покинуть, суть дети наши — дети, которых мы удостоились родить Богу нашими духовными муками деторождения, которые связаны с нами законом любви, нежная любовь которых к нам чрез злострадания во время искушений еще более усилилась; покинуть еще сверх того любезный нам дом, братьев, сродников, товарищей, знакомых, друзей, очаг, трапезу, кладовую, постель, стул, платье, сообщество, слезы — что все так приятно, а от привычки сделалось еще более любезным; то думаю, что обо всем, как тебе известном, нет нужды писать; все же прочее, что мы имеем вместо оного, чтобы нам не говорить неприятного, ты представь сам. Будучи уже при кончине жизни, я опять начинаю жить и учиться; узнаю похваляемое ныне непостоянство нравов, поздно знакомясь с оным злонравным коварством, так что всегда краснею от стыда, будучи столь несведущ в этом деле. Противники же, опытные в таковой мудрости, способны и сохранять то, чему они научились, и изобретать то, чего еще не узнали; и так сражаются они издали, бросая стрелы, плотно сдвигают свою фалангу для боевого строя, наперед обдумывают то, что им полезно, запасаются средствами, отовсюду окружают себя союзниками. Сильное и неодолимое коварство с могуществом сопутствует им, предводительствуя их ратью, как бы некоторый ободесноручный борец, сражающийся впереди своего войска обеими руками, то собирая дань с покоренных, то ниспровергая встречающихся случайно. Если же ты пожелаешь узнать нашу частную жизнь, то найдешь еще иное: удушливый домик, богатый холодом, мраком, теснотою и всякими подобными «прекрасными» качествами; жизнь, наблюдаемую всеми; голос и взор, надевание платья, движение рук, постановка ног — за всем следят с крайним любопытством; и если бы не сильная одышка, нередко проявляющаяся, и если бы вместе с одышкою не чередовался постоянный стон, и если бы наш хитон не про–скользал из–под пояса, так что нет нужды и в употреблении пояса, и если бы мантия не спадала с левого плеча нашего, — если бы не было всего этого, то возник бы предлог к войне против нас и при этом восстали бы на брань с нами друг за другом и ближние, и дальние народы. Но нельзя, чтобы дела шли постоянно или хорошо, или худо, жизнь всякого большею частью слагается из противоположностей. Если же, по милости Божией, твое (расположение) постоянно пребудет с нами, то мы перенесем все множество неприятностей в надежде всегда пользоваться твоею благосклонностью. Итак, никогда не переставай доставлять нам удовольствие тем, чем и нас ты успокоишь, и себе еще большую уготовишь награду, обещанную в Божественных заповедях.
19. Письмо к некоему Иоанну о различных предметах, также об образе и порядке жизни сестры своей Макрины
Знаю я, что некоторые живописцы оказывают бесполезную любезность своим безобразным друзьям, желающим видеть свое изображение начертанным на картине, делая нечто противное тому, что те желают. Ибо тем самым, что и своем подражании исправляют природу, при помощи ярких красок скрывая на картине неприятные черты наружности, они изменяют характеристические особенности. Но для тех (с коих пишут портрет) нет никакой пользы от того, что на картине являются золотистые и густые, завивающиеся над челом и лоснящиеся волосы, краска на губах, румянец на щеках, округлость век, блеск в глазах, брови, лоснящиеся чернотою, лоб, сияющий бровями, и все иное тому подобное, чем достигается красота изображения; ибо если уже от природы не имеет ничего подобного тот, кто предлагает живописцу снять с себя портрет, то он не получит никакой пользы от такого человеколюбия (живописца). Таким же образом, мне кажется, что если бы кто–нибудь по дружбе осыпал любимого чрезмерными похвалами и на словах изображал его не таким, каков он есть, а таким, каким он должен быть, чтобы стать совершенным во всех отношениях; тот хотя своим словом и начертал бы образ правильной жизни, но самого друга чрезмерными похвалами не столько бы почтил, сколько обличил в том, что он в жизни противоречит тому, что сказано о нем, и оказывается на деле иным, чем как думают о нем другие. К чему же клонится моя речь? Увидел я в письме твоей любви изображение некоторой статуи, отделанной с величайшею тщательностью; имя этой статуи — я, ибо на меня указывало письмо. Но потом, рассмотрев свою жизнь со всею тщательностью, как в зеркале, я убедился, что слишком далеко отстою от того изображения, какое усвоено мне в оном письме. Впрочем и в этом я нашел доказательство твоей любви к добродетели; ибо тем самым, что полюбил меня таким, каким представил меня (в своем письме), ты дал самое ясное доказательство правоты своих нравственных правил; так что не чувствуя любви ни к чему, кроме добродетели, ты, полагая, что в некоторой степени она свойственна и нам, только поэтому имеешь нас в числе самых близких своих друзей. Поэтому я подумал, что лучше иметь познание о себе чрез самого же себя, чем увлекаться отзывами других, хотя бы сии другие были верными свидетелями во всем прочем; ибо то же самое говорит и слово притчи, которое думающим знать самих себя на основании того, что говорят о них другие, предписывает самим себя исследовать (Притч. 13:10). Но об этом довольно, чтобы не показалось, что я тем самым, что отвергаю твою похвалу, посмеваюсь над похвалами.
Приказывал ты нам также потрудиться написать ответ на вопросы, тобою предложенные с тою целью, чтобы этим трудом мы принесли некоторую пользу обществу; но знай, что для этого у нас столько же почти досуга, сколько и у того, о котором говорит один из пророков, что попавшись ко льву и едва ускользнувши от его пасти и острых когтей, лишь только, казалось, избежал его, неожиданно попал в пасть медведицы; потом избежавши с великим трудом и этой опасности и прислонившись к стене, подвергся коварному уязвлению от змеи (Ам. 5:19). Так же точно и преемство постигших нас одно за другим несчастий было таково, что чрезмерность вновь прибывающих бед, казалось, делала ничтожными те, кои уже исчезли. И если не будет невежливым печалить любящих нас прискорбными рассказами, то я коротко изложу тебе эту недобрую историю. Была у нас сестра, наставница в жизни, которая после матери заменяла нам мать, — сестра, имевшая такое дерзновение к Богу, что была для нас столпом «крепости» (Пс. 60:4) «и оружием благоволения» (Пс. 5:13), как говорит Писание, и градом «ограждения» (Пс. 30:22) и всем, что ни именуется твердынею в силу присущего ей, по ее жизни, дерзновения пред Богом. Жила она на краю Понта, удалившись от сообщества людей. Около нее был многочисленный лик девственниц, родив которых муками духовного деторождения и руководя со всякою заботливостью к совершенству, она в человеческом теле подражала жизни ангелов. Для нее не было различия между днем и ночью; но и ночь, проводимая в делах света, была полна деятельности, и день по безмятежной жизни представлял ночное спокойствие. Во всякое время жилище ее было полно звуками, день и ночь будучи оглашаемо псалмопениями. Ты увидел бы нечто даже невероятное для глаз: плоть, не ищущую свойственного себе, чрево такое, каким, можно догадываться, оно будет при воскресении, источники слез, равняющиеся мере питья, уста, вполне усвоившие закон, слух, упражняющийся в божественном, руки, неустанно движущиеся к совершению заповедей. Но как ясно изобразить то, что превосходит всякое описание словами!
Итак, после того, как я переместился от вас к каппадокийцам, слух о ней тотчас встревожил нас. Расстояние было на десять дней пути; совершив весь путь с возможною скоростью, я прибыл в Понт; и сам увидел, и меня увидели. Но как если бы путешествующий в полдень без всякой защиты от солнца, прибежал к какому–либо источнику и прежде чем коснуться воды, прежде чем охладить язык, нашел бы, что вода превратилась в пыль, потому что источник пред ним иссох; так и я, увидевши после десяти лет (разлуки) ту, которую страстно желал видеть, которая заменяла мне мать, учителя и всякое благо, прежде чем удовлетворилось мое страстное желание, лишился ее, похоронив на третий день. Таково было прибытие мое в отечество после возвращения моего из Антиохии. Потом, прежде чем изгладились следы такого несчастия, соседи моей церкви, галаты, тайно занесши во многие места моей церкви обычный им недуг — ереси, дали мне немало трудов, так что едва только при помощи Божией повсюду возмог я одолеть этот недуг. После того к этому присоединилось иное. На границе Понта лежит город Ивора, издревле преданный нам и здравой вере. Так как епископствовавший там незадолго пред тем отошел от сей жизни, то граждане всенародно обратились к нам с просьбою — не выдать их и не пренебречь их города, терзаемого руками врагов. (При этом) слезы, припадания, вопли, мольбы — все это послужило для нас началом настоящих зол. Ибо когда мы были в Понте и как следовало озаботились, при содействии Божием, делами их церкви, немедленно на этом месте встречает нас подобного же рода посольство от народа севастийского, желавшего упредить нападение еретиков. Но то, что последовало за сим, достойно умолчания и невыразимых стенаний, и непрестанного стыда, и плача, не прекращаемого временем; так как все другие несчастия люди легко переносят, привыкая к ним, здешние же, напротив, с течением времени усиливаются с приумножением еще больших огорчений. Я участвовал в этом деле вместе с другими созванными епископами, чтобы собрать голоса относительно рукоположения, но жребий (избрания) пал на меня самого, и я, несчастный, сам того не ведая, был уловлен собственными руками.
За сим принуждения, слезы, припадания, стражи, отряд воинов, и сам назначенный над ними начальник ведет на нас рать, приводит на нас в движение власть градоначальника, сосредоточивая против нас все средства для насилия над нами. Между тем судьба нас натолкнула на дурное положение дел у вавилонян; у них с давних времен существовало такое разногласие из–за веры между людьми, что болезнь эта затвердела и сделалась неизлечимою. Умом они тупоумны, по языку более чем варвары, голос у них грубый и зверский; проводя жизнь подобно лукавым зверям, они до того изощрились в изобретении зла, что пред ними ничто и Архимед, и даже более — Сизиф, Керкион и Скирон и другие подобные из упоминаемых в истории, так как ложь более им близка, чем всякая истина; они до такой степени упорны в своей лжи, в какой не защищают истины сильные в истине. И даже если кого–нибудь из них изобличают в величайших пороках, то это самое у многих служит поводом к похвалам; дерзость, надменность, бесчувственность и сквернословие у них почитается искусством общежития и чем–то прекрасным.
Сообщаем тебе немногое из многого, избегая растянутости письма, чтобы не обвинял ты нас в лености, и не имея теперь времени повествовать подробно. Но если у тебя подлинно есть желание, чтобы мы когда–нибудь занялись этим делом, то даруй нам как самого себя, так особенно время для свидания, если только не услаждают тебя удовольствия городские более, чем наша любовь. А если бы тебя удержали те же обстоятельства, что и у нас (ибо я слышу, что и вся церковь в том же положении), то окажешь нам достаточную помощь в брани и тем, если станешь молить Бога подать нам некоторое ослабление наших зол, и при содействии Божием, быть может, мы улучим когда–нибудь такой досуг и не останемся бесполезны для общего дела.
20. К Аделфию схоластику
Пишу тебе это письмо из священных Ванот, если только я не обижу той местности, называя ее по–туземному. Говорю: не обижу той страны, потому что по названию в ней ничего нет приятного, и это галатийское наименование не даст ни малейшего понятия о столь великой красоте этой местности, нужно видеть ее, чтобы представить всю прелесть ее. Ибо я, видавший уже многое и во многих местах, со многим уже знакомый и по описаниям в повествованиях древних, — все, что я видел и слышал, считаю ничтожным сравнительно с красотами здешних мест. Ничтожен оный Геликон, острова блаженных — басня, поле Сикионийское — нечто незначительное, а рассказы о Пенее суть не что иное, как поэтическое пустословие; о нем рассказывают, что, разлившись изобильным потоком по сторонам, он образовал многопрославленную долину Темпейскую в Фессалии. Ибо что такое значит каждый из этих рассказов сравнительно с тою красотою, какую мы увидели на Ваноте, у себя на родине? Ибо если кто ищет естественной красоты местности, тот здесь не будет иметь нужды в красотах искусства; если кто имеет в виду произведения искусства, то их здесь столько и они таковы, что в состоянии бы восторжествовать и над менее счастливою природою. Но вот что даровала природа этой местности, украшая землю безыскусственной прелестью. Внизу течет река Галис, берегами своими украшающая местность; она сверкает, подобно золотой ленте на ярко пурпуровой одежде, катя красные от ила воды. Вверху длинным гребнем тянется гора, тенистая, густо заросшая со всех сторон, покрытая дубами, более достойная похвал какого–либо Гомера, чем та гора Нирит на острове Итаке, о которой этот поэт говорит, что она прекрасна и покрыта густым лесом. Лес, самою природою насажденный, спускаясь по наклонности горы, при подошве ее соприкасается с произведениями земледелия. Ибо тут же виноградные сады, раскинувшиеся по сторонам, по отлогостям и углублениям подошвы горы, покрывают, подобно зеленой одежде, всю внизу находящуюся местность. Красоту же местности увеличивает и время года, представляя прекрасное зрелище виноградных гроздов. И это тем более приводит в удивление, что между тем как в соседней местности плоды еще не дозрели, здесь можно с удовольствием есть виноград и сколько угодно наслаждаться всеми этими красотами. Потом издали, как бы пламя какое от великого костра, засияла пред нами красота зданий. По левую руку на нашем пути виден молитвенный дом, построенный в честь мучеников; правда постройка его еще не доведена до конца: он не имеет еще крыши, но при всем том он блистателен. По прямому же пути идут красивые здания, каждое из них представляет что–либо особенное, придуманное для удовольствия; выдающиеся башни, постройки для пиршеств, широкие и высокие ряды деревьев, преддвериями увенчивающие вход. Потом около домов Феакийские сады, но нет — красоты Ванот да не унизятся сравнением их с этими садами. Гомер не знает здешней яблони, «золотыми плодами обильной», яркостью своих красок не уступающими краскам своего цветка. Не видел он груши, которая белее вновь отполированной слоновой кости. А кто опишет разновидность и разнообразие персидской яблони и того, что произошло с нею от смешения и соединения ее с другими породами? Ибо что люди, в вымыслах своих переступающие за пределы естественного, повествуют о трагелафах, иппокентаврах и подобных смешанных из различных животных существах, то же надобно сказать и об этой яблоне: природа, вынужденная искусством, произвела такое смешение, что и по имени, и по вкусу она кажется то миндальным деревом, то орешиною, то дорациною. И во всех этих садах сверх красоты являлось и обилие каждого рода дерев, распорядок в их насаждении и стройная живописность. Ибо поистине это дивное зрелище больше произведение живописца, чем земледельца. До какой степени легко природа повиновалась желанию тех, которые давали такой распорядок (ее произведениям), я не нахожу возможности передать на словах. А дорожку под привязанными к деревьям виноградными лозами, и приятную тень от гроздов, и новый род стен по сторонам из кустов роз и виноградных ветвей, переплетшихся между собою и вместо стен преграждающих ход по сторонам, и на конце этой дорожки водоем, и в нем выкармливаемых рыб — кто по достоинству может описать все это. И среди всего этого управляющие домом твоего благородства с свободною приветливостью и усердием водили меня и показывали мне, изъясняя порознь все работы, произведенные для тебя, как будто чрез нас доставляя удовольствие тебе самому. Здесь один молодой человек, подобно чудодею какому, показал нам зрелище, не совсем обыкновенное в природе. Ибо, спустившись на дно водоема, по своему произволу вынимал рыб, каких ему хотелось, и они не пугались прикосновения ловца, как бы ручные щенята, выкормленные рукою искусника и повинующиеся ему. Потом привели меня к некоему дому, назначенному как бы для отдохновения; ибо крыльцо заставляло нас думать о доме; но переступивши порог, мы очутились не в доме, но в галерее; галерея же стояла на возвышении, весьма высоко поднимаясь над глубоким прудом; вода ударяла в фундамент, поддерживавший галерею, которая служила как бы преддверием внутренней роскоши. Ибо по правую руку галерея заканчивалась домом с высокою кровлей, отовсюду освещаемым солнечными лучами, разувенчанным различными живописными изображениям; так что мы, будучи на этом месте, почти позабыли то, что видели прежде. Дом привлекал к себе, галерея над прудом также представляла особенное зрелище. Ибо лучшие породы рыб, как бы намеренно играя с нами, стоящими на земле, выплывали из глубины на поверхность, как бы какие птицы подпрыгивая и в самый воздух, сделавшись наполовину видимыми и выставив голову на воздух, затем опять скрывались в глубине. Другие же, стаями и рядами следуя друг за другом, представляли (любопытное) зрелище для непривычных к тому. В ином месте можно было видеть целую стаю рыб наподобие виноградного грозда, густо столпившихся около куска хлеба; одна из них отгоняла прочь другую, одна набегала, другая уходила книзу. Но и об этом заставил нас забыть принесенный нам виноград на ветках и в корзинках, угощение разнообразными плодами, приготовленный завтрак, различные кушанья, лакомства, печенья, кубки гостеприимства и чаши. Затем, когда, насытившись, я намеревался отойти ко сну, то, поставив около себя писца, как бы какие грезы, набросал тебе это письмо. Но желал бы я не на бумаге и при помощи чернил, а собственным моим голосом и языком подробно рассказать тебе самому и любящим тебя о всем, что видел у тебя прекрасного.
21. Епископу Авлавию
Есть такого рода искусство ловить голубей. Когда занимающиеся подобною охотою поймают одного голубя и сделают его ручным и своим сотоварищем, то, намазавши благовонным маслом его крылья, пускают летать в одной стае с другими голубями. Голубь благоуханием масла приманивает эту свободную стаю к тому, кто его пустил. Потому что за теми голубями, которые издают благовоние, летят и прочие и поселяются с ними. К чему же я веду такое предисловие? К тому, что я послал к твоей святолепности сына Василия, намастивши крылья его души божественным миром, с тою целью, чтобы и ты взлетел с ним на высоту и занял то гнездо, которое устроил вышеупомянутый. Если бы это исполнилось, и я при своей жизни увидел бы, что твое благородство избрало более высокую жизнь, то я вполне воздал бы достодолжное от себя благодарение Богу!
22. Епископам
В течение трех только дней Пророк был во чреве кита; однако же Иона восскорбел духом. Я же, находясь столько времени среди нераскаянных ниневитян, содержимый во внутренностях сего зверя, еще и доселе не могу быть изрыгнут из этой широко зияющей пасти. Итак, помолитесь Господу, чтобы свершилась его милость, дабы вышло повеление, которое освободило бы меня от этих уз и я достиг бы своего крова и успокоился бы под ним.
23. Ненадписанное
Избавляю тебя от многих слов, потому что щажу твое утомление. Помни о своих (обязанностях) и все будешь иметь в блистательном положении. Потребна скорая благодать. Этим кончаю наше увещание.
24. Еретику Ираклиону
Слово здравой веры для тех, которые благомысленно принимают богодухновенные глаголы, имеет силу в простоте и для подтверждения истины не требует никакой словесной мудрости; так как оно само по себе удобопонятно и ясно по первому преданию, которое мы приняли от слова Господа, предавшего таинство спасения в бане пакибытия. «Шедше убо, говорит Он, научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Учаще их блюсти вся, елика заповедах вам» (Мф. 28:19–20). Разделяя христианскую жизнь на две части — на нравственную и на точное соблюдение догматов, спасительное учение Он утвердил установлением крещения, а к усовершенствованию жизни указал путь в исполнении Его заповедей. Но та часть, которая относится до заповедей, так как с этой стороны менее может произойти вреда для души, оставлена дьяволом неприкосновенною. Вся же забота противника устремлена более на главную и важнейшую часть, чтобы гак совратить души многих, чтобы не было никакой для них пользы, если бы даже они и достигли некоторого совершенства чрез соблюдение заповедей; так как для тех, которые вовлечены в заблуждение относительно догматов, не остается уже этой великой и первой надежды (спасения). Посему мы заботящимся о своем спасении советуем, чтоб они не отступали от простоты первых речений веры, но, принимая в душе Отца и Сына и Духа Святаго, не думали бы, что это есть одна многоименная Ипостась. Ибо невозможно, чтобы Отец назывался Отцом Самого Себя, неистинно было бы для Отца название Сына, происшедшего от Него. Равным образом невозможно думать, что и Дух есть одно и то же, что и другие упомянутые Лица, так что название Дух будто наводит слышащего оное на понятие об Отце или Сыне. Но в каждом из имен собственно и отдельно подразумевается означаемая названиями Ипостась. Услышав об Отце, мы подразумеваем причину всего; узнав о Сыне, познаем силу, воссиявшую из первой причины для устроения вселенной; узнавши о Духе, уразумеваем совершительную силу того, что приведено в бытие творением от Отца чрез Сына. Итак, Ипостаси сообразно сказанному неслиянно отделены одна от другой, разумею Ипостаси Отца и Сына и Святаго Духа, а существо их, каково оно ни есть (ибо оно не выразимо словом и не постижимо мыслью), не разделяется в какую–либо инаковость природы. Посему–то непостижимость, недомыслимость, необъемлемость мыслию равно приличествует каждому из Лиц, почитаемых в Троице. Следовательно, тот, у кого спросят, что по сущности есть Отец, рассудительно и истинно скажет, что этот вопрос выше познания. Точно так же и касательно Единородного Сына согласится, что никаким словом невозможно объять Его сущность, ибо сказано: «род же Его кто исповесть» (Ис. 53:8). Подобным образом и относительно Духа Святаго слово Господне показывает такую же невозможность постижения, говоря: «глас Его слышиши, но не веси, откуда приходит, и камо идет» (Ин. 3:8). Итак, поелику мы не признаем никакого различия в непостижимости трех Лиц (потому что одно Лицо не есть более непостижимо, а другое менее, но одно и то же понятие непостижимости в Троице), то руководимые самою непостижимостью и неуразумеваемостью, говорим, что не находим никакого различия сущности в Святой Троице, кроме порядка Лиц и исповедания Ипостасей. Порядок Лиц, по которому вера, начинаясь в Отце, чрез посредство Сына оканчивается в Духе Святом, нам предан в Евангелии. А различие Лиц, открывающееся в самом порядке отдельности их в преданном учении, не внушает никакой мысли о слиянии их для тех, которые могут следить за значением слов, так как название Отца показывает особенность понятия (об Отце), а название Сына и Святаго Духа также особое понятие, так что (Лица), обозначаемые именами, никаким образом не сливаются одно с другим.
Итак, мы крещаемся, как приняли, в Отца и Сына и Духа Святаго. А веруем, как крещаемся, ибо вере надлежит быть согласною с исповеданием. Славим же, как веруем, ибо славословию несвойственно противоречить вере. Итак, поелику вера есть в Отца и Сына и Духа Святаго, а вера, славословие и крещение следуют друг за другом, то и славословие Отца и Сына и Святаго Духа не различается. Самое же славословие, которое мы воссылаем, по своей природе есть не что иное, как исповедание благ, присущих величию Божеского естества. Ибо мы не по нашему произволу приписываем честь Естеству недосточтимому, но, исповедуя в Нем то, что Ему принадлежит, тем вполне воздаем честь. А поелику каждому из Лиц, исповедуемых нами во Святой Троице, принадлежит нетление, вечность, бессмертие, благость, могущество, святость, мудрость — все что только в состоянии мы помыслить величественного и высокого, то, исповедуя словом эти присущие Им 1 совершенства, мы тем самым воздаем должное прославление. Если же все, что свойственно Отцу, имеет Сын и все совершенства Сына усматриваются в Духе, то мы не находим во Святой Троице никакого различия относительно высоты чести между Ее Лицами. Но и не по телесному какому–либо сравнению одно выше, а другое ниже, потому что невидимое и не имеющее очертания не объемлется мерою. Также и по отношению к всемогуществу и благости не находится сравнительного различия во Святой Троице, чтобы можно было сказать, будто в них есть разность большего или меньшего. Ибо кто скажет, что одно могущественнее другого, тот молча признает, что уменьшаемое в силе слабее более сильного. А это крайняя степень нечестия — представлять в уме какой–нибудь признак слабости или бессилия, в малом ли то или большом, относительно Единородного Бога и Духа Божия. Ибо слово истины предает, что и Сын, и Дух совершенны в могуществе, благости, нетлении и во всем, что только ни мыслится высоким. Итак, если совершенство всякого блага благочестиво исповедуется в каждом из почитаемых во Святой Троице Лиц, то несвойственно природе называть одно и то же и совершенным, и опять сравнительно несовершенным. Ибо допускать меньшее по величию силы и благости есть не что иное, как усиливаться утверждать, что (оно) есть несовершенное. Посему, если совершен Сын, совершен и Дух. Ибо разум не признает (степеней) совершенства в Том, Кто всесовершен, не почитает Его ни менее совершенным, ни более совершенным. И из действий (Лиц Святой Троицы) мы узнаем нераздельность их славы. «Живит» Отец, как говорит Евангелие (Ин. 5:21), животворит и Сын, животворит и Дух, по свидетельству Господа, сказавшего, что «Дух есть, иже оживляет» (Ин. 6:63). Итак, надлежит представлять силу начинающуюся от Отца, проходящую чрез Сына и совершающуюся в Духе; ибо мы научены, что все произошло от Бога и все чрез Единородного и Им стоит (Кол. 1:16–17), и что чрез все проникает сила Отца, действующая «вся во всех» , как хощет, как говорит Апостол (1 Кор. 12:6).
25. Амфилохию
Я уже уверен, что по благодати Божией исполнится мое намерение относительно храма в честь мучеников. Если бы ты захотел, — предприятие совершится силою Бога, Который может, когда речет, привести слово в дело. Поелику, как говорит Апостол, «начный дело благо и совершит» его. (Флп. 1:6), согласись и ты в этом деле быть подражателем великого Павла и привести в исполнение наши надежды, выслав к нам столько мастеров, чтобы достаточно их было для этого дела. А чтобы твоему совершенству для соображения было известно, в каких размерах задумано все это здание, я попытаюсь письменным словом объяснить тебе всю постройку. Вид этого храма представляет крест, составленный, как обыкновенно, из четырех со всех сторон зданий. Смыкаясь между собою, эти здания посредством связей держат друг друга, как видим везде при крестообразной форме построек. В этом кресте вставлен круг, разделенный восемью углами. Эту восьмиугольную фигуру я назвал кругом по ее округлому очертанию, так что каждые две стороны этого восьмиугольника, противолежащие друг другу, посредством сводов соединяют этот круг с прилежащими с четырех сторон зданиями. Другие же четыре стороны восьмиугольника, которые лежат между четырехугольными зданиями, не будут простираться непрерывно до зданий, но каждую из этих сторон будет облегать полукруг, заканчивающийся вверху сводом, в виде раковины. Таким образом, составится всего восемь сводов, посредством которых и четвероугольники, противолежащие друг другу, и самые полукружия соединятся между собою посредине. В средине же между угловыми столбами будет поставлено равное им число колонн для украшения и прочности. Они также будут поддерживать своды над ними, устроенные так же, как и внутренние. Вверху над этими восемью сводами, соответственно лежащим над ними окнам будет возвышаться на четыре локтя восьмиугольная надстройка. Верх над нею должен быть конусообразный, в виде крыши, суживающейся, начиная с основания, и заканчивающейся остроконечием. Внизу размер каждого из четырехугольных отделений в ширину будет восемь локтей, в длину — в полтора раза больше, в высоту — сколько потребует соразмерность с шириною. Ту же меру будут иметь и полукружия. Подобным же образом в восемь локтей определяется и промежуток между столбами. Сколько покажет очертание циркуля, установленного на середине одной из сторон, как бы в центре, и проходящего до ее края, столько же будет в широту. А высоту укажет та же соразмерность с широтою. Толщина же стены по всему протяжению здания будет три фута, измеряя расстояние изнутри. Это я со тщанием написал твоей благости с тою целью, чтобы и по толщине стен, и по промежуточным расстояниям ты с точностью определил, какая будет общая мера числа локтей. Поэтому, если пожелаешь, при благом руководстве благодати Божией, в этом деле тебе будет легко понять все и будет возможно чрез точное вычисление узнать общую денежную стоимость всех материалов, так чтобы ни больше ни меньше, чем сколько потребно, ты прислал нам мастеров. В этом случае я бы желал убедить тебя особенно озаботиться о том, чтобы из них были такие, которые знали бы устройство фундамента на сводах. Ибо мне известно, что выстроенное так здание прочнее, чем то, которое утверждается на столбах. Недостаток же леса наводит нас на такую мысль: покрыть все здание черепицею, так как в этих местах нет материала, годного для кровель. Да поверит нелживая душа твоя, что тридцать здешних мастеров соглашались построить квадратное здание по златнице на день, с придачей, разумеется, к златнице и условленной пищи. У нас же нет другого каменного материала, кроме кирпича из обожженной глины, только это вещество и будет употреблено на постройку и еще случайно попадающиеся камни, так что нет никакой нужды тратить время на обработку лицевой стороны камней для приличного соединения их друг с другом.
Относительно опытности в искусстве и умеренности цен я узнал, что здешние лучше тех, которые приходили сюда торговаться по случаю нашего дела. А труд каменотесов нужен не только для восьми колонн, которые надлежит украсить и привести в лучший вид, но требуется такой же труд и для оснований колон, имеющих вид жертвенника, и для капителей, которые должно обделать в коринфском стиле. Вход будет из мраморных камней, обделанных с приличными украшениями. Над входами помещаются ниши с какими–нибудь отчетливо по выступу карниза выполненными рисунками, как это обыкновенно бывает. Для всего этого материал, очевидно, будет нами приготовлен, но форму этому материалу даст искусство. К тому же во внешней галерее (перистиле) будет не менее сорока колонн, и эти вообще подлежат обработке камнетесов. Итак, если моя речь точно объяснила это дело, то да будет возможно твоему благочестию по усмотрении, в чем состоит это дело, успокоить нас во всем относительно мастеров. Если же мастер вознамерился договариваться с нами, то пусть определит, если возможно, ясно меру дневной работы, дабы он, если проведет время без дела, после сего, не в состоянии будучи доказать производительством работы, что он именно во столько дней совершил работу, не стал требовать платы за дни, в которые не было работы. Я знаю, что многие сочтут нас какими–нибудь мелочными людьми за то, что мы с такою точностью определяем условия. Но убедись согласиться со мною. Потому что этот Мамон, много и часто слышавший о себе худых от нас отзывов, наконец, переселился от нас очень далеко, возненавидевши, думаю, постоянные над собою насмешки. И какою–то непроходимою пропастью, то есть бедностью, отгородил себя от нас, так что ни он к нам, ни мы к нему не можем переходить. Потому–то для меня очень важна уступчивость в цене мастеров, чтоб она могла дать нам возможность выполнить предположенное намерение без всякого препятствия со стороны бедности — этого похвального и достожелаемого зла. Однако к этим речам примешивается небольшая часть шутки. «Ты же, о человече Божий» (1 Тим. 6:11), так условившись с людьми, как возможно и законно, объяви смело всем им от нас благорасположение и выдачу условленной платы. Мы отдадим все без остатка, когда Бог по молитвам твоим отверзет и нам руку благословения.
26. Софиста Стагирия к Григорию епископу
1. Всякий епископ — существо трудноуловимое (δυσγριπιστον). Ты же, насколько всех превосходишь красноречием, настолько больше мне внушаешь страх, что в ответ [на мою просьбу] противостанешь во всеоружии. 2. Но, оставив искусство спора, изыщи, о дивный, возможность поделиться, и если мы просим стропила для крыши дома (другой софист сказал бы, скорее, «опоры» (καμακας) или «подпоры» (χαρακας), больше украшая словами речь, чем руководствуясь необходимостью), даруй дар стократный. Ведь ты, хоть бы из рая захотел его доставить, смог бы. Мне же, если ты не дашь, придется зимовать под открытым небом. Будь же великодушен, о дивный, и пошли письмо к пресвитеру Осиен с распоряжением о даре.
27. Ответ святого Григория софисту
1. Если «уловить» (γριπιζειν) значит «обогатиться» и это значение имеет слово, которое Твоя софистическая Премудрость предложила нам, [извлекши] из недоступных [глубин] Платона, то подумай, о дивный, кто более «неуловим» (αγριπιστος): мы, так так легко лишаемые подпор (αποχαρακουμενοι) посредством письменной премудрости, или род софистов, владеющих искусством словесного мытарства (το τελονειν). 2. Ибо кто из епископов обложил слова налогом? Кто брал плату с учеников? Этим славятся софисты, сделавшие собственное искусство предметом купли, как пряники у медоваров. 3. Видишь, что делаешь ты тайной своей и музыкальной силой слов, что и меня, старца, заставляешь скакать, и неискушенных в пляске к пляске побуждаешь?
4. Я же тебе, в [повседневных] делах мидийские шествия представляющему, распорядился дать стропила по числу воинов, сражавшихся в Фермопилах, все хорошего размера и, как говорит твой Гомер, «длиннотенные», о которых означенный святой [отец] сообщил, что отправил их в целости и сохранности — то есть не десять и не двадцать тысяч, а столько, сколько, попросив, легко использовать, а взяв — отдать.
28.
1. Любители роз, как и свойственно ценителям красоты, не изъявляют негодования на шипы, среди которых вырастает цветок. Мне даже довелось слышать, что кто–то в шутку или вправду говорил о розах нечто в этом роде, а именно: как влюбленным — терзания любви, так и природа цветка дала [ему] эти тонкие иглы, неуязвляющими шипами возбуждая в срывающем цветок еще большее к нему вожделение. 2. Но что значит это упоминание о розе в моем письме? Конечно, нет нужды толковать это тебе, помнящему собственное свое письмо, которое содержало в себе цвет твоего слова, распустившись для нас целой весной сладкоречия, но в то же время как иглами укололо меня некоторыми упреками и обвинениями. 3. Впрочем, мне в радость и шипы твоих писем — они воспламеняют во мне еще большее желание твоей дружбы. Так что пиши, и все время пиши, как тебе угодно будет это делать: хочешь — превознося, как свойственно тебе, а хочешь — слегка раздражая упреками.
4. Нашей же заботой будет никогда не подавать тебе законного повода для порицания, как и сейчас мы его тебе не подавали, перед отбытием нашим в [страны] утренней зари сделав для тебя все, что тебе было угодно и полагалось по справедливости. И [всему] этому свидетель — почтеннейший и близкий нам брат Евагрий (который тоже очень желал этого письма и все твои поучения воспринял — по случаю, мы были вместе): и нашему радению о справедливости в устроении твоих дел, и [нашей] благодарности за все случившееся.
29. Брату своему Петру, епископу Севастии
1. Едва улучив малое [время] для досуга и лечения тела после моего возвращения из Армении, я смог сосредоточиться и собрать [свои] памятки против Евномия, которые по воле Твоей Разумности я надиктовал. Так что мне остался только труд отделки слова, и слово уже станет готовой книгой. 2. Однако я написал [ответ] не на оба слова, мне не хватило времени, поскольку тот, кто одолжил мне еретическую книгу, весьма невежливо затребовал ее назад, не дав мне ни [возможности] переписать, ни времени поработать. Итак, располагая только пятнадцатью днями, я не мог в столь сжатые сроки ответить на оба слова. 3. И поскольку часто докучали мне люди, имеющие некую ревность об истине, и не знаю, каким образом распространился слух, что я написал отповедь хулению, я счел наилучшим прежде всего воспользоваться советом Твоей Разумности [на предмет], следует ли мне довериться тому, что я слышу от многих, или принять некое иное решение. 4. А сомнение мне внушает вот что: слово Евномия я получил сразу после кончины святого Василия, когда душу еще жгло горе и она болезновала о несчастье всей Церкви, а у Евномия было написано не только то, что составляло суть его убеждений, но более всего он изощрял перо в брани против отца нашего. Поэтому я, раздраженный дерзостью сказанного им, обнаружил [в своем ответе] некий гнев против [самого] сочинителя и уязвленность сердца. 5. И поскольку большинство знает нас совсем с другой [стороны]: что мы привыкли терпеливо сносить нападки поносящих нас [и что мы], следуя наставлениям этого святого, насколько возможно, воспитали в себе умеренность нрава, я боюсь, как бы из написанного нами мы не показались читателям какими–то незрелыми по той причине, что легко раздражаемся от дерзостей гордецов. 6. Тем не менее, если мы и покажемся такими, нас, может быть, извинит то, что мы гневаемся из–за сказанного не о нас, а об отце нашем. Ведь в таких [случаях], пожалуй, умеренность в гневе непростительнее.
7. Если начало слова покажется в некотором роде не относящимся к делу, я думаю, что тот, кто рассмотрит это слово рассудительно, вынесет о нем такое суждение. Не следовало ни оставлять мнение великого [мужа] на поругание супостату без всяких возражений, ни к [своему] слову примешивать спор с ним, возобновляя его то тут, то там. Поскольку слово противника преследовало две цели: оклеветать нас и оспорить здравое учение (δογμα), следовало, чтобы и наше слово давало соответствующий отпор. 8. И ради ясности, а также ради того, чтобы связность исследования учений не перебивалась возражениями на его клевету, по необходимости разделив предмет на два, сначала мы предприняли защиту против возводимого на нас, а затем, по возможности, возразили на сказанное против учения. 9. Слово содержит не только опровержение еретических мнений, но и наставление и изложение нашего учения. Ибо мы сочли для себя постыдным и совершенно неблагородным не решаться говорить правду, притом что враги не скрывают нелепости [своего учения]. 10. Да хранит тебя Господь для Церкви в крепости душевной и телесной.
30. Петра, епископа Севастийского, к Григорию Нисскому, брату его
1. Боголюбивейшему брату Григорию Петр [желает] о «Господе радоватися» (Деян. 15:23). Получив письмо Твоего Преподобия и увидев в слове против ереси также ревность о святом отце нашем, я подумал, что это труд не твоей силы, но Того, Кто домостроительно дозволил, чтобы истина Его возвещалась Его рабами. 2. И подобно тому, как говорю я, что это слово в защиту истины по справедливости следует приписать Самому Духу истины, точно так же мне кажется, что борение против «здравой веры» (ср. Тит. 2:2) не Евномию [принадлежит], но самому «отцу лжи» (ср. Ин. 8:44). 3. И похоже, что «искони человекоубийца» (ср. Ин. 8:44), его устами глаголавший, сам против себя изострил меч. Ибо если бы он не осмелился с такой [дерзостью] выступить против истины, никто бы не подвигнул тебя на беседу об учении благочестия. «Запинаяй премудрым в коварстве их» (1 Кор. 3:19:ср. Иов 5:12) устроил [так], чтобы слабость и несостоятельность учения их обличилась и [чтобы] «шатались» они в истине и «тщетным поучались» (ср. Деян. 4:25; Пс. 2:1) в «тщетном» этом сочинении. «Начный дело благо, совершит е» (Флп. 1:6) — да не ослабеешь ты, служа «силе Духа» (Лк. 4:14), да не оставишь несокрушенной дерзости воюющих против славы Христовой, но подражай благородному отцу твоему, который, подобно ревнителю Финеесу (ср. Чис. 25:8), единым ударом обличения поразил и ученика, и учителя. Так и ты словом, [как] рукой, на обе еретические книги воздвигни мощно «меч духовный» (Еф. 6:17), чтобы змея, «глава» которой «сокрушена» (Пс. 73:14), судорожными движениями хвоста не пугала неискушенных. 4. Ведь если первая [часть] сочинения изобличена, а последняя остается неисследованной, большинство будет считать, что оно имеет еще некую силу против истины. 5. А выказанный в [твоем] слове гнев доставит чувствилищам души приятность соли. И как не «снестся», по [слову] Иова, «хлеб без соли» (Иов 6:6), так и сочинение было бы лишено [силы] удара и бездейственно, если бы не было сдобрено жгучими словами Божиими. 6. Итак, дерзай, соделавшись прекрасным примером для будущей жизни, поучая, как следует благоговейным детям вести себя в отношении добрых отцов. Если бы святой еще не расстался с человеческой жизнью, а ты бы с таким рвением ополчился на противников его мнения, то, возможно, ты и не избежал бы [ложных] обвинений в том, что ведешь себя как льстец. Но сейчас твоя ревность об ушедшем и негодование против врагов его обнаруживают благородство и правдивость души, и все, сколько есть у тебя, благорасположение к тому, кто в муках духовных схваток произвел тебя на свет. Будь же здрав.
Дополнения
В настоящее время ряд ученых приписывает св. Григорию Нисскому письма 38 и 124 св. Василия Великого, греческий текст которых тем не менее по–прежнему включается в корпус писем св. Василия (Еd. Y. Соurtonne. Vоl. 1. Рaris, 1957. Р. 81–92; Vol. 2 Раris, 1961:Р. 29—30). С этим изданием и сверен перевод, по нему же дается нумерация глав и страниц.
Письмо 38
1. Поскольку многие в таинственных догматах, не делая различия между сущностью, [которая является] общей, и понятием ипостасей, сбиваются на одно и то же значение и думают, что безразлично: сказать «сущность» или «ипостась» (почему некоторым из употребляющих слова эти без разбора и вздумалось утверждать, что если сущность одна, то и ипостась одна, и напротив, признающие три ипостаси думают, что вследствие такого исповедания следует допустить и разделение сущностей на соответствующее число). По этой причине, чтобы и тебе не впасть во что–либо подобное, на память тебе вкратце составил я об этом слово. Итак, чтобы представить в немногих [словах], содержание названных [понятий] таково.
2. Среди всех имен одни, применяемые к большинству вещей, различающихся числом, имеют некое общее значение, таково, например, имя «человек». Ведь произнесший это слово, обозначив наименованием общую природу, не определил этим высказыванием одного какого–нибудь человека, собственно обозначаемого этим наименованием, потому что Петр не больше есть человек, чем Андрей, Иоанн или Иаков. Поэтому общность обозначаемого, равно распространяющаяся на всех подводимых под то же наименование, нуждается во вспомогательном разделении, с помощью которого мы познаем не человека вообще, но Петра или Иоанна. (82) Другие же имена имеют значение частное, под которым подразумевается не общность природы в обозначаемом, но описание какого–либо предмета по отличительному его свойству не имеющее даже малой общности с однородным ему предметом, таково, например, имя Павел или Тимофей. Ибо такое слово никак не относится к общему естеству, но посредством имен представляет понятие о некоторых определенных предметах отделив их от собирательного значения.
Поэтому, когда вдруг взяты двое или более, например: Павел, Силуан, Тимофей, — тогда требуется [составить] понятие о сущности людей, потому что никто не даст одного понятия о сущности в Павле, другого в Силуане и третьего — в Тимофее, но какими словами обозначена сущность Павла, те же слова подойдут другим, ибо подведенные под одно понятие сущности между собою единосущны. Когда же, изучив общее, обратится кто к рассмотрению отличительного, чем одно отделяется от другого, тогда уже понятие, ведущее к познанию одного предмета, не будет во всем соответствовать понятию о другом предмете, хотя в некоторых чертах и найдется между ними нечто общее.
3. Поэтому мы говорим так: именуемое собственно выражается словом «ипостась». Ибо тот, кто произнес [слово] «человек», неопределенностью значения передал слуху некое широкое понятие, так что, хотя из этого наименования видно естество, но им не обозначен подлежащий и собственно именуемый предмет. А произнесший [слово] «Павел», в обозначенном этим наименованием предмете, указал надлежащее естество. Итак, «ипостась» есть не неопределенное понятие сущности, по общности обозначаемого ни на чем не останавливающееся, но такое понятие, которое изображает и описывает общее и неопределенное в каком–либо предмете при помощи видимых отличительных свойств. Так и Писание обычно это делает, как во многих других случаях, так и в истории Иова. Ибо, приступая к повествованию о нем, [Писание], сперва помянув общее и сказав «человек» (Иов 1:1), потом отделяет [его] тем, что составляет его особенность, прибавляя [слово] «некий». Описание сущности [Писание] обошло молчанием, поскольку оно бесполезно для поставленной цели слова, понятие же «некий» оно наделяет отличительными чертами, называя место, особенности нрава и все те извне заимствованные [признаки!, которыми оно хотело отделить его от общего значения, что описание лица, о котором повествуется, было четким по всему: и по имени, и по месту, и по душевным свойствам, и по тому, что наблюдается вне его. А если бы излагало оно понятие сущности, то при изъяснении естества не было бы никакого упоминания о сказанном, потому что понятие было бы одно и то же и в отношении Валдада Савхейского, и Софара Минейского (ср. Иов 2:11), и любого из упомянутых там людей.
Поэтому какое понятие приобрел ты о различии сущности и ипостаси в нас, то же перенеси и в божественные догматы и не погрешишь. Что представляет тебе когда–либо мысль о существе Отца (ибо душа не может утверждаться на одной отдельной мысли, будучи уверена, что существо это выше всякой мысли), то же представляй себе и о Сыне и то же самое — о Духе Святом. Понятие несозданного и непостижимого есть одно и то же в отношении и Отца, и Сына, и Святого Духа. Не больше непостижим и несоздан один и не меньше — другой. Но когда в отношении Троицы нужно по отличительным признакам составить себе неслитное различие, тогда к определению отличительного возьмем не вообще представляемое, каковы, например, несозданность, или недосягаемость никаким понятием, или что–нибудь подобное этому, но будем искать того одного, чем понятие о каждом ясно и не смешиваясь отделяется от созерцаемого вместе.
4. Поэтому, мне кажется, это понятие прекрасно раскрывается таким образом. Всякое благо, нисходящее к нам от Божией силы, мы называем действием (ενεργεια) все во всех производящей благодати, как говорит апостол: «вся же сия действует един и тойжде Дух, разделяя коемуждо якоже хощет» (1 Кор. 12:11). Но вникая, от одного ли Святого Духа восприяв начало, подаяние благ таким образом нисходит к достойным, опять–таки по указанию Писаний мы веруем, что «Единородный» Бог есть начальник и виновник подаяния благ, открывающихся в нас по действию Духа. Ибо святое Писание учит нас о Единородном, что «вся Тем быша» (Ин. 1:3) и «всяческая в Нем состоятся» (Кол. 1:17). Итак, когда приведены мы к этой мысли, опять–таки богодухновенным руководством ведомые, научаемся, что, хотя той самой силой приводится все из небытия в бытие, однако же и ею не безначально, но есть некая Сила нерожденно и безначально сущая, и Она–то есть причина причины всего сущего. Ибо от Отца Сын, чрез Которого все [получило бытие] и с Которым всегда неразлучно связано представление о Духе Святом. Не может и помыслить о Сыне не осиянный [прежде] Духом. Итак, поскольку Дух Святой, от Которого источается на творение всякое подаяние благ, как соединен с Сыном, с Которым нераздельно воспринимается, точно так же имеет бытие, зависимое от Причины — Отца, от Которого Он и исходит, то отличительный признак ипостасного Его свойства есть тот, что по Сыне и с Сыном познается, и от Отца имеет бытие. Сын же Который Собою и вместе с Собою дает познавать Духа, исходящего от Отца, один единородно воссияв от нерожденного Света, по отличительным Своим признакам не имеет ничего общего с Отцом или с Духом Святым, но один познается по упомянутым свойствам. А Сущий над всеми Бог один имеет тот преимущественный признак Своей ипостаси, что Он — Отец, и бытие Его не от какой–либо причины, и, опять–таки, по этому признаку Он собственно и познается.
По этой–то причине мы и говорим, что в общем понятии сущности не слитны и не объединены признаки, созерцаемые в Троице, какими выражается отличительное свойство Лиц, о Которых учит нас вера, потому что каждое Лицо представляется нами отличным по собственным Его признакам, так что по упомянутым признакам познано различие ипостасей. А что касается бесконечности, непостижимости, несозданности, необъ–емлемости пространством и всего тому подобного, то нет никакого различия в животворящем Естестве, я имею в виду Отца, Сына и Духа Святого, но созерцается в Них некое непрерывное и нерасторгаемое общение. И в каких понятиях сможет кто представить себе величие одного из Лиц, исповедуемых во Святой Троице, с теми да приступает — без различий — к созерцанию славы во Отце, Сыне и Духе Святом, не блуждая мыслью ни по какому промежутку между Отцом, Сыном и Святым Духом. Ибо нет ничего между ними вставного, ни чего–либо самостоятельного и отличного от Божия естества, так чтобы естество это могло быть отделено Само от Себя вставкой постороннего, нет и пустоты какого–либо ненаполняемого пространства, которая бы приводила перерывы в единении Божией сущности с самой Собою, разделяя непрерывное пустыми промежутками. Но кто представил в уме Отца, тот представил и Его в Нем Самом и вместе охарактеризовал мыслью Сына. А кто имеет в мысли Сына, тот не отделяет от Сына и Духа, но относительно порядка — последовательно, относительно же естеству — соединенно, запечатлевает в себе воедино слитную веру в три Лица. И кто назвал только Духа, тот в этом исповедании объемлет и Того, Чей это Дух. Поскольку же «Дух Христов» (Рим. 8:9) «Дух от Бога», как говорит апостол Павел (1 Кор. 2:12), то как взявший за один конец цепи влечет и другой ее конец, так, по слову пророка, «привлекший Дух» (Пс. 118:131) чрез Него привлекает вместе и Сына и Отца. И кто истинно приимет Сына, тот будет иметь Его в себе, обоюдопроизводящего и Отца Своего, и собственного Своего Духа. Ибо не может быть отсечен от Отца всегда в Отце Сущий, и никогда не отделится от собственного Духа все о Нем производящий. Точно так же, кто принял Отца, тот в действительности принял вместе и Сына и Духа. Ибо невозможно представить мысленно какого–либо отсечения, или разделения, так чтобы или Сын мыслим был без Отца, или Дух отделяем от Сына, а, напротив того, находим между Ними некое невыразимое и непостижимое как общение, так и различение, и ни разность ипостасей непрерывности естества не расторгает, ни общность сущности отличительных признаков не устраняет.
Но не удивляйся, если мы говорим, что одно и то же и соединено, и разделено, и если представляем мысленно, как бы в гадании, некое новое и необычайное как разделение соединенное, так и разделенное единение. Ибо кто выслушает слово не с намерением оспаривать и осмеивать его, тому и в чувственном [мире] можно найти нечто подобное.
5. И вы примите мое слово как подобие и тень истины, а не как саму действительную истину. Ибо невозможно, чтобы представляемое в подобиях было во всем сходно с тем, для изображения чего берется.
Итак, на каком же основании мы говорим, что являющееся нашим чувствам представляет нам некое подобие разделенного и вместе соединенного? Видел ли ты когда–нибудь весной сияние дуги в облаках? Я имею в виду ту дугу, которую по общему словоупотреблению мы привыкли называть радугой. Знатоки говорят, что она появляется, когда в воздухе растворена какая–то влага, когда сила ветров все влажное и сгущенное в испарениях, образовавшее уже облака, превратила в дождь. А [радуга] получается, говорят, таким образом. Когда солнечный луч, наискось проходя густоту и мглу облаков, потом прямо упрется своим кругом в некое облако, тогда происходит как бы перегиб и возвращение света на самого себя, потому что свет от влажного и блестящего идет назад в противоположную сторону. Поскольку же отблески пламени по природе имеют свойство, попадая на что–либо гладкое, отражаться и поскольку лучи [солнца] на влажном и гладком воздухе оставляют круговидное изображение, то по необходимости и на прилежащем к облаку воздухе отсвечивающее сияние описывает нечто подобное образу солнечного круга. Таким образом, один и тот же свет и непрерывен в себе, и разделен. Будучи многоцветным и многовидным, он незаметно окрашивается различными цветами утаивая от наших взоров переход от одного цвета к другому, так что между голубым и огнистым цветом, или между огнистым и пурпуровым, или между этим последним и янтарным невозможно распознать середины, в которой смешиваются и отделяются один от другого разные цвета. Ибо отблески всех [цветов], видимые вместе, лучезарны и, скрадывая признаки взаимного соприкосновения, остаются неразличимыми, так что невозможно найти, где оканчивается огнистый или изумрудный луч в радуге и где начинает быть не таким уже, каким видим в лучезарном [сиянии].
Поэтому, как в этом сравнении, мы и ясно распознаем различия цветов, и не можем различить чувственно разницы между одним цветом и другим, так рассуждаем и о возможности представлять нечто подобное относительно божественных догматов. Хотя ипостасные свойства, подобно [каждому] цвету из видимых в радуге, сияют в каждом из исповедуемых во Святой Троице Лиц, однако же в рассуждении естественного свойства невозможно представить никакой разницы у одного Лица с другим, но при общей сущности в каждом Лице сияют отличительные свойства. Ибо и там, в сравнении, одна была сущность, имеющая это многоцветное сияние и лишь преломляемая в солнечном луче, но цвет явления многовиден.
Так и чрез творение учит нас разум не находить странным учение о догмате, когда, встретив трудное для понимания, мы придем в недоумение, соглашаться ли на сказанное. Как в случае видимого для глаз оказалось, что опыт лучше понятия о причине, так и в догматах, превышающих разум, в сравнении с тем, что постигает рассудок, лучше вера, которая учит нас о раздельном в ипостаси и о соединенной сущности. Итак, поскольку слово наше открыло в Святой Троице и общее, и отличительное, то понятие общности возводится к «сущности», а «ипостась» есть отличительный признак каждого Лица.
6. Но может быть, кто–нибудь подумает, что предложенное понятие об ипостаси не согласно со смыслом апостольского писания, где апостол говорит о Господе, что Он «сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр. 1:3). Ибо, если ипостасью назвали мы совокупность отличительных свойств, созерцаемых в Каждом, и как об Отце признаём, что есть нечто собственно в Нем созерцаемое, чрез то Он один познается, так то же самое исповедуем и о Единородном, то как же Писание в этом месте наименование ипостаси приписывает одному Отцу, а Сына называет образом ипостаси, который обозначается не собственными Своими, а Отеческими чертами? Если ипостась есть отличительный знак бытия Каждого и собственностью Отца признается — быть нерожденным, Сын же изображает в Себе отличительные свойства Отца, чтобы Он один по преимуществу именовался нерожденным, если только тем, что отличает Отца, обозначается бытие Единородного.
7. Но мы утверждаем, что здесь слово апостола выполняет другую цель, имея в виду которую, употребил он эти слова: «сияние славы и образ ипостаси». И кто со вниманием постиг эту цель, тот найдет не что–либо противоречащее сказанному нами, а только то, что речь направлена к какой–то особенной мысли. Ибо апостольское слово рассуждает не о том, как ипостаси различать между собой по видимым признакам, но о том, как понять соприродность, неотлучность и единение в отношении Сына к Отцу. Таким образом, он не сказал: «иже сый» слава Отца (хотя это действительно так), но, оставив это, как всеми признаваемое, научая же не представлять иного образа славы в Отце, иного в Сыне, определяет, что слава Единородного есть сияние самой славы Отца, подобием света приводя к тому, чтобы Сына представлять неразлучно с Отцом. Ибо как сияние, хотя от пламени, однако не позднее пламени, но и пламя вспыхивает, и свет от него начинает сиять, так, по требованию апостола, следует представлять и Сына от Отца, не отделять Единородного каким–нибудь разлучающим расстоянием от бытия Отца, но вместе с Причиной представлять всегда и сущее от Нее. Поэтому таким же образом, как бы истолковывая предложенную сейчас мысль, называет и «образом ипостаси», вещественными сравнениями направляя нас к постижению невидимого. Ибо, как тело непременно имеет очертания и понятие тела; и кто Дает определение одного из этих двух, тот не начинает еще определения другого; между тем хотя в уме и отделяешь очертание от тела, однако же природа не допускает разделения, но одно с другим представляется соединенным, так, считает апостол, следует понимать, что учение веры, хотя и научает нас Неслиянному и нераздельному понятию ипостасей, однако же в приведенном месте изображает неразрывность и как бы нераздельность Единородного с Отцом не потому, что Единородный не имеет ипостаси, но потому, что в единении Своем с Отцом не допускает ничего промежуточного. Потому устремивший душевные очи на образ Единородного имеет мысль об ипостаси Отца, не вследствие изменения или смешения созерцаемых в Них отличительных свойств, или в Отце представляя рожденность или в Сыне нерожденность, но потому что оставшийся по отделении Одного от Другого не может быть представляем один Сам по Себе. Ибо невозможно, чтобы назвавший имя Сына не имел мысли об Отце, потому что это наименование указывает и на Отца.
8. Итак, поскольку «видевый Сына видит Отца», как говорит Господь в Евангелии (Ин. 14:9), потому и сказано, что Единородный есть «образ ипостаси» Отчей. И чтобы лучше понять эту мысль, добавим и другие изречения апостола, в которых называет он Сына «образом Бога невидимого» (Кол. 1:15) и еще образом благости Его, не в том смысле, что образ различен от первообраза относительно к невидимости и благости, но желая показать, что Сын тождествен с первообразным, хотя и Иной, потому что не сохранилось бы понятие образа, если бы не имел Он во всем ясного и без различий тождества. Следовательно, представивший себе доброту образа имеет уже мысль о первообразе. И кто охватил мыслью как бы образ Сына, тот отпечатлел в себе и образ Отчей ипостаси, в последнем созерцая и первый, не потому что в изображении видит нерожденность Отца (в таком случае оно было бы всецело тождественным, а не иным), но потому, что нерожденную Доброту созерцает в рожденной. Ибо как всмотревшийся в изображение лица, представившееся в чистом зеркале, получает ясное познание об изображаемом лице, так познавший Отца с самим этим познанием Сына принял в сердце образ Отчей ипостаси. Ибо все, что принадлежит Отцу, созерцается и в Сыне, и все, что принадлежит Сыну, принадлежит и Отцу, потому что всецелый Сын в Отце пребывает и опять–таки имеет в Себе всецелого Отца. Так что ипостась Сына служит как бы образом и лицом к познанию Отца, и ипостась Отца познается в образе Сына, тогда как остается видимое в Них отличительное свойство к ясному различению ипостасей.
74. Феодору
О страстно влюбленных, когда те разлучаются в силу какой–нибудь непреодолимой неизбежности, некоторые говорят, что если они посмотрят на изображение любимого лица, то уже этим услаждением очей утоляют мучительную тоску. Не могу сказать, правда это или нет, но примерно то же происходит со мной в отношении к Твоей Благости. Ибо во мне возродилось некое, я бы сказал, любовное влечение к святой и нелживой душе твоей, а насладиться вожделенным, как и всяким другим благом, возможности не имею, потому что этому противятся грехи мои. Поэтому подумал я, что в лице благоговейнейших братий наших вижу я самый явственный образ Твоей Благости. А если бы довелось мне без них встретиться с Твоим Благородием, то я решил бы, что в тебе вижу и их. И это потому, что в каждом из вас такая мера любви, по которой все вы обнаруживаете в себе равное стремление преуспевать в ней все больше и больше. За это возблагодарил я Святого Бога и молю Его, чтобы, если остается мне еще сколько–нибудь времени для жизни, она сделалась для меня приятной благодаря тебе; ныне же, разлученный с любезнейшими мне, я считаю жизнь свою и жалкой, и несносной. Ибо у разлученного с истинно любящими, по моему мнению, нет повода для благодушия.
Плач и моление ко Христу
По: Собрание творений. СПб., тип. Сойкина, — репринт ТСЛ, 1994:с. 109–111. Где отмечено, текст перед номером соответствующей страницы.
1
Увы мне! Спешу к небу, к Божией обители; но меня держит эта плоть: нет мне выхода из многоскитальческой жизни, из ненавистного греха, который привязал меня к дольнему, отвсюду оглушая внезапными заботами, поядающими красоту и дарования души. Но Ты, Царь, разреши, разреши меня от земных уз и вчини в небесное ликостояние!
2
Матерь моя, для чего ты родила меня, когда родила на труды? Для чего извела в эту жизнь, усеянную терниями? Если сама ты жила беспечально, как бесплотная; то это — великое чудо. А если и ты страдала; то не из любви ко мне родила меня. Всякий идет своею стезею жизни: иной — земледелец, а другой — мореплаватель; иной — какой–нибудь зверолов, а другой вооружил руку копьем; иной — искусный певец, другой — победитель на поприще. Но мой жребий — Бог; мой удел — терпеть множество скорбей, изнемогать здесь от мучительной болезни. Терзай, терзай меня, злодей, до времени! Скоро с радостию оставлю тебя, а с тобою и все тяжкие бедствия.
Матерь моя, для чего ты родила меня, когда не могу ни мыслию постигнуть, ни изречь Бога, сколько желаю? Осияло, правда, очи ума моего малое какое–то озарение пренебесной, равносветлой Троицы; но большая часть (к скорби моей) ускользнула от меня, пролетев быстро, как молния, прежде нежели насытился я светом. А если бы здесь мог я постигнуть Тебя, возлюбленная Троица; то не стал бы жаловаться на родившую меня утробу матери: это значило бы, что я родился в добрый час. Но спаси, спаси меня, Божие Слово; и извлекши из горькой тины, веди в иную жизнь, где чистый ум, не покрываемый более примрачным облаком, ликует пред Тобою, о Пресветлый!
3
О, я несчастный! Что будет со мною? Могу ли как избежать пороков, укрыв жизнь в глубинах или в облаках? Говорят, что есть страна, где нет ни зверей, ни болезней; о, если бы нашлось где место, свободное от греха, чтобы мне туда убежать! На сушу укрылся иной от тревожного моря, другой спасся под щитом от копья и под крышею дома–от хладного снега. А грех всесторонен — обширное и неизбежное царство. Илия на огненной колеснице взошел на небо. Моисей избежал некогда определения детоубийцы–мучителя. Невинный Иона спасся от безвестной смерти в китовом чреве. Даниил избавлен от зверей, а отроки — от пламени. Но мне как избыть от греха? Ты спаси меня, Царь мой Христос!
4
Увы мне, Христос мой! опять пришел ко мне змий. Увы мне! пришел ко мне, весьма устрашенному. Увы мне! я вкусил с этого древа познания. Увы мне! зависть уверила меня, что мне завидуют. Богом не стал я — и изринут из места наслаждения. Угаси несколько, о меч, палящий твой пламень и опять приими меня под сень райских дерев, как разбойника, который взошел туда со Христом с крестного древа!
5
Увы! тесно мне в этом мире; знаю, что большая часть жизни протекла, и от меня пахнет уже мертвецом; а пороки мои не хотят истребляться вместе с летами жизни. Или продли время мое, Дыхание человеков, или избавь меня от зол! Это–дело Твоей благости. А если не угодно сие Тебе; то уже я мертв. Чего же еще больше? Разве ждет меня милосердный огонь?
6
Увы! тесно мне и в жизни, и при конце жизни. Здесь грех, а там наказание. Стою в средине, боясь огненной реки.
— 110 Надеюсь больше на Тебя, Христос, нежели на здешние подвиги. Если бы у меня была возможность, хотя несколько, очиститься; это было бы всего лучше. Но если непрестанно умножается во мне зло; то пора разрешиться, пока не постигла меня худшая участь.
7
Какое это принуждение! Вступил я в жизнь? — прекрасно! Но для чего же обуреваюсь треволнениями жизни? Скажу слово: оно смело, однако же скажу его. Если бы не твой был я, Христе, мне стало бы это обидой. Мы родимся на свет, утомляемся, насыщаемся, спим, бодрствуем, ходим и бываем больны и здоровы; есть у нас и удовольствия, и труды. Но временами года и солнцем наслаждается и все, что есть на земле. А умирают и согнивают телом и скоты, которые, правда, презренны, но не подлежат и ответственности. В чем же мое преимущество? Ни в чем, кроме Бога; и если бы не Твой был я, Христе, мне стало бы это обидой.
8
Обманулся я, Христе мой, и, чрез меру понадеявшись на Тебя, занесся высоко — и очень глубоко ниспал. Но опять подними меня вверх; ибо сознаю, что сам себя ввел я в обман. А если опять превознесусь; то пусть опять паду, и падение мое да будет сокрушительно! Если Ты меня приимешь, я спасен; а если нет, то я погиб. Но ужели для меня одного исчерпана Твоя благость?
Плач о себе самом
1
Увы, увы! какие страдания! В чем согрешил я? Или один касаюсь чистых жертв Твоих непреподобно? Меня ли Ты, Очиститель, пережигаешь страданиями или сокращаешь кичливость других, или для того обнажаешь меня, чтобы вывести в борьбу с противником? Все это распределяешь Сам Ты, Царь мой — Слово. Но я едва перевожу на земле последнее дыхание; выплакал все слезы; одно у меня занятие — плакать. Долго ли же оставаться мне в руках нечестивых? Но ты, Блаженный, восставь меня; пусть я худ, однако же священник; восставь, чтобы не соблазился кто–нибудь моими бедствиями! Утратилась моя похвала; да исчезнут и телесные скорби! Утра-
— 111 чена для меня Анастасия; да прекратится и грех! Увы! увы! слезы мои не пересыхают, сердце цепенеет в груди. Удержи, Царь, сугубую болезнь! Удержи болезнь — я погибаю. Ужели милосердие заключено для одного служителя Твоего Григория? Многими бедствиями и телесными скорбями сокрушен я. А у Тебя, Христе, есть благодать, у Тебя, Который пережигаешь меня страданиями. Или останови бедствия и умилосердись над рабом Твоим; или дай силу переносить все с твердым духом!
2
Христос, Свет человеков, Столп огненный душе Григориевой, блуждающей по пустыне горестной жизни, удержи зломысленного Фараона и бесстыдных приставников; избавь меня от невяжущегося брения и от тяжкого Египта, смирив позорными казнями моих неприятелей, и даруй мне гладкий путь! Если же преследующий враг настигнет меня, рассеки для меня Чермное море, чтобы перейти мне по отвердевшим водам, поспешая в чудную землю, в мое достояние, как обещал Ты; останови широкие реки, отклони стремительное и стенящее копье иноплеменников! Если же взойду в святую землю; буду славословить Тебя немолчными песнопениями.
Царь мой Христос, для чего Ты опутал меня этими сетями плоти? Для чего вверг в жизнь — в этот холодный и тенистый ров, если, как слышу, действительно я бог и Твое достояние? Утратилась во мне крепость членов, не слушаются колена; меня расслабило время, сокрушила болезнь, изнурили заботы и друзья, расположенные ко мне недружелюбно. А грехи не хотят покориться; но еще сильнее наступают на меня, и изнемогшего, как робкого зайца или серну, окружают эти псы, желая насытить свой голод. Или останови бедствия и умилосердись; или приими меня к Себе после долговременных подвигов и положи меру скорбям; или благое облако забвения да покроет мои мысли!
3
Увы мне! изнемог я, Христе мой, Дыхание человеков! Какая у меня брань с супружницей–плотью! Сколько от нее бурь! Как долга жизнь, как долговременно пресельничество! Сколько борений и внутри и совне, в которых может повредиться красота Божия образа! Какой дуб выдерживает такое насилие ветров? Какой корабль сражается со столькими вол-
— 112 нами? Меня сокрушают труд и стечение дел. Не по своей охоте принял я на себя попечение о родительском доме. Но когда вступил в него; нашел расхищенным. Меня привели в изнеможение друзья, изнурила болезнь. Других встречают с цветами; а меня встретили камнями. У меня отняли народ, над которым поставил меня Дух. Одних чад я оставил, с другими разлучен, а иные не воздали мне чести. Подлинно, жалкий я отец! Те, которые со мною приносили жертвы, стали ко мне неприязненнее самых врагов: они не уважили таинственной Трапезы, не уважили (не говорю о чем другом) понесенных мною дотоле трудов (а их обыкли <привыкли. — Ред.> нередко уважать и порочные); они нимало не думают заглушить молву о нанесенных мне оскорблениях, но домогаются одного — моего бесславия.
4
Весьма много потерпел я бедствий и (что составляет верх бедствий) претерпел, от кого всего менее думал терпеть. Однако же я не потерпел ничего такого, что потерпят сделавшие мне зло. Мои страдания проходят, а их злые дела, сколько знаю, Правосудие записало в железные книги.
5
Друзья, сограждане, недруги, враги, начальники! много испытал я от вас тяжких ударов. Знаю, вы скажете: нет. Но это записано в книгах; не утаитесь от меня.
6
Моими страданиями и скорбями да не утешается порочный, и да не смущает слабого ума добрый! Кто без болезней соделал хорошего лучшим? А страждущий знает, что она или врачевство для оскверненных, или борьба и слава для очищенных. Другому, Царь, дай славу без трудов; а для меня вожделенно — приобрести Тебя страданиями и скорбями.
Слова и беседы
О нищелюбии и благотворительности. Слово 1
Предстоятель сей церкви и наставники неуклонного благочестия и добродетельной жизни имеют много сходства с учителями грамоте и наставниками в первоначальном чтении. Ибо как те, приняв от родителей, детей юных и еще нетвердых в речи, не тотчас приводят их к окончательным познаниям, но начертав сначала на восковой таблице альфу и следующие буквы, учат узнавать их имена и упражняют руку в их начертании: после сего ведут далее, к слогам, а за тем учат произношению слов: так и вожди церкви, приводя слушателя сначала к первоначальным учениям за тем преподают ему совершеннейшее знание.
Итак, поелику в предшествовавшие два дня мы обуздывали привязанность к наслаждениям гортани и чрева, то не подумайте, что и ныне я буду говорить о том же, — как хорошо отказаться от мяса и воздерживаться от смехолюбивого и шумливого вина, остановить усердие поваров и совершенно утомляющуюся руку виночерпия. Ибо об этом мною достаточно сказано; и вы делами показали действенность убеждения. Вам, изучившим первоначальное учение, хорошо постепенно передать прочие, высшие и более мужам приличные наставления.
Итак, есть пост и нетелесный, есть воздержание невещественное, относящееся к душе, — удержание себя от зла; его ради нам узаконено и то воздержание от яств. Итак, поститесь от злобы, воздерживайтесь от пожелания чужого, удерживайтесь от неправой корысти; умерщвляйте голодом сребролюбие мамоны; да не будет в доме дорогих украшений, от насилия и хищения. Ибо что пользы, если ты не подносишь к устам мяса, а угрызаешь брата злобою? Или какая выгода, если ты своего не ешь, а неправо взял принадлежащее бедному? Какое же это благочестие, если пия воду, уготовляешь коварство и жаждешь, по злобе, крови? Постился конечно вместе с одиннадцатью и Иуда, но, не укротив сребролюбивого нрава, не получил от воздержания никакой пользы во спасение. И диавол не ест, ибо он дух бестелесный; но по причине злобы он ниспал с высоты. Подобным образом и каждый из демонов ни кушанья не употребляет, ни в многопитии или пьянстве не может быть обвинен, ибо природа не дала им возможности принимать снеди. Однако ж, и ночью и днем блуждая по воздуху, они суть делатели и слуги злобы, и тщательно строят против нас козни. Они истаивают от зависти и ненависти, которых хорошо избегать, если мы, люди, хотим быть своими Богу, тогда как они испали из содружества с добром.
Итак, любомудрие да руководит образом жизни христиан, и душа да бегает пагубы зла. Ибо если, воздерживаясь от вина и мяс, мы виновны в грехах воли, то предсказываю, и наперед свидетельствую: не принесут нам никакой пользы вода, и овощи, и бескровный стол, если мы не имеем внутреннего расположения, подобного внешней видимости.
Пост узаконен для чистоты души; если же он оскверняется иного рода намерениями и действиями, то для чего напрасно тратим воду, которую пьем? Для чего возделывать эту несмываемую и чрезмерную грязь? Что пользы от телесного поста, если нечист ум? Ибо никакой нет пользы, если колесница прочна и упряжь в порядке, а возница не в своем уме. Что пользы в корабле, хорошо устроенном, если кормчий будет пьян? Пост — основание добродетели. Но как основание дома и дно корабля, хотя бы были весьма твердо положены, бесполезны и не имеют никакой цены, если следующее за тем в них построено неискусно: так и от воздержания сего нет никакой пользы, если к нему не приложатся, и за ним не последуют и прочие правые дела. Страх Божий да учит говорить ′что прилично, не говорить пустого. знать время и меру, и слово необходимое и ответ уместный: не говорить безмерно, не осыпать собеседников градом слов. Ибо потому нежнейшая из перепонок, прикрепляющая язык к нижней полости рта и называется уздою, чтобы не говорить беспорядочного и неблагопристойного: (язык) да благословляет, а не злословит, поет, а не поносит, хвалит, а не порицает. Опрометчивая рука да свяжется памятованием о Боге, как цепью. Мы потому постимся, что поношениями и заушениями оскорбили нашего Агнца пред пригвождением: итак мы ученики Христовы не поревнуем иудейскому обычаю.
Если мы так будем расположены, то Исаия скажет нам: «Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других» (Иса. 58:4.). Научись от того же пророка действиям искреннего и чистого поста «разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом» (ст. 6.7.). Настоящее время представляет нам большое обилие лишенных одежды и крова; ибо множество пленных находится у дверей каждого; и в странниках и пришельцах нет недостатка; везде можно увидеть протянутую просящую руку. Дом их — воздух под открытым небом; гостиницы — портики, улицы и пустыри на площадях. Подобно ночным воронам и совам, они скрываются в трущобах. Одежда их — изорванные лохмотья; земледелие—расположение милосердствующих; пища — что перепадет от кого–нибудь; питие, как бессловесным, — источники; сосуд для питья — пригоршни; кладовая — пазуха, и та если не разорвана, а удерживает влагаемое; стол — сжатые колена; постель—земля; баня—та, которую Бог устроил и дал всем вообще, — река или озеро. Жизнь их — скитальческая и дикая; не такова она была сначала, но стала таковою от несчастья и нужды.
Им помоги постящийся! О несчастных братьях позаботься! Что ты отнял у своего чрева, предложи алчущему. Страх Божий да будет справедливым уравнителем. Благоразумным воздержанием уврачуй два противоположный страдания: свое пресыщение и голод брата. Ибо так делают и врачи: одних истощают, других насыщают, чтобы чрез прибавление и отнятие (пищи) каждому сберечь здоровье. Послушайте доброго увещания; да отворит (наше) слово двери достаточных; совет наш да введет бедного к имущему.
Одно же слово да не обогатит нуждающихся: предвечное Слово Божие да даст им и жилище и одр и трапезу. Ласковым словом оплодотворяй употребление твоих стяжаний. Кроме сих, есть еще другие нищие, — больные и лежащие. Каждый пусть заботится о соседях. Не попускай, чтобы другой послужил твоему ближнему. Да не возьмет другой сокровища, тебе предложенного.
Обними несчастного, как золото. Заключи в объятия потерпевшего несчастье, как твое здравие, как спасение жены, детей, домашних и всего дома.
Убогий и больной вдвойне беден. Ибо здоровые из неимущих переходят от двери к двери, ходят по имущим, сидя на перекрестках взывают ко всем проходящим. Эти же, связанные болезнью, заключенные в тесных жилищах и в тесных уголках, как Даниил во рве, ожидают тебя, богобоязливого и нищелюбца, как Аввакума. Будь другом пророку посредством милостыни, предстань нуждающемуся скорым и неленостным кормильцем. Даяние не убыточно. Не бойся; плод милостыни произрастает обильно. Посевай раздавая, и исполнишь дом добрых приобретений.
Но скажешь: и я беден. Пусть так; давай. Давай что имеешь; ибо Бог не требует сверх сил. Ты (дашь) хлеб, другой — чашу вина, иной — одежду, и таким образом общим сбором уничтожается несчастье одного. И Моисеи на издержки по скинии получил не от одного слуги (Божия), но от всего народа. Один богач принес ему золото, другой—серебро; бедный—кожи, беднейший бедного—шерсть (Исх. 25:28—30). Видишь ли, как и кодрант вдовицы превзошел вклады богатых. Ибо она высыпала все, что имела, у тех же не многое выпало (Марк. 12:43. 44.).
Не презирай лежащих, как ничего не стоящих. Подумай, кто они, и найдешь их цену. Они носят на себе образ Спасителя нашего. Ибо Человеколюбец дал им собственный образ, чтобы им устыдить несострадательных и нищененавистников; они подобны тем, кои указывают насилующим их на царские изображения, чтобы образом владычествующего устыдить презрителя. Они —сокровищехранители ожидаемых благ, привратники царствия, отверзающее двери для добрых и заключающее для жестоких и человеконенавистников. Они — и сильные обвинители, и добрые защитники. Защищают же и обвиняют не словом, но видом своим пред Судьею. Ибо делаемое для них взывает к Сердцеведцу внятнее всякого глашатая. Ради них начертан нам и сей страшный суд вестниками Божиими, о котором вы часто слышали.
Там я вижу Сына Человеческого, грядущего с небес, идущего по воздуху, как по земле, окруженного многими тьмами Ангелов; потом возвышающийся престол славы и все племена человеческие, какие ни приходили в бытие, и освещались солнцем и вдыхали сей воздух, разделенные на две части и предстоящие судилищу. Стояние с правой стороны названы овцами, а те, кто на другой, слышу я, названы козлищами, навлекшими на себя это название по сходству нравов. Слышу там речи Судьи к подсудимым и ответы судимых Царю. Каждому назначается в удел, что ему следует: проводившим жизнь хорошую — наслаждение царствием, а человеконенавистникам и злым — огненное мучение и притом вечное. Все это описано тщательно (Матф. 25:31—46.). И сие строгое судилище живо изображено словом не для иного чего, как для того, чтобы научить нас пользе благотворительности. Ибо она содержит жизнь, она — мать бедствующих, учительница богатых, благая детоинтательница, попечительница о старцах, казнохранилище нуждающихся, всеобщее пристанище несчастных; она делит свои заботы всем возрастам и несчастьям.
Ибо как судьи на пустых человеческих состязаниях, трубою провозглашая свою щедрость, всем подвизающимся на месте борьбы обещают богатую раздачу: так и благотворительность призывает к себе всех, находящихся в трудных обстоятельствах, разделяя приходящим не награды за удары, но пособия против несчастий. Она выше всякого похвального дела; она приседит благому Богу, возлюблена Им и весьма близка Ему. Таким образом первым совершителем благих и человеколюбивых дел является нам сам Бог. Ибо создание земли, и украшение неба, и благоустроенную перемену времен, и теплоту солнечную, и охлаждающую природу льда, и все в частности Бог постоянно производит не для Самого Себя, — ибо Он не имеет в этом нужды, — но для нас. Он невидимый земледелец, ироизводящий для людей пищу. Он благовременный сеятель и мудрый ороситель. Ибо Он, по (слову) Исаии (Иса. 55:10.) дает семя сеящему и воду из облаков; то тихо орошает ею землю, то стремительно льет ее на борозды полей. Когда же посевы выросли и поспела зелень, тогда рассеяв облака по всему небу, освобождает от покрова солнце, которое распространяет теплоту и огневые лучи, чтобы колосья созрели к жатве. Он возращает и виноград, заготовляя в свое время питие жаждущему; питает для нас разного рода стада, чтобы у людей была обильная пища, а кожи одних животных, производя шерсть, доставляли покров, а других — давали нам обувь. Видишь, что первый любитель благотворительности есть Бог, питающий алчущего, напояющий жаждущего и одевающий нагого, так как сказано выше.
Если же пожелаешь услышать, как заботится Он и об удрученных болезнью, то узнай. Кто научил пчелу делать воск и вместе с ним мед? Кто заставил сосну, теревинфе и мастиковое дерево, источать этот жирный сок? Кто сделал страну индийскую матерью сухих и благовонных плодов? Кто возрастил маслину, помогающую в телесных страданиях и болезнях? Кто научил нас распознавать корни растений и узнавать заключающаяся в них свойства? Кто создал, дающее здравие, врачебное искусство? Кто извел из земли источники теплых вод, то исцеляющие нас от холода и влажности, то разрешающее сухость или затвердения? И можно благовременно сказать с Варухом: «Сей изобрете всяк путь хитрости, и даде ю Иакову отроку своему, и Исраилю возлюбленному от Нею» (Вар. 3:36. 37.). Отсюда искусства действующая при помощи огня и без огня, и други, — при помощи воды, и бесчисленные изобретения ремесел, чтобы нужды жизненные удовлетворялись без недостатка. И таким образом Бог есть первый изобретатель благотворительности, богатый и вместе сострадательный податель необходимого для нас.
Мы же каждою буквою Писания наставляемые соревновать Господу и Зиждителю нашему, на сколько доступно для смертного подражание Блаженному и Бессмертному, все обращаем к собственному наслаждению: одно отделяем для собственной жизни, другое сберегаем наследниками о несчастных же — ни слова, о нищенствующих!. — никакого благого попечения. О немилосердое сердце!
Человек видит человека, нуждающегося в хлебе, не имеющего необходимой живительной пищи: но не помогает ему с готовностью и не подает ему спасения, а оставляет без внимания как какое–нибудь зеленеющее растение, несчастно засыхающее от недостатка воды; и это (делает человек) обладая чрез край текущим и богатством, и имея возможность на многих излить утешение от имущества! Ибо как разлив одного источника утучняет много пространных равнин; так и богатство одного дома достаточно для спасения множества бедных, — если только скупое и необщительное сердце, как камень, попавший при выходе, не задержит разлива.
Не все для плоти, поживем несколько и для Бога. Ибо ощущение и услаждение от пищи получает малая часть плоти — гортань; а пища, перегнивши в желудке, наконец извергается. Милосердие же и благотворительность суть дела, любезные Богу, и если обитают в каком человеке, то обожествляют его и образуют по подобию Всеблагого, чтобы он был образом первого, и чистого, и всякйи ум превосходящего Существа.
Какой же конец обещан такой ревности? Здесь добрая надежда и радостное ожидание, а потом, когда оставив сию скоропреходящую плоть, преоблачимся в нетление, — блаженная жизнь, непрестающая и негибнущая, где уготованы некие дивные и ныне неизвестные наслаждения.
Итак вы, сотворенные разумными и имеющие ум, который служит истолкователем и учителем Божественных (повелений), не обольщайтесь преходящим. Приобретите то что никогда не оставляет приобретшего: определите меру пользованию жизнью. Не все ваше, но часть пусть принадлежи и бедным, любезным Богу. Ибо все принадлежит Богу, общему Отцу. Мы же — как бы братья родные; братьям же всего лучше и справедливее разделять наследство поровну. В противном случае если один присвоил себе более, чем другой, остальные пусть воспользуются хотя частью. Если же кто захотел бы быть господином всего вообще, лишая братьев и самой третьей или пятой части, тот злой тиран, непримиримый варвар, ненавистный зверь, радостно отверзающий пасть только на пищу; таковой суровее даже самых зверей. Ибо и волк допускает волка в еду, и собаки также во множестве терзают один труп: он же ненасытный никого из единоутробных не допускает к участию в богатстве. Тебе достаточно умеренного стола; не пускайся в это море необузданного пированья. Ибо тебе угрожает жестокое кораблекрушение, не о подводные камни сокрушающее, но ввергающее в глубочайшую тину, откуда впавший туда никогда не выйдет.
Пользуйся, но не злоупотребляй; ибо этому учишь тебя и Павел (1 Кор. 10:23); позволяй себе умеренное наслаждение: не упивайся удовольствиями. Не будь губителем почти всех животных: четвероногих, больших, малых, птиц, рыб, легко добываемых, редких, дешевых и дорогих. Не наполняй п'отом многих ловцов одно чрево, как какой глубочайший колодезь, который не могут наполнить множество рук засыпающих. Ради роскошествующих не остается спокойною и бездна морская. Ловят не только плавающих в воде рыб; но и те жалкие животные, которые движутся на дне морском, и те извлекаются на сушу и на этот воздух. Так не утаились (различные) роды устриц; ловится морской еж, попадает в сеть ползающая сеиия. И полип, приросший к камням, отрывается от них, и раковины извлекаются из глубочайших бездн. И все роды животных, как те, которые плавают по волнам, так и те, которым определено населять дно морское, извлекаются на сей воздух, при чем изобретательность любителей наслаждений измышляет для них различные сети.
Что же влечет за собою роскошь? Где ни появится это зло, оно, как болезнь, необходимо влечет за собою и свои дурные последствия. Решившиеся иметь роскошный и изнеженный стол необходимо вовлекаются в постройку великолепных зданий и издерживают много богатства на обширные дома и изысканное украшение их; при этом заботятся о красоте одров, убирая их цветными и всячески испещренными коврами; делают очень дорогие серебряные столы, одни гладко отполированные, другие изукрашенные резьбою, — так чтобы вместе и служить им для гортани, и насыщать взор изображенными на них событиями. Обрати со мною внимание и на остальное: чаши, треножники, кружки, рукомойные сосуды, блюда, бесчисленные роды стаканов; шутов, актеров, музыкантов, певчих, острословов, певцов, певиц, танцовщиц, всю свиту распутства, отроков, женственно прельщающих волосами, бесстыдных девиц, но нескромности сестер Иродиады, убивающих Иоанна — находящийся в каждом богоподобный и любомудрый ум.
В то время, как все это совершается внутри дома, у ворот приседят бесчисленные Лазари: одни — покрыты тяжкими язвами, другие — с выбитым глазом, иные — оплакивают потерю ног, а некоторые из них совершенно ползают, потерпев лишение всех членов. Но, взывая, они не бывают услышаны; ибо мешает шум труб, песни самовольных певцов и грохот сильного смеха. Если же как–нибудь бедные, посильнее постучат в двери, дерзкий привратник немилостивого господина, выскочив откуда–нибудь, отгоняет их палками, зовет беспощадных собак, и бичами растравляет их раны. И отходят други Христовы, о которых прежде всего говорят заповеди, не получив ни куска хлеба, ни кушанья, с одним прибытком обид и ударов. Внутри же, где и деть работа мамоне, — одни, как переполненные водою корабли, извергают пищу, другие засыпают около стола, на котором стоят пред ними стаканы. Двойной грех обитает в этом доме: один —пресыщение упивающихся, другой—изгнание голодных нищих.
Если Господь видит это (а Он конечно видит), то что, но вашему мнению, последует за такую жизнь, — скажите вы, ненавистники нищих? Или не знаете, что их ради священное Евангелие провозглашает и подтверждает своим свидетельством все сии страшные и ужасные примеры? Описан там тяжко скрежещущий зубами и стенающий (богач), роскошествовавший в виссоне и содержимый в бездне зол (Лук. 16:19–31.). Другой опять, подобный сему, осужден на нечаянную смерть: вечером он совещался об утреней пище, и не дожил до луча утреннего (Лук. 12. 16— 21.). Не будем мертвы для веры, и бессмертны для наслаждения. А такого образа мыслей держимся мы, когда желаем всем жертвовать плотскому обольщению, как домовладыки, немеющие наследников, как постоянные господа на земле, во время жатвы заботящиеся о посеве, а во время посева надеющиеся порадоваться жатве, сажающие платан и ожидающее тени высокого дерева; сажающее финиковое зерно и ожидающие сладости плодов. И это часто бывает в старости, когда близка зима смерти, а жизни остается не ряд годов, а три или четыре дня!
Итак помыслим, как существа разумные, что жизнь наша преходяща, что время текуче, непостоянно и неудержимо, как какой–нибудь речной поток, который все, что ни попадет в него, несет к конечной гибели. И, о если бы, будучи краткою и скоропреходящею, жизнь была безотчетна! Но в том состоит ежечасная опасность, что не только за дела, но и за слова произнесенные нами, должны мы дать ответ пред неподкупным судилищем. Посему и блаженный псалмопевец, имея в мысли подобное сказанному нами ныне, желает узнать срок своей кончины, и умоляет Бога сказать ему число остающихся дней, чтобы приготовиться к обстоятельствам исхода, и не смутиться вдруг, как неготовый путник, который во время самого путешествия ищет необходимых для пути запасов. Он говорит: «скажи ми Господи кончину мою и число дней моих кое есть, да разумею что лишаюся аз. Се пяди еси дни моя, и составе мой яко ничтоже пред Тобою» (Пс. 38:5. 6.). Смотри на благую заботу мудрой души, и при том в царском достоинстве. Ибо он представляет себе Царя царей и Судьюо судей, и заботится о том, чтоб, снабдив себя прекрасным запасом исполненных заповедей, отойти готовым гражданином тамошней жизни, которой да достигнем все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.
О нищелюбии. Слово 2 на слова Евангелия: «понеже сотвористе единому сих», и следующие (Матф. 25:40.)
Опять останавливаюсь пред зрелищем страшного явления Царя, которое начертывает Евангелие! Опять потрясается душа, прислушиваясь к страшным словам! Она как бы видит некоторым образом самого Царя небесного, грозно сидящего как говорит Писание (Матф. 25:31.), «на престоле славы», и величественный оный престол, если только может быть престол, дающий место Невместимому, видит оные бесчисленные тьмы Ангелов, стоящих вокруг Царя; видит и самого великого и грозного Царя, от неизреченной славы склоняющего взор на человеческое естество и на все поколения людей, когда–либо бывших, от начала до времени оного страшного явления, — Царя, собирающего их к Себе, и по достоинству дел жизни каждому возвещающего суд: одним, кои в жизни избирали то, что право, дарующего стояние одесную, как сказано, а неправым и отверженным определяющего жребий, соответственный делам их жизни; изрекающего тем оные сладкие и благие слова: «приидите благословении Отца Моего» (Матф. 25:34), а этим ужасную и страшную угрозу: «идите проклятии» (ст. 41.). Страх прочитанного до того овладел моею душою, что ум мой кажется вполне занят самым предметом, и не чувствуя ничего настоящего, нимало не имеет досуга обращать внимание на что–либо другое, подлежащее исследованию и рассмотрению в слове: хотя не маловажно и заслуживает не малого изыскания—узнать например то, как «придет» Вечносущий. «Се Аз с вами, — говорит, есмь во вся дни» (Матф. 28:20.); если же, как веруем, Он с нами «есть», то как возвещается, что Он «придет», как бы не присущий ныне? Ибо, если, как говорит Апостол, «в Нем живем, и движемся и есмы» (Деян. 17:28.), то для Обдержащего все, нет никакого способа местно отступить от тех, коих Он в себе содержит, так чтобы или ныне не быть Ему присущим обдержимым Им, или ожидать последних времен, чтобы прийти. Опять: какой престол у Бесплотного? Какое явлеине у Невидимого? Какой образ у Неописуемого? Как может быть изображен сидящий на престоле Невместимый? Это и все подобное, как излишнее для настоящего времени, оставлю, а для общей пользы обращу, сколько могу, речь на то, каким образом не попасть нам в число отверженных. Ибо сильно, братья, сильно поразила меня угроза, и не отрицаю смущения моей души. Желал бы, чтобы и вы не презрительно относились к страху; ибо «блажен иже боится всех за благоговение» (Притч. 28:14.), а «иже презирает вещь, презрен будете от нея» (Притч. 13:13.), говорит негде слово Премудрости. Итак, прежде чем наступит время беды, позаботимся, чтобы не испытать печалей.
Каким же образом освободиться от этих страшных бед? Избрать тот путь жизни, который указало нам ныне слово Божие, — путь подлинно новый и живой. Какой это путь? «Взалкахся, созжаждахся, странен бых», и «наг» и «болен» и «в темнице; понеже сотвористе единому сих меньших, Мне сотвористе» (Матф. 25:35—37. 40.); посему и говорит: «приидите благословении Отца Моего» (ст. 35). Чему сие научает нас? Тому, что благословение есть следствие соблюдения заповедей, а клятва — нерадения в соблюдении заповедей. Возлюбим благословение, и бежим клятвы; ибо нам предлежит свободно избрать или не избрать то или другое; к чему с усердием будем стремиться, то и получим. Итак преклоним к себе Господа благословения, Себе вменяющего попечение наше о нуждающихся, особенно теперь, в настоящее время, когда для сей заповеди открывается обширное приложение. Много есть нуждающихся в необходимом, многие бедствуют и самым телом, быв изнурены злою болезнью. Итак, посредством попечения о них, постараемся улучить для себя благое обетование. Ясно же это говорю об обезображенных тяжкою болезнью; чем больше их болезнь, тем очевидно больше и благословение тем, кои совершили труд, предписанный заповедью. Итак что же нужно делать? Не идти против распоряжения Духа, а оно состоит в том, чтобы не чуждаться имеющих общее с нами естество, и не подражать оным, осужденным в Евангелии, — разумею священника и левита, несострадательно прошедшим мимо нуждающегося в помощи несчастного, которого, как говорит повествование, полумертвым оставили разбойники (Лук. 10:30—37.). Если они виновны потому, что не обратили внимания на раны, покрывающая нагое тело, то как останемся безвинными мы, подражающие виновным? Видишь человека от злой болезни получившего вид четвероногого, вместо копыта и когтей подвязавшего к ладоням деревяшки, отпечатлевающего необыкновенный след на человеческих путях. Кто бы по этому следу признал, что этими оттисками означил свой путь человек? Человек, прямой по виду, взирающий на небо, получивший от природы руки, чтобы они служили его делам, — этот человек склоняется к земле, становится четвероногим, и малого только ему недостает, чтоб стать бессловесным. От тяжелого и прерывистого дыхания, из его груди невольно слышится мычание, и он, осмелюсь сказать более, делается несчастнее самых бессловесных. Ибо эти, вид полученный от рождения по большей части сохраняют до конца, и ни одно из них, от какого–либо подобного несчастья, не принимаете иного вида. А здесь как будто переменилась самая природа, является какое–то иное, а не то, которое привыкли видеть, живое существо; руки у него заменяют употребление ног, колена становятся ступнями; а естественные ступни и лодыжки или совершенно отпадают, или, подобно лодкам, снаружи прицепленным к кораблю, бесцельно и как попало влачатся. Итак, видя человека в таких обстоятельствах, ужели устыдишься родства с ним, не выскажешь сострадания к ближнему, но возгнушаешься несчастьем, и возненавидишь молящего о помощи, убегая при приближении его, как от нападения какого зверя? Однако ж ты должен бы благоразумно рассудить, что прикасается же к тебе, человеку, ангел, и будучи бесплотным и невещественным, не гнушается тобою, облеченным плотью и кровью? Но что я говорю, ангел! Сам Господь ангелов, Царь небесного блаженства, ради тебя стал человеком и возложил на Себя эту зловонную и грязную плотяность, вместе с облеченною ею душою, дабы Своим прикосновением исцелить твои недуги. Ты же, будучи одного естества с болящим, бежишь своего ближнего! Нет, брат, да не увлекает тебя злая воля. Познай, кто ты и над кем произносишь приговор. Над людьми, — ты человек, не имеющий в себе ничего особенного сверх общего всем естества. Не предупреждай будущего. Осуждая страдание, являющееся пока в чужом теле, ты тем самым произносишь неограниченный приговор над всем человеческим естеством. Но и ты, подобно всем, причастен сему естеству; и так дело касается общего всем предмета.
Почему же никто из тех, кого ты видишь, не возбуждает в тебе сожаления? Видишь скитающихся людей: подобно животным, они рассеялись для отыскания пищи. Рубища, какими владеют, — их одежда; палка в руках — это оружие, это и опора, да и та не пальцами держится, но какими–то ремешками привязана к ладоням. Дырявая котомка и кусок хлеба, испорченный плесенью и гнилью; эта котомка составляет для них очаг, дом, подстилку, кровать, кладовую, стол и все, что требуется для жизни. И ты не подумаешь, кто находится в таком положении? Человек, созданный по образу Божию, которому назначено господствовать на земле, и иметь под своею властью, для служения себе, животных. Но он дошел до такого несчастья и так изменился, что внешний вид его возбуждает недоумение; он не носит на себе ясных признаков ни настоящего человека, ни другого какого либо животного. Сравнишь ли его с человеком? — но человеческий образ отрицается (подобнаго) безобразия. Обратишься ли с сравнением к животным? — но и они не допускают подобия с тем, что видим. Одни нищие с одними собою только обращаются, собираются в кучу друг с другом вследствие одинаковости страдания; составляя предмет отвращения для других, они по необходимости не гнушаются друг другом. Отовсюду изгоняемые, они стекаясь друг к другу, составляют особый народ. Видишь ли нерадостных певцов, этот печальный и плачевный хор? Как они делают зрелище из своего безобразного тела, как бы какие показыватели редкостей, показывают собирающимся около них многоразличные болезни? Поэты печальных песней, певцы оных горьких песнопений, слагатели новой и жалкой трагедии, пользующееся не чужими трагическими рассказами для изображения страданий, но своими собственными бедами наполняющее театральное представление! Какие изображения! Какие повествования! Какие рассказы от них слышим? Слышим, как они были отринуты родителями, без всякой вины; как отгоняют их от общественных собраний, праздников и торжеств, как бы каких человекоубийц или отцеубийц, осужденных на вечное изгнание; они даже гораздо несчастнее сих последних; потому что человекоубийцам по переселении в другое место позволяют жить там с людьми, а те одни только бывают гонимы всеми повсюду, как какие от явленные всеобщее враги; их не считают достойными ни одного крова, ни общей трапезы; им не дозволено употреблять те же сосуды. И это еще не довольно тяжко: даже источники, общие для всех людей, не текут для них; даже реки считаются привлекающими осквернение от их болезни. Если собака своим кровожадными языком локает воду, вода не считается отвратительною от (прикосновения этого) животного: если же приблизится к воде больной, то и вода тот час объявляется негодною от этого человека. Вот что рассказывают они, вот на что плачутся! Потому–то по необходимости бросаются эти жалкие к ногам людей, умоляя всякого встречного. Часто плакал я при этом печальном зрелище, часто жаловался на самую природу, и теперь, при воспоминании о сем, смущаюсь духом. Видел я жалостное страдание, видел зрелище полное слез! На прохожих путях лежат люди, лучше же сказать не люди, но жалкие останки людей, имеющие нужду в некоторых знаках и удостоверениях, чтобы можно было поверить, что они были когда–то людьми. В них нет тех естественных признаков, по которым мы узнаем людей; они одни из всех ненавидят себя; одни проклинают день своего рождения и справедливо ненавидят этот день, положивший для них начало такой жизни. Это люди, которые стыдятся и именовать себя этим, общим всем, названием, чтобы употреблением общего имени, не оскорбить собою общего естества. Вечно в своей жизни бедствуя, они имеют постоянный повод для плача. Как ни взглянуть на себя, всегда имеют побуждение плакать; недоумевают, какие части тела оплакивать, несуществующие уже, или оставшиеся; те ли, которые прежде истребила болезнь, или те, кои остаются для болезни; плакать ли о том, что видят на себе все это, или о том, что даже и видеть не могут, лишившись от страданий зрения; о том ли, что должны рассказывать о себе это, или же о том, что даже и рассказывать не имеют сил, потеряв от болезни голос; о том ли, что питаются такою нищею, или о том, что даже и ею не могут удобно пользоваться, потому что болезнь, повредив окружающие уста части, препятствует есть; о том ли, что чувствами имеют несчастье ощущать в себе то, что свойственно мертвецам, или о том, что лишились и самых чувств. Ибо где у них зрение? Где обоняние? Где осязание? Где прочие органы чувств, которые с постепенным распространением болезни поедает гниение? Вот почему скитаются они по всем местам подобно бессловесным, переходя туда, где более обилен корм, нося с собою, как путевые деньги для покупки пищи, несчастье, и простирая всем свою болезнь вместо просьбы. По причине болезни имеют нужду в других, которые вели бы их, а по причине скудости опираются друг на друга; ибо будучи болен, каждый сам но себе, служит опорою другого, и все пользуются взаимно членами друг друга в замен недостающих. Не по одиночке являются; но и несчастье имеет некоторую мудрость, в заботливости о жизни, — в том, что они желают, чтоб их видели вместе друг с другом. Ибо, будучи и каждый сам по себе жалок, они, чтоб более возбудить сострадание людей, слагают вместе взаимные страдания, внося каждый свою печальную долю в общий запас, привлекая милосердие каждый особым каким либо видом несчастья: один простирает искалеченные руки, другой показывает распухшее чрево, иной изуродованное лице, иной отгнившее бедро; в какой части тела случится болезнь, ту обнажая и показывает.
Что же? Ужели, чтобы ни в чем не погрешить против закона природы, достаточно только того, чтобы оплакивать эти страдания (нашей) природы, помогать болезни словами, и приходить в сострадание при воспоминании о ней? Или нужно для нас и какое либо дело, которое бы доказывало наше сочувствие и взаимную любовь? Ибо, что живописные изображения по отношению к действительным предметам, то—слова, с которыми не соединены дела. Не в словах Господь полагает спасение, но в совершении дел спасения (Лук. 6:46 — 49.). Итак должно приняться нам самим за исполнение заповеди относительно их. И да не говорит кто либо, что достаточно доставлять пищу нищим, удалив их куда–нибудь далеко от нашего жительства, на какой либо крайний предел оного; ибо такой образ мыслей не доказывает нимало милосердия и сочувствия, но есть только благовидный повод, совершенно исключить этих людей из (круга) нашей жизни. Свиньям и собакам позволяем мы жить под одною с нами кровлею; охотник часто не отказывает щенку в своей постели; земледелец и поцелуями даже умеет приласкать тельца; но и это еще не все; путешественник собственными руками моет ноги осла, прилагает руку, очищает навоз и заботится об его ложе. Ужели признаем бесчестнее самых бессловесных однородного с нами и ближнего? Нет, да не будет этого, братья. Да не падет такой приговор на людей. Должно вспомнить, кто мы, и над кем произносим суд. Над людьми, мы люди, не имеющие пред ними никакого особого преимущества относительно общей с ними природы. «Един вход всеми в жилище» (Прем. 7:6.); один для всех образ жизни, пища и питье; однообразна жизнедеятельность; одно устройство тела, и один конец жизни. Все сложное приходит в разрушение; ничто, составленное из частей, не прочно в своем составе. Тело наше, на подобие пузыря, на малое время облекает наш дух; за тем мы исчезаем, не оставив в жизни никакого следа кратковременного пребывания духа в нашем теле. Остается воспоминание на колоннах, камнях и в надписях; но и они не на век достаточны. Помыслив это о себе: «не высокомудрствуй», как говорит Павел, «но бойся» (Римл. 11:20).
Неизвестно, не на себя ли самого навлекаешь суровость закона. Бежишь больного; в чем, скажи мне, вина его? В том ли, что в нем испорчены влаги, и какой–то гнилостный сок от смешивания желчи со влагою, проник в кровь? Так бывает, если послушать врачей, исследующих свойства болезней. Но чем же преступен человек, если (наше) естество, будучи изменчивым и непостоянным, дошло до такого вида болезни? Не видишь ли ты, что и у здоровых телом людей, иной, пользуясь добрым здоровьем во всем прочем, страдает часто сыпью или нарывом, или подобною болезнью, потому что во влаге в известной части тела возник жар больший надлежащего, и от этого происходит болезненное воспаление, краснота и некоторое гнилостное разложение? Что же? Враждебно ли относимся к оной части тела? Напротив, все, что здорово в теле, обращаем на помощь заболевшей части. И так болезнь не гнусна, ибо (в противном случае) и в нас самих, когда болезнь поразила бы одну часть, то части здоровые чуждались бы служить болящей. Но какая же причина отдаляешь нас от таковых больных? Какая именно? Та, что мы не страшимся угрозы Сказавшего: «идите от Мене огнь вечный; понеже не сотвористе единому сих, ни Мне сотвористе» (Матф. 25:41. 45.). Если бы они знали, что все это так, то не так бы думали о болящих, что их можно отталкивать от себя и почитать осквернением нашей жизни попечение о страждущих. И так если мы почитаем верным Возвестившего, то должны приняться за исполнение заповедей, без которых невозможно удостоиться уповаемого. В этом (несчастном) ты видишь пред собою и странника, и нагого, и нуждающегося в пище, и больного, и заключенного, и все, о чем говорится в Евангелии. Он ходит бесприютным, и нагим, и нуждающимся в необходимом, вследствие причиненной болезнью бедности. Кто не имеет ничего своего из дому и не в состоянии сделаться наемником, тот по необходимости совершенно лишен всего потребного для жизни. Он и узник, потому что окован болезнью. И так над нищими ты имеешь возможность выполнить всю полноту заповедей, и чрез человеколюбие, оказанное им, соделать должником своим самого Господа всяческих (Притч. 19:17.). Зачем же восстаем против собственной жизни? Ибо не желать иметь своим сожителем Бога всяческих —значит не иное что, как быть некоторым злодеем для самого себя. Как чрез соблюдение заповеди человек водворяется с Богом, так чрез жестокосердие отдаляется от Него. «Возьмите, — говорит, иго Мое на себе» (Матф. 11:29.); игом же называет исполнение заповедей. Послушаем Повелевающего, станем под яремными Христу, надев на себя иго любви. Не станем сбрасывать таковое иго: оно «благо»; оно «легко»; оно не треть выи подклонившего, но гладит ее. Посеем «о благословении» как говорит апостол, чтобы и пожать «о благословении» (2 Кор. 9:6.). Многоплодный колос произрастет из такого сеяния. Обилен посев заповедей Господних; высоки произрастания благословения.
Хочешь ли узнать, до какой высоты простирается рост сих произрастений? Он касается самых высот небесных. Ибо что ни сделаешь для них, того найдешь плод в сокровищницах небесных. Не будь недоверчив к сказанному; не думай, что можно удобно пренебрегать их дружбою. Рука изувечена, но она сильна подать тебе помощь: нога не годна, но не препятствуешь им востекать к Богу; глаз утрачен, но они видят душою незримые блага. Итак не презирай безобразие тела. Подожди немного, и увидишь то, что невероятнее всякого чуда. Ибо что свойственно текучему естеству, то не навсегда останется таким: но когда душа освободится от сплетения с тленным и земным, тогда воссияет собственною красотою. Доказательство же сему то, что после сей жизни не возгнушался рукою нищего оный роскошный богач, но прося, чтобы пораженный некогда гниением палец бедного, услужил ему каплею воды, желал самым языком облизать влагу, оставшуюся на пальце нищего (Лук. 16:19—25.), но он конечно не пожелал бы сего, если б что–нибудь отвратительное усматривал и в чертах души, как некогда в теле. Сколько, по всей вероятности, было напрасных сожалений о прошлом у богача в этой изменившейся жизни! Каким счастьем почитал он несчастье нищего в этой жизни! Как порицал свой жребий, как будто он уделен был богатому на гибель души! А если бы можно было ожить, то в числе каких людей он пожелал бы снова быть? В числе ли благоденствующих в этой жизни, или в числе несчастных? Нельзя не видеть, что предпочел бы жребий несчастных; ибо просит, чтоб кто либо из мертвых был послан вестником к братьям, дабы и они, заразившись надменностью богатства, скользя по гладкому пути удовольствия в плотских наслаждениях, не унеслись в адскую пропасть. Итак почему не умудряемся подобными повествованиями? Почему не упражняемся в оной прекрасной купле, которую советует нам Апостол: «ваше избыточествие, — говорит он, во оных лишение» (2 Кор. 8:14.), дабы избыток их облегчения в жизни, последующей за сею, был достаточен и вам для спасения. Итак если хотим получить нечто полезное там, то предварительно доставим (потребное им здесь); если желаем получить ослабу после сей жизни, упокоим их теперь; если желаем, чтобы они приняли нас в «вечные кровы» (Лук. 16:9.), примем их в наши. Если желаем, чтобы они уврачевали язвы наших грехов, то и мы сами должны сделать тоже по отношению к телам, удручаемых болезнью: «блажени милостивии, яко тии помилованы будут» (Матф. 5:7.).
Но, быть может, скажет кто: заповедь хороша для последующего времени, но в настоящее должно беречься передачи и сообщения болезни, и посему, чтобы не потерпеть чего либо не желаемого нами, должно, как думают, стараться избегать приближения к больным. Это одни олова, предлоги, вымыслы, благовидные некие прикрытия для нерадения о заповедях Божиих. Но на самом деле не так; никакого нет страха в исполнении заповеди. Никто злом да не врачует зло. Сколько можно видеть людей, кои от юности до старости посвятили себя служению нищим; и это попечение ни сколько не повредило естественному благосостоянию их тела! Да и невероятно быть тому. Хотя некоторые болезни, как–то наносные заразы и тому подобные, зависящие от внешних причин, происходящие от испорченности воздуха или воды, кажутся многим опасными и переходящими от прежде зараженных к тем, кои приближаются к ним, но я не думаю, чтоб и там болезнь производила такую же болезнь в здоровом, посредством передачи; причина, почему болезнь от прежде зараженных переходит и к прочим, заключается в общем поветрии, которое производит сходные болезни. Здесь же, поелику образование такой болезни зависит от внутренних причин, и подвергается человек порче крови от излияния в нее вредных соков; то болезнь и ограничивается болящим. А что это так, можно узнать и из следующего. Сближение людей крепких здоровьем с больными сообщает ли последним лучшее здоровье, хотя бы те и очень прилежно занимались уходом за ними? Нет, этого не бывает. Посему с вероятностью можно заключить и обратно, что от больных болезнь не переходит к здоровым. Итак если такую приносит пользу исполнение заповедей, что чрез оное уготовляется нам царство небесное, а вреда для тела пекущихся о больных не происходит никакого; то какое наконец есть еще препятствие к исполнению заповеди любви?
Но трудно, говоришь, победить естественное отвращение, какое возбуждается во многих при таком зрелище? Хорошо; соглашаюсь с твоими словами, что трудно. Но на что же другое, из того, что совершается по добродетели, укажешь как на нетрудное? Много пота и труда предписал закон для достижения уповаемого на небе, и не легкий путь к жизни вечной указал людям, отовсюду стеснив оный трудными и суровыми подвигами жизни; узок и тесен путь «вводяй в живот» говорит писание (Мф. 7:14.). Что же? Должны ли мы пренебречь оною надеждою благ, потому что их стяжать легко нельзя? Спросим у юности, не трудным ли для нее кажется целомудрие, и не гораздо ли желательнее вместо воздержного образа жизни, бесстыдно предаться чувственным влечениям? Не ужели же поэтому, мы станем держаться того, что приятно и легко, а колебаться избрать суровость добродетели? Не это предполагает Законодатель жизни, возбранивший идти в жизни путем широким, покатым и пространным?; ибо «внидите, — говорит, путем узким и тесным» (Матф. 7:14.). Итак и здесь, одним из дел совершаемых посредством труда, мы должны почитать и то, чтобы ввести в привычку исполнение заповеди, которой чуждается наша природа, и естественное отвращение здоровых уврачевать постоянством упражнения в деле. Ибо сильна привычка, и чрез постоянное упражнение доставляешь некоторое удовольствие при исполнении того, что кажется неприятным. Итак да не будет речи о том, трудно ли дело, которое должно исполнить, но о том, полезно ли оно для совершающих. И если польза от него велика, то ради пользы должно не обращать внимания на трудность; трудное в начале, со временем силою привычки сделается приятным. Должно также к сказанному нами присовокупить и то, что, даже в самой этой жизни, сочувствие к несчастным полезно для здоровых. Ибо, для всех благоразумных, милосердие есть прекрасный залог, который мы вверяем другим при их несчастьях. Поелику одна природа управляешь всем человечеством, и никто не имеет прочного какого либо ручательства в постоянстве своего благополучия, то постоянно должно помнить евангельское увещание, которое советует: «елика аще» хощем «да творят» нам «человецы», то творить и им (Матф. 7:12.). И так пока благополучно плаваешь, простирай руку потерпевшему крушение; одно для всех море, одни бури, одни мятущиеся волны: подводные камни, утесы, скалы и прочие опасности житейского мореплавания одинаково страшат плавателей. Пока ты не страдаешь, пока безопасно переплываешь море жизни, не проходи немилосердно мимо потерпевшего крушение. Кто порукою тебе в постоянстве благополучного плавания? Ты не достиг еще пристани успокоения. Жизнь твоя еще не дошла до берега; еще ты носишься по морю жизни. Каким выкажешь себя к потерпевшему несчастье, такими готовишь себе и сопутников твоего плавания. Да устремимся все мы к пристани упокоения, благополучно направляемые в предлежащем нам житейском плавании, Духом Святым! Да будет присуще нам делание заповедей и кормило любви! Верно направляемые ими, мы достигнем земли обетованной, где находится великий град, которого художник и зиждитель есть Бог наш, Коему слава и держава во веки веков. Аминь.
Против отлагающих Крещение
Цари сего мира, когда напишут законы, предписывающие добрые правила для жизни людей, вручая оные начальникам, приказывают им обнародовать подданным, чтобы таким образом узаконенное сохранялось ненарушимо. И великий Бог дал законы предстоятелям церквей, которые, предлагая каждый год в определенные времена, читаем вам и повелеваем написанное хранить по возможности. Итак, вот благий Распорядитель всяческих, возвращающий годы и управляющий кругом времен, привел спасительный день, в который мы обыкновенно призываем к всыновлению чуждых, бедных к причастию благодати, оскверненных прегрешениями к очищению грехов. И это есть та древняя проповедь, которая не задолго предварила явление Спасителя: «глас вопиющаго в пустыни; уготовайте путь Господень, правы творите стези Его» (Матф. 3:3). Хотя я и не Иоанн и не Давид, но ничтожность служителя да не повредит силе закона Господня: ибо не по уважению к чтецам закона мы повинуемся предписанному; но боясь власти законодателя подчиняемся приказаниям. Пришла милость царская, дающая облегчение двум родам скорбящих: окованным разрешение, должникам прощение. Посему и я тем и другим, соответственное каждому предлагаю врачевство и с полною уверенностью обещаю помощь от врачевания.
А чтобы не подумал кто либо, что дорого врачевство, я наперед скажу о тех лекарствах, которые буду употреблять для больных. Одним я обещаю здравие при посредстве воды и купели; у других уничтожу болезнь при помощи нескольких слез. Просто совершение дела, и Богом ниспослан дар, и велик по истине успех без прижигания и сечения освободиться от застарелых ран, которыми тяжело страдаем от уязвления змеиного. Итак, идите страждущие к своему уврачеванию, и не будьте нерадивы к сему делу. Болезнь застаревшая и долговременная не уступает врачебному искусству. Убогие и бедные спешите к раздаче царских дарований, овцы — к печати и знамению креста, избавляющему от зол. Дайте мне имена, чтобы я внес их в видимые книги о записал чернилами, а Бог означит их на негиблющих дсках, написав Своим перстом, как некогда закон для евреев.
«Приступите к Нему и просветитеся и лица ваша не постыдятся» (Псал. 33:6) «Измыйтеся, отимите грехи ваши» (Ис. 1:16). Сие написано за долго прежде, но не обветшала сила писания, но возрастает и с каждым днем усиливается. Выходите из темницы, прошу вас. Возненавидьте темные жилища греха. Бегите диавола, как жестокого стража темничного, питающегося несчастием грешных и извлекающего из того выгоду. Ибо как Бог утешается правдами нашими, так виновник греха радуется падениям нашим. Вне рая находишься ты оглашенный, разделяя изгнание Адама прародителя нашего. Но теперь отворена тебе дверь; взойди, откуда ты вышел, не медли, чтобы смерть постигнув тебя, не преградила входа. Голова уже седеет, близка жатва жизни, может быть серп точится против нас, и я боюсь, чтобы тогда, как спим мы и в суете праздно проводим время, не пришел нечаянно грозный жнец. Но я юноша, говоришь ты: еще не состарился. Не обманывайся. Смерть не стесняется условиями возраста, она не боится находящихся в цвете лет; не над стариками только имеет власть. Тебя научает этому ежедневный опыт. Видишь одр, на котором выносят умерших; как не равно и как случайно, он износит людей всякого возраста, ныне старика, завтра нежного и радостного отрока, немного спустя человека, у которого едва показывается пух на бороде, потом сильного и цветущего, тотчас же престарелую, вместе с нею и девицу. Видя это, будем беречься бесстрашия. Не много нужно, чтобы мех, наполненный воздухом, лишился его; немного откроется рот, и человеку не трудно вдруг испустить дух.
Вижу я, что когда случится в мире землетрясение или язва или нашествие врагов, все спешат усердно к крещальне, чтобы не отойти из мира непричастными благодати. Что же? Разве не имеют силы, равной оным бедствиям, другие различные и неожиданные несчастия: апоплексии, удары, нечаянные удушения, возмущения ветров, и их следствия? Не видим ли, как иной беседует и падает, другой ест и совсем перестает принимать пищу, иной спит и незаметным образом переходит к смерти, сестре сна? Обезопась же себя от непостоянства и неизвестности жизни. Не торгуйся с благодатью, чтобы не лишиться дара. Столько бери в заем, сколько может быть прощено, сколько не превысит человеколюбия Царя. И земные властители, когда уличат кого либо в чрезмерном расточении общественного имущества и ненасытном пользовании царскими деньгами, не отчаиваясь в возвращении их, жестоко наказывают (расточителя), довольствуясь вместо денег наказаниями. Много времени ты предавался удовольствию; дай место и любомудрию. Скинь ветхого человека, как одежду нечистую, постыдную, позорную, сотканную из множества грехов, связанную из жалких лохмотьев беззакония. Прими одеяние бессмертия, которое Христос распростерши предлагает тебе; и не отвергай дара, чтобы не оскорбить Того, Кто дарит. Долго ты валялся в грязи; спеши, о человек, к моему Иордану; не Иоанн зовет тебя, но Христос убеждает. Ибо повсюду течет река благодати; не в Палестине имеет она исток свой и не скрывается в соседнем море, но обтекает всю вселенную и впадает в рай, на встречу оных четырех оттуда вытекающих рек, внося в рай несравненно драгоценнейшее, нежели чтó они износили. Ибо те несут ароматы, плодоносие, растительность земли; а эта вносит (в рай) людей, порожденных Духом. Куда ни поведешь (сию реку), туда и потечет; изливается на всю вселенную и не истощается, разделяясь на каналы. Ибо имеет богатый источник — Христа, и от Него истекая, омывает волнами весь мир. Сладка она и удобопиема, без всякой примеси неприятной солености (ибо делается сладкою от сошествия Духа, как источник Мерра, от прикосновения дерева — Исх. 15:23); удобопреходима для благочестивых, а глубока и недоступна для нечистых. Подражай Иисусу Навину, возьми Евангелие, как он кивот завета; оставь пустыню греха, перейди Иордан, спеши к жительству по Христе, в землю обильную радостными плодами, и текущую, по обетованию, медом и млеком. Разрушь Иерихон, старый образ жизни, не оставляй его твердыни, до основания разрушь мать греховных помыслов. Сделай лукавых гаваонитян рабами Израиля, то есть, лукавые помышления слугами евангельской жизни. Да побиется камнями коварный и любостяжательный Ахар, похитивший сосуд золотой; это тот, кто нарушил сохранение честной заповеди. Все это образ для нас; все это предзнаменование вещей ныне являющихся.
Выпусти наконец от себя прожорливого ворона (Быт. 8:6–7); дай время прилететь к тебе голубю, которого Иисус первый образно низвел с неба (Матф. 3:15), голубя незнающего лукавства, кроткого, многоплодного, который, когда найдет мужа очищенного, как огнище, хорошо приготовленное, вселяется в него, согревает душу как бы насиживая яйца, рождает многих и прекрасных чад, то есть добрые дела, честные мысли, веру, благочестие, правду, целомудрие, непорочность, чистоту; таковы чада Духа, а наши стяжания. Доколе ты будешь изучать первые начала (веры)? Открой твою душу, как хартию, и дозволь нам начертать совершенное учение; не все тебе лепетать с детьми; не будь младенец смыслом. Стыжусь за тебя, что состарившись уже, ты бываешь изгоняем с оглашенными, как дитя неразумное и неспособное сохранить тайну, которую намерены возвестить. Присоединись к посвященным в таинства людям и узнай сокровенные речи. Произнеси с нами то, что и шестокрылатые Серафимы говорят, воспевая с совершенными христианами. Возжелай пищи укрепляющей душу; вкуси питие веселящее сердце; возлюби таинство, старых незримо возвращающее к молодости. Подражай пламенному желанию эфиопского евнуха; ибо он, после того, как принял в спутники на колесницу Филиппа приведенного Духом, во время пути научился не только читать, но и понимать мудрого Исаию; и при помощи толкования, как добрый ловчий пес, почуяв кровь и закланного агнца, начал сильно лаять на Филиппа, пока тот не привел его к совершенной ловитве пророчества находившегося в руках его; возжелав, тотчас же получил крещение, не выжидая гостиницы, не дожидаясь города или деревни или места священного. Справедливо рассуждал он, что всякое место есть Господнее, и всякая вода годна для совершения крещения, только бы нашлась вера у приемлющего, и благословение освящающего иерея. Замедлением не раздражи крестителя, не прогневай его, отлагая со дня на день и тратя в обещаниях скоротекущее время. Смотри, чтобы тебя не постигли порицания, подобные Иоанновым, чтобы и тебя не назвали порождением ехидны (Матф. 3:7) и аспидом глухим, который приходит в ярость от гласа обавающаго (Псал. 57:5), чтоб и тебе не показали секиру изощренную и сверкающую, лежащую при дереве и угрожающую посечением (Матф. 3:10). При выборе из двух зол, лучше удостоившись спасительного крещения впасть опять в грех, нежели кончить жизнь непричастным благодати. Ибо грех, может быть, получит и прощение по человеколюбию Божию, на которое великая надежда у добрых, а тому совершенно недоступно спасение по точному определению. Ибо когда слышу, что неложный голос говорит: «аминь, аминь глаголю тебе, аще кто не родится», свыше, не может видети царствия Божия (Иоан. 3:5), то ничего не могу ожидать доброго для неомытых водою крещения. В самом деле, какого снисхождения заслуживают те, которые пренебрегли милостью царскою, не приняли прощения долгов, и не воздали благодарности за свободу, усвояя ее, когда она добровольно нисходила к ним с неба, но презрением дара нанесли бесчестие Даровавшему? Душу не просвещенную и не украшенную благодатью возрождения, не знаю, примут ли Ангелы после разлучения ее от тела. И как это может быть, когда она незапечатлена, и не носит никакого знака Владычного? Естественно, она будет кружиться в воздухе, блуждая, носясь туда и сюда, никем не взысканная, как не имеющая господина, желающая успокоения и приюта и не находящая, тщетно скорбящая, бесплодно раскаивающаяся, подобно богачу, который, облачаясь в порфиру и виссон, во всякого рода наслаждениях и роскошной жизни готовит вещество для неугасимого огня.
Но я хочу вам рассказать некоторую повесть о человеке несчастном, лишившемся великой надежды и искавшем воды в безводное время. Недавно, когда нашествие кочующих скифов опустошало многие страны с жителями, в соседнем городе Команах в то время, как варвары грабили предместья, один юноша благородного рода именем Архий, которого и я хорошо знал, скорбя о своих и общих отечества бедствиях вышел из города и крепости, чтобы разсмотреть верно, сколько грабителей, варваров, и сколько сделано ими зла, но попавшись врагам был поражен стрелою. Упав и приближаясь к смерти, сколько было силы, он кричал (так как был не крещен), «горы и леса крестите, дерева, камни, источники, дайте благодать», — и с этими жалостными воплями скончался. Город, узнав о сем, скорбел более, нежели о бедствиях причиненных войною. Подобны сему и те, которые нечаянно постигаются болезнями. Ибо, когда вчера здоровый и обещающий себе долгие годы жизни испытает участь древнего безумца (Лук. 12:20), и ему безнадежно будет сказано, что в сию ночь душа твоя разрешится от тела, тогда крик и вопль; все требуется как возможно скорее, сосуд, вода, священник, слово приготовляющее к принятию благодати, которого требует нужда, но болезнь прерывает, делая сильным и частым дыхание. Происходит смятение не меньше производимого столкновением на войне; все домашние, встречаясь друг с другом, мечутся, везде давка, смятение, печальный и невнятный шум, как бы во время ночной битвы; сталкиваются друг с другом рабы, родные, друзья, дети, жена. Итак, пока время мира, устроим благоразумно наши дела; во время тишины и мира жизни примите дар Христов, когда и получающий высокое и несравнимое благодеяние с удовольствием включается в список усыновляемых, и все знаемые его от перемены на лучшее получают неизреченную радость и веселие.
Но боюсь, говоришь ты, что естество наше склонно ко греху, и посему медлю приступить к благодати возрождения. Хотя благовиден предлог твоего страха, и хорошо ты прикрываешь себя покровом осторожности, но короткий вопрос тебе предложенный легко скинет с тебя личину. Ты говоришь, что остаешься оглашенным, боясь греха: скажи же, какою ты живешь жизнью: не подлежащею осуждению, жизнью безгрешною, или во грехах? Если безгрешною, то почему боишься крещения, и до него сохраняя предписанную законом правильность жизни? Если же у тебя не чиста и не внимательна жизнь то зачем медлишь в беззакониях и долгим упражнением приобретаешь навык в зле? Ясно, что ты ожидаешь последнего вздоха, чтобы с принятием крещения в последний час окончилась жизнь. Это новая и странная торговля, не золотом и одеждами, но множеством беззаконий, мелочное барышничество очищением души. Как свиньи переходят из лужи в лужу, и грязь служит жилищем для них; так сжившиеся с нечистотою прибавляют одно беззаконие к другому, ибо или оскверняются блудом, или изощряются в гнусном прелюбодеянии, или предаются пьянству, возбуждающему злые пожелания, или делают сродные сим и сходные грехи. Они боятся крещения, как запрещения удовольствий и удержания от гнусных наслаждений. Итак, когда выставляющий предлогом замедления крещения грехи говорит, что боюсь; то ясно, что он не греха остерегается, но желает долее оставаться в греховной жизни. А имеющие в глубине души такую худую мысль во первых и не удостаиваются благодати, но обманывая себя суетными надеждами, неожиданно поемлются смертью, застигающею тихо и нечаянно, как коварный тать. Но если Бог, по великому Своему долготерпению и благости, и удостоит любителя греха, таинств в последний день, они не получат от этого торга столько выгоды, сколько думают. Думают, что для них тотчас же отверзнется царство небесное; что они улучат некое жилище изобильное дивными благами, и удостоятся почестей наравне с праведными. Но это — суетная надежда обольщающая душу ложным мнением. Как мне кажется, судьба людей в будущей жизни будет троякая, говоря вообще без подразделений. Первый чин достойных хвалы и праведных; второй — и не удостаиваемых почести и не наказуемых; третий — несущих наказания за грехи свои. Где мы поставим принявших благодеяние крещения пред смертью? Ясно, что в разряд вторых, и это по снисхождению, чтобы и они не лишены были части в человеколюбии, свойственном Богу. Ибо нерадевший о пути преуспеяния в добродетели не свободен от наказания и осуждения, потому что если желание зла подвергает осуждению, то ненавидение добра есть явный признак испорченности. Итак, что ты приобретешь великого, когда лишишься царствия и тех обетований, которых око не видало, и ухо не слыхало? Но я не терплю наказания, говоришь ты, не страшусь угроз; с меня достаточно, если не потерплю чего либо худого, хотя и не окажусь преуспевшим в чем либо благородном. Это образ мыслей лукавого раба, стоящего осуждения на тяжкую работу, уз, бичей, который старается только избегнуть наказания и ни во что ставит наслаждение свободною славою и почестями светлыми. Таким людям неприязнен самый голос всех святых, противны деяния праведных от начала мира. Они все не боязненно любили опасности, давали желающим рассекать и умерщвлять различным образом тело, и при всяких мучениях не ослабевали в подвиге, ожидая в царстве небесном чести за кровь и мужество. Ради сего Авраам, получив повеление, приносил в жертву своего сына, Моисей боролся с трудностями пустыни, Илия проводил пустынную и полную лишений жизнь; и все пророки «проидоша в милотех и козиих кожах, лишени, скорбяще, озлоблении» (Евр. 11:37). Ради сей чести благовестники терпели раны за Евангелие и мученики подвизались против казней от мучителей. И каждый истинно разумный, носящий в себе образ Божий и сочувствующий высокому и небесному, не захотел бы ни жить, ни воскреснуть вместе с прочими имеющими ожить людьми, если бы не надеялся заслужить похвалу от Бога, как добрый раб, и удостоиться каких либо почестей. При сем образе мыслей и Давид собственное свое стремление к Богу уподобляет жажде еленя и желает видеть лице Божие, чтобы возвеселиться в мысленных объятиях (Псал. 41:1–2); и Павел желает, совлекшись плоти, как тяжелой и обременительной одежды, «разрешитися и со Христом бытии» (Флп. 1:23). Конечно оба они имели в виду блаженное и неизменяемое веселие. Если же к нему нет никакого влечения, то все прочее по истине, как говорит Екклезиаст, «суета суетствий» (Еккл. 1:2).
Итак, христиане, причастники звания небесного, бегайте всякой подобной мысли достойной разбойников и злодеев и не считайте верхом блаженства возможность избежать наказаний; но вожделевайте даров и венцев, которые Бог уготовал подвижникам правды. Без лукавства пожелайте крещения, примите талант и употребите его в дело, и таким образом будете по слову притчи начальниками десяти городов (Лук. 19:17). А умерший в минуту крещения скрыл талант в землю и непременно услышит то, что сказано было рабу лукавому и ленивому (Матф. 25:26). Новопросвещенный, если к вере не присоединит хранение заповеди, по истине не более как только не виновный. Был он узником, повинным бесчисленным винам, страшился суда, трепетал времени ответа. Явилось вдруг человеколюбие царя; Он отверз темницу, выпустил на свободу злых. Воспоем и поклонимся даровавшему благодать, ибо Он по изобилию благодати спас нечаявших жизни. А помилованный да знает себя, и да ведет себя смиренно. Пусть не думает, что он сделал что–нибудь доброе, потому что он освобожден от уз. Оставление вины свидетельствует о милосердии простившего, а не о добром поведении прощенного. Приявший баню пакибытия подобен молодому воину, только что внесенному в воинские списки, но еще ничего не выказавшему воинственного или мужественного. Как он, повязавши пояс и облекшись хламидою, не считает себя тотчас же храбрым, и подходя к царю не разговаривает с ним дерзновенно, как знакомый, и не просит милостей раздаваемых трудившимся и подвизавшимся: так и ты, получив благодать, не думай обитать вместе с праведными и быть причтенным к их лику, если не претерпишь многих бед за благочестие, не будешь вести борьбы с плотью и за тем с диаволом, и мужественно не противостанешь всем стреляниям лукавых духов. Но лучше, если то угодно, мы примем в наставление себе в настоящем случае слова самого Господа, которые будут произнесены на общем суде. Что Он говорит? «Приидите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира» (Матф. 25:34) За что? Не за то, что облеклись одеждою нетления, не за то, что омыли грехи ваши, но за то, что совершали дела любви, и тотчас следует список напитанных, напоенных, одетых. И справедливо неложный Судия так судит; ибо благодать есть дар Господа, а образ жизни есть дело удостоенного почести. Никто не требует награды за полученную милость, но напротив становится должником. Посему, когда мы просветимся крещением, обязаны признательностью Благодетелю, а признательность наша к Богу состоит в милосердии к собратиям, в заботе о нашем спасении в упражнении в добродетели. Итак бросьте суетную мысль, вы, отлагающие крещение до смерти, зная, что вера требует сопутствия сестры своей, — доброй жизни, которой да удостоимся по благому произволению и помощи Бога, Ему же подобает поклонение ныне и во веки. Аминь.
Против ростовщиков
Жизнь людей, любящих добродетель и решившихся жить разумно, определена благими законами и предписаниями; к них, как можно видеть, мысль Законодателя имеет в виду две главные цели: одну—возбранить запрещенное, другую — возбудить к совершенно того, что хорошо. Ибо не иначе можно кому либо преуспеть в жизни благоустроенной и целомудренной, как убегая, сколько есть силы, от зла и стремясь за добродетелью, как сын бежит за матерью. Итак, собравшись и ныне, чтобы внимать повелениям Божиим, послушаем пророка (Амос. 8:4—9.), поражающего злые чада взаимодаяния — лихвы, и потребляющего в (нашей) жизни пользование деньгами для приращения ростом. Примем же послушно его увещание, чтобы не стать нам оным камнем, падшее на который семя осталось сухим и бесплодным (Лук. 8:13), чтобы и нам не было сказано то, что некогда сказано было упорному Израилю: «слухом услышиите, и не у разумеете; к видяще узрите, и не увидите» (Иса. 6:9).
Прошу тех, кои будут слушать, никак не обвинять меня в дерзости или безумии, если, после того как муж красноречивый и именитый в любомудрии, опытный в наставлении во всех родах словесных произведений, приобрел славу рассуждая о том же предмете, и оставил слово против лихоимцев, — сокровище для жизни, и я вступаю на тоже поприще состязания, пуская свою пару ослов или волов вместе с увенчанными конями. При великом всегда бывает видимо и малое; и луна светится при сиянии солнца; и за тяжело нагруженным кораблем, гонимым сильным ветром, следует малая ладья, переплывая ту же пучину; и за мужами, подвизающимися в борьбе по правилам ратоборства, спешат делать тоже и дети. Вот что иметь в виду, прошу вас.
Ты же, к которому моя речь, кто бы ты ни был, возненавидь обычай торгашества: будучи человеком возлюби людей, а не сребро; противостань, но крайней мере, на столько греху. Скажи любезнейшим некогда тебе лихвам слова Иоанна Крестителя: «рождения ехиднова» (Матф. 3:7.) удалитесь от меня; вы губители и имеющих деньги, и берущих взаймы, доставляете удовольствие на малое время, но в последствии времени яд от вас делается горькою отравою для души; вы заграждаете путь жизни; заключаете врата царствия; на малое время усладив зрение видом, утешив слух звоном, становитесь виновниками вечной печали. Сказав сие, распростись с приумножением и лихвою, а сдружись с нищелюбием, и «хотящаго заяти не отврати» (Матф. 5:4–2.). По бедности он молит тебя и сидит у дверей твоих; по недостатку прибегает к тебе богачу, чтобы ты был для него помощником в нужде. Ты же делаешь противное; из союзника становишься неприятелем, ибо не содействуешь ему, чтобы он и от належащей нужды освободился и возвратил тебе данное взаймы, но умножаешь несчастия угнетенного горем, раздеваешь нагого, еще более язвишь уязвленного, к заботам прибавляешь заботы, и к печалям печали. Ибо берущий деньги с тем, чтобы отдать их с лихвою, берет залог бедности, в образ в благодеяния, вводя пагубу в доме (свой.) Как тот, кто горячешному, палимому жаром, одержимому сильнейшею жаждою и усиленно просящему пить, дает как будто из человеколюбия вино, хотя доставляет на малое время удовольствие тому, кто берет чашу, но по прошествии немногого времени причиняет болящему больниц и в десятеро сильнейший жар; так и ссужающий бедного деньгами, кои приносят рост, не прекращает нужду, но усиливает несчастье.
Итак, не живи жизнью человеконенавистника, под видом человеколюбия; не будь врачом человекоубийцею, принимая вид, что желаешь спасти при помощи богатства, как тот при помощи искусства, но преднамеренно пользуясь им, на погибель доверившегося тебе. Праздна и своекорыстна жизнь лихоимца. Не знает он труда земледелия, ни искусства торговли, но сидит на одном месте, кормя у очага животных. Он хочет, чтобы для него все росло без посева и без пахания; плуг у него — перо, поле — бумага, семя — чернила, дожди — время, незаметно возращающее ему плоды—приращение денег; серп у него — взыскание денег; гумно — дом, в котором вымолачиваешь имущество угнетенных (несчастьем). На все принадлежащее другим смотришь как на свое. Желаешь людям нужды и несчастии, чтобы по неволе шли к нему; ненавидит тех, коим достаточно своего, и почитаешь врагами, кто не в долгу у него. Часто сидит близ судилищ, чтобы найти теснимого взыскивающими долги, и следует за судебными приставами, как коршуны за лагерем и войском. Носит с собою кошелек и показывает теснимым крайностью охотничью приманку, чтоб от нужды, разверзши на нее пасть, поглотили вместе с нею и крючок лихвы. Каждый день считает прибыль, и жадность его не насыщается. Жалеет о золоте, которое хранится дома, за чем оно лежит праздно и без дела. Подражает земледельцам, которые от кучи зерен непрестанно требуют семян. Не дает покоя жалкому золоту, но переводит его из рук в руки. Поэтому видишь богатого и денежного человека часто не имеющим в доме и одной монеты; но в расписках у него надежды, в обязательствах состояние; ничего он не имеет и всем владеет; он поступает в жизни противоположно апостольскому предписанию, все дает требующим, но не по человеколюбивому расположению к ним, а ради сребролюбия. Ибо терпишь временную нищету, чтобы золото, как пущенный на заработки трудолюбивый раб, возвратилось с прибылью. Видишь, как надежда на будущее делаешь пустым его дом, и великого богача делает временным бедняком. Какая же причина сего? Расписка на бумаге, обязательство стесненного бедою: «отдам с лихвою, заплачу с приращением». За тем прошу обратить внимание и на то, что должнику, хотя он и неимущ, верят на основании расписки, а Бога, который богат и обещает (воздать), не слушают. Дай, и «Я воздам», взывает написавший в Евангелии (Матф. 6:4.), — в сем рукописании, обнародованном для всей вселенной, которое написал не писец договоров, но четыре Евангелиста; свидетели которого все, от времен спасения, христиане: залогом имеешь рай, ручательство верное. А если и здесь его ищешь, то целый мир собственность благонамеренного должника. Внимательно исследуй благонадежность ищущего у тебя благодеяния, и найдешь, что он богат. Ибо все золотые руды—собственность этого должника. Все металлы, серебро и медь и прочие за тем вещества составляют часть его властительства. Посмотри на великое небо; обрати внимание на беспредельное море; исследуй широту земли; исчисли животных, которых она питает; все это подвластно и составляет стяжание Того, Кем ты пренебрегаешь, как неимущим. Образумься, о человек! Не оскорбляй Бога, и не почитай Его бесчестнее менял, которым ты, если представят поручительства, не сомневаясь веришь. Дай поручителю неумирающему, поверь рукописанию негиблющему и неуничтожаемому. Не припрашивай лихвы, но подавай благодеяние не торгуясь, и увидишь, что Бог воздаст тебе милость с приложением.
Если же странными кажутся твоему слуху сии слова., то у тебя под рукою свидетельство, что благочестиво иждивающим и благотворящим Бог воздает многоразличным воздаянием. Ибо на вопрос Петра: «се мы оставихом вся и вслед Тебе идохом: что убо будет, нам?» — отвечает «аминь глаголю вам всяк, иже оставит дом, или братию, или сестры, или отца, или матерь, или жену, гит чада, или села, сторицею приимет, и живот вечный наследит» (Матф. 19:27—30.). Видишь щедрость, видишь благость. Самый бесстыдный ростовщик старается только чтобы удвоить данную сумму, а Бог тому, кто не теснит своего брата, добровольно воздает сторицею. Итак, окажи доверенность Богу, советующему тебе, и получишь безгрешные лихвы. За чем отягощать себя греховными заботами, вычисляя дни, считая месяцы, думая о данной сумме, грезя приращением ее, опасаясь срочного дня, как бы он не оказался бесплодным как день жатвы во время града? Заботливо следит ростовщик за делами должника, за его отлучками, движениями, путешествиями, торговлею; разнесется ли какая прискорбная молва, что он попался разбойникам и потерпел от них беду, или его благосостояние от какого либо обстоятельства изменилось в бедность, — он сидит сложив руки, постоянно вздыхает, часто плачет; развертывает расписку, оплакивает в буквах (свое) золото, держит перед собою долговое обязательство, как одежду скончавшегося сына; этим еще сильнее возбуждается его страдание, А если дан в займы корабль, то сидит у берега, заботливо следит за движением ветра; постоянно расспрашивает пристающих к берегу, не слышно ли где о кораблекрушении, не подверглись ли опасности плавающее; страдает душою от мелочей ежедневной заботы. Таковому должно сказать: оставь, о человек, опасную заботливость; брось иссушающую надежду; дабы ища себе лихвы, не погубить главной суммы. От бедного требуешь прибавление и приращений богатства, подобно тому, как если бы кто с поля, высушенного сильнейшею засухою, захотел собрать кучи хлеба, или множество ягод с виноградной лозы, после градоносного облака, или (ждал бы) рождения детей от бесплодного чрева, или питания млеком от нерожавших жен. Никто не предпринимает того, что неестественно и не возможно, поелику кроме того, что он ничего не сделает, подвергнется осмеянию. Один всемогущий Бог из скудости производит обилие и устрояет то, чего нельзя надеяться и ожидать: то повелевает камням изводить источники, то дождить с небеси необыкновенный и странный хлеб, то услаждает горькую Мерру прикосновением древа; и чрево неплодной Елисаветы делает благоплодным, и дарует Анне Самуила, и Марии первородного в девстве. Все это может быть делом только всемогущей руки.
Ты же, не требуй роста от меди и золота, веществ не могущих произращать, не принуждай бедность производить то, что свойственно богачам, не требуй лихвы от того, кто нуждается в существенном. Или не знаешь, что нужда занимать деньги с лихвою есть благовидное прошение о милосердии? Посему и закон, письмя служащее введением к благочестию, повсюду воспрещает лихву: «аще даси сребро в заем брату» твоему, «не буди его понуждаяй» (Исх. 22:25.). И благодать, изобилующая потоком благости, законополагает отпущение долгов, то являя милость и говоря: не давайте в займы тем, от которых надеетесь получить (Лук. 6:34.), то в другом месте в притче, горько наказывая жестокого слугу, который не умилосердился над своим сослужителем кланявшимся ему, и не отпустил незначительного долга во сто динариев, тогда как сам получил прощение в десяти тысячах талантов (Матя. 18:23 — 35.), А наш Спаситель и Учитель благочестия, установляя ученикам правила молитвы и образец ее не содержащей ничего излишнего, в слова моления включил и сей один член, как долженствующей всего более и — прежде всего достаточный преклонить (к нам) Бога: «и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» (Матф. 6:12.). И так, как же ты будешь молиться, ростовщик? С какою совестью будешь просить у Бога исполнить благое прошение, все получая и не умея давать? Или не знаешь, что молитва твоя есть напоминание (твоего) нечеловеколюбия? Какое ты оказал снисхождение, чтобы просить о прощении? Кого помиловал, чтобы призывать Милостивого? А если и подал милостыню от твоих человеконенавистных налогов, то не переполнена ли она несчастьями других, их слезами и стенаниями? Если бы знал нищий, откуда ты подаешь милостыню, то не принял бы ее, опасаясь как бы ты не накормил братнею плотью и кровью ближних, но сказал бы тебе слова, исполненные мудрого дерзновения: не питай меня, человек слезами братними: не подавай нищему хлеб от стенаний подобных мне нищих; отпусти моему ближнему, что неправедно вытребовал от него, и я признаю твою милость. Что пользы, если одного утешаешь, а многих делаешь нищими? Если бы не было множества лихоимцев, не было бы множества бедных; разрушься это скопище, и все будем иметь достаток. Все винят лихоимцев, и не может уврачевать это зло закон, пророки, евангелисты. Что же говорит божественный Амос: «слышите сокрушающие из утра убогаго, и насильствующие нищих от землии, глаголющии, когда прейдет месяц, и продамы» (Амос. 8:4. 5.). Ибо даже и отец не столько радуется рождению детей, сколько взимающее лихву радуются окончания месяцев?..
Они называют грех почтенными именами, именуют рост человеколюбивым, подражая язычникам, кои некоторых человеконенавистных и кровожадных демонов, вместо истинного их названия, зовут Евменидами (т. е. милостивыми). Человеколюбив рост! Но не лихвенный ли налог ниспровергает дома, истощает богатых, ведет к тому, что люди благородные ведут жизнь худшую, чем рабы; (заем) несколько приятен в начале, но готовит горечь на остальную жизнь. Ибо как птицы, которым строят ковы птицеловы, рады, когда рассыпают им зерна, и делают любимым и обычным местопребыванием те места, где находят обильную пищу, но не много времени спустя, попавшись в сети, погибают: так и занимающие деньги за лихву, поблагоденствовав малое время, напоследок лишаются и отеческого очага. Милосердие же не живет в скверных и сребролюбивых душах; видя, что и самый дом должника назначен к продаже, они не преклоняются на милость, но еще более понуждают продать, дабы скорее получив деньги, опутать сетью займа другого бедняка, по примеру ревностных и ненасытных ловцов, которые окружив сетьми одну долину и выловив всех, находящихся там зверей, переставляют снова колья для сетей к соседней долине и от ней к другой, до тех пор, пока все горы опустеют, лишившись зверей. И так, какими очами, будучи таковым, взираешь на небо? Как просишь оставления грехов? Ужели по бесчувственности, молясь говоришь и то, чему научил Спаситель: «остави нам долги наша, яко и мы оставляема должником нашим»? О сколько людей в следствие лихвы, взялись за веревку, отдали себя волнам рек, сочли смерть легчайшею заимодовца, оставили сиротами детей, с злою мачехою их — бедностью! А добрые ростовщики не щадят даже и тогда опустелого дома, но влекут наследников, наследовавших может быть одну веревку от петли, и требуют золота от тех, кои питаются хлебом с чужого стола. А когда их позорят, как и следует по поводу смерти должника, и некоторые, чтобы устыдить их, упоминают о петле, не стыдятся этого происшествия и не ужасаются душою, но от горечи душевного настроения произносят бесстыдные слова: ужели то вина наших обычаев, если этот злосчастный и несмысленный, которому от рождения сужден печальный жребий, по необходимости рока, окончил жизнь насильственною смертью? Ибо ростовщики и философствуют, и делаются учениками египетских астрологов, как скоро нужно оправдать свои проклятые действия и убийства.
И так, к одному из таковых нужно сказать: ты (оная) несчастная судьба, ты злая необходимость звезд. Ибо если бы ты облегчил заботу (должника) и одну часть его долга отпустил, а другую часть взимал бы с ослабою, то не возненавидел бы он тяжкую жизнь, и не стал бы палачом себя самого. Но какими очами во время воскресения будешь смотреть на убитого? Оба придете к судилищу Христову, где не лихвы считаются, но (дела) жизни судятся. Что же ответишь, обвиняемый, неподкупному Судье, когда скажет тебе: ты имел закон, пророков, евангельские увещания, ты слышал, как все они вместе единогласно возглашали любовь, человеколюбие, и говорили: одни: «да не даси брату твоему в лихву» (Второз. 23:19.): другие; «сребра не даде в лихву» (Ис. 14:5.): иные: «аще даси в заем брату твоему, не буди его понуждаяй» (Исх. 22:25.). Матфей же в притчах вопиет, говоря и возвещая слово Господне: «рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умолил мя еси: не подобаше ли и тебе помиловати клеврета твоего, якоже и аз тя помиловах; и прогневався господь его, предаде его мучителем, дондеже воздаст весь долг свой» (Матф. 18:32—35.). Тогда овладеет тобою бесплодное раскаяние; тогда наступят тяжкие стенания и неумолимое наказание; нисколько не пособит золото и не поможет серебро; горче желчи будет наращение лихв. Это не слова устрашающие, но истинные дела, свидетельствующие о суде, прежде чем испытаем его; предохранять себя от него, хорошее дело для мужа благоразумного и заботящегося о будущем.
А что бы принести никоторую пользу слушателям, я расскажу о том, что еще прежде уда Божия в наши времена случилось в доме ростовщика: послушайте что скажу, хотя быть может многим это происшествие окажется известным.
Был в некотором городе один человек (не скажу его имени, остерегаясь, называя его по имени, выставлять на позор скончавшегося), имевший своим промыслом ростовщичество и приращение (состояния) скверными лихвами. Одержимый страстью сребролюбия, он был скуп и относительно собственных издержек (ибо таковы сребролюбцы); не имел он достаточного стола, не переменял своих одежд, иначе как по нужде, не доставлял детям необходимо потребного для жизни, не дозволял себе частого хождения в баню, боясь платы и трех оволов, но всяким способом придумывал, как бы больше увеличить количество денег. Даже не считал он никого достаточно верным стражем (своего) кошелька, ни сына, ни раба, ни менялу, ни ключ, ни печать; но закладывая деньги в углубление стен и замазывая снаружи глиною, хранил свое сокровище в неизвестности от всех, заменяя одни места другими, и одни стены другими, и думая искусно скрыть его от всех. Внезапно он отошел от жизни, не известив никого из домашних, где зарыто золото. Зарыт был и сам находивший в том пользу, чтобы скрывать (деньги). А дети его, надеявшиеся по своему богатству стать знатнее всех в городе, искали (денег) повсюду, расспрашивали друг друга, допытывали у служителей, раскапывали полы в домах, очищали снизу стены, разузнавали у соседей и знакомых дома, переворотили, как говорится, каждый камень, но не нашли ни овола. Ведут они жизнь бездомную, без приютную, нищими, не раз проклиная каждодневно глупость отца.
Таков–то ваш приятель и друг, ростовщики! Достойно своему образу жизни окончил ее суетный приобретатель денег, подвергавший себя тяжким лишениям и голоду; собравший наследство, себе — вечное наказание, а детям нищету. Не знаете вы, для кого собираете или трудитесь. Многоразличны обстоятельства, бесчисленны обманщики, грабители и разбойники тревожат землю и море; смотрите, чтобы вам и греха не преумножить, и золота не потерять. «Но несносна нам, говорят, такая речь (знаю, что вы ворчите сквозь зубы, и постоянно ставлю вас перед это седалище); он желает зла тем, кому мы благодетельствуем и кто нуждается. Вот мы удержимся давать в займы; как–то будут жить и нуждающиеся»? Слова, достойные дел, и возражение приличное омраченным мраком денег; ибо у них нет даже твердости суждения в рассудке, чтоб уразуметь, что говорим мы; они превратно понимают совет тех, кои учат их законному. Ибо, как будто бы я говорю, что не должно давать в займы неимущим, они грозят им, и угрожают запереть двери пред нуждающимися. Но я прежде всего проповедаю и увещаю дарить: за тем приглашаю и давать в займы (ибо даяние взаймы есть второй вид дарения); но делать это без лихвы и приращений, но как повело нам слово Божие. Ибо одинаково повинен наказанию и не дающий взаймы, и дающий с лихвою; поелику первый осуждается в нечеловеколюбии, а последний в барышничестве. А они, бросаясь в противоположную крайность, обещают совершенно прекратить даяние. Но это бесстыдное возражение, неистовое пререкание правде, вражда и брань против Бога; ибо говоришь ты, или не дам, или давая взаймы, заключу условие о росте.
И так, против лихоимцев достаточно подвизалось наше слово, и удовлетворительно, как бы на суде, указало то, в чем они виновны. Да даст им Господь раскаяние в этом зле! А тем, которые легко входят в долги и не взирая на опасности кидаются на крючок роста, я не скажу ничего, думая, что им достаточно совета, который мудро предложил им божественный отец наш Василий, в своем сочинении, обращая речь более к тем, кои необдуманно входят в долги, чем к тем, кои любостяжательно дают в займы.
Слово к скорбящим о преставившихся от настоящей жизни в вечную
Почитающие несчастьем для отходящих от жизни то, что составляет неизбежное следствие нашего естества, и тяжко скорбящие об отошедших от здешней жизни к жизни духовной и бестелесной, кажется мне, не обращают внимания на то, какова наша жизнь, но страдают недостатком большинства людей, кои, по какой–то неразумной привычке, свое настоящее, каково бы оно ни было, любят как благо, хотя существу, возвышающемуся над неразумною природою разумом и рассуждением, должно бы к тому только склоняться, что является хорошим и достожелаемым по суду разума, а не то, конечно, избирать, что, по какой–то привычке и нерассудительному пристрастию, кажется нам приятным и по сердцу. Поэтому мне кажется хорошим, при помощи некоторых размышлений, отвлекши их от обычного им настроения, возвести сколько возможно к лучшему и более приличному разумным существам образу мыслей; ибо таким образом были бы изгнаны из жизни людской те неразумные скорби, которым предаются многие. В рассуждении же нашем о предположенном предмете мы сохраним порядок, если во–первых исследуем, в чем состоит истинное благо; потом рассмотрим свойства жизни в теле; а за тем посредством сличения сравним настоящее с тем, что соблюдается нам упованием. Таким образом наше рассуждение достигнет цели слова, состоящей в том, чтобы освободить многих от обычного образа мыслей о благе. Так как всем людям врождено некоторое естественное отношение к благу, и к нему обращен всякий свободный выбор, полагающий достижение блага целью всех забот в жизни, то посему, неразумение того, в чем состоит подлинное благо, обыкновенно бывает причиною большей части погрешностей; так что если бы для всех было ясным истинное благо, то мы никогда бы не уклонялись от того, в чем благо составляет самую природу, и не стремились бы добровольно, опытом изведать зло, если бы только не прикрывались вещи некоторою обманчивою видимостью блага. Итак прежде всего в нашем слове размыслим о том, в чем состоит истинное благо, дабы заблуждение относительно сего не было как–нибудь поводом к избранию худшего вместо лучшего. Прежде всего, говорю я, в нашем слове нужно представить некоторое определение и характеристическое свойство искомого предмета, от чего получило бы несомненность наше понятие о благе. Итак, в чем состоит характеристическое свойство истинного блага? В том, что оно имеет в виду не одно только полезное относительно, что в различное время является то полезным, то бесполезным, что для одного хорошо, а для другого не таково, но то, что и само по себе, по собственной природе есть благо, и остается таковым же для всех и всегда; таково, по моему суждению, неложное и необманчивое характеристическое свойство, отличающее благо. Ибо, что есть благо не для всех, не всегда, не само по себе независимо от внешних обстоятельств, то не может собственно быть почитаемо существенным благом. Так, многие поверхностные наблюдатели существующего вообразили, что благо заключается в стихиях мира; но при внимательном исследовании никто не найдет, чтобы в них оказалось благое само по себе, всегда и для всех, ибо в каждой из них с полезным смешано и действие противоположного свойства; например вода спасительна для живущих в ней, но гибельна для земных животных, если погрузятся в нее. Точно также и воздух для тех, кому природа определила жить в нем, спасителен, а кому досталась в удел жизнь в воде, оказывается пагубным и гибельным, как скоро случится быть в нем кому–либо из животных водных. Так и огонь, приносящий нам в некоторых случаях пользу, гораздо чаще оказывается гибельным. Да и самое солнце, не всегда, не повсюду, и не для всего, что подвергается его действию, оказывается благом; в иных случаях бывает оно и очень вредоносным, когда печет сверх надлежащей меры, иссушает чрезмерно то, что под ним, часто делается причиною болезней, людям с чувствительным зрением причиняет глазную болезнь, и производя гниение влаг, порождает в испорченной гнилости влажных веществе вредные и отвратительные существа.
Итак, повторяю, из всего признать благом надлежит только то, что всегда и для всех одинаково является благом по самому существу, что постоянно пребываете таковым и не изменяется по внешним обстоятельствам. О всем прочем, что по какому то неразумному предположению кажется людям благом, говорю о благах телесных и внешних, каковы сила и красота, благородство происхождения, деньги, власть и слава, и все подобное, о всем этом, как само собою для всех очевидном, думаю нужно умолчать и не обременять напрасно наше слово вещами общеизвестными. Ибо кто не знает скоротечности красоты или силы, или переменчивости власти, или непостоянства славы, или суетности пристрастия к деньгам людей, которые полагают благо в известных веществах по причине их блеска и редкости?
Распорядившись так касательно этих предметов, мы должны обратить внимание на настоящую жизнь, говорю о жизни, проводимой во плоти, такова ли она, чтобы в ней усматривался характеристический признак блага, или иного рода? Ибо, что откроет в ней наше рассуждение, то конечно будет для разумения исследующих руководством, как нужно относиться к преставлению от здешней жизни. Итак, жизнь нашего тела состоит в восполнении и лишении, совершающемся двояким образом, чрез пищу и питье, за тем чрез вдыхание и выдыхание воздуха, без чего плотская жизнь естественно не может существовать; ибо тогда перестает человек жить, когда наша природа уже не утруждается преемством сих противоположностей. После сего совершенно останавливается такого рода деятельность, так как в умершем ничто ни отвне не привтекает, ни из него не выделяется, но при разрешении и разложении тела на сродные стихии, из которых оно состояло, естество наше наконец остается в неподвижном покое, возвратив каждой стихии сродное и однородное, земле—землистое, воздуху—свойственное ему, воде—принадлежащее ей, и теплоте—соответствующее ей. Ибо как скоро в массе тела, составляющая оную разнородные вещества теряют свою вынужденную и невольную связь, но каждая из находящихся в нас частиц возвращается на свое место; то телесное естество наше, которое насильно сдерживало в себе соединение разнородного, перестает быть. А если кто к вышеуказанным противоположностям причислит еще сон и бодрствование, как видоизменения сей жизни, тот не выскажет неверного мнения. Ибо и сему подвержено наше естество, постоянно влекомое к противоположным состояниям, то являясь расслабленным во время сна, то возбужденным во время бодрствования; а чрез то и другое совершается в нем лишение и восполнение. Итак, если лишение и восполнение есть особенность нашей жизни, то хорошо было бы указанное выше характеристическое свойство, отличающее благо, сравнить теперь с свойствами жизни, чтобы увидеть, истинное ли благо есть эта жизнь, или иное что, различное от сего. Если восполнение само по себе не может быть правильно приписано благу, как его естественное свойство, то отсюда ясно для всех, что также невозможно почитать благом и противоположное ему, разумею лишение. Ибо при совершенной противоположности того и другого невозможно согласовать их, как равно противоречащая в понятии блага; но если бы одно было по природе своей благом, то противоположное ему конечно будет злом. Но здесь то и другое равно приносит пользу для природы. Следовательно, в определение блага не возможно допустить ни понятия восполнения, ни лишения. Итак доказано, что восполнение есть нечто иное, отличное от блага; ибо всеми признается, что оно и не везде, и не всегда, и не во всяком виде полезно. Не при вредной пище, пресыщение бывает гибельно, но и при соответствующей, превышение меры полезного часто бывает причиною опасностей и вреда; и если при переполненном состоянии тела, которое требует очищения, новое переполнение усилит существующее, то оно причинит множество бед и окончится неизлечимыми болезнями. Итак восполнение и не всегда, и не вполне есть благо, но польза от него бывает только для чего–либо, когда–либо, в известной мере и качестве. Точно также каждый найдет, что и мыслимое как противоположность сему, говорю о лишении, опасно для подвергающихся ему, если превысит меру полезности; и наоборот небесполезно, если будет употреблено как должно, и если для полезного действия лишения будут приняты во внимание и время и количество и качество. Итак, поелику вид сей жизни, которою живем, не соответствует характеристическому свойству блага, то на основании вышесказанного должно признать, что преставление от сей жизни не есть разлучение с каким либо благом. Ибо ясно, что истинное, собственное и главное благо не есть ни лишение, ни восполнение, что, как доказано, полезно когда–либо и для чего–либо и при известных случаях; а сие не соответствует характеру истинно сущего блага.
Поелику же истинное благо благу неистинному противоположно, и между сими двумя противоположностями нет середины, то следует признать, что удаляющиеся от неистинного блага преставляются отсюда к благу существенному, которое всегда, везде, и во всем есть благо, а не в известное только время, в некоторых случаях и в известном отношении, но всегда пребывает одинаковым и тожественным. Итак к сему благу преходит душа от плотяной жизни, переменяя настоящее состояние жизни на некое иное; точно уразуметь это состояние, каково оно, для соединенных с плотью невозможно, но чрез отъятие признаков сей жизни возможно при помощи аналогии составить некоторую догадку о нем. Оно уже не будет соединено с телесною грубостью; жизнь не будет зависеть от равновесия противоположных стихий, равномерное взаимное борение которых производит наш состав и здоровье; ибо избыток или недостаток какой–либо из противоположных (стихий) причиняет страдание и болезнь в нашей природе. В том состоянии ни лишение не будет нисколько истощать, ни отягощение обременять; жизнь будет совершенно независима и от всех невзгод воздуха, разумею мороза и жары, и свободна от всего того, что мы представляем в виде смены противоположностей. Душа будет там, где жизнь свободна от всех необходимых трудов и не обречена им. Она не будет страдать от тягости земледелания, подвергаться трудам мореплавания, заниматься торговым барышничеством; чуждая забот о постройке, о ткане, о ремесленных искусствах, она будет проводить «тихое и безмолвное житие», как говорит Павел (1 Тим. 2:2.), не сражаясь на коне, ни на корабле, не бросаясь в рукопашный бой в рядах пехоты, не заботясь о приготовлении оружия, не собирая податей, не устрояя ни рвов, ни стен; все это для нее не нужно, и от всего этого она свободна. Ни для нее нет забот, ни другим она не доставляет их; в ее жизни нет места рабству и господству, бедности, благородству и незнатности рода, скромному состоянию простых людей и чиновному начальствованию и всякому подобному неравенству. Ибо необходимость всего этого уничтожается при отсутствии нужд и при невещественности той жизни, в которой главным началом существования души служить не усвоение чего–либо сухого или влажного, но разумение божеского естества; вдыхание же воздуха, как не сомневаемся, там будет заменено общением с истинным и Святым Духом. Наслаждение сими благами не будет сменяться подобно тому, как в сей жизни, то имением их, то лишением, то стремлением к ним, то отвращением, но будет всегда полным, и никогда полнота его не будет ограничиваться насыщением. Ибо не отяготительно и ненасытимо духовное услаждение; оно постоянно без пресыщения и избытка удовлетворяет желаниям тех, кои пользуются им. Потому–то блаженна и непорочна оная жизнь, что не вводится уже чувственными удовольствиями в заблуждение при суждении о благе. Итак, что печального в обстоятельстве преставления близких нам, которое возбуждает нашу скорбь? То разве кто–нибудь почитает прискорбным, что они преходят к жизни чуждой страданий и забот, которой недоступна боль от ударов, где не страшны ни опасность от огня, ни раны от железа, ни несчастья от землетрясений, кораблекрушений, плена, ни нападения плотоядных зверей, ни жала и угрызения змей и ядовитых животных? В той жизни никто ни гордостью не надмевается, ни уничижением не попирается, ни дерзостью не свирепствует, ни от боязни не приходит в ужас, ни гневом не пышет пылая яростью и беснуясь, ни дрожит от страха, когда не в силах выдержать (гневные) порывы начальника. В той жизни нет заботы о том, каковы нравы царей, каковы законоположения, каков образ мыслей тех, коим поручено начальство, какие предписания, как велика ежегодная подать; много ли было дождя, не затопил ли он своим излишеством посевы, не уничтожил ли град надежды земледельцев, не иссушила ли усилившаяся засуха всю растительность. И прочие бедствия жизни там также не страшны: скорбь сиротства не печалит оной жизни; бедам вдовства там нет места; не существуют там и многоразличные болезни тела, и зависть к благоденствующим, и высокомерие пред бедствующими; все подобное свойственное здешней жизни изгнано. Равноправность и равенство законов, посредством совершенной мирной свободы, обитаете в обществе душе, где каждый имеет все, что уготовит для себя свободным выбором.
А если вместо лучшего, кто либо по некоторой нерассудительности уготовит себе худшее, то в этом смерть не повинна, потому что каждый по произволу вперед избирает, что ему угодно. И так, о чем же печалятся оплакивающие отшедшего от сей жизни? И если бы совлекшийся вместе с телом удовольствия и печали не был совершенно свободен от всякого страстного расположения, то он гораздо справедливее оплакивал бы остающихся здесь, кои испытывают тоже, что находящиеся в темнице, но у которых привычка к тяжелой жизни и общее с другими обитание во мраке произвело то, что они почитают настоящее свое положение приятным и непечальным; и они, быть может, сожалеют тех, кои выводятся из темницы, не зная той светлости, которая ожидает освободившихся от мрака. Ибо если бы узнали то, что можно видеть под открытым небом, красоту воздуха, высоту неба, блеск светил, стройное движение звезд, периодическое обращение солнца, течение луны, многовидную красоту растений на земле, приятный вид моря, когда тихий ветер слегка рябит гладкую и светлую его поверхность, красоту как частных так и общественных городских зданий, которыми украшаются знаменитые и великолепные города, — если бы это и подобное узнали содержащееся в темнице, то не стали бы оплакивать выводимых прежде них из заключения, как будто лишившихся какого блага; так скорее должны бы думать находящиеся вне темницы о заключенных еще там, как о страждущих еще в жалкой жизни. Так, кажется мне, и освободившиеся из темницы этой жизни, если бы было им вполне возможно слезами высказать сострадание к злостраждущим, рыдали бы и плакали о тех. кто удерживается еще в скорбях сей жизни, о том, что они не видят премирных и невещественных красот, престолов и начал, властей и господств, и воинств ангельских и собраний и горнего града и пренебесного торжества «написанных» (Евр. 12:23). А превышающая и все сие Красота, которую, как указало неложное слово Божие, «узрят чистии сердцем» (Матф. 5:8), превосходнее всего, чего бы ни надеялись, и выше всего, что бы ни представили себе гадательно. И не одно это у нас преставившиеся почли бы достойным рыданий и печали, но и то, что, не смотря на толикие страдания, которыми полна жизнь, до такой степени вкоренилась в людях привычка к скорбям, что приражение их не только переносят они, как необходимую какую то обязанность, но даже заботливо стараются, чтобы сии (скорби) продолжались навсегда. Ибо страстное влечение к власти, к богатству, и эта жадность к наслаждениям и иное подобное составляющее предмет забот, ради чего и вооружение и войны и взаимное убийство и все добровольно совершаемые беды и коварство, — все это не иное что, как некоторая куча несчастий, которою с заботливостью и усердием произвольно вносят в жизнь. Но преставившиеся не могут плакать, потому что им чуждо как это так и другое какое либо страдательное состояние; они—ум и дух; отрешившись от плоти и крови они не имеют свойства быть видимыми теми, кои облечены дебелостью тела; они не могут самолично убедить людей оставить ложное суждение о существующем. И так вместо них пусть говорит наш ум, и мы сколько возможно, мысленно отрешившись от тела и отдалившись душою от пристрастия к веществу, скажем вместо них: О человек! всякий причастный человеческого естества «вонми себе» по заповеди Моисея (Втор. 4:9) и точно узнай себя, кто ты, вникнув мыслью, что ты по истине и что видимое вокруг тебя, дабы взирая на то, что вне тебя, не подумать, что видишь себя самого. Узнай от великого Павла тщательно изучившего это естество, что есть у нас, как говорит он, один внешний человек, а другой внутренний, и что когда тот тлеет, этот обновляется (2 Кор. 4:16.).И так смотря на тлеющего не подумай, что видишь себя самого. Конечно и это тленное будет некогда свободно от тления, когда в пакибытии смертное и удоборазрушимое преобразится в нетленное и неразрушимое. Но то, что ныне является вне нас, протекает, переходит и истлевает. И так не на сие должно взирать, потому что и на другое что либо из видимого не следует обращать взор, но, как говорит Павел, мы не должны смотреть на видимое («видимая бо временна: невидимая же вечна» — ст. 18), но обратив взор ума к невидимому в нас, должны верить, что истинно мы то, что недоступно познанию посредством чувств.
И так познаем, по слову притчи, самих себя; ибо знание самого себя бываете средством очищения грехов происходящих от неведения. Но желающему увидеть самого себя это сделать не легко, если не придумаем, как сделать возможным невозможное. Ибо как относительно глаз телесных, природа устроила так, что они видя все другое, остаются невидящими себя самих: таким же образом и душа, испытывая все прочее, внимательно изучая и исследуя то, что вне ее, лишена возможности видеть саму себя. И так, что бывает с глазами, тому пусть подражает и душа. Ибо как глаза, поелику не дано им природою силы обращать зрительную деятельность на усмотрение самих себя и видеть себя, смотря на вид и очертание своей орбиты в зеркале, посредством отображения усматривают самих себя: так и душа должна взирать на собственное изображение, и что увидит в очертании, в котором она отображается, на то смотреть, как на свойственное себе. Но нам должно немного изменить этот пример, чтобы мысль соответствовала словам. Ибо что касается до изображения в зеркале, то образ вполне отображает первообраз; что же касается характеристических черт души, то разумеем напротив; ибо вид души отображается соответственно красоте божественной. И так душа тогда с точностью усматривает себя, когда взирает на свой Первообраз. Что же есть Божество, которому уподобляется душа? Не тело, не очертание, не вид, не величина, не плотность, не тяжесть. не место, не время, ни другое что подобное сему, что составляет признак вещественной твари: но по отъятии всего сего и подобного, остальное непременно должно разуметь как нечто разумное и невещественное, неосязаемое и бестелесное и непротяженное. И так если таковы, как мы понимаем, характеристические черты Первообраза, то конечно следует, что и душа образованная по виду оного должна носить те же характеристические признаки, так что и ей должно быть невещественной и безвидной и разумной и бестелесной. Теперь размыслим, когда более человеческое естество приближается к первообразной красоте, во время ли плотской жизни, или когда становится вне ее. Но каждому ясно, что как плоть будучи вещественною имеет сродство с этою вещественною жизнью, так и душа, тогда становится причастной разумной и невещественной жизни, когда отбросит обдержащее ее вещество. И так какое же из сих состояний заслуживает названия несчастий? Если бы тело было истинным благом, то нам следовало бы печалиться при отрешении от плоти, так как при удалении нашем из нее, вместе с телом мы конечно лишались бы и сродства с благом. Поелику же превышающее всякое, какое ни помыслим, Благо, по образу которого мы созданы, разумно и бестелесно, то следует нам быть уверенными, что когда через смерть переходим к бесплотности, то приближаемся к тому естеству, которое чуждо всякой телесной грубости, и сняв с себя плотяную оболочку, как бы какую гнусную личину, возвращаемся к сродной нам красоте, по которой были образованы от начала, будучи созданы но образу Первообраза. А таковая мысль должна бы быть поводом к радости, а не к унынию для тех, кои признают, что человек, исполнивший это необходимое служение, живет уже не в чуждой ему области, когда, отдав каждой из стихии принадлежащее ей, что от них собрано, восходит к сродному себе и естественному жилищу, чистому и бестелесному. Ибо подлинно чуждо и несродно бестелесному естеству вещество тела, с которым по необходимости соединенный в сей жизни ум тяготится, живя вместе с ним как бы иноземною для себя жизнью. Потому что взаимное сочетание стихий подобно некоторыми разноязычным и чуждым по нравам людям, составляющим из различных народов одно государство, производит насильственное и несогласное общение, так как каждую из них собственная природа влечет к сродному и родственному ей. А ум, примешанный к ним, будучи несложным по своему простому и единовидному естеству, живет как бы среди иноземцев и чужих, будучи не сроден с окружающею его множественности стихий; он какою то необходимостью всеянный среди телесной многочастности, делает насилие своему естеству, соединяясь с инородными ему.
Когда же стихии чрез взаимное разрешение естественно влекутся к тому, что сродно и родственно каждой из них, наше чувство при необходимом расторжении и разделении соединенного страдает; разумная же сила души разделяет это чувство, по привычке будучи наклонна к тому естеству, которое всегда ее удручало. Но ум тогда перестанет тяготиться и страдать, когда будет находиться вне борьбы имеющей место при сплетении противоположных стихий. Ибо когда холод будет побежден преобладанием тепла, или наоборот, теплота исчезнет от усиления холода, когда влага уступит место усилившейся сухости, или плотность сухого начала разрешится от умножения влажности, тогда с прекращением в нас брани смертью, ум получит мир; оставив место брани, говорю о теле, и удалившись из среды взаимно борющихся стихий, он будет жить сам по себе, возвратив чрез успокоение утружденную в сплетении тела свою силу.
Это и подобное говорит ум живущим в теле, произнося почти такую речь: О люди, ни того, среди чего вы находитесь, точно не знаете, ни того, куда переселитесь, еще не разумеете. Ибо настоящего, каково оно есть по естеству, мысль не возмогла еще исследовать, но обращает внимание на одно привычное в жизни, не будучи в состоянии узнать: в чем состоит естество тела? В чем сила чувств? Как устроены органические члены? Какое строение внутренностей? В чем состоит самоподвижная деятельность нервов? Как находящееся в нас становится то твердым естеством костей, то световидным существом блестящего глаза? Как из той же самой пищи и того же самого пития, одна часть утончается в волоса, а другая расширяется в ногти на конечностях пальцев? Или как в сердце всегда пламенеет огонь, жилами разносимый по всему телу? Или, как то, что мы пьем, когда входит в печень, изменяет и свой вид и качество, посредством некоторого изменения само собою превращаясь в кровь? Знание всего этого до настоящего времени недоступно, так что мы не знаем жизни, которою живем. А жизнь отрешенную от чувстве живущие при помощи чувств, совершенно не могут увидеть. Ибо, как кто либо посредством чувства увидит то, что недоступно чувству? Итак, если и та и другая жизнь равно неизвестна; эта, — потому что мы смотрим только на одно являющееся нам, а та —потому что чувство не может исследовать ее: то почему страдаете люди, за эту держась как за благо, хотя и не зная ее, а той боясь и страшась как тяжкой и достойной страха? — не по чему другому, как потому только, что не знаете, какова она. Однако ж из чувственно являющегося нам и неведомого много и другого такого, чего мы не боимся. Каково естество того, что является на небе, или что сообщает небесным телам противоположное движение, что поддерживает плотность земли, как текучее естество вод всегда исходит из земли, а земля не истощается, — этого и другого подобного мы не знаем, но не считаем незнаемого заслуживающим страха. Так и относительно оного всякий ум превышающего, божественного, блаженного и непостижимого естестве, тому, что оно есть, верим, а в чем заключается сущность его, того даже сколько–нибудь гадательно уразуметь еще не дано; и однако ж мы любим, от всего сердца и души и силы, неведомое и не могущее быть понятым мыслью. Итак почему же является этот бессмысленный страх большею частью только относительно жизни, ожидающей нас после сей жизни, и от одного незнания мы боимся того, чего не знаем, подобно тому как бывает с младенцами, пугающимися не имеющих действительности вымыслов!? Желающий видеть истину того, что есть, во–первых старается уразуметь предмет; за тем размышляет, каков он есть по естеству, полезное что либо и удободоступное, или опасное и отвратительное. А что совершенно неизвестно и неведомо, то как кто либо из имеющих ум станет почитать опасным, и потому только, что оно далеко от привычного нам, подозрительно смотреть на него как бы на приближение какого либо огня или зверя? Однако же жизнь ясно учит нас не всегда смотреть на то, что привычно, но обращать желания к тому, что хорошо. Ибо и люди образуясь не постоянно живут в виде зародыша; но пока находятся в утробе, природа делает для них. жизнь во чреве приятною и соответственною; когда же родятся, не навсегда остаются у сосцов, но насколько по несовершенству возраста это хорошо и соответственно; а после сего переходят к другой, далее следующей жизни, нисколько не повинуясь привычке, чтобы оставаться при груди. За тем после состояния младенчества наступают иные занятия юношей, и иные более возрастных, к которым последовательно переходит человеке, без печали переменяя вместе с возрастами и привычку.
И так как питаемый во чреве матери, если бы у него был какой–нибудь голос, вознегодовал бы, будучи чрез рождение изгоняем из утробы, и вопиял бы, что он терпит бедствие, будучи отторгаем от приятного ему рода жизни (что он и делает, при первом вздохе вместе с рождением испуская слезу, как бы негодуя и рыдая об отторжении его от привычной жизни), так, кажется мне, скорбящие о переходе из настоящей жизни, когда желают постоянно жить в области этой вещественной неприятной жизни, испытывают тоже, что утробные младенцы. Ибо после того как болезнь смертельная родит людей для иной жизни, они как скоро перейдут на оный свет, и вдохнут чистый воздухе, опытом дознают, как велико различие той жизни от нынешней. А находящиеся в этой влажной и гнилостной жизни, будучи просто зародышами, а не людьми, сожалеют обе исшедшем из обдержащей нас тесноты, как о лишившемся какого–то блага, не зная, что у него, подобно тому как у родившегося младенца, тогда отверзается око, когда он становится вне того что ныне его отовсюду объемлет (разуметь же конечно должно око души, которым она презирает истину сущего); отверзнется у него также и чувство слуха, посредством которого слышит он неизреченные «глаголы, их же не меть есть человеку глаголами» (2 Кор. 12:4); отверзаются и уста и привлекают чистый и невещественный воздух, которым укрепляется их разумный глас и истинное слово, когда присоединятся к гласу празднующие в лике святые; удостаивается также и вкушения божественного, посредством которого познает, по слову псалмопения, «яко благ Господь» (Пс. 39:9.); получает способность обоняния, которою воспринимает благоухание Христово; приобретает также душа и силу осязания, касаясь истине и осязая «Слово», по свидетельству Иоанна (1 Иоан. 1:1.). Итак, если это и подобное предлежит людям, после рождения путем смерти, то что значат плачь и скорбь и уныние? Пусть ответит нам теперь испытатель естества вещей, ужели он предпочитает, в суждении о благе быть вводиму в заблуждение телесными чувствами, чем чистым оком души взирать на самую истину вещей? Здесь на земле душе настоит какая–то необходимость, в понятии о благе подчиняться чуждому суждению. Поелику совершенство душевных сил несовместимо с младенческим телом, а совершенство деятельности чувств является тот час с рождением дитяти, то посему чувства предупреждают рассудок в суждении о благе; и что оказалось для чувств приятным, что он почли благом, и что усвоили привычкою, то душа без испытания признает за таковое же, на веру принимая за благо, что признало им предшествующее размышлению чувство, которое видит благо в красках и соках и тому подобных глупостях. Так как все это уже не явится нам по отшествии из тела, то вполне необходимо, чтобы душе явилось истинным благом то, с чем она сродна по естеству. Ибо ни зрение не обольстится приятным цветом, когда не будет уже этого глаза, ни воля не будет равномерно склоняться к чему либо услаждающему чувства, когда всякое телесное ощущение угаснет. Когда же одна только разумная действенная сила невещественно и бестелесно будет касаться умопостигаемой красоте, то естество наше невозбранно воспримет свойственное себе благо, которое не есть ни цвет, ни очертание, ни расстояние, ни количество, но то, что превосходит всякое гадательное уподобление.
Итак, что же, скажет может быть кто либо сожалеющий о настоящей жизни? К чему это тело, и для чего оно нам, если, как доказывает твое слово, жизнь без него лучше? Таковому скажем, что тот, кто в состоянии обозреть все домостроительство естества, откроет и в теле не малую пользу. Действительно, блаженна оная ангельская жизнь, не имеющая никакой нужды в бремени тела; но и жизнь в теле не бесцельна по отношению к ней; ибо жизнь настоящая бывает путем к чаемому нами. Так мы видим и в растениях, в них плод, получив начало от цвета, при посредстве его достигает того, что становится плодом; и злаки, рождающиеся от семян, так же не тот час являются в виде колоса, но растенье сначала бывает злаком; потом, от этого злака, с его истлением, происходит стебель и таким образом на вершине колоса вызреваете плод. Однако ж не осуждает этого необходимого порядка и последования земледелец, говоря: зачем цвет, и иритом прежде плода? Или к чему злак прежде вырастающий из семени, когда и цвет отпадает и злак понапрасну засыхает, не принося никакой пользы для питания человека? Потому что знает разумеющей чудодействие природы, что из семян и растений плод может образоваться не иначе, как этим ведущим к образованно его путем искусной последовательности. Из–за того, что вырастающий из семян злак бесполезен для нашего употребления, нельзя еще назвать происходящее с растением излишним и бесцельным. Имеющий нужду в пище обращает внимание на то только, что ему потребно, а закон природы имеет в виду не иное что, как то, чтобы посредством установленной последовательности, довести до конца созрение плода. Для сего во–первых, природа облекает лежащее в земле семя многосложными корешками, посредством которых оно извлекает из влаги соответственную себе пищу: затем произращает злак, прикрывая зеленью корень от вредоносного действия воздуха. Хотя этот злак не есть плод, но составляет некоторого рода содействие и путь к образованию плода. Прежде всего выделяя заключающуюся в семени силу, природа производит злак, невидимому излишний для плода, покрывая им корень от вредоносных действий воздуха, происходящих от холода и зноя. Когда же семя своими корешками прочно укрепилось в глубине, тогда, оставив заботу о злаке, так как корень уже не имеет нужды в прикрытии, природа всю силу сосредоточивает на произращении стебля; художественною какою–то мудростью, она искусно устрояет трубкообразный прибор, при помощи которого стремящееся в верх растение, облекается вокруг наложенными один на другой покровами; ибо необходимо, чтобы в начал жизнь влажного и слабого стебля поддерживалась этими покровами, ради прочности связанными извнутри соединяющими плевами. Когда же стебель достигнет соответственной высоты, является плод: крайний покров выпускает из себя колос, который будучи разделен волосообразно на многие ости, у основания каждой из них скрывает и питает плод. Итак, если земледелец не досадует ни на корешки пробивающиеся из семени, ни на злак вырастающий из семени, ни на ости колоса, но во всем этом усматривает нечто необходимо нужное, посредством чего искусно идущая своим путем природа производит образование плода, отстранением ненужного возвышая производительную силу; то и ты не должен досадовать на то, что естество наше необходимыми путями приходит к своему концу, но по сходству с тем, что видишь в семени, должен думать, что настоящее всегда имеет несомненно полезную и необходимую цель для чего либо иного, а не само служит целью, ради которой мы произошли. Ибо не в виде зародышей назначил нам оставаться Создатель, и не младенческая жизнь служит целью нашего естества, и не следующие за нею возрасты, в кои всегда попеременно природа облекает нас, изменяя с течением времени наш вид, и не происходящее от смерти разрушение тела; но все это и подобное—части того пути, которым мы идем; цель же и предел такого шествия — восстановление в первобытное состояние, которое есть не иное что, как уподобление Божеству. И как мы видели в примере колоса, по закону природы оказался необходимым, и вырастающий из семени злак, хотя и не для него существует земледелие, и не растительные покровы и ости и стебель и пленки служат предметом, для которого трудится земледелец, но питательный плод, достигающий зрелости при помощи их; так и от жизни ожидаемый конец есть блаженство. А все что ныне усматриваем в телесной жизни, —смерть, и старость, и юность и образование в утробе, все это как бы некоторые злаки и ости и стебли, есть путь и последование и сила чаемого совершенства. Имея в виду сие совершенство, ты, если благоразумен, не будешь ни питать вражды к жизни, ни страстной любви и привязанности к ней, так что не станешь ни печалиться лишаясь ее, но самовольно спешить к смерти. Не бесполезно также, может быть, присовокупить к сказанному нами (хотя и покажется, что мы нарушаем последовательность) и то, что природа постоянно заботится о смерти, и с жизнь текущею вперед во времени, непременно соединяет смерть. Так как жизнь от прошедшего постоянно движется к будущему и никогда не возвращается назад, то необходимое следствие, тесно соединенное с деятельностью жизни, есть смерть: ибо в протекшем времени совершенно прекращается всякое жизненное движение и энергия. Итак поелику свойство смерти недеятельность и отсутствие энергии, а это мы всегда непременно находим позади жизненной энергии (в прошедшем), то не чуждо истине сказать, что с этою жизнью сопряжена смерть. И иным еще образом нам можно подтвердить истину этой мысли, так как самый опыт свидетельствует в пользу того положения, что сегодняшний человек не тот же самый что вчерашний, по вещественному составу, но действительно нечто в нем постоянно умираешь и гниет и тлеет и извергается, природа как бы из своего дома (говорю о составе тела) выносит мертвенное зловоние и предает земле, что лишилось уже жизненной силы.
Таким образом мы, по слову великого Павла, «по вся дни» умираем (1 Кор. 15:31.), не оставаясь постоянно теми же самыми в том же доме тела, но каждый раз делаясь другими чрез прибавление и отделение, как бы постоянно изменяясь в новое тело.
Итак, за чем же чуждаемся смерти, которая, как доказано, служит предметом постоянной заботы и упражнения, для плотской жизни? А говоря о сне и пробуждении, не указываем ли опять на сочетание смерти с жизнью? Не угасает ли у спящих ощущение, а пробуждение не представляет ли нам собою снова действие ожидаемого воскресения.
Но предмет нашего исследования еще не уяснен тем, что мы сказали, так как вводные мысли отвлекли нашу речь к рассуждению о другом. Итак возвратимся опять к прежнему положению, что для надежды ожидаемых нами благе не бесполезно и телесное естество. Ибо, если бы мы оставались теми, чем были от начала, то конечно не имели бы нужды в кожаной ризе (Быт. 3:22.), так как освещало бы нас уподобление Божеству. Божественный же образ, который являлся в нас в начале, не был особенностью, имеющею какое либо очертание или цвет, но в чем усматривается божественная красота, тем украшался и человек, отображая первообразную благодать бесстрастием, блаженством и нетлением. Поелику же обольщенный врагом нашей жизни, человек добровольно возымел склонность к скотскому и неразумному, то для нерассудительных могло бы показаться полезным, помимо его воли отвлечь его от зла, и насильно возвратить к совершенству. Но Зиждителю естества казалось бесполезным и несправедливым, подобного рода распоряжением нанести естеству (нашему) ущерб в величайшем из его благ. Человек был богоподобен и блажен, потому что удостоен свободной воли (так как самодержавие и независимость есть свойство божеского блаженства), то насильственно и по неволе вести его к чему–нибудь, значило бы отъять у него это достоинство. Если бы человеческое естество добровольно, по движению свободной воли устремившееся к чему либо не приличному, насильственно и принудительно отдалить от того, что ему понравилось, то это было бы отъятием блага, которое оно имело прежде, и лишением богоподобной чести; ибо свобода воли есть подобие Богу. Итак, чтобы и свобода осталась у нашего естества, и зло было уничтожено, мудрость Божия примыслила такое средство: попустить человеку остаться с теме, чего пожелал, чтобы вкусив зла, которого вожделел, и узнав опытом, что на что променял, снова добровольно сильным желанием востек к прежнему блаженству, отринув от своего естества все страстное и неразумное, как бы какое бремя, очистившись или в настоящей жизни молитвою и любомудрием, или после преставления отсюда, пещию очистительного огня. Как врач, при помощи науки, вполне сведущий в том, что полезно и вредно для здоровья, если советуя мальчику приличное (лекарство) не в состоянии предупредить, чтобы он, несовершенный по возрасту и разумению, не увлекся каким либо вредоносным плодом или зеленью, то имея в готовности всякого рода противоядия, попускает дитяти вкусить того, что ему вредно, с тою целью, чтобы испытав боль, он узнал пользу отеческого совета, и чтобы возбудив в отроке сильное желание выздоровления, опять при помощи лекарств восстановить его здоровье, которого он лишился от неуместного влечения к вредоносному; так нежный и добрый Отец нашего естества, зная, что для нас спасительно, знал и то, что вредоносно человеку, и не советовал ему касаться последнего; когда же возобладало вожделение худшего, у Него не оказалось недостатка в хороших противоядиях, при помощи которых можно было опять возвратить человека к прежнему здравию. Ибо когда человек это вещественное удовольствие предпочел, радости душевной, Бог по видимому как бы содействовал, ему в сем стремлении посредством кожаной одежды, которою облек его по причине склонения его к злу, и с которою примешались человеку свойства неразумного естества. Мудростью Устрояющего лучшее, чрез то, что сему противоположно, уготована для разумного естества одежда из свойств неразумных животных. Кожаная одежда, нося в себе все свойства, которые соединены с неразумным естеством, — сластолюбие и гнев, и обжорство, и жадность и тому подобные, представляет человеческой свободе путь склоняться на ту или другую сторону, будучи веществом как для добродетели, так и для порока. Ибо человек в настоящей жизни движением свободной воли может избирать и то и другое, если отрешится от свойственного неразумному естеству и обратит взор на себя самого, чрез более достойную жизнь соделает настоящую жизнь чистою от примешавшегося к ней зла, разумом одолевая неразумность; если же склонится к неразумному влечению страстей, употребив как содействие страстям кожу бессловесных, то иным способом после сего будет научен лучшему, когда по отшествии из тела, различие добродетели от порока дознает он из невозможности быть причастником Божества, если только очищающий огонь не очистит примешавшейся душе скверны.
Вот что сделало для нас необходимым и потребным тело, чрез которое и свобода сохраняется к целости и возвратный путь к благу не возбраняется, но чрез известное продолжение времени возникает в нас добровольное склонение к лучшему. Одни уже здесь, в продолжении жизни во плоти, преуспели в жизни духовной, в бесстрастии; таковы, как известно, были патриархи и пророки, а вместе с ними и после них посредством добродетели и любомудрия востекшие к совершенству, — разумею учеников, апостолов, мучеников и всех жизнь добродетельную предпочетших жизни вещественной: (все они) хотя и меньше числом множества текущих к худому, тем не менее свидетельствуют о возможности и во плоти преуспеть в добродетели. Прочие же путем исправительного воспитания в последующей жизни, отрешившись в очистительном огне пристрастия к веществу, посредством свободного вожделения того, что благо, возвратятся к предназначенной от начала в удел нашему естеству благодати. Ибо не на век остается в естестве вожделение того, что чуждо ему; посему–то каждого пресыщает и отягощает ему несвойственное, с чем в начале не имело общения естество само по себе: а одно сродное и однородное навсегда остается вожделенным и любимым, до тех пор, пока естество пребудет неизменным само в себе. Если же потерпит какое–либо извращение от злой коли, тогда возникает к нем вожделение того, что ему чуждо, наслаждение чем доставляет удовольствие не естеству, но страсти естества; когда же страсть не имеет места, вместе с нею нет места и вожделению того, что несвойственно естеству, и опять для него делается вожделенным и близким — свойственное ему; а таково чистое и невещественное и бестелесное, что, не ошибется кто–либо, назвав свойством все превосходящего Божества. Ибо, как для глаз телесных, когда какое–нибудь острое гноетечение повредит зрительные нервы, бывает приятен мрак, по причине сродства густоты (гноя) со мраком, а если от лечения исчезнет то, что затрудняло зрение, то свет опять становится сродным и приятным, смешиваясь с чистотою и световидностью зрачка; таким же образом, поелику чрез обольщение противником, зрение души затекло злом, как бы каким гноем, разум добровольно получил наклонность к темной жизни, чрез страсти сроднившись с мраком. «Всяк бо деаяй злая ненавидит света», говорит слово Божье (Иоан. 3:20.). Когда же зло исчезнет из области сущего и опять приведется в не сущее, естество наше снова с удовольствием будет взирать на свет, по устранении того, что застилало гноем чистоту души. Итак сказанным нами доказано, что нерассудительно относиться враждебно к естеству плоти, ибо не от нее зависит причина зла; если бы это было так, то зло имело бы одинаковую силу у всех, получивших в удел телесную жизнь.
Но поелику из упомянутых нами мужей, каждый и во плоти был, и порочным не был, то из сего ясно, что но тело причина страстей, но свободная воля, производящая страсти. Ибо тело движется соответственно своей природе, направляя свои стремления к тому, что служит к сохранению его состава и продолжению (жизни). Так например: оно нуждается в пище и питье, чтобы по истощении силы, снова восполнить ее недостаток; к этому направлено влечение природы. Опять, чрез преемство путем рождения, естество тела будучи смертным становится (как бы) бессмертным; посему и к этой цели в нем есть соответственное стремление. Кроме сего, так как тело сотворено нагим и лишенным покрова волос, то мы имеем нужду в наружном одеянии. Также, не будучи в состоянии выносить жара, холода и дождя, мы ищем крова домов. Кто разумно смотрит на эти и подобные потребности, тот спокойно принимает каждую из них, целью стремлений поставляя необходимое: дом, одежду, супругу, пищу, — всем этим удовлетворяя нуждам природы. А раб удовольствий необходимые потребности делает путями страстей; вместо пищи ищет наслаждений чрева; одежде предпочитает украшения; полезному устройству жилищ —их многоценность; вместо чадорождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Посему–то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание и изнеженность и гордость и суетность и разного рода распутство. Все это и подобное, как бы какие ненужные отпрыски и ветви, приросло к необходимым потребностям, потому что естественное стремление перешло границы нужды и приняло широкие размеры у тех, кои заботятся о том, что ни к чему не полезно. Ибо, что общего имеете с пользою доставляемою пищею чеканная серебряная посуда, разцвеченная золотом и каменьями? Или какая нужда для одеяния в тканье золотом и в яркоцветной пурпуровой ткани, и в живописи ткачей, посредством которой эти художники изображаюсь на хитонах и одеждах и битвы и зверей и тому подобное? Сотоварищем роскоши явилась болезнь любостяжания; ибо чтобы иметь для нее готовые средства и возможность, материал для приобретения желаемого получают от любостяжания. А любостяжание открыло путь неверности; оно, по слову Соломона, есть сокрушенный сосуд (Притч. 23:27.), который, сколько бы его ни наполняли водою, постоянно оказывается пустым. Таким образом не тело производит стремление к злу, но свободная воля, которая целесообразную потребность извращает в вожделение того, что не дозволено. Итак, да не порицают люди нерассудительные тело, которым в последствии, чрез преобразование его возрождением в превосходнейшее состояние, украсится душа, когда смерть очистит его от излишнего и ненужного для наслаждения будущею жизнью. Ибо в жизни будущей не будет пригодно то, что составляет для него потребность ныне, но устройство нашего тела будет сродно и соответственно наслаждению оною жизнью и стройно приспособлено к пользованию ее благами. Представим пример, потому что подобием с чем–нибудь известным лучше можно объяснить нашу мысль. Глыба железа полезна для кузнечного искусства, служа в необработанном виде наковальнею для кузнеца. Но когда нужно обработать железо для какой–нибудь более тонкой работы, тогда глыба тщательно очищается огнем и удаляется от нее все землистое и бесполезное, что искусные в этом деле называют изгарью. И таким образом прежняя наковальня, будучи очищена переработкою, стала бронею или другою какою тонкой работы вещью, очистившись чрез накаливание в печи от того излишка, который, пока она была наковальнею, не почитался для тогдашнего употребления излишним; ибо и изгарь, входившая в состав глыбы, приносила некоторую пользу, увеличивая массу железа. Пример нам понятен; теперь применим смысл, который мы усмотрели в этом примере, к мысли, которую имеем в виду. Что это означает? В естестве тела находится ныне много подобных изгари качеств, которые хотя в настоящей жизни имеют некоторую полезную цель, но совершенно бесполезны для ожидаемого после сей жизни блаженства и чужды ему. Итак, что бывает с железом в огне, когда плавильная печь отстраняет все бесполезное, то совершается с телом чрез смерть, когда чрез разрешение смертно отстраняется все излишнее. Для проницательных, конечно, очевидно, что есть то, от чего очищается тело в последствии, и отсутствие чего в настоящей жизни было бы вредом для нее. Впрочем для ясности мы скажем и об этом в немногих словах.
Согласно с предложенным примером, глыбою назовем естественное желание, действующее во всех, изгарью пусть будет то, к чему ныне влечется это желание: удовольствия, богатство, честолюбие, властолюбие, надменность и подобное. Всего этого и подобного тщательным очищением бывает смерть. Желание, освободившись и очистившись от всего этого, обратит свою деятельную силу к тому, что одно только достойно стремления и вожделения и любви, не угасив совершенно природою вложенные в нас к сему стремления, но изменив их к пользование невещественными благами. Ибо там любовь к истинной красоте непрестающая; там достохвальное любостяжание сокровище мудрости, прекрасное и благое честолюбие, — достигать общения с царством Божиим, прекрасная страсть жадности, в которой вожделение блага никогда не пресекается пресыщением сими, все превосходящими, благами. И так знающий, что в приличное время Художник всего переплавит глыбу тела в оружие благоволения, сделав из него и броню правды, как говорить Апостол (Ефес. 6:13—18.), и меч духа и шлем надежды и полное всеоружие Божие, любит свое тело по закону Апостола, который говорит, что никто свое тело «возненавиде» (Ефес. 5:29). Тело же нужно любить очищенное, а не изгарь, которая отвергается. Ибо истинно говорит слово Божие, что когда «земная наша храмина тела разорится», тогда обретем ее соделавшеюся созданием «от Бога», храминою нерукотворенною, вечною «на небесех» (2 Кор. 5:1.), достойною быть жилищем Божиим, в духе. И никто мне пусть не описывает свойства и очертания и вида оной нерукотворенной храмины, по подобию свойств ныне в нас являющихся и отличающих нас своими особенностями друг от друга. Поелику не одно только воскресение проповедует нам слово Божие, но божественное Писание ручается и в том, что обновленные должны «измениться» воскресением (1 Кор. 15:51.52); то вполне необходимо, чтобы для всех было сокровенно и неведомо, во что мы изменимся, так как в настоящей жизни не усматривается никакого подобия с чаемым. Ибо ныне, все грубое и твердое имеет естественное стремление к низу; тогда же тело по изменении станет горе возносящимся, поелику слово Божие говорит, что после изменения естества во всех оживших чрез воскресение, «восхищени будем на облацех в сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем» (1 Солун. 4:17.). Итак если у изменившихся не остается тяжести в теле, но преобразившиеся в более совершенное состояние вместе с бесплотным естеством воспаряют горе: то конечно и прочие свойства тела — цвет, вид, очертание и все другие в частности так же изменятся в нечто более божественное. Почему не видим никакой необходимости допускать между измененными воскресением тоже самое различие, какое теперь по необходимости имеет наше естество от последовательной смены его состояний. Что этого различия не будет, ясно доказать нельзя, потому что мы не знаем, во что чрез изменение перейдут эти свойства. А что род всех будет один, когда все сделаемся единым телом Христовым, восприяв один образ и вид, в том не сомневаемся, так как во всех равно будет сиять свет божественного образа. А что наше естество при изменении приобретет вместо указанных свойств, то будет, утверждаем мы, лучше всего, о чем только может гадать наша мысль. Но чтобы наши слова об этом не показались совершенно неосновательными, укажем на следующее: поелику различие полов мужеского и женского служит нашему естеству не для чего иного, как для деторождения, то относительно сего предмета некоторым достойным обещанного Богом, Сокровищем благих, благословения гаданием, может быть признано то, что родотворная сила естества изменится на служение тому деторождению, которому причастен был великий Исайя, сказавший: от «страха Твоего, Господи, во чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения Твоего, егоже сотворихом на земли» (Иса. 26:18.). Ибо если такое деторождение прекрасно и чадородие бывает причиною спасения, как говорит Апостол (1 Тим. 2:15.), то никто, однажды путем такого рождения породивший себе обилие благ, никогда не перестанет рождать дух спасения.
Если же кто скажет, что отличительный вид и образ, который мы имеем, при оживлении опять останется у нас тем же самым, то я не могу прямо согласиться с этою мыслью, не рассмотрев, так ли это, или пет. Если кто скажет, что при оживлении человек останется в том же самом виде, то это понятие приведет к большой нелености, потому что по виду и отличительным чертам тот же человек не остается всегда одним и тем же, с различием возрастов и болезней принимая то тот, то другой вид. Иной вид имеет младенец, и иной—отрок, иной—дитя, муж, человек среднего возраста, пожилой и старик. Каждый из сих возрастов отличается от другого: различны так же пораженный желтухой, раздутый водяною, иссушенный чахоткою, отучневший от какого либо худосочия, страдающий желчью, полнокровием, обилием дурных влаг; так как каждый из них имеете вид сообразный с господствующим в нем болезненным состоянием, то как не основательно думать, чтобы этот вид остался и после воскресения (поелику изменение все претворит в вид более божественный), так и не удобно составить себе понятие о том, каков будет более совершенный наш вид, поелику мы верим, что предлежащая нам, чаемые нами блага превыше зрения, и слуха, и мысли. Если же кто скажет, что отличительным видом каждого будет качественное, нравственное свойство, тот не совсем ошибется. Ибо как теперь различие отличительных свойств в каждом происходит от некоторого изменения в нас стихий, так как свойственный каждому облик получает (то или другое) очертание и цвет, смотря по увеличению, или уменьшению различных стихий: так и в той жизни, кажется мне, будут сообщать каждому особенный облик не эти стихии, но особенности порока или добродетели, качественное взаимное смешение которых сообщит тот или иной отличительный характер виду. Нечто подобное бывает почти и в настоящей жизни, когда внешнее выражение лица указывает на сокровенное состояние души, от чего мы легко узнаем, кого гнетет печаль, кого волнует гнев, кто пылает вожделением, и наоборот: кто весел, незлобив, украшен почтенным качеством целомудрия.
Итак, как в настоящей жизни известное расположение сердца выражается в облике, и внутренняя страсть отображается во внешнем виде человека: так, кажется мне, и но изменении нашего естества в более совершенное состояние, нравственные качества человека будут причиною того или другого вида его; не иным чем он будет (по существу) и иным являться (во вне), но каков есть, таким будет и явен всем, как то: разумным, праведным, кротким, чистым, полным любви, боголюбивым, и опять при этом, или имеющим все совершенства, или украшенным одним только, или обладающим большею их частью, или имеющим одно совершенство в меньшей, а другое в большей степени. По этим и подобным свойствам, относящимся как к совершенству, так и к тому, что противоположно ему, каждый получит различный и отдельный друг от друга вид, пока «не испразднится», как говорить Апостол, последний враг (1 Кор. 15:26.), и по совершенном устранении зла из всех существ, во всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы в начале. Красота же сия есть свет, и чистота, и нетление, и жизнь, и истина, и подобное. Ибо не не прилично им и быть и являться чадами дня и света, а в свете и чистоте и нетлении не окажется никакого изменения или различия в отношении к однородному. Но для всех воссияет одна благодать, когда соделавшись сынами света, «просветятся яко солнце» (Матф. 13:43.), по неложному слову Господа. Что все достигнут совершенства во едино, по обетованию Бога Слова, значит тоже самое, что во всех явится единая и та же самая благодать, так что каждый будет разделять с ближним одну и ту же радость. От сего каждый будет и сам радоваться, видя красоту другого, и сообщать свою радость; так как никакое зло не изменит облика души в безобразный вид. Вот что говорит нам наш ум от лица усопших, подражая, сколько возможно, их речам. Мы же совет скорбящим заключим словами великого Павла: «не хощу вас не ведети, братие, о умерших, да не скорбите, якоже и прочие не имущие упования» (1 Сол. 4:13.).
Итак если мы научились чему–либо заслуживающему внимания относительно усопших, по поводу коих любомудрствовало наше слово, то не станем более предаваться этой неблагородной и рабской скорби; а если и нужно скорбеть, то изберем оную похвальную и добродетельную скорбь. Ибо как есть удовольствие приличное животными и неразумное, и есть чистое и невещественное, так, и то, что противоположно удовольствию, разделяется на порочное и добродетельное. Есть и некоторый вид печали, достоблаженный и не непригодный для стяжания добродетели, который противоположен этому неразумному и рабскому унынию. Предавшийся последнему в последствии сам почувствует раскаяние, что, преступив должные пределы, допустил победить себя страданию. А достоблаженная скорбь производит несопровождаемую раскаянием и непостыдную печаль в тех, кои при помощи ее стремятся к совершенству добродетельной жизни. Ибо скорбит правильно тот, кто чувствует, каких благ он лишился, сравнивая эту временную и нечистую жизнь с оным бессмертным блаженством, которым обладал прежде, чем злоупотребил своею свободою на зло; и чем сильнее не настоящей жизни тяготит человека эта скорбь, тем более ускоряется для него стяжание вожделенных благ. Ибо чувство недостатка прекрасного бываете возбуждением к старательному исканию сильно желаемого нами. Итак, поелику есть и спасительная печаль, как мы сказали, то послушайте легко увлекающиеся недугом скорби, что мы не запрещаем печали, но только вместо предосудительной советуем благую. Печальтесь не печалью мира, соделывающею смерть, как говорит Апостол (2 Кор. 7:10.), но печалью «по Бозе», которой цель есть спасение души. Ибо попусту и напрасно проливаемый над усопшим слёзы, может быть, будут причиною и осуждения для того, кто дурно употребляет полезную вещь. Если все Премудростью Сотворивший для того внедрил в наше естество это расположение к печали, чтобы оно служило средством очищения возобладавшего нами зла и споспешествования к усвоению чаемых благ, то попусту и бесполезно проливающий слёзы, быть может, будет виновен пред собственным Владыкою, по слову евангельскому, как худой приставник бесполезно расточивший вверенное ему богатство (Лук. 16:1. 2.). Ибо всякое прирашение добра есть богатство, которое числится в честных сокровищницах. Итак, «не хощу вас не ведети, братие, о умерших» того, что мы узнали, и если кроме сего какое другое учение откроет более совершенным Дух Святый, «да не скорбите, якоже и прочии не имущие упования» (1 Сол. 4:12.). Ибо одним неверным свойственно ограничивать надежды жизни одною настоящею жизнью; потому они и считают достоплачевною смерть, что для них нет надежды на то, чему веруем мы. Мы же веруя великому Споручнику вокресения из мертвых, самому Владыке всей твари, который и умер и воскрес для того, чтобы делом удостоверить слово о воскресении, возымеем несомненную надежду благ, при существовании которой не будет иметь места печаль об усопших. Бог же наш и Господь Иисус Христос, «утешаяй смиренныя» (2 Кор. 7:6.), да утешит сердца ваши, и своим милосердием да утвердит в любви своей, ибо ему подобает слава во веки веков. Аминь. [15]
На свое рукоположение
Служение духовному пиру дошло и до нас, способных более пользоваться услугами других, нежели себя предлагать в услугу другим. И я всячески упрашивал освободить меня от таких даней по убожеству моему в слове, ссылаясь на некий закон пиршеств. Ибо слышу, что, когда готовится круговой пир с общим ужином, распорядители учреждения, если кто в списке угощаемых беден, приглашают его на ужин, освобождая от общего вклада. Так хотелось бы и мне насытиться пищею богатых. Но поскольку прекрасный и богатый этот учредитель пира не щадит и нас, но повелевает служить, то скажу ему: Друже, даждь ми взаим хлебы твои (Лк. 11:5), а хлебами называю содействие молитв. Ибо слух ваш, услаждавшийся духовными этими сотами, можно ли удовлетворить убогим и скудным словом? Может быть, лучше было бы, если бы, как в телесной борьбе (а там одним сильным принадлежит поприще, прочие же бывают зрителями подвизающихся), так и на духовное это поприще уготовлялись в подвижники одни преисполненные силою святых. А если кто походить будет на меня, у которого и волос сед, и сила от времени ослабла, речь запинается и дрожит, тому пусть позволяют увеселяться подвигами борцов. Посему не продлим для вас, братия, этого вступления; вы исполнены удивления к предшественникам. Се сыты есте, се обогатистеся (1 Кор. 4:8), насытились вы сладостей потому, что ими напитало вас предшествующее слово. Потому, может быть, бесполезную сытость к сытости прибавляло бы оно, сверх златых речей как бы свинцовыми какими монетами обременяя память, разве только в содействие красоте служит нередко и худшее вещество, примешанное к лучшему, доказательство этому близко. Видишь ли этот над головою свод? Как прекрасен на вид! Как красиво на резьбе блестит позолота! И этот свод, по видимости, весь золотой, исписан какими то кругами с многоугольниками, покрытыми лазурью. Что же производит у художника эта лазурь? То, думаю, что золото, когда видим, что оно перемешано с красками, больше блестит. Поэтому если лазурь, перемешанная с золотом, сияние его показывает прекраснейшим, то, может быть, не неблаговременно будет к светлости произнесенных прежде речей приписать и черную нашу черту. Вот вам наше вступление. Теперь слушайте.
Слышу, что великий Моисей, когда воздвигал скинию у израильтян, и этот Веселиил, который от Духа Божия (Исх. 31:3) имел неизученную наукою мудрость зодчества, предлагают богатым и бедным сообща сделать пожертвование, и собирают у богатых золото, багряницу и дорогие камни, но не отвергают и бедными жертвуемые деревья, кожи и козьи волосы. И не неблаговременно, может быть, напоминание этого сказания. Ибо мысль, которая пришла мне на сердце, хочу предложить всему собранию. Веселиил Духом Божиим из неученого соделался мудрым, ибо так говорит история. Поэтому да слышит духоборец: Божиим нарекший Духа Святого, Которого сошествие как бы некий след, отпечатлевает в душе благодать мудрости, неужели названием Божия оскорбляет достоинство Духа? Неужели заставляет думать о Нем что–либо малое и унизительное? Что из тварей означается этим именем? Не думает ли он, что Божество приобретено Духом? Не представляет ли себе простого и несложного чем–то двояким и сложным? Но, может быть, невозможно согласиться на такие предположения? Напротив того, и он признает, конечно, что Дух, будучи Божиим, и есть, и именуется таковым по естеству. Видишь ли, как сама собою открывается тебе истина? Но христианская проповедь не знает многих Божиих естеств, иначе по всей необходимости выдумаешь и многих Богов, потому что невозможно представить себе многих Богов, если о множестве Богов не возвещает инаковость естества. Поэтому если, по верованию всех, естество Божие одно и Дух Святой по естеству Божий, то для чего разделяешь в слове соединенное естеством? Но кто даст мне силу того слова, концом которого — спасение слушающих? Одно слово провозгласил иерусалимлянам Петр, и столько тысяч человек простертым к ним словом уловлено в мрежу рыбаря. А так много и таких слов тратится учителями у нас, и какое приращение спасаемых! Исчезающее исчезает, говорит некто из пророков, умирающее умирает (Зах. 11:9), заблудший не возвращается, союз любви расторгнут; похищен мир из сокровищниц наших. О, какое бедствие! Не могу не восстенать от страдания! Достоянием нашим была некогда любовь — это отеческое наше наследие, которое через учеников своих сокровищем нашим соделал Господь, сказав: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (Ин. 13:34). Это наследие последующие преемники, получая каждый от отцов, хранили и до наших отцов; этот только развращенный род не соблюл его. Как из рук наших утекло и исчезло это богатство нашего жития? Обнищали мы любовью, и другие гордятся нашими благами. Возревновал на беззаконныя — так говорит псалмопевец (Пс. 72:3). А я, изменяя несколько сказанное, прочту так: Возревновах на беззаконныя, возревновах, мир грешников зря. Они тесно соединены друг с другом, а мы друг от друга отделяемся. Они взаимно себя ограждают, а мы разрушаем свою ограду. Наше похитив достояние, грабитель душ отнес и поверг врагам истины, не им оказывая благодеяние (никто да не подумает этого! Изобретатель зла не может сделаться благодетелем), но чтобы их привести в худшее состояние согласием во зле.
Но что ми внешних судити? — говорит изрекший это (1 Кор. 5:12). А я как без слез перенесу отчуждение братии? Как ушел, оставив отеческое имение, юный этот брат? Как этот другой после описанного в Евангелии, хотя душевную юность прикрывает телесною сединою, удалился на страну далекую (Лк. 15:13), бежав от веры? Как уходит, сам отделив себе половину отеческого имения тем, что высокие догматы низвел до низких и свиных понятий, иждив богатство с еретическими блудодейцами? Ибо ересь — блудодейца, сладострастными любимыми удовольствиями. Если придет когда в себя, как и тот блудный сын, если опять пожелает отеческой снеди, если возвратятся к богатой трапезе, где много насущного хлеба, питающего наемников Господних (а Божий наемники — все те, которые по надежде обетования возделывают виноградник Божий), с какою поспешностью не один отец побежит к нему, но столько отцов выйдут навстречу, будут обнимать, с любовью целовать его! Припасена первая одежда веры, которую исткали прекрасно потрудившиеся для Церкви триста восемнадцать душ; там на руку перстень, имеющий изображенную на себе печать веры: там лики, телец, стройное пение и все прочее, о чем сказано в Евангелии, кроме братней зависти! Но для чего напрасно измышлять нам для себя сонные эти мечты? Сердца братии ожесточены и пребывают в упорстве, ссылаются на общих отцов и не принимают следующего от них наследия, изъявляют притязание на общее благородство и чуждаются родства с нами. Противятся врагам нашим, но и нам неприязненны; соделавшись чем–то средним между нами и врагами, они — и ни то, и ни другое; и вместе то и другое; и правого учения не исповедуют, и гнушаются имени еретиков. Странное дело! Равно объявили войну и истине и лжи, подобно какому–то дереву без корня, легко при противоположных устремлениях склоняясь на ту и на другую сторону. Слышу, что Евангелист Иоанн в таинственных писаниях говорит таковым загадочно, что в точности должно непременно гореть духом и быть хладным для греха. О дабы студен был еси, или горящ! — говорит он (3:10). А что ни тепло, ни холодно, но близко к тому и другому, то возбуждает тошноту и рвоту. Какая же тому причина, что древле при учениках великое множество приводится в Церковь Господом, а ныне длинные и приукрашенные речи учителей остаются без результата?
Иной, может быть, скажет: тогда содействовали апостолам чудесные дела и учение приобретало достоверность по причине дарований. Согласен и я, что сила дел служит великим побуждением к доверию. Но что же надлежит думать о совершающемся ныне? Не видишь разве подобных чудес веры? Ибо себе присваиваю преспеяния служителей наших, которые тем же духом водятся в силе исцелений. Об истине этого слова свидетельствуют мужи, приходящие из земли чуждой, сограждане отца нашего Авраама, оставившие Месопотамию, исшедшие также от земли и от рода своего (Деян. 7:3), даже из всего мира, взирающие на небо, переселяющиеся некоторым образом из естества человеческого, ставшие выше естественных страстных расположении, столько касающиеся настоящей жизни, сколько это необходимо, большею же частью парящие ввысь с бесплотными силами, престарелые видом, достопочтенные по наружности, сияющие сединою, молчанием заграждающие уста, не умеющие вести словопрений, не учившиеся совопросничать, — такую имеют они власть над духами, что совершают чудеса одним изволением, и демоны уступают не искусству умозаключений, но власти веры, не доводимые до трудности прекословить, но изгоняемые во тьму кромешную. Так умозаключать умеет христианин! Вот преспеяния нашей веры! Итак, почему же не убеждаемся мы, если благодать исцелений преизобилует, если учение слова преизбыточествует? Вся же спя действует един и тойжде Дух, разделяя особо коемуждо, якоже хощет (1 Кор. 12:11). Почему же не бывает приумножения спасающихся? И никто да не помыслит настоящую благодать признавать малою! Вижу виноградник преукрашенный, многоветвистый, изобилующий плодом, вижу ниву волнующуюся множеством колосьев, жатва густа, сноп зрел, посев обилен. Но что же делается со мною? Естество мое ненасытимо подобным этому, и я страдаю страстью богатолюбцев. Никакой предел обилия не останавливает вожделения. Непрестанно прибывающее возбуждает пожелание большего, служа под гнетом к вожделению большего. Веселит меня видимое, восхищаюсь тем, что есть, и скорблю о том, чего нет; общая какая–то страсть, смешанная из противоположностей, объемлет душу, потому что удовольствие сорастворено с печалью. Если обращаю взор к вам, в вас успокаиваю рвение, если подумаю о прочем, нет у меня сил оплакать бедствие. Люди, оставив то, чтобы насладиться Господеви (Пс. 36:4) и веселиться миру Церкви, ведут тонкие разыскания о каких–то сущностях и измеряют величины, измеряя Сына сравнительно с Отцом и избыток меры уступая Отцу. Кто скажет им: неколичественное не меряется; невидимое не оценивается; бесплотное не взвешивается; беспредельное не сравнивается; несравнимое не допускает до себя понятия о большем или меньшем, потому что большее познаем из взаимного сравнения вещей между собою; а у чего недостижим конец, в том немыслимо и большее. Слышал я псалом, сообща воспевая который вошли мы: Велий Господь, и велия крепость Его: и разума Его несть числа (Пс. 146:5). Что же это значит? Исчисли сказанное и уразумеешь тайну. Велий Господь, а не сказал, какая Его величина, потому что невозможно было и сказать ее количества, но неопределенностью значения возводит мысль к беспредельному. А так же говорит: Велия крепость Его. Слыша о крепости, разумей силу. Христос же есть Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1:24). Но разума Его несть числа. Исаия ясно истолковывает слово разум, говоря: Дух премудрости и разума (Ис. 11:2.). Слышу, что в блаженствах ублажаются жаждущий (Мф. 5:6) Господа. Поэтому, может быть, не безвременно и то, что у меня на уме (примите мое слово), хотя, по–видимому, и не идет это к настоящему.
Если кто совершает путь среди полдня, когда солнце знойными лучами опаляет голову и жаром иссушает все влажное в теле, а под ногами у идущего лежит земля жесткая, неудобопроходимая, безводная, потом же такому человеку встретится источник, из которого прекрасная, прозрачная, приятная, прохлаждающая струя льется обильно, — то неужели сядет он у воды и начнет любому дрствовать о ее естестве, доискиваясь, откуда она, как, отчего, и о всем тому подобном, о чем обычно рассуждать празднословам, а именно что некая влажность, распространенная в земной глубине, пробивающаяся вверх и сгнетаемая, делается водою, или что жилы, проходящие дольними пустотами, как скоро отверстия их делаются свободными, изливают воду? Или, распростившись со всеми рассуждениями, приклонит голову к струе и приложит уста, утолит жажду, прохладит язык, удовлетворит желанию и возблагодарит Давшего сию благодать? Поэтому подражай и ты этому жаждущему. Скажи: И речено, как и действительно изречено: блажени жаждущии, и дознав, какие и сколь многие блага источает Святой Дух, сделай то же, что и пророк, отверзи уста твои и привлеки дух (Пс. 118:131), расшири уста твоя, и исполни я (Пс. 80:11), имея власть над дарованиями. Хочешь ли знать, сколько благ изливается из источника Духа? Бессмертие души, вечность жизни, Царство Небесное, непрекращающееся веселье, радость, не имеющая конца. Но, обращая взор на то, что предстоит мне, я ущерб в остальном признаю маловажным. Наполнен у меня благами дом, сокровищницы наполнены аравийского злата; а, может быть, скоро придут и послы из Египта и предупредят вознести руки свои к Богу и царства земные вместе с нами воспоют победную песнь Призывающему всех в царствие Его. Ему слава и держава во веки! Аминь.
О младенцах, преждевременно похищаемых смертью. К Иерию
Тебе, доблестный муж, все витии и словесники покажут, конечно, силу в слове, пускаясь, как бы на поприще какое, на описывание множества чудных дел твоих; потому что какой–либо важный и обширный предмет, о котором и слово бывает высоко, возвышаемое величием дел, когда предложен он сильным в слове, обыкновенно делает речь как–то еще более велегласною. Но мы, подобно устаревшим коням, оставаясь вне поприща, на котором состязаются, напряжем только слух к состязаниям, произносимых о тебе речей, не достигнет ли до нас какой либо звук от слова, летящего на стремительной и быстрой колеснице, при описании чудных дел твоих. Поелику же бывает, что конь, хотя по старости остается вне ристалища, но нередко топотом скачущих возбужденный к ретивости, поднимает голову, смотрит, как готовый к ристанию, дышит раздраженно, часто двигает ногами, ударяя копытами в помост, и одна только ретивость у него к ристанию, а сила бежать давно истощена временем; подобным сему образом и наше слово, по старости, не входя в состязание и уступая поприще сильным ученостью, показывает тебе одно усердие, с каким желал бы подвизаться за тебя, если бы и мои силы процветали, как и у тех, которые ныне стали сильны в слове. Доказательство же усердия моего состоит не в том, чтобы повествовать что–либо о твоих делах: ибо в этом едва ли успеет сильное и напряженное слово, и не останется много ниже достоинства, истолковывая эту необъяснимую стройность нрава, срастворенную из противоположностей. Как природа, нависшими бровями оттеняя чистый блеск лучей, доставляет глазам срастворенный свет, так что приятнее делается сияние солнца, соразмерно потребности срастворяемое тенью бровей: так степенность и высокость права, соединенные в меру с смиренномудрием, не отвращают от себя взоров взирающих на это, но делают, что смотрят с удовольствием, так что блистательность степенности не помрачается, и утаеваемое внутри не пренебрегается за смирение, но в чем либо одном из этого равно усматривается и другое, — в высоком простота, и наоборот в смиренном — степенность. Пусть другой описывает это, и воспевает многоочитость души: власам на главе равночисленны, может быть, душевные очи, всюду равно быстро и верно видящие так, что и далекое усматривают и о близком не остаются в неведении, учителем полезного не ждут себе опыта; а напротив того одно провидит очами надежды, другое знает по памяти, а иное обозревает в настоящем, и все это в совокупности, не смешивая, приводит в исполнение на все таковые действия применительно разделяющийся ум.
Досточтимому же богатству нищеты да дивится опять, кто в наш век умеет подобное сему вменять в похвалу и чудо. Но может быть, если не было сего прежде, то ныне ради тебя процветет любовь к нищете, и вместо многоталантных плинф Крезовых ублажено будет то, что сам ты уподобился плинфе; ибо кого столько блаженным показали суша и море, снабжающие тем, что доставляют, сколько блаженною показало твою жизнь нерасположение к вещественному изобилию? Как очищающие с железа ржавчину, делают его светлым и серебристым, так у тебя луч жизни стал явственнее, непрестанно с рачительностью очищаемый от денежной ржавчины. Пусть предоставлено будет и это сильным в слове, а также и то как хорошо знаешь, что в некоторых случаях славнее брать, нежели быть чистым от взяток. Ибо позволь мне с дерзновением сказать, что не всякие взятки ты презираешь: но до чего из бравших прежде тебя никто не мог еще коснуться, за то один хватаешься обеими руками: ибо вместо какой либо одежды, или невольников, или денег, берешь самые души человеческие, и слагаешь их в сокровищницу любви. Пусть изображают это словесники и витии, которые в украшение себе ставят красно описать что либо подобное; а наше старческое слово в такой только мере движется, чтобы, идя шаг за шагом, решить твоею мудростью предложенную нам задачу: что надлежит знать о похищаемых преждевременно, у которых рождение едва не соприкасается с смертью? И мудрый из язычников Платон, от лица одного ожившего много любомудрствовав о судилищах за гробом, вставил это необъясненным, очевидно, потому, что это выше подходящего под человеческий рассудок. Посему, если в исследованном есть нечто такое, чем решаются затруднения в задаче, то конечно, примешь, найденное решение; а если нет, то извинишь, без сомнения, старость, приняв одно усердие наше сделать для тебя что–либо приятное. Ибо и оный Ксеркс, который всю подсолнечную едва не обратил в военный стан, и не подвиг с собою целую вселенную, когда ополчился на еллинов, с удовольствием, как говорит история, принял дар от никоего бедняка, и подарком была вода, притом не в сосуде принесенная, но захваченная во впадину ручной ладони. Так в ты по свойственной тебе высоте духа, без сомнения, будешь подражать тому, для кого произволение сделалось даром, если даже дар наш окажется и малым и водянистым.
Как в небесных чудесах равно усматривает видимые красоты и ученый и человек простой, кому только случится обратить взор на небо, но разумеют их неодинаково, одним движет любомудрие, а другой предоставляет видимое одним чувствам. Последит или услаждается лучами солнечными, или красоту звезд признает достойною удивления, или наблюдает число дней лунного течения в месяце. А первый, прозорливый душою, очистивший себя учением к уразумению небесных явлений, оставляет то, чем увеселяется неразумных, обращает взор на стройность вселенной, по круговому движению наблюдает доброе согласие движущихся противоположно, а именно, как правильным вращением внутренние круги совершают обратное движение, — как усматриваемые на них звезды принимают многообразные виды, своими сближениями, отдалениями, прохождениями внизу, затмениями, движениями по бокам, всегда одним и тем же и одинаково производя непрерывную оную стройность; у них положение и наималейшей звезды не остается неусмотренным, но все возбуждает равную заботливость в преселивших по мудрости ум в горнее. Подобно и ты, почтенная для меня глава, обращая взор на Божие в существующем домостроительство, минуешь то, чем занята мысль многих (разумею богатство, кичливость, пожелание суетной славы, что блистая на подобие лучей, изумляет обыкновенно неразумных), но даже, по видимому, маловажного из примечаемого в существующем не оставляешь неисследованным, разыскивая и рассматривая несходство в человеческой жизни, не только открывающееся в богатстве и бедности, или в разности достоинств и родов (ибо знаешь, что это ничтожно потому что существует не само в себе, но в суетном мнении людей, удивляющихся несуществующему, как действительному; почему, если кто у блистающего славою отымет уважение имеющих в виду это, ничего не останется у думавшего высоко о пустой надутости, хотя бы у него но случаю зарыто было все из чего делаются деньги) Но у тебя забота знать и иное в Божием домостроительстве к чему клонится каждое событие в мире, почему у одного жизнь продолжается до отдаленной старости, а другой столько времени пользуется жизнью, чтобы дохнуть раз воздухом и тотчас перестать жить. Ежели ничего нет в мире без Бога, все же зависит от Божия произволения, а Божество премудро и промыслительно: то, конечно, и сему есть разумная причина, заключающая в себе признаки Божией премудрости и вместе промыслительной попечительности. Ибо происходящее напрасно и без разумной причины не будет Божиим делом: потому что Богу свойственно, как говорит Писание. творить «вся премудрости (Псал. 103:24). Посему что же премудрого в этом? Человек рождением вступил в жизнь, дохнул воздухом, начал жизнь воплем, отдал долг природе слезою, в начаток жизни принес плач и прежде нежели вкусил жизненных приятностей, прежде нежели развилось у него чувство. Не владеющий еще связями в членах, слабый, с неокрепшими, даже с не образовавшимися вполне членами, словом сказать, прежде нежели стал человеком (если только отличительное свойство человека дар разума, а этот не вместил еще в себя разума, ничего больше не имя сверх принадлежавшая ему в матерней утробе, кроме одного появления на воздух), и в этом возрасте поражается смертью, или подкинутый, или задушенный, или сам собою от недуга покончивший жизнь. Что надлежит думать о нем? Как судить о скончавшихся так? Увидит ли и эта душа Судию? Предстанет ли с другими судилищу? Подвергнется ли суду за сделанное в жизни? Примет ли воздаяние по достоинству, или очищаемая огнем, по слову евангельскому, или прохлаждаемая росою благословенья (Лук. 16:44.)? Но не знаю, как надлежит разуметь о такой душе: ибо слово—воздаяние значит, что непременно надлежит чему либо принесенным быть наперед; но кто вовсе не жил, у того нет ничего такого, что мог бы он принести, а где нет даяния, там не в собственном смысле употребляется и слово воздаяние: и когда нет воздаяния, тогда и упоеваемое ни добро, ни зло: потому что разумеемое под тем или другим из двух имен обещает возмездие. А что не причисляется ни к добру, ни к злу, то без сомнения не принадлежит ни к чему; потому что в таком противоположении нет средины между крайностями, разумею между добром и злом, и того и другого из них не будет у не начавшего ни то, ни другого. Посему что ни и добре, ни в зле, о том иной скажет. что того вовсе нет. А если это будет говорить, что нечто таковое и есть и принадлежит к добру, то, поелику Бог дает, а не воздает таковому блага, какую укажет причину такого надела? На каком основании будет доказывать справедливость сего? Как покажет согласие мысли с евангельскими словами? Там говорится, что у сподобившихся будет условная некая купля царствия: поелику, сказано, сделали вы то и то, за сие приять царствие. А здесь, поелику нет никакого ни действия, ни произволения, есть ли какой повод говорить, что и сим будет от Бога уповаемое воздаяние? Если же кто без исследования примет такое мнение, что исшедший так из жизни непременно будет причастником благ: то окажется из сего, что блаженнее жизни не быть причастным жизни: если для умершего в младенчестве причастие благ несомненно, хотя бы родился он от варваров, или был зачат от незаконного брака, а у прожившего определенное в узаконенное природою время, без сомнения, к жизни больше или меньше примешивается скверна порока; или, если намерен совершенно быть вне общения с злом; то для сего самого потребно ему много потов и трудов,. потому что не без усилий преспевает добродетели усердствующий о ней, и не без труда бывает для людей отчуждение от удовольствий такт, что пользующемуся долговременного жизнью непременно должно потерпеть одно из двух огорчений, или в настоящей жизни бороться с многотрудностью добродетели, или в будущем мучиться при воздаяниями скорбями за порочную жизнь. Но для умирающих прежде времени нет ничего подобного. Напротив того, преждевременно преставившихся немедленно сретает добрый жребий, если только справедливо мнение так думающих. Посему вследствие этого и неразумие окажется предпочтительнейшим разума, и добродетель представится ничего поэтому не стоящею. Ибо если не бывает ни какой утраты в причастии благ у не участвующего в добродетели: то суетное и бесполезное дело трудиться о ней, когда на суде Божием берет первенство состояние неразумное.
Все это и подобное сему, соображая в уме, приказываешь исследовать мнение об этом, чтобы вследствие разыскания мысль наша о сем обосновалась в каком–либо твердом понятии. А я, примечая непроницаемость предложенного нашему разумения, думаю что к настоящей речи применимо сие апостольское слово, в котором изрек он о непостижимом, говоря: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень?» (Рим. 11 33.34). Поелику же Апостол говорит еще, что духовному свойственно судить о всем (1 Кор. 2:15.), и одобряет тех. кого благодать Божия обогатила «во всяком слове и всяком разуме» (1 Кор. 1:5.): то хорошо, полагаю, будет не вознерадеть о посильном исследовании и не оставить вопроса об этом не разобранным и не рассмотренным, чтобы, подобно предмету задачи, и речь о нем не обратилась в нечто еще несовершенное, или недозрелое, похожее на какого–то новорожденного младенца, подобно ему, прежде нежели произошла на свет и укрепилась в силах, как бы от смерти какой погибая от лености без сильных к изысканию истины. Посему полагаю, хорошо будет не вдруг, по примеру витий и борцов, вступить в устное состязание, напротив того, дав речи какой–либо порядок, последовательно произвести обозрение предложенного вопроса.
Какой же это порядок? Сперва узнать, откуда естество человеческое и для чего пришло оно в бытие. Ибо если мы в этом не погрешим, то не погрешим и в предстоящем нам обозрении. Все от Бога, все что после Него в числе существ в природе представляем и видим имеющим бытие, доказывать сие в слове было бы излишним, потому что никто, думаю, из сколько–нибудь вникавших в действительность существ, не будет оспаривать такого мнения. Все признают, что все зависит от одной причины, и ни одно из существ не имеет бытия само от себя, и не служит само себе началом и виною: напротив того Одно Естество не создано и вечно, всегда одно и тоже и одинаково имеет выше всякого пространственного представления, не возрастает, и не убывает, и представляется преступающим всякий предел. Его дело —и время, и место, и все, что в них, и если еще что прежде сего умное и премирное объемлется мыслю. Одним же из сотворенных естеств есть и естество человеческое, как утверждаем, путеводителем к сему пользуясь некиим словом богодухновенного учения, которое говорит, что, по приведении всего в бытие Богом, явился на земле и человек, естество срастворенное из инородного, между тем как Божественная и духовная сущность вступила в единение с уделенною ему долей каждой стихии. Приведен же человек творцом в бытие, чтобы ему быть одушевленным неким подобием Божественной и превысшей силы. Но лучше представить самое изречение, которое читается так: сказано: «и сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его» (Быт. 1:27.).
Причиною же устроения сего живого существа некоторые из бывших прежде нас представляли следующее: вся тварь делится на две части, как говорит Апостол, на «видимая и невидимая» (Кол. 1:16.); невидимым означается умопостигаемое и бесплотное, а видимым—подлежащее чувствам и телесное. Итак, поелику все существа делятся на две сии части, то есть на чувственное и на умопредставляемое, и поелику естество ангельское и бесплотное, которое принадлежит к невидимому, обитает в местах премирных и пренебесных, так как место обитания сообразно естеству (естество духовное есть некое тонкое, чистое, не тяжелое и удобоподвижное, и тело небесное тонко, легко, приснодвижно), а земля, которая составляет нечто крайнее в чувственном, несвойственна и неприлична к пребыванию на ней существ умопредставляемых (ибо какое будет общение несущегося ввыспрь и легкого с тяжелым и гнетущим вниз): то, чтобы земля не осталась совершенно не имеющей части и доли в пребывании естеств духовных и бесплотных, для сего наилучшим промышлением приведено в бытие естество человеческое, когда духовная и Божественная сущность души облечена землянистою частью, чтобы, сообразно этой части, сродной с гнетущим вниз и телесным, душа жила в земной стихии, имеющей нечто близкое и однородное с сущностью плоти. — Цель же сотворенного та, чтобы во всей твари духовным естеством прославляема была всего превысшая Сила, когда небесное и земное одним и тем же действованием, разумею обращение взора к Богу, соединяется между собою к одной и той же цели. Это же действование— обращение взора к Богу, не иное что есть, как жизнь, свойственная и сообразная духовному естеству. Ибо как тела, будучи земными, поддерживаются земными снедями, и в них примечаем некоторый род жизни телесной одинаково совершающийся в бессловесных и словесных: так надлежит предположить, что есть некая умом постигаемая жизнь, которою естество соблюдается в существовании. Если же плотская пища, будучи чем–то притекающим и утекающим, самым прохождением своим влагает некую жизненную силу тем, в коем она бывает; то приобщение истинно сущего, всегда пребывающего и вечно не изменяющегося, не гораздо ли паче сохраняет в бытии приобщающегося? Посему, если свойственная и приличная духовному естеству жизнь та, чтоб быть причастным Бога; то не произойдет приобщения между противоположными, если желающее приобщения не будет некоторым образом сродно с тем, чего приобщается. Ибо как глаз услаждается светом, потому что в себе самом имеет естественный свет для восприятия однородного с ним, и ни персть, ни другой какой из членов тела не производит зрения, потому что ни в коем другом члене не заготовлено природою света: так, чтобы соделаться причастником Божиим, совершенно необходимо в естестве приобщающегося быть чему либо сродному с тем, чего оно приобщается. Посему Писание говорит, что человек сотворен по образу Божию, чтобы, как думаю, подобным взирать на подобное; обращать же взор к Богу, как сказано выше, есть жизнь души. Поелику же незнание истинно доброго, подобно какому–то туману, потемняло несколько зрительную силу души, а сгустившийся туман стал облаком, так что в глубину незнания не проникает луч истины, то с удалением света необходимо оскудела и душе и жизнь. Ибо сказано, что истинная жизнь души производится приобщением доброго, а при незнании, препятствующим богопознанию душа, не будучи причастницею Божиею, лишается жизни.
Никто да ни требует от вас родословия неведению, спрашивая: откуда оно, и от чего? Напротив того из самого значения имени да разумеет, что ведение и неведение показывают, что душа имеет некое отношение к чему–то. Но ничто умопредставляемое и сказуемое о чем либо не выражает сущности. Ибо иное понятие относящегося к чему либо, и иное сущности чего либо. Посему, если и ведение есть не сущность, но околичное действие мысли, то тем паче неведение должно признать далеко отстоящим от того, что в сущности; а что не в сущности, того вовсе нет. Посему напрасно было бы о том, чего нет, доведываться, откуда оно. Итак, поелику Писание говорит, что причастие Бога есть жизнь души, а причащение, по мере вместительности, есть ведение же есть неосуществление чего либо, а напротив того отъятие деятельности ведения, и как скоро не стало совершаться причастие Бога, необходимо последовало отчуждение от жизни, это же было бы крайним из зол; то в следствие сего Творец всякого блага производит в нас врачевание от зла (ибо врачевание есть благо), — но способа врачевания конечно не знает тот, кто не обращает взора к евангельскому таинству. Посему, как по доказанному, худо быть отчужденным от Бога, Который есть жизнь: то к врачеваниям от такого недуга служит усвоение Бога и вступление снова в жизнь. И как жизнь сия естеству человеческому предлежит в уповании, то нельзя в собственном смысле сказать, что воздаянием за прежние добрые дела бывает причастие жизни, и обратно наказанием за дела худые. Напротив того утверждаемое подобно сказанному в примере о глазах. Ибо не говорим, что какою либо наградою и отличием имеющим чистое зрение служит понимание видимого, или на обороте больному глазами — наказанием или карательным последствием то, что лишен он зрительной деятельности. Напротив того, как потому, у кого расположено все естественно, необходимо следует видеть, а кто болезнью выведен из естественного положения, у того зрению оставаться бездейственным; так, подобно сему, и блаженная жизнь сродна и свойственна имеющим чувствилища души, а у кого болезнь неведения, подобно какому то гною, служит препятствием к приобщению истинного света, для того необходимым последствием бывает — не иметь части в том, приобщение чего называем жизнью для приобщающегося.
А при таком разделении сих понятий, время уже нам приступить к исследованию в слове предложенного вопроса. Говорено же было нечто подобное сему. Если воздаяние благ делается по справедливости; то в числе будет окончивший жизнь в младенчестве и в продолжение сей жизни не сделавший ни добра, ни зла, чтобы за сие сделано ему было воздаяние по достоинству? На сие, взирая на вытекающее из исследованного, отвечаем, что ожидаемое благо, хотя по природе свойственно человеческому роду; однако же оно же самое в некотором смысле называется и воздаянием. И сия мысль уяснится опять тем же примером. Предположим в слове, что два человека имеют зрение, постигнутое каким–то недугом, и одни из них с большим тщанием предал себя врачеванию, перенося все предписания врачебного искусства, как бы трудны они не были: а другой пусть до невоздержанности расположен будет к баням и употреблению вина, не принимая от врача никакого совета к сохранению здравия глаз. Посему, смотря на конец, постигающий того и другого, говорим, что оба достояно восприемлют плоды своего произволения, именно же одним— лишением света, а другой наслаждение светом. Ибо что по необходимости следует, то по неточному словоупотреблением называем воздаянием. Это можно сказать и на вопрос о младенцах: наслаждение оною жизнью свойственно человеческой природе: но как всем почти живущим в плоти обладает болезнь неведения; то очистивший себя надлежащим врачеваниями, и как бы гной какой с душевного ока смывший неведение, достойно пользуется выгодою рачения, вступая в жизнь для него естественную, избегающий же очистительных средств добродетели и обольстительными удовольствиями болезнь неведения делая в себе неисцельною, по противоестественному расположению, отчуждается от того, что естественно, и делается не имеющей части в свойственной и приличной нам жизни; не искусившийся же в зле младенец, поелику душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия: потому что в начале не приял в душу болезни.
И мне кажется, что настоящий образ жизни по некоторому сходству и близок у него с жизнью ожидаемою. Ибо как первый младенческий возраст воспитывается насыщаемый сосцем и молоком, потом за сею пищею следует другая, сообразная возрасту, свойственная и пригодная питаемому, пока не придет он в совершенство: так, думаю, и душа свойственной естеству ее жизни приобщается в некоем порядке, и в последовательности всегда посредством приличного ей, сколько вмещает и может, приемля предлагаемое в блаженстве, как подобное сему дознали мы и от Павла, который иначе питает возросшего уже в добродетели, и иначе младенца и несовершенного. Ибо таковым говорит: «Я питал вас молоком, а не (твердою) пищею, ибо вы были еще не в силах» (1 Кор. 3:2.), а исполнившим меру духовного возраста: «твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены» (Евр. 5:14.) Посему, невозможно сказать, что в одинаковом состоянии муж и младенец, если и никакая болезнь не коснулась ни того, ни другого из них (ибо как ощутят равное услаждение не причащающийся одного и того же?): напротив того, хотя о муже и о младенце подобным образом говорится, что не страждут какою либо болезнью, пока тот и другой не подлежат страсти, однако же наслаждение приятным неодинаково в них совершается (мужу можно увеселяться словами, быть первым в делах, с похвалою проходить начальственные должности; прославляться благодеяниями нуждающимся, сожительствовать с супругою, если найдется ему по сердцу, управлять домом, иметь все приятности, какие только можно находить в преходящей сей жизни, занимательное для слуха и зрения, ловли, бани, телесные упражнения, пиры, забавы, и если еще есть что иное сему подобное; а младенцу забава — молоко, объятия кормилицы и тихое движение, наводящее сон и услаждающее; другого же веселия, которое было бы выше сего, несовершенство возраста не имеет возможности и вместить). Сим образом воспитавшие души добродетелью в настоящей жизни и, как говорить Апостол, обучившие духовные «чувствия» свои, если переселятся в оную бесплотную жизнь, то, соответственно тому навыку и той силе, какие приобретены, причастятся божественного наслаждения, больше или меньше, по настоящей силе каждого, участвуя в предлежащих благах. Душа же, не вкусившая добродетели, хотя пребывает непричастною зол, следствий греха, как в начале еще необъятая недугом порока: в той жизни, которую предшествующее слово определило состоящею в богопознании и общении с Богом, столько участвует на первый раз, сколько вмещает питаемое, пока, как бы некоею приличною снедью, приведенная в мужество созерцанием Сущаго, не соделается вместительною для больших, свободно в обилии причащаясь действительно сущего.
Взирая на это, хотя и утверждаем, что равно свободна от зол, следствий греха, душа, как у ходящего во всякой добродетели, так и вовсе не имевшего части в жизни, однако же не представляем себе жительство того и другого из них одинаковых. Ибо один, как говорит Пророк, слышал поведания небес, которыми возвещается Божия слава (Пс. 18:2) и путеводим был тварью к познанию Владыки твари, и усматриваемою в существах премудростью пользовался, как наставницею действительной Мудрости, представив себе красоту сего света, по сходству представлял мысленно красоту истинного Света, и по твердости земли обучался познавать неизменяемость Сотворившего ее, помыслив о неизмеримой величине неба, приводим был сам в беспредельности и неограниченности всеобъемлющей Силы, видя же солнечные души, доходящие до нас с таких высот, удостоверялся видимым, что промыслительные Божии действия не бессильны нисходить с высоты Божества до каждого из нас. Ибо если светило, будучи единым, общею светоносною силою объемлет все подлежащее, и уделяя себя всем и пользующимся светом его, каждому представляется целым и нераздельным; — то кольми паче Создатель сего светила, и бывает «всяческая во всех», как говорит Апостол (1 Кор. 15:28.), и присущ каждому, в такой мере сообщая Себя самого, в какой вмещает приемлющий. Да и кто, увидев на земле колос и отпрыск растения, и зрелую гроздь, и красоту осени в плодах или цветах, и свободно изникающий злак, и гору, вершиною простирающуюся в эфирную высоту, и в подгорьях источники, как из сосцев вытекающие из пустот в горе, реки, текущие по руслам, море, отовсюду принимающее в себя потоки и пребывающее в мере своей, ограничивающее волны берегами, это море, не выступающее за установленные пределы на сушу, — обращая внимание на это и на подобное сему, не пренебрегает в уме всего, что служит к изучению Сущего, если хотя мало запасся силою к участию в оном наслаждении? Умолчу о тех науках, которыми ум поощряется к добродетели, о геометрии, об астрономии, о познании истины с помощью числа, о всяком способе доказывать неизвестное и подтверждать понятое: прежде же всего о любомудрии богодухновенного Писания, производящем совершенное очищение в обученных им Божественных тайнах.
Но кто не приобрел познания ни о чем этом, не руководился миром к уразумению премирных благ, но каким то слабым, необученным,. необразованным по уму проходил жизнь, тот не в том же будет состоянии, в каком слово изобразило пред сим представленного, так что от сего по изложенному нами противоположению, не вкусивший жизни не окажется блаженнейшим того, кто жил хорошо. Ибо жившего порочно будет блаженнее не только не искусившийся во зле, но и вначале не вступавший в жизнь. Подобное сему из евангельского слова дознали мы об Иуде, а именно, что в таком случае вовсе не существовать—лучше существования во грехе (Матф. 26:24.); ибо для одного, по причине глубоко укоренившегося порока, очистительное наказание продолжится в бесконечности, а несуществующего как коснется мучение? Но если кто жизнь младенческую и незрелую сравнивать будет с жизнью добродетельною, то таковой, произнося о существах подобное суждение, сам не зрел.
Итак спрашиваешь: почему находящийся в таком возрасте изводится из жизни? Что достигается чрез это промыслом Божественной Премудрости? Но если говоришь о детях, которые служат обличением беззаконного зачатия, и потому истребляются родившими, то несправедливо будет отчета в делах порочных требовать у Бога, Который не хорошо в этом сделанное подвергает суду. Если же кто из воспитываемых родителями и пользующихся попечительным за ними уходом и усердными о них молитвами, при всем том не наслаждается однако же жизнью по причине до смерти одолевающего недуга (в сем, без сомнения, состоит единственная причина; то гадаем о подобном сему так: совершенному промыслу свойственно не только врачевать обнаружившиеся немощи, но и промышлять, чтобы и первоначально не впал кто в запрещенное. Ибо Тому, Кто будущее знает наравне с прошедшим, справедливо воспрепятствовать продолжению жизни младенца до совершенного возраста, чтобы силою предвидения предусмотренное зло не было совершено, если младенец останется в живых, и чтобы жизнь того, кто будет жить с таким произволением, не сделалась пищею греха. И эту мысль не трудно представить в каком либо примере. Пусть предположительно на пиру предложено какое либо всякого рода угощение, распоряжается же некто такой из пирующих, который в точности знает свойства природы каждого, и что такому то сложению тела прилично, а что вредно и несвойственно; и придана ему полномочная некая власть, по собственному своему изволению, одному дозволять, а другому воспрещать вкушение предлагаемого, и все делать, чтобы каждый, по сложению своему, касался приличного ему, и человек болезненный не возбудил в себе болезни, вкушенною снедью, прибавив ей пищи, и крепкий здоровьем во пострадал от непригодной ему пищи, впав в отяготительное многосочие. При этом кто–нибудь из пристрастных к пьянству выводится, или в половине пира, или в начале опьянения, или остается до конца вечери, как заблагорассудит об этом распорядитель, чтобы трапеза была достаточно благоприличною, без худых последствий пресыщения, упоения и помрачения в уме. Посему, как отвлекаемый от наслаждения запахом приправ, не с удовольствием принимает лишение того, что ему нравится, но осуждает распорядителя в некоей безрассудности, будто бы по какой то зависти, а не по предусмотрительности, удерживает от предлагаемого; если же посмотрит, как еще с продолжающимся употреблением вина ведут себя неприлично, чувствуя тошноту, отяжеление в голове и говоря, чего бы не должно было; то признает свою благодарность тому, кто прежде такого неприличия не допускал до неумеренного пресыщения. Так если понят нами этот пример, то нетрудно будет сокрытое нами в нем начало распространить на предложенную мысль. Ибо, что было у нас предложено? Почему Бог, когда родители прилагают великое старание сохранить себе преемника в жизни, часто попускает, что рожденное под конец жизни бывает похищено преждевременно? Возражающим так, отвечаем этим примером пира, что для жизненной трапезы уготовано много и всякого рода снедей, разумей же это подобно опытным в поваренном искусстве, что не все в этой жизни подслащено медом удовольствия. Напротив того бывает иногда, что жизнь приправляется жестокими событиям, как ухитряются искусники доставлять удовольствие чреву на пирах, возбуждая в угощаемых позывы или острым, или соленым, или вяжущим. Итак, поелику жизнь не во всем сладка, как мед, но и иных случаях приготовленная снедь бывает или соленая, или вяжущая, или кислая, или какое либо острие и едкое качество, ощущаемое в обстоятельствам жизни, делает приправу ее неудобосъедемою, а обольстительные чаши наполнены всякого рода снедями: одни обольстительною кичливостью производят страсть надмения, другие доводят пьющих до затмения ума, а в иных возбуждают извержение и срамное возвращение приобретенного худо. Посему, чтобы, при таковом уготовлении трапезы, не замедлил на пиру воспользовавшийся им, не как было должно, скорее выводится он из собрания угощаемых, приобретая ту выгоду, что не доходит до состояния, причиною которого для ненасытных делается неумеренность наслаждения. Сие то и называю добрым делом совершенного промышления, не только уврачевать обнаружившуюся страсть, но и положить ей препятствие прежде обнаружения. Вот наша мысль о смерти недавно рожденных, а именно: Кто все вторит с разумом, тот по человеколюбию отъемлет пищу у порока, не давая времени произволению, предусмотренному силою предведения, обнаружить себя делами в преизбытке порока, какого достигнет оно, когда имеет стремление к злу. Нередко же учредитель жизненного пира подобным сему обличает примышленную необходимость сребролюбия, чтобы, как думаю, недуг сребролюбия оказался обнаженным от благовидных покровов, незатеняемый ни одною ложною завесою. Ибо многие говорят, что для того и расширяются в пожеланиях большего, чтобы рожденных ими соделать более богатыми. А это собственная их болезнь, происходящая не от нужды, чт'о изобличает, лишенная всякого предлога любостяжательность бездетных. Ибо многие, не имея и не надеясь иметь наследника тому, над чем так много трудились, вместо множества чад питают в себе тысячи пожеланий, не зная, на кого и сложить необходимость сего недуга.
Но иные худо проводят жизнь, они мучители, жестоки произволением, порабощены всякому непотребству, до неистовства раздражительны, готовы на всякое неисцельное зло, разбойники, человекоубийцы, предатели отечества; и что еще преступнее этого, отцеубийцы, матереубийцы, детоубийцы, с неистовством, предаются беззаконным смешениям, и будучи таковыми, состариваются в этих пороках; как же скажет иной, согласится это с найденным выше? Ибо если преждевременно похищаемые смертью, чтобы, по сказанному в примере, не до конца пира с ненасытимостью предавались страстям жизни сей, по предусмотрительности уводятся с жизненного пира; то почему таковой до старости бесчинствует на пиршестве, и себе и сопиршественникам расточая дурную смесь зол? Почему, без сомнения, скажешь, один промыслительно изводится из жизни прежде, нежели произволение усовершилось во зле, а другой оставляется сделаться таким, что лучше было бы ему вовсе не приходить в бытие? На сие более сознательным дадим некий такой ответ, что часто жизнь проживших хорошо бывает причиною лучшей участи и для тех, которые от них произошли. Тысячи сему свидетельств в богодухновенном Писании, из которых ясно узнаем, что в благопопечительности Божьей, оказанной достойным, участвуют и происшедшие от них. Но главным будет добром—сделаться препятствием к пороку для кого–нибудь, кто, без сомненья, стал бы жить порочно. А поелику здесь речь гадает о неизвестном, то никто, конечно, не будет обвинять, что догадка ведет мысль ко многим заключениям. Ибо иной скажет, что Бог не из милости только к родоначальникам изводит из худой жизни того, кто будет жить худо, но если бы и ничего такого не произошло с похищаемыми преждевременно, то не безрассудно думать, что боле было бы опасностей от проведенной ими порочной жизни, нежели от жизни каждого из соделавшихся известными в продолжение ее дурными делами. Потому что ничего не бывает без Бога, как дознали мы из многого, и опять, что делается но Божию домостроительству, то неслучайно и не неразумно, как исповедует это всякий, кто знает, что Бог есть разум, и премудрость, и всякая добродетель, и истина. А что от разума, то не неразумно, и что от премудрости, то не есть невежество: и добродетель и истина не допустят недоблестного и чуждого истине. Посему по сказанным ли причинам похищаются иные преждевременно, или есть нечто иное, кроме сказанного: конечно, надлежит согласиться, что бывает это с лучшею целью.
Но наученный апостольскою мудростью, знаю и другое некое основание, по которому некоторые, по своему произволению превзошедшие других в пороке, оставляются в жизни. Надолго занявшись такою мыслью в слове к римлянам и противопоставив себе естественно следовавшее возражение, что несправедливо было бы порочному оставаться еще в ответе, если от Бога то, что он худ, каким бы, конечно, не был, если бы это было против воли Властителя существ, Апостол так встречает эту мысль при глубоком некоем взгляде решая возражение. Он говорит, что Бог каждому уделяет по достоинству, иногда и пороку дает место с лучшею целью. Ибо для того попустил придти в бытие и сделаться таким египетскому мучителю, чтобы поражением его научен был Израиль, великий этот народ, превосходящий всякое численное представление; потому что Божия сила равно во всем познается, когда она достаточна и благодетельствовать достойных и наказывай худых. Поелику же оному народу непременно надлежало быть преселенным из Египта, чтобы у него не произошло какого либо общения в худых качествах почтительной жизни египтян; то посему самому этот богоборец, всяким злом именитый, Фараон при жизни благодетельствуемых Богом высился и процветал, чтобы, когда двоякое Божие действие по достоинству делится на того и другого, Израиль приобрел сугубое ведение, на себе изучая лучшую долю, а на наказанные за порок видя горестную; так как Бог по преизбытку премудрости умеет и зло обратить в содействие добру. Ибо художник (если надобно, чтобы нашими словами подтверждалось апостольское слово), когда он искусством своим в какое либо полезное в жизни орудие обделывает железо, потребно бывает не то одно, которое по какой–то естественной мягкости легко уступает искусству, но хотя железо бывает крайне упорно, хотя не скоро умягчается в огне, и по его жесткости и твердости невозможно выделать из него сосуд, употребительный в жизни, искусство ищет и его содействия. Ибо употребляет такое железо на наковальню, чтобы ударами по ней из годного в дело и мягкого выколотить что–нибудь служащее к употреблению.
Но скажет иной: не все в этой жизни понесли наказание за свою негодность, да и живущие добродетельно не все в настоящей жизни пользуются трудами ради добродетели. Посему, спросит, что же им пользы от живших порочно и не наказано? И на это представлю тебе причину, которая выше человеческих помыслов. Ибо великий Давид в одном месте своего пророчества говорит, что для доблестных некую часть веселия составляет и подобное следующему, когда они в противоположность благам, какие им присвоены, видят гибель осужденных. «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого» (Пса. 57:11), — не потому что радуется мучениям скорбящих, но потому что тогда наипаче познает приобретаемое достойными от добродетели. Ибо означает сказанным, что добродетельным к увеличению и усилению веселия служит сравнение противоположностей. Сие выражение «омоет стопы свои в крови нечестивого» заключает в себе такую мысль, что чистота деятельности его в жизни доказывается гибелью грешных. Ибо речение: «омоет» выражает представление чистоты. «Кровью» же никто не омывается, а напротив оскверняется: почему делается чрез это явным, что противоположение неприятного показывает блаженство добродетели.
Итак слово сие надлежит свести в краткую речь, чтобы исследованные мысли сделались для памяти более легкими. Преждевременная кончина младенцев не ведет к мысли, что скончавший так жизнь несчастлив, или что равен он очистившим себя в настоящей жизни всякою добродетелью; потому что Бог, по лучшему Своему промышлению, предотвращает безмерность зол в тех, которые стали бы жить во зле. А что некоторые из злых живут долго, сие не опровергает высказанной мысли; потому что по милости к родившим не допускается до них зло. Но теми, которые не имели от родителей какого либо дерзновения пред Богом, не передается этот род благодеяния и происшедшим от них. Или тот, кому смерть воспрепятствовала сделаться худым, оказался бы гораздо худшим приобретших известность порочностью, если бы невозбранно стал жить дурно. Или, если некоторые дошли до самой крайней меры порочности; то апостольский взгляд на сие успокаивает пытливость тем, что Творящий все с премудростью умеет и посредством зла соделывать нечто доброе. Если же кто достиг крайности в дурной жизни, и по приведенному нами примеру, ни на что полезное не выкован художеством Божиим, то си е служит к приращению веселья живших хорошо, как дает разуметь пророчество, чего да не вменяет кто–либо в маловажное из благ и в недостойное Божия промышления.
Точное изъяснение Песни Песней Соломона
Предисловие. К Олимпиаде
И честной твоей жизни, и чистой твоей душе признал я приличным тщательное изучение Песни песней, с намерением, как и лично, и письменно изъясняла ты нам, при надлежащем обозрении книги соделать явным сокровенное в речениях любомудрие, здравыми понятиями очищенное от буквальнаго, с перваго взгляда усматриваемаго, словозначения. Почему охотно соглашаюсь, что заботливость твоя об этом не только полезна тебе для твоей нравственности (ибо уверен, что око души твоей чисто от всякой страстной и нечистой мысли, и в сих Божественных речениях безпрепятственно усматривает безпримесную лепоту), но послужит даже некиим руководством для людей более плотских, чтобы и им придти в духовное и невещественное состояние души, к какому ведет книга сия сокровенною в ней премудростию.
Но поелику некоторым из принадлежащих к Церкви кажется общим правилом держаться буквы Святаго Писания, и они не соглашаются, чтобы в нем на пользу нашу говорилось что–либо загадочно и намеками: то необходимым почитаю прежде всего пред обвиняющими нас оправдаться в этом, и именно, что не делаем ничего несообразнаго, стараясь в Божественном и богодухновенном Писании всячески уловлять полезное для нас; так что, если полезно сколько–нибудь буквальное чтение, понимаемое в том смысле, в каком сказано, то имеем уже в готовности требуемое: если же что сказанное с скрытностию, загадочно и предположительно не служить к пользе по ближайшему сего разумению, то таковыя изречения, как предписывает слово, обучающее нас притчами, будем брать в ином значении, разумея сказанное, или как притчу, или как темное слово, или как изречения мудрых, или как одну из загадок (Прит. 1, 6). И по науке истолкования, пожелает ли кто назвать это применением речи, или иносказанием, или чем другим, не будем спорить об имени, только бы держаться полезных разумений.
Ибо и великий Апостол, говоря, что Закон духовен есть (Рим. 7, 14), под именем Закона заключает и историческия повествования, так что все богодухновенное Писание для читающих есть Закон не только явственными заповедями, но и историческими повествованиями, разумеющих глубоко обучающий ведению таин и чистому образу жития. Способом же толкования пользуется Апостол, каким ему угодно, имея в виду полезное; а не заботится об имени, какое надлежить дать способу толкования. Напротив того, намереваясь обратить историю в доказательство домостроительства о заветах, в одном месте говорит, что изменяет глас (Гал. 4, 20); а потом, упомянув о других чадах у Авраама, рожденных ему от рабы и оть свободной, воззрение на них называеть иносказанием (Гал. 4, 24); также, изложив некоторыя историческия события, говорит: образы прилучахуся онем: писана же быша в научение наше (1 Кор. 10, 11); и еще сказав, что не должно заграждать устен вола молотяща, присовокупил, что не о волех радит Бог, но нас ради всяко написася (1 Кор. 9, 9–10); а в другом месте менее ясное разумение и ведение оть части называет зерцалом и гаданием (1 Кор. 13, 12); и также переход оть телеснаго к умственному именует обращением ко Господу и снятием покрывала (2 Кор. 3, 16). Во всех же сих различных способах и наименованиях разумнаго воззрения Павел преподаеть нам один вид учения, что должно не на букве непременно останавливаться, так чтобы с перваго взгляда представляющееся значение сказаннаго о добродетельной жизни во многом могло вредить нам, а, напротив того, переходит к невещественному и умственному взгляду, так чтобы понятия плотския изменялись по смыслу и разумению после того, как плотское значение сказаннаго отрясено будеть подобно праху. И посему–то говорит Апостол, что буква убивает, а дух животворит (2 Кор. 3, 6): так как история (то есть в Писании), если будем останавливаться на голых событиях, во многих местах представляет нам примеры недоброй жизни. Ибо, какую пользу относительно к добродетели доставит слушателю Пророк Осия, рождающий чада блужения (Ос. 1, 2), и Исаия, входящий ко пророчице (Ис. 8, 3), если остановится кто на букве сказаннаго?
Или сколько содействовать будут к доблестной жизни повествования о Давнде, как прелюбодеяние и убийство вместе сходятся в одно преступление? Но если найдется какое–либо основание, показывающее неукоризненность того, что устроялось этим, то истинным окажется тогда слово Апостола, что буква убивает, так как содержит в себе примеры дурных дел, а дух животворит (2 Кор. 3, 6), потому что первоначально представляющееся и достойное охуждения понятие прелагаеть в значения Божественныя.
Знаем же, что и Само всею тварию покланяемое Слово, когда в человеческом подобии и виде при посредстве плоти сообщало Божественныя тайны, так открывало нам смысл закона, что два человека, которых свидетельство истинно, по слову Его, суть Он Сам и Отец (Иоан. 8, 17–18); и поставленный на высоте медный змий, который для народа служил врачевством от смертоносных угрызений, по Его объяснению есть совершенное на кресте о нас домостроительство. Да и самих святых учеников Своих обучает тонкости разумения прикровенными и тайными словами, в притчах, в подобиях, в темных речениях, в сказаниях, предлагаемых загадочно, хотя делал им истолкование сего наедине, объясняя сказанное неясно, а иногда, если не был понимаем ими смысл сказаннаго, порицал их медлительность и неспособность к уразумению. Ибо, когда повелевал им Господь воздерживаться от фарисейской закваски, а они по недогадливости смотрели на свои сумы, в которых не принесли хлебнаго запаса, тогда укоряет, как не уразумевших, что закваскою означалось учение. И еще, когда ученики предлагали Ему трапезу, а Господь отвечал: Аз брашно имам ясти, егоже вы не весте (Иоан. 4, 32), — и они предположили, что говорит о телесной пище, принесенной Ему из другаго места, тогда толкует слово Свое, что приличным для Него и соответственным брашном служит исполнение спасительной воли.
И в евангельских изречениях можно набрать тысячи таковых месть, что в них иное представляется с перваго взгляда, а к иному относится смысл сказаннаго. Так, например, разуметь должно воду, о которой Он обетовал жаждущим, что верующие соделаются от нея источниками рек (Иоан. 7, 38); а также хлеб, сходяй с небесе (Иоан. 6, 33), храм разоряемый и треми денми воздвигаемый (Иоан. 2, 19), путь (Иоан. 14, 6), дверь (Иоан. 10, 7), камень, ни во что вменяемый зиждущими и полагаемый во главу угла (Матф. 21, 42), двоих на одре едином (Лук. 17, 34), жернов мелющих: одну поемлемую, другую оставляемую (Матф. 24, 41), труп, орлов (Матф. 24, 28), смоковницу, делающуюся сочною и прозябающую ветви (Матф. 24, 32). Все сие и подобное сему да будет для нас побуждением пользоваться Божественными изречениями и испытывать их, быть внимательными при чтении и всеми способами изследовать, не найдется ли где слово, которое выше разумения, представляющагося по первому взгляду, руководящее мысль к Божественному и безплотному. Посему–то мы уверены, что запрещенное для вкушения древо — не смоковница, как утверждали некоторые, и не другое какое из плодовитых дерев. Ибо, если тогда смертоносна была смоковница, то, конечно, и теперь не служила бы в пищу. Притом же дознали мы из Владычняго изречения, решительно тому научающаго, что ничто входящее во уста не может сквернить человека (Матф. 15, 11). Напротив того, в законе ищем другаго какого–либо смысла, который был бы достоин величия Законодателя. И, если слышим, что рай есть дело Божия насаждения, и что среди рая насаждено древо жизни, то у Открывающаго сокровенныя тайны пытаемся дознать, каких растений делателем и насадителем бывает Отец, и как возможно в самой средине рая быть двум древам, древу спасения и древу погибели? Ибо точная середина, как в окружности круга, должна, конечно, находиться в одном средоточии. Если же по которую–либо сторону средоточия поставить другое средоточие, то, по всей необходимости, вместе с средоточием переместится и весь круг, так что прежнее средоточие уже не будет серединою. Итак, если рай был там один, то почему говорит Писание, что, хотя каждое из дерев представлялось особо, однакоже, посредине было и то, и другое, между тем, как смертоносному из них странно быть Божиим насаждением, чему учит то же Писание, утверждающее, что все дела Божии добра зело (Быт. 1, 31)? Если кто не усмотрит в этом истины при помощи любомудрия, то для неспособных разсуждать покажется, что сказанное не состоятельно и баснословно. И долго было бы собирать, что найдется у каждаго из Пророков, как, например, Михей говорит, что будет в последняя дни явлена гора над верхи гор (Мих. 4, 1), именует же горою тайну благочестия, являемую на погибель сопротивных сил.
Почему возвышенный Исаия говорит, что восходит жезл и цвет из корня (Ис. 11, 1), указывая сим на явление Господа во плоти? Или какой имеют смысл, по буквальному значению, у великаго Давида, гора усыренная (Псал. 67, 16), или колесница тмами тем (Псал. 67, 18), или сонм юнец, оставляемый в юницах людских (Псал. 67, 31), или нога, омоченная в крови, или языки псов (Псал. 67, 24), или Ливан, на подобие тельца, истниваемый с кедрами (Псал. 28, 6)? И кроме сего можно, из остальнаго пророчества собрав тысячи месть, научить необходимости такого взгляда на речения относительно к их смыслу, отвергнув который, как это некоторым угодно, по моему мнению, поступит всякий подобно тому, кто в снедь человеку на трапезе предложить хлебное произрастение, не обделав его, не обмолотив колоса, не отделив на веялке зерен от мякины, не измолов жита в муку и не приготовив хлеба по надлежащему способу печь хлебы. Посему, как необделанное произрастение составляет пищу скотов, а не людей; так иный может сказать, что составляют пищу скорее неразумных, нежели разумных людей и богодухновенныя речения, не приуготовленныя более тонким обозрением, и не только речения Ветхаго Завета, но даже многiя и в евангельском ученiи, как например: лопата, отребляющая гумно (Матф. 3, 12), плевы, отвеваемые ветром, пшеница, остающаяся при ногах веющаго, огнь негасающий, добрая житница, дерево, приносящее худые плоды, утроза секирою, грозно указующая на посечение дерев (Матф. 3, 10), камни, претворяемые в естество человеческое (Матф. 3, 9).
Сие пусть будет у меня написано к твоему благоразумию, как некое письменное оправдание перед теми, которые поставляют в закон в Божественных речениях не искать ничего больше, кроме ближайшаго буквальнаго их значения. Если же и свой труд предать бумаге пожелали мы после Оригена, усердно потрудившагося над этою книгою, то никто да не обвиняет нас в этом, имея в виду Божественное изречение Апостола, который говорит: кийждо свою мзду прiимет по своему труду (1 Кор. 3, 8). Но сочинено это мною не напоказ; напротив того, поелику многое из сказаннаго в Церкви по любознательности замечено было некоторыми из окружающих нас, то, иное, именно все, что было связно в их замечании, взяв у них, а иное, что необходимо требовало дополнения, присовокупив от себя, составил я сие толкование, в виде бесед; в след за прочитанным местом предлагая обозрение сказаннаго, столько употребил на сие досуга, сколько в эти дни поста дозволили время и дела; потому что в продолжении их слово сие приготовлено было нами для народнаго слышания. Если же и продолжение жизни и мирное состояние дарует нам Податель жизни — Бог, то, может быть, простремся и до остальнаго, потому что теперь наше слово и обозрение дошли уже до половины.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми нами во веки веков! Аминь.
Беседа 1
(1) Да лобжет мя от лобзаний уст Своих: яко блага сосца Твоя паче вина, (2) и воня мира паче всех аромат. Миро излияное имя Твое. Сего ради отроковицы возлюбиша Тя. (3) Привлекоша тя: в след Тебе в воню мира Твоего течем. Введе мя Царь в ложницу Свою: возрадуемся и возвеселимся о тебе, возлюбим сосца твоя паче вина: правость возлюби тя.
Вы, которые, по совету Павла, как нечистаго какого одеяния, совлеклись ветхаго человека с деянми и похотями его (Кол. 3, 9) и чистотою жизни возложили на себя светлыя одежды Господа, какия показал Он на горе преображения, лучше же сказать, облечены в Самаго Господа нашего Иисуса Христа, в Его ризу — любовь, и сообразуетесь Ему в безстрастии и во всем Божественном, выслушайте тайну Песни песней, войдите во внутренность чистаго брачнаго чертога, убеленные чистыми и нескверными мыслями, чтобы кому–либо, привлекши за собою страстный и плотский помысл, и не имея на себе одеяния совести, приличнаго Божественному браку, не быть связанным собственными своими помыслами, и чистые гласы Жениха и невесты низведя до скотских и неразумных страстей, а чрез них, покрыв себя срамными представлениями, не быть изверженным из сонма веселящихся на браке, радость брачнаго чертога обменяв на скрежет зубов и на плач. О сем свидетельствую, намереваясь коснуться таинственнаго торжества, изображеннаго в Песни песней. Ибо описанными здесь действиями душа некоторым образом уготовляется в невесты для безплотнаго, духовнаго и невещественнаго сочетания с Богом. Иже всем хощет спастися и в разум истины приити (1 Тим. 2, 4), указует здесь самый совершенный и блаженный способ спасения, именно посредством любви. Ибо иным бывает спасение и посредством страха, когда удаляемся от зла, взирая на угрозы наказанием в геенне, а иные преспевают в добродетели по упованию награды, предоставленному жившим благочестиво, приобретая доброе, не по любви, но по ожиданию воздаяния. Но кто стремится душею к совершенству, тот гонить от себя страх, потому что такое расположение — не по любви оставаться при господине, но не бежать от него по страху бичей — свойственно рабу; сей же презирает и самыя награды, чтобы не показалось, будто бы награде отдает предпочтение пред Самим Дарующим пользу, напротив того, от всего сердца, от всей души и силы любит не другое что из подаваемаго Им, а Его Самаго, то есть, самый источник благ.
Потому сие–то расположение душам слушающих поставляет в закон Призывающий нас к общению с Собою, а утверждает сие узаконение Соломон, мудрость Котораго, по Божественному свидетельству, не имеет меры, будучи равно несравнима и не применима ко всем, и до Него бывшим, и по Нем будущим, от Котораго не сокрыто ничто сущее. Не думаешь ли ты, что сим именем называю Соломона, рожденнаго Вирсавиею, принесшаго в жертву на горе тысячу волов, воспользовавшагося на грех Сидонскою советницею? Другой означается им Соломон: Который и Сам от семени Давидова происходит по плоти, Которому имя: Мир, истинный Царь Израилев, Создатель Божия храма, объявший в себе ведение всего, премудрость Котораго безпредельна, лучше же сказать, бытие Котораго есть премудрость, и истина, и всякое боголепное и высокое именование, и понятие. Он–то, сего Соломона употребив в орудие, чрез него беседует с нами, сперва в Притчах, потом в Екклесиасте, а после сего — в предлагаемом любомудрии Песни песней, постепенно и в порядке указуя словом восхождение к совершенству.
Как в жизни по плоти не всякий возраст вмещает все естественныя деятельности, и при самых разностях возрастов не одинаково проходит у нас жизнь, потому что младенец не занимается делами совершенных, и совершеннаго не берет к себе на руки кормилица, но всякому времени возраста полезно и сообразно что–либо свое: так и в душе можно видеть некоторое сходство с телесными возрастами, по которым сыскиваются некоторый порядок и последовательность, руководящия человека к жизни добродетельной. Посему–то иначе обучает Притча, и иначе беседует Екклесиаст, любомудрие же Песни песней высокими учениями превосходит и Притчи, и Екклесиаста. Ибо учение, преподаваемое в Притчах, обращает речь еще к младенчествующему, соразмерно с возрастом соображая слова. Слыши, сыне, — говорит оно, — законы отца твоего, и не отрини заветов матере твоея (Прит. 1, 8). Усматриваешь ли в сказанном еще нежность и необразованность душевнаго возраста, почему отец видит, что сын имеет еще нужду в материнских заветах и в отеческом вразумлении? И чтобы ребенок охотнее слушал родителей, отец обещает ему детския украшения за прилежание к учению; ибо детям приличное украшение — золотая цепь, блестящая на шее, и венок, сплетенный из каких–либо красивых цветов. Но, конечно, надлежит разуметь сие, чтобы смысл загадки мог путеводить к лучшему.
Так Соломон начинает описывать сыну Премудрость, в разных чертах и видах объясняя благообразие несказанной красоты, чтобы к причастию благ возбудить, не страхом каким и необходимостью, но вожделением и любовию; потому что описание красоты привлекает как–то пожелание юных к указуемому, возбуждая стремление к общению с благообразным.
Посему, чтобы паче и паче возрастало в нем вожделение, из вещественнаго пристрастия превратившись в невещественный союз, красоту Премудрости украшает похвалами. И не красоту только ея благообразия представляеть в словах, но перечисляет и богатство, господином котораго соделается, конечно, сожительствующий с нею. Богатство же сие разсматривается пока в убранствах Премудрости, потому что украшение правой ея руки — целые веки; так говорит Писание: долгота жития и лета жизни в деснице ея. А в левой руке положено многоценное богатство добродетелей, блистающее сиянием славы; ибо говорит: в шуйце ея богатство и слава. Потом описывает дыхание уст ея, благоухающее прекрасным ароматом правды, говоря: от уст ея исходит правда. А на губах ея, по слову его, вместо естественнаго алаго цвета цветут закон и милост (Прит. 3, 16). И чтобы красота у таковой невесты оказалась ни в чем не имеющею недостатка, восхваляется и ея хождение; ибо сказал: в путех правды ходит (Прит. 8, 20). Без похвал красоте не остается и величина; потому что рост ея увеличивается подобно какому–то величавому растению. Растение же то, которому уподобляется ея высота, как сказано, есть самое древо живота, которое служит пищею всем держащимся, а восклоняющимся твердым и незыблемым столпом, под тем же и другим разумею Господа, потому что Он есть жизнь и опора, и буквально читается так: древо живота есть всем держащимся ея, и воскланяющимся на ню, яко на Господа, тверда (Прит. 3, 18). Но с прочими похвалами берется вместе и ея могущество, чтобы похвала красоте Премудрости исполнена была всех добрых качеств; ибо сказано: Бог премудростию основа землю, уготова же небеса разумом (Прит. 3, 19), и каждое из видимых в творении явлений приписывает слово силе Премудрости, украшая ее различными именами. Ибо называет ее и премудростию, и разумом, и чувством, и ведением, и разумением, и тому подобным.
После сего начинает Соломон приуготовлять юношу к таковому сожительству, повелевая ему иметь уже в виду Божественное брачное ложе. Ибо говорит: не остави ю, и имется тебе; возжелей ея, и соблюдет тя. Огради ю, и вознесет тя; почти ю, да тя обимет; да даст главе твоей венец благодатей, венец же сладости защитит тя (Прит. 4, 6. 8–9). Сими брачными уже венцами украсив невесту, повелевает быть неразлучным с нею, говоря: егда ходиши, води ю, и с тобою да будет; егда же спиши, да хранит тя, да востающу ти, глаголет с тобою (Прит. 6, 22). Сим и подобным сему воспламенив вожделение в юном еще по внутреннему человеку и представив в слове самую Премудрость повествующею о себе, чем наиболее привлекает она любовь слушателей, говоря притом между прочим и сие: Аз любящия Мя люблю (Прит. 8, 17), потому что надежда быть взаимно любимым сильнее располагает любителя к вожделению, а вместе с сим предлагая ему и прочие советы в каких–то решительных и вместе неопределенно выраженных изречениях, и приведя его в совершенство, потом в последних притчах, в которых восписал похвалы оной доблей жене, ублажив сие доброе сожительство, наконец уже присовокупляет в Екклесиасте любомудрие, предлагаемое достаточно приведенному в вожделение добродетелей приточными наставлениями. И в этом слове, похулив приверженность людей к видимому, все непостоянное и преходящее назвав суетным, когда говорит: все грядущее суета (Еккл. 8, 11), выше всего восприемлемаго чувством поставляет врожденное движение души нашей к красоте невидимой, и, таким образом очистив сердце от расположения к видимому, потом уже внутрь Божественнаго святилища тайноводствует ум Песнию песней, в которой написанное есть некое брачное уготовление, а подразумеваемое — единение души человеческой с Божественным.
Посему, кто в Притчах именуется сыном, тот здесь представляется невестою, Премудрость же поставляется на место Жениха, чтобы уневестился Богу человек, из жениха став непорочною девою, и, прилепившись ко Господу, соделался единым с Ним духом, чрез срастворение с пречистым и безстрастным, из тяжелой плоти пременившись в чистый дух. Итак, поелику говорит Премудрость: возлюби, сколько можешь, от всего сердца и от всей силы, и пожелай, сколько вмещаешь, то осмеливаюсь присовокупить к сим словам и следующее: возлюби пламенно (ἐράσϑητι), потому что у безплотных неукоризненна и безстрастна эта страсть, как Премудрость говорит в притчах, предписывая пламенную любовь к Божественной красоте (Прит. 4, 6). Да и теперь предлагаемое слово повелевает подобное тому, не прямыми словами выражая совет свой об этом, но любомудрствует в выражениях таинственных, для построения сих учений составляя мысленный некий образ, заимствованный из услаждающаго в жизни. Образ же этот есть некое брачное уготовление, в котором посредствует к страсти вожделение красоты, но не Жених, как обычно у людей, начинает обнаруживать вожделение, предваряет же Жениха дева, без стыда объявляя всем о страсти, и изъявляя желание насладиться некогда лобзанием Жениха.
Ибо, когда добрые невестоводители девы — Патриархи, Пророки, законодатели поднесли уневещенной Божественные дары, которые обычай называет брачными, именуя так подарки, предшествующие браку, (дары же эти были: отпущение прегрешений, забвение худых дел, отъятие греха, пременение естества, претворение тленнаго в нетленное, райское наслаждение, царское достоинство, не имеющее конца веселие), тогда, приняв Божественные дары от прекрасных дароносцев, предлагающих ей оные в пророческом учении, и вожделение она исповедует, и поспешает воздать благодарение, стараясь уже насладиться красотою вожделеваемаго. Слышат сие некоторыя из подруг и сверстниц, возбуждающия невесту к большему вожделению. Приходит и Жених, приводя с Собою лик друзей и любимцев Своих; таковыми же могут быть служебные духи, при помощи которых спасаются люди, или святые Пророки, которые, услышав глас Жениха, радуются и восторгаются совершением сего пречистаго супружества, в котором душа, прилепляясь Господеви, делается един дух с Господем, как говорит Апостол (1 Кор. 6, 17).
Посему снова обращу речь к притчам, чтобы какой страстный и плотский ум, издающий еще мертвенное зловоние ветхаго человека, значения богодухновенных мыслей и речений не низвел до скотскаго неразумия, но чтобы каждый, в изступлении ума, став вне вещественнаго мира, безстрастием возвратившись некоторым образом в рай, и чистотою уподобившись Богу, в таком уже состоянии вступил во святилище проявляемых нам в сей книге таин. Если же у кого душа не уготована к таковому слышанию, то да внемлет он Моисею, который узаконяет нам не отваживаться восходить на духовную гору, не омыв прежде одежд на сердцах наших и не очистив душ приличными окроплениями помыслов. Почему теперь, в то время, как занимаемся сим обозрением, должно, как думаю, предать забвению помышления о делах супружеских, по заповеди Моисея, узаконившаго тайноводствуемым пребывать чистыми от супружеских общений, и во всем приложить к себе предписания законодателя, как скоро намереваемся приступить к духовной горе боговедения, где женственный род помыслов с вещественным их заготовлением оставляется дольней жизни. Всякая же неразумная мысль, если появится близ таковой горы, как бы камнями какими–то, побивается более твердыми мыслями. Ибо и при этом едва ли стерпим глас сей трубы, звучащей нечто великое, необычайное, превышающее силы внемлющих ей — глас, усиливаемый самою непроницаемостию мрака, в котором Бог, огнем попаляющий на таковой горе все вещественное.
Итак, вступим уже во святое святых, то есть приступим к Песни песней. Ибо как в именовании Святое святых из превосходной степени сего слова познаем некий избыток и особую силу святости, так и названием Песнь песней высокое слово сие обещается научить нас тайнам тайн. Ибо много есть песней в богодухновенном учении, из которых научаемся высоким понятиям о Боге, и которыя написаны великим Давидом, Исаиею, Моисеем и многими другими; из сего же надписания дознаем, что, сколько песни святых отстоят от песней внешней мудрости, столько же песни святых превышает тайна, заключающаяся в Песни песней в сравнении с которой чего–либо большаго к уразумению не могут ни найти, ни вместить и слух, и естество человека. И посему–то, что всего сильнее производить в нас удовольствие (разумею страсть любви), то Соломон загадочно предпоставил изложению догматов, давая чрез сие знать, что душе, возводящей взор к недоступной красоте Божественнаго естества, надлежит столько возлюбить оное, сколько тело имеет привязанности к сродному и соплеменному, переменив, впрочем, страсть в безстрастие, так чтобы, по угашении всякаго телеснаго расположения, от одного духа воскипало в нас любовию сердце, согреваемое тем огнем, который Господь пришел воврещи на землю (Лук. 12, 49).
Но полагаю, достаточно сказано о том, в каком расположении надлежит быть душе слышащих таинственные глаголы, и время уже на обозрение в слове предложить самыя речения божественной Песни песней; а прежде всего выразумеем силу надписания. Ибо не напрасно, кажется мне, книга сия по надписанию присвояется Соломону, но чтобы в читающих возбуждалась мысль от сказаннаго в ней ожидать чего–то великаго и Божественнаго. Поелику удивление каждаго человека мудростью Соломона, по свидетельству о нем, было чрезвычайно, то посему в самом начале немедленно делается упоминание об имени, чтобы читающие надеялись от книги сей чего–то великаго и достойнаго славы Соломоновой. Как в живописном искусстве, конечно, какое–нибудь вещество разными цветами выполняет подобие животнаго, но кто смотрит на изображение, искусственно написанное красками, тот не останавливается на разсматривании цветных составов, наложенных на картину, обращает же внимание только на то, что художник представил красками: так в настоящем Писании надлежит не на вещество красок в речениях обращать внимание, но видеть как бы образ Царя, отпечатлеваемый в чистых понятиях. Следующия, в ближайшем значении взятыя речения: уста, лобзание, миро, вино, названия членов, ложа, отроковицы и подобныя сим суть краски белаго или желтаго, или чернаго, или алаго, или голубаго, или инаго какаго цвета. А слагаемый из них образ есть блаженство, безстрастие, единение с Божеством, отчуждение от злых дел, уподобление в подлинном смысле прекрасному и доброму. Вот понятия, свидетельствующия об оной Соломоновой премудрости, превосходящей пределы мудрости человеческой! Ибо что было бы необычайнее сего, как очищением от собственных своих страстей соделать, чтобы в речениях, по видимому страстных, самое естество узаконяло и преподавало нам безстрастие? Ибо Соломон не говорит: должно стать вне страстных движений плоти, умертвив уды, яже на земли (Кол. 3, 5), и иметь уста, чистыя от страстных речений; но так настроивает душу, что в показывающем по видимому противное, в виду имеет чистое, и страстными речениями изъясняет самую чистую мысль.
Слово началом своим да научит нас тому одному, что вводимые во святилище таин книги сей уже не люди, но тем самым, что стали учениками Христовыми, претворились по естеству в Божественное, как свидетельствует об учениках Своих Слово, что лучшими человека были те, которых сказанное им Господом отличение отделило от людей, когда говорит: кого Мя глаголют человецы быти?… Вы же кого Мя глаголете быти (Марк. 8, 27. 29)? Ибо действительно, кто и оть таких речений, которых ближайшее значение указывает на плотское сладострастие, не поползается на разумение нечистое, но сими речениями при понятиях чистых руководится к любомудрию о Божественном, тот доказывает о себе, что он уже не человек, и имеет естество, не из плоти и крови сложенное, но, по безстрастию соделавшись равноангельным, показывает уже в себе жизнь, ожидаемую в воскресение святых. Как по воскресении тело, пременясь в нетленное, соединится с душею человеческою, страсти же, тревожащия нас ныне, не возстанут с оными телами; напротив того, для жизни нашей наступит мирное состояние, мудрование плоти не будет больше мятежничать против души, в междоусобной брани противостав закону ума страстными движениями, и, победив ее грехом, водить подобно какой–то пленнице; но естество соделается тогда чистым от всего подобнаго, и у обоих, разумею у плоти и духа, будет одно мудрствование; потому что всякое телесное расположение в естестве уничтожится. Так слово в сей книге повелевает слышащим, хотя живем во плоти, не обращаться к ней мыслями, но иметь в виду единую душу, и все, выражающия любовь речения, чистыми и неоскверненными восписывать превышающему всякий ум благу, которое одно в подлинном смысле сладостно, вожделенно и достолюбезно, и наслаждение которым служит всегдашним поводом к большему вожделению, причастием благ усиливая пожелание. Так Моисей любил Бога; так любил Илия; так Иоанн любил Жениха, говоря: имеяй невесту, жених есть, а друг женихов радостию радуется за глас женихов (Иоан. 3, 29). Так Петр на вопрос любиши ли? с дерзновением отвечаеть: Ты веси, Господи, яко люблю Тя (Иоан. 21, 15). Так и прочие Апостолы. Так Павел, прежде гонитель, возлюбив Христа, Котораго не видел, писал, выражаясь: обручих вас, деву чисту, представити Христови (2 Кор. 3, 2). Так теперь невеста — Церковь возлюбила Жениха, подобно деве, которая говорить в песни: да лобжет мя от лобзаний уст Своих (Песн. 1, 1). Так Моисей бывшею у него устами ко устам беседою с Богом, как свидетельствует Писание, приведен еще в большее вожделение таковых лобзаний, и после стольких Богоявлений, как будто не видевший еще Бога, просит увидеть Желаемаго. Так все прочие, в ком глубоко укоренена была Божественная любовь, никогда не останавливались в вожделении, все даруемое им свыше к наслаждению желаемым обращая в пищу и в поддержание сильнейшаго вожделения.
Так и ныне душа, вступившая в единение с Богом, не имееть сытости в наслаждении. Чем обильнее наполняется услаждающим, тем сильнее действуют в ней пожелания. Поелику глаголы Жениха дух и живот суть (Иоан. 6, 63); а всякий, прилепляющийся к духу делается духом, и вступающий в единение с жизнию, по Господнему слову, переходит от смерти в живот (Иоан. 5, 24), то по сему самому к источнику духовной жизни приблизить себя желает дева–душа. А источник сей — Жениховы уста, из которых источающиеся глаголы жизни вечной наполняют привлекающия их уста, как было с Пророком, устами привлекающим дух (Псал. 118, 131). Посему, так как уста, привлекающия питие из источника, надлежит приложить к воде, а источник есть Господь, изрекший: аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет (Иоан. 7, 37); то посему душе жаждущей желательно уста свои приблизить к устам, источающим жизнь, и невеста говорит: да лобжет мя от лобзаний уст Своих. И Тому, Кто всем источаеть жизнь, и всем хощеть спастися, не угодно кого–либо из спасаемых лишить сего лобзания, потому что лобзание это есть очистительное средство от всякой скверны. Посему–то, кажется мне, Господь с укоризною произносить прокаженному Симону такия слова: лобзания Ми не дал еси (Лук. 7, 44). Чистым стал бы он от недуга, привлекши чистоту устами. Но Симон справедливо не был возлюблен, оплотянев по болезни, по собственному вожделению оставаясь неистощимым в недуге. А душа, достигшая чистоты, так как не омрачает ея никакая плотская проказа, видит сокровище благ; имя же этому сокровищу — сердце. И Пророк молится, чтобы создано было в нем сердце чисто (Псал. 50, 12), из котораго подается сосцам Божественное млеко, служащее питанием душе, привлекающей благодать по мере веры (Рим. 12, 6). Почему говорит она: блага сосца Твоя паче вина (Песн. 1, 1), — сосцами по местному положению означая сердце. Конечно же не погрешит, кто под сердцем будет разуметь сокровенную и неизреченную силу Божества; да и под сосцами справедливо может иный подразумевать благия за нас действования Божественной силы, какими Бог поддерживает жизнь каждаго, снабжая приличною каждому из приемлющих пищею.
Но из любомудрия сей книги дознаем мимоходом и другое некоторое учение, а именно, что есть в нас двоякое некое чувство, одно телесное, другое Божественное, как где–то в притчах говорит Слово: найдешь Божественное чувство, — потому что есть некая соразмерность душевных движений и действий с чувствилищами тела, и сие дознаем из настоящих словес Духа. Вино и молоко различаются вкусом, но когда они духовны, тогда духовна, без сомнения, и восприемлющая их душевная сила. А лобзание совершается чувством осязания; потому что при лобзании уста между собою прикасаются. Но есть некое осязание души, которым осязается слово, и которое совершается каким–то не телесным, но духовным соприкосновением, как сказал изрекший: руки наша осязаша, о Словеси животнем (1 Иоан. 1, 1). А также и воня Божественнаго мира есть воня обоняемая не ноздрями, но какою–то духовною н невещественною силою, с привлечением духа, привлекающею и благоухание Христово. Ибо желание девы, выраженное в начале Песни, читается в связи так: блага сосца Твоя паче вина, и воня мира Твоего паче всех аромат (Песн. 1, 1–2). А сим, как предположили мы, выражается какая–либо мысль немаловажная и достойная пренебрежения. Ибо при этом сравнительном предпочтении млека из Божественных сосцев тому веселию, какое бывает у нас от вина, научаемся, может быть, сказанным, что вся человеческая мудрость, и все знание существующаго, и всякая созерцательная сила, и всякое мысленное представление не могут устоять в сравнении с простейшею пищею Божественных уроков; потому что млеко истекает из сосцев, и есть пища младенцев; а вино по силе и горячительному свойству делается наслаждением совершеннолетних, однако же совершенное во внешней мудрости ниже младенческаго учения в Божественном Слове. Посему–то Божественные сосцы лучше человеческаго вина, и воня Божественнаго мира превосходнее всякаго благоухания ароматов. А в этом, по моему мнению, открывается такой смысл.
Под ароматами разумеем добродетели, как–то: мудрость, целомудрие, справедливость, мужество, благоразумие и подобное сему, украшаясь которыми, каждый из нас по мере сил и по своему произволению, один так, другой иначе, приходим в благоухание, и кто из целомудрия, или мудрости, кто из справедливости, или мужества, или другаго чего, признаваемаго за добродетель, а иный и из всех таковых ароматов имееть в себе срастворенное благоухание. Однако же все это не может идти в сравнение с тою всесовершенною добродетелию, которая наполняет собою небеса, как свидетельствует пророк Аввакум, сказав: покры небеса добродетель Его (Авв. 3, 3), то есть с источною премудростию, источною правдою, источною истиною, и так далее. Воня небеснаго мира, сказано, имеет благодать несравнимую с теми ароматами, какия известны нам.
В последующем за сим душа невесты касается еще высшаго любомудрия, показывая недоступность и невместимость Божественной силы человеческим помыслам, когда говорит: миро излиянное имя Твое (Песн. 1, 2), — ибо сими словами, кажется мне, означается подобное следующему: естество неопределимое не может в точности объято быть словом, имеющим значение имени; напротив того, вся сила понятий, вся выразительность речений и именований, хотя бы, по–видимому, заключали они в себе что великое и боголепное, не касаются естества в Сущем, но разум наш, как бы по следам только и озарениям каким, гадает о Слове, с помощию постигнутаго, по какому–то сходству представляя себе и непостижимое. Какое ни примыслим имя, сообщающее нам понятие о мире Твоего Божества, — говорит невеста, — тем, что выражает сказуемое, означим не самое миро, но богословскими сими именованиями покажем только малый некий остаток испарений Божественнаго благоухания: как по сосудам, из которых вылито миро, не познается самое миро, вылитое из сосудов, каково оно в естестве своем; хотя и по малоощутительному некоему качеству испарений, оставшемуся в сосуде, делаем некоторую догадку о вылитом мире. Сие–то именно дознаем мы из сказаннаго: самое миро Божества, каково оно в сущности, выше всякаго имени и понятия; усматриваемыя же во вселенной чудеса доставляют содержание богословским именованиям, по которым Божество именуем премудрым, всемогущим, благим, святым, блаженным, вечным, также Судиею, Спасителем и подобным сему, что все показывает некоторое, впрочем, не главное, качество Божественнаго мира, какое вся тварь, на подобие какого–либо мироварнаго сосуда, отпечатлела в себе усматриваемыми в ней чудесами.
Сего ради, — говорит невеста, — отроковицы возлюбиша Тя, привлекоша Тя (Песн. 1, 2–3). Так выразило (Слово) причину похвальнаго вожделения и исполненнаго любви расположения. Ибо кто не возлюбит такой красоты, если только имеет око, способное взирать на лепоту? Хотя и не много постигается красота; однако же чрез уподобление видимому гадательно представляется до безконечности разнообразною! Но как вещественная любовь не касается еще младенчествующих, потому что детство не дает в себе места страсти, а также и удрученных крайнею старостию не видим в подобном состоянии: так и в разсуждении Божественной красоты, кто еще младенец, обуревается и носится всяким ветром учения, и кто одряхлел, состарелся и приблизился к истлению, все те оказываются неподвижными к сему вожделению. Ибо таковых не касается невидимая красота, но такую только душу, которая вышла из младенческаго состояния, цветет духовным возрастом, не прияла на себя скверны или порока, или нечто от таковых (Ефес. 5, 27), не лишена чувствительности по младенчеству и не ослабела в силах по дряхлости, слово именует отроковицею. Она покоряется великой и первой заповеди закона, от всего сердца и всею силою возлюбив оную красоту, которой очертания, образца и истолкования не находит человеческий разум. Посему таковыя отроковицы, обогащенныя добродетелями, по зрелости возраста бывшия уже внутри Божественнаго чертога Божественных таин, любят красоту Жениха и любовию обращают Его к себе; ибо Жених таков, что любовию вознаграждает любящих, так говоря от лица Премудрости: Аз любящия Мя люблю (Прит. 8, 17), и: разделю любящим Мя имение (имение же сие — Сам Он), и сокровища их исполню благих (Прит. 8, 21). Посему души сии привлекают к себе любовь нетленнаго Жениха, ходя, как написано, в след Господа Бога (Ос. 11, 10).
Причиною же их любви служит благоухание мира, к которому всегда поспешают оне, в предняя простираяся, задняя же забывая (Флп. 3, 13). Ибо говорять: в след Тебе в воню мира Твоего течем (Песн. 1, 3). Но, как недостигшия еще совершенства добродетели и юныя по возрасту, дают только обещание поспешить к цели, какую указует им воня мира. Ибо говорят: в воню мира Твоего течем. Душа же более совершенная, дальше простершаяся в предняя, достигает уже цели, для которой совершается течение, и удостоивается сокровищ в ложницах. Она говорит: введе мя Царь в ложницу Свою. Ибо возжелавшая краями усть своих коснуться блага, и в такой мере коснувшаяся красоты, какую показывает сила изъявленнаго желания (изъявляла же она желание как бы лобзания некоего сподобиться чрез озарение Слова), по достижении сего, и проникнув помыслом во внутреннее святалище таин, взывает, что не в преддверии только благ течение ея, но что, имея начаток Духа, по благодати Котораго, как бы в следствие какого лобзания, сподобилась испытывать глубины Божия (1 Кор. 2, 10), и подобно великому Павлу, быв во святилище рая, говорит, что видит незримое и слышит неизреченны глаголы (2 Кор. 12, 4).
Последующее же за сим изречение раскрываеть в слове церковное домостроительство. Ибо первые, наученные благодатию, самовидцы и слуги бывшии Словесе (Лук. 1, 2), не ограничили блага самими собою, но и бывшим после них по преданию сообщили ту же благодать. Посему о невесте, которая из уст Слова была первая исполнена благ и сподобилась сокровенных таин, говорят отроковицы: возрадуемся и возвеселимся о тебе (Песн. 1, 3). Ибо твое радование — и наша общая радость. Как ты паче вина любишь сосцы Слова, так и мы любим тебя. Твоим будем уподобляться сосцам, из которых напоеваешь млеком младенцев о Христе. Паче человека возлюбим вино, и если кто понятие сие приведет в большую ясность, то сказуемое будет таково. Возлюбил сосцы Слова на перси Господа припадший Иоанн (Иоан. 13, 25); он, подобно какой–то губке, приложивший сердце свое к Источнику жизни, по неизреченному некоему сообщению исполнившийся таин хранящихся в сердце Христовом, и нам предлагает исполненный словом сосец, и нас делает полными того, что вложено в него самаго из Источника благ, велегласно проповедуя присносущее Слово. Посему справедливо скажем Ему: возлюбим сосца Твоя паче вина (Песн. 1, 3), — если только дошли мы до того, что мы уже отроковицы и не младенчествуем умом в сопряженной с юностию суетности, не сквернимся также грехом в дряхлости, оканчивающейся истлением.
А посему возлюбим поток Твоих учений, потому что правость возлюби Тя (Песн. 1, 3). Ибо тот это ученик, котораго любил Иисус, а Иисус есть правость. Слово же сие лучше и боголепнее, нежели пророк Давид именует Господа. Ибо Давид говорит: прав Господ Бог (Псал. 91, 16), — а здесь именуется правостию Тот, Кем все стропотное приводится в правое. Но да будут и в нас вся стропотная в право, и острая в пути гладки (Ис. 40, 4) по благодати Господа нашего Иисуса Христа! Ему слава во веки веков! Аминь.
Беседа 2
(1, 4) Черна есмь и добра, дщери иерусалимския, якоже селения Кидарска, якоже завесы Соломони. (5) Не зрите мене, яко аз есмь очернена, яко опали мя солнце: сынове матере моея сваряхуся о мне, положиша мя стража в виноградех: винограда моего не сохраних. (6) Возвести ми, Егоже возлюби душа моя, где пасеши, где почиваеши в полудне? да не когда буду яко облагающаяся над стады другов Твоих. (7) Аще не увеси самую тебе, добрая в женах, изыди ты в пятах паств, и паси козлища твоя у кущей пастырских.
В священной скинии свидения видимое совне не равноценно было сокровенной внутри красоте. Ибо опоны состояли из льняных тканей, и внешним украшением скинии служили завесы из козьих волосов, и покровы из красных кож; смотрящим же совне ничто в этом не представлялось великим и драгоценным. Но внутри вся скиния свидения сияла золотом, серебром и дорогими камнями. Столпы, их стояла и верхи, кадильница, алтарь, кивот, светильник, очистилище, умывальницы, завесы во входах, красота которых срастворялась всякаго вида доброцветными красками, золотая нить, искусственною какою то работою нарядно сотканная вместе с синетою, багряницею, виссоном и червленицею, из всего этого составив нечто единое, делала, что ткань поражала взоры, блистая как бы лучами радуги. А что имея в виду, начинаю сим речь, без сомнения, сделается для нас явным из того, что будет сказано.
Снова предлагается нам Песнь песней, как полное изложение боговедения и любомудрия. Она есть истинная скиния свидения, в которой покровами, завесами и опонами служат некия слова и речения, выражающия любовь, показывающия отношение к любимому, также изображение красоты, упоминание телесных членов, и видимаго на лице, и сокрытаго под облачением одежды. А что внутри, то в подлинном смысле есть некий пресветлый светильник и кивот, исполненный таин, и благоухающая кадильница, и очищение греха, оное всезлатое кадило благочестия, эта красота завес — благообразное исткание из доброцветности добродетелей, эти незыблемые столпы помыслов, неподвижныя стояла догматов, и красота верхов, которыми истолковывается благодать во владычественном души, и омывальницы душ; и все, что относится к небесному и безплотному житию, что закон предписывает, выражаясь загадочно, можно находить в сокрытых под буквою понятиях, если только, в купели Слова омыв всю скверну гнусной мысли, попечением о жизни соделаем себя способными к вступлению во святая святых, а не останемся не узревшими чудес внутри скинии, подвергшись смерти за то, что, вопреки предписанию закона, касались мертваго понятия или какого–либо нечистаго помышления. Ибо закон духовный не дозволяет таковым входа, если кто, коснувшийся какой–либо мертвой и мерзкой мысли, не омоет, по Моисееву закону, ризу совести своей.
Но последовательная связь разсмотреннаго доселе приводит слово к обозрению того, что сказано невестою отроковицам, именно же следующаго: черна есмь и добра, дщери иерусалимския, якоже селения Кидарска, якоже завесы Соломони (Песн. 1, 4). Прекрасно наставница сия с того именно, с чего было должно, начинает обучаемым душам делать объяснение благ. Ибо души сии в высказанном ими изъявляют готовность всякому человеческому слову, которое в переносном смысл именуют вином, предпочесть благодать, источающуюся из ея разумных сосцев, так выражая сие словом: возлюбим сосца твоя паче вина: потому что правость возлюби тя (Песн. 1, 3). Невеста, чтобы лучше дознали мы безмерное человеколюбие Жениха, Который из любви придал возлюбленной красоту, сообщает обучаемым о чуде, над нею самой совершившемся. Ибо говорит: не тому дивитесь, что возлюбила меня правость, но тому, что черна я была от греха и делами освоилась с мраком, но Жених из любви соделал меня прекрасною, собственную Свою красоту дав мне в замен моей срамоты. Ибо на Себя восприяв скверну моих грехов, мне передал Свою чистоту и Своей красоты учинил меня причастною Тот, Кто сперва из ненавистной соделал меня достолюбезною и потом возлюбил. После сего убеждает отроковиц, чтобы и оне соделались прекрасными, указывая им на свою красоту, подобно великому Павлу, который говорит: будите якоже аз, зане и аз, якоже вы (Гал. 4, 12), и: подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу (1 Кор. 11, 1). Посему не попускает учащимся у ней душам, смотря на свою прошедшую жизнь, отчаяваться в возможности стать прекрасными, напротив того, советует, взирая на нее, из ея примера дознать, что настоящее, если оно неукоризненно, делается покровом прошедшаго. Ибо говорит: хотя теперь блистает моя красота, сообщенная мне потому, что возлюбила меня правость; однакоже знаю о себе, что первоначально была я не красива, но черна. Таким же темным и мрачным вид мой делала предшествовавшая жизнь. Впрочем, быв столько гнусною, теперь я прекрасна; потому что подобие срамоты претворено в образ красоты. Посему и вы, дщери иерусалимския, взирайте на вашу матерь — горний Иерусалим. Если бы вы были и селениями Кидарскими, потому что обитал бы в вас князь власти темной (слово Кидар толкуется: помрачение); то сделаетесь завесами Соломоновыми, то есть, будете храмом Царя, вселившагося в вас, Царя Соломона (Соломон же значить: мирный, соименный миру, и завесами Соломоновыми, то есть одною частию невеста наименовала весь обем царской скинии). Подобно сему теми же представлениями с большею еще внимательностию, кажется мне, услаждается Павел, в послании к Римлянам, говоря: в этом составляет Божию любов к нам, яко еще грешником и очерненным сущим нам (Рим. 5, 8), соделал нас световидными и достойными любви, потому что осиял благодатию. Как во время овладевшей всем ночи очерняется мраком даже и то, что по природе светло, а когда наступит свет, в вещах потемненных мраком не остается подобия тмы: так, по преведении души от заблуждения к истине, и темный образ жизни прелагается также в светлую благодать. Что Христова невеста говорит отроковицам, тоже и Тимофею открывает Павел, из очерненнаго соделавшийся в последствии светлым, а именно, что сподобился стать прекрасным и он, который прежде был хульником, гонителем, досадителем (1 Тим. 1, 13) и очерненным, яко Христос прииде в мир (1 Тим. 1, 15) очерненных соделать светлыми, призывая не праведников к Себе, но грешников в покаяние, их в бане пакибытия соделал светлыми, подобно светилам, мрачный их вид омыв водою. Сие–то самое и Давидово око усматривает в горнем граде и в чудо вменяеть видимое, как во граде Божием, о котором преславная глаголашася, поселяется Вавилон, упоминается блудница Раав, иноплеменницы, и Тир, и людие ефиопстии пребывают тамо (Псал. 86, 3–4), чтобы не упрекал уже сего города какой–либо человек за то, что нет в нем жителей, говоря: ужели речет еще кто Сиону: человек родися в нем (Псал. 86, 5)? Ибо гражданами там делаются иноплеменники, Иерусалимлянами — Вавилоняне, девою — блудница; белыми — Ефиопляне, и верхний город — Тиром. Так здесь невеста, представляя благодать Жениха, ободряет дщерей иерусалимских, что, хотя возмет Он и очерненную какую душу, но общением с Собою соделает ее прекрасною, и что, хотя кто и селение Кидарское, но соделается светлою обителию истиннаго Соломона, то есть вселившагося в ней Царя мира. Потому и говорит: черна есмь и добра, дщери иерусалимския (Песн. 1, 4), чтобы, взирая на меня, и вам соделаться завесами Соломоновыми, хотя бы вы были селениями Кидарскими. Потом невеста присовокупляет к сказанному и следующее за тем; а сим разумение обучаемых необходимо утверждается в той мысли, чтобы не Создателю приписывать причину потемненнаго их вида, но начало такого вида полагать в произволении каждой души. Не зрите мене, — говорит невеста, — яко аз есмь очернена (Песн. 1, 5). Не такою сотворена я первоначально. Ибо сотворенной светоносными Божиими руками не естественно было бы иметь на себе какой–либо темный и черный вид. Не была, но сделалась я такою, утверждает она. Ибо не от природы я очернена, но привзошла ко мне такая срамота, когда солнце превратило образ мой из светлаго в черный; яко опали мя солнце, — говорит она. Чему же научаемся из этого? Господь в притчах говорить народу, что сеющий слово не на добром только сердце сеет, но, если у кого оно и каменисто или заросло тернием, или лежит при пути и попирается ногами, по человеколюбию и в них ввергаеть семена слова, и объясняя в Своей проповеди свойства каждаго сердца, продолжает: с душею каменистою происходит то, что посеянное не пускает корня в глубину, но, хотя вскоре на легком стебле обещает дать колос, однако–же, когда солнце сильнее согреет то, что под ним, поелику под корнем нет влаги, стебль засыхает. В истолковании же притчи солнце именует Господь искушением. Посему у наставницы сей научаемся следующему догмату: хотя естество человеческое, будучи изображением истиннаго света, сотворено сияющим, по подобию первообразной красоты, и ему несвойственны потемненныя черты; однакоже искушение, обманом подвергнув его палящему зною, погубило первый нежный еще и неукоренившийся росток, и прежде нежели приобретен некоторый навык к добру, и возделанием помыслов дан корням простор в глубине, тотчас засушив преслушанием, зеленеющий и доброцветный вид зноем обратило в черный.
Если же солнцем именуется сопротивное приражение искушения, то никто из слушающих да не дивится сему, научаемый тому же во многих местах богодухновеннаго Писания. Ибо, во второй песни степеней, имеющему помощь от Сотворшаго небо и землю дается такое благословение, что не ожжет его солнце во дни (Псал. 120, 2. 5). И Пророк Исаия, предрекая состояние Церкви, описывает как бы некое торжество ея благоустройства, и словом как бы играя в повествовании, ибо говорит: о дщерях, вземлемых на рамена, и о сынах, возимых на колесницах и отражающих жар сеньми (Ис. 66, 12. 20), которыми загадочно изображает добродетельную жизнь, указуя младенческим ея возрастом на незрелость и незлобие, а сеньми на облегчение от зноя, доставляемое душам воздержанием и чистотою. Из чего дознаем, что душе, которая уневещивается Богу, надлежит быть подъятою на рамена, не попираемою стопами плоти, но возседающею на величавости тела. Слыша же о колеснице, познаем просвещающую благодать крещения, по которой делаемся сынами, уже не на земле утверждающими стопы, но возносимыми оть нея к небесной жизни. А отеняемою и орошаемою делается для нас жизнь по охлаждении зноя сеньми добродетели. Посему вредоносно солнце сие, когда палящие его лучи не осеняются облаком Духа, какое в покров им распростирает над ними Господь. Ибо сие самое солнце приражением искушений опаляет блистательную наружность тела и вид очерняет до безобразия. Потом невеста пересказывает, откуда возимело начало претворение нашего благообразия в черноту. Сынове матере моея, — говорит она, — сваряхуся о мне, положиша мя стража в виноградех: винограда моего не сохраних (Песн. 1, 5). Прежде обратим внимание не на то, чтобы с крайнею точностию разбирать словосочинение, но на то, чтобы видеть связь мыслей. Если же что в точности и не связно, пусть припишется сие недостатку выразительности у перелагавших с еврейскаго языка на еллинскую речь. Ибо кто прилагал старание изучать еврейский образ речи, тот не найдеть ничего такого, что могло бы показаться не имеющим связности. Но склад нашего языка, несходный с складом доброречия еврейскаго, у следующих поверхностно буквальному значению производит некоторую слитность речи. Посему смысл сказанных пред сим речений следующий. Сколько понимаем, человек первоначально не имел недостатка ни в одном из Божественных благ; делом его было только хранить, а не приобретать сии блага. Но злоумышление врагов соделало его лишившимся того, что имел, не сохранившим того добраго жребия, какой дан ему Богом в самом естестве. Вот смысл предложенных речений. Мысль же сия загадочными словами передана таким образом Сынове матере моея, — говорит невеста, — сваряхуся о мне, положиша мя стража в виноградех: винограда моего не сохраних В немногих словах Писание догматически научает многому. И во первых тому, что подобным сему образом утверждал и Павел, а именно, что все от Бога, и един Бог Отец из Негоже вся (1 Кор. 8, 6), и нет ни одного существа, которое не чрез Него и не от Него имеет бытие; ибо сказано: вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть (Иоан. 1, 3). Но поелику вся, елика сотвори Бог, добра зело (Быт. 1, 31); потому что вся премудростию сотворил Он (Псал. 103, 24), то разумному естеству дан дар свободы и присовокуплена сила, изобретающая вожделенное, чтобы имела место произвольность, добро не было чем–то вынужденным и невольным, но вменялось в преспеяние произволению. А как свободное сие движение самовластно ведет нас к тому, что нам угодно; то в естестве существ нашелся некто во зло употребивший свободу, и, по выражению Апостола, соделавшийся обретателем злых (Рим. 1, 30). Он–то, поелику и сам сотворен Богом, нам брат, а поелику самовольно отказался от причастия добра, открыв вход злу и став отцем лжи, то поставил себя в ряду наших врагов во всем, в чем только цель даннаго нам произвола имеет в виду лучшее. Посему от него и для прочих возник повод к утрате благ, что и последовало с естеством человеческим. И бывшая некогда черною, а теперь соделавшаяся доброю, причину потемненнаго вида основательно приписывает таковым сынам матери, научая нас сказанным, что хотя для всех существ одна причина существования и как бы одна матерь и потому все, представляемое существующим, состоит между собою в братстве, но разность произволения разделила естество на дружественное и враждебное. Ибо отступившие от сношения с добрым и отступлением от лучшаго осуществившие зло (потому что нет инаго осуществления злу, кроме отделения от лучшаго) прилагают все старание и всячески промышляют, как и других присоединить к общению в зле. И потому невеста говорит: сынове матере моея (множественным числом показывает многовидность порока) воздвигли во мне брань, — не набегом отвне нападая, но самую душу соделав полем происходящей в ней брани, потому что в каждом идет брань, как толкует Божественный Апостол, говоря: вижду ин закон во удех моих, противувоюющ закону ума моего и пленяющ мя законом греховным, сущим во удех моих (Рим. 7, 23). Посему, когда сия междуусобная брань воздвигнута была во мне братьями моими, врагами же моего спасения, сделалась я очерненною, а будучи побеждена врагами, не сохранила и винограда моего, под которым разуметь надобно виноград в раю. Ибо и там человек поставлен был хранити рай (Быт. 2, 15); нерадение же о хранении извергает человека из рая, отступившаго от востока делает обитателем западов. Посему восток является западом. Ибо сказано: пойте Господу возшедшему на запады (Ис. 67, 5 ), чтобы, когда во тме возсияет свет, и тма претворилась в луч света, и очерненная соделалась снова доброю.
Видимую же несовместимость буквальнаго чтения с найденным смыслом можно устранить следующим образом: невеста говорить: положиша мя стража в виноградех (Песн. 1, 5). А это одинаково с сказанным: положиша Иерусалим, яко овощное хранилище (Псал. 78, 2). Ибо не они поставили ее стражем Божественнаго винограда, как понял бы иный по ближайшему смыслу речи. Напротив того, стражем поставил ее Бог, они же сваряхуся только о ней, и положиша ее, яко кущу в винограде, и яко овощное хранилище в вертограде (Ис. 1, 8). Ибо, за преслушание лишившись хранимых ею плодов, представляла она из себя безполезное зрелище, когда не стало в ней охраняемаго. И поелику Бог поставил человека делати и хранити рай, то невеста говорит следующее: Бог положил душу мою в жизнь (жизнию была та сладость рая, в которую делати и хранити ее поставил Бог человека); а враги вместо рая сладости на попечение душе моей отдали свой виноград, котораго грозд производит горесть, и грозд — желчь. Таковым виноградом был Содом, таковою розгою был Гоморр, осужденный вместе с Содомом, откуда лукавыя точила содомлян изливали неисцельную ярость змиев (Втор. 32, 32–33). Но многих из людей и доныне можно видеть попечителями и стражами таковых виноградов: они старательно соблюдают в себе страсти, как бы боясь утратить зло. Посмотри на этих лукавых стражей идолослужения, совершаемаго нечестием и любостяжательностию, как неусыпны они в хранении зол, почитая ущербом для себя лишиться беззакония. И в разсуждении инаго в глубоко приявших в себя сластолюбие или гордыню, или кичливость, или иное что подобное, можно также видеть, как со всяким хранением обемлють они это, вменяя себе в прибыль, чтобы душа никогда не была чистою от страстей. Посему оплакивает это невеста, говоря: потому стала я черна, когда, охраняя плевелы врага и дурные их отпрыски, и ухаживая за ними, винограда моего не сохраних (Песн. 1, 5).
О, сколько страдания в слушающих с чувствительным сердцем возбуждают слова, сии: винограда моего не сохраних! Явный это плачь, к возбуждению сострадания извлекающий воздыхания у Пророков. Како бысть блудница град верный, Сион полн суда (Ис. 1, 21)? Почему оставлена дщерь Сионя, яко куща в винограде (Ис. 1, 8)? Како седе един град, умноженный людьми? владяй странами, бысть под данию (Плач. 1, 1)? Како потемне злато, изменися сребро доброе (Плач. 4, 1)? Как стала черною сиявшая в начале истинным светом? Все это сбылось со мною, — говорить невеста, — потому что винограда моего не сохраних. Виноград этоть — безсмертие; виноград этот — безстрастие, уподобление Богу, отчуждение от всякаго зла. Плод сего винограда — чистота. Светел и зрел этот грозд, отличающийся особенным видом и непорочностию услаждающий чувствилища души. Завитки сего винограда — связь и сроднение с вечною жизнию; возрастающия ветви — возвышенности добродетелей, восходящия на высоту Ангелов; а зеленеющия листья, тихим веянием приятно колеблемыя на ветвях, — разнообразное убранство Божественными добродетелями, цветущими духом. Приобретя все это, — говорит невеста, — и величаясь наслаждением сих благ, как не сохранившая винограда, очернена я слезами, как лишившаяся чистоты, облеклась в мрачный вид, потому что такова была видом кожаная риза. Да и теперь, поелику возлюбила меня правость, снова став прекрасною и световидною, не доверяю своему благополучию, боюсь опять утратить красоту, не успев в хранении ея, по незнанию надежнаго к тому способа.
Посему, оставляя речь, обращенную к отроковицам, невеста снова с изъявлением желаний призывает Жениха, в имя Возлюбленному обращая свое сердечное к Нему влечение. Ибо что говорит? Возвести ми, Егоже возлюби душа моя, где пасеши, где почиваеши в полудне? да не когда буду яко облагающаяся над стады другов Твоих (Песн. 1, 6). Где пасешь Ты, прекрасный Пастырь, вземлющий на рамена целое стадо? Ибо все естество человеческое есть единая овца, которую восприял Ты на рамена. Покажи мне место злачное, сделай известною воду покойную (Псал. 22, 2), приведи меня на питательную пажить, назови меня по имени, да услышу Твой голос, извещающий, что я — Твоя овца, и гласом Твоим дай мне жизнь вечную. Возвести ми Ты, Егоже возлюби душа моя. Ибо так именую Тебя, потому что имя Твое выше всякаго имени, и для всякаго разумнаго естества неизреченно и невместимо. Посему именем извещающим о Твоей благости служит влечение к Тебе души моей. Ибо как не возлюбить мне Тебя, так возлюбившаго меня, и притом очерненную, что полагаешь душу Свою за овец, которых пасешь? Невозможно и придумать любви, которая была бы больше Твоей, на душу Твою обменившей мое спасение. Посему извести меня, — продолжает невеста, — где пасеши, чтобы мне, найдя спасительную пажить, насытиться небесною пищею, не вкушающий которой не может войдти в жизнь: и чтобы, притекши к Тебе — источнику, извлечь мне Божественное питие, которое источаешь Ты жаждушим, изливая воду из ребра после того, как железом отверста эта водотечь, вкусивший которой сам делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Ибо если упасешь меня там, то, без сомнения, упокоишь в полудне, когда, вместе с Тобою почив в мире, упокоюсь в неотененном свете; не отенен же повсюду полдень, потому что солнце сияет над самою вершиною, где упокоеваешь пасомых Тобою, когда чад Своих приемлешь с Собою на ложе. Но полуденнаго упокоения никто не сподобляется, не соделавшись сыном света и дня. Кто равно стал далек и от вечерней и от утренней тмы, то есть от того, с чего начинается, и чем оканчивается зло, тот в полудне упокоевается Солнцемь правды. Посему, — говорит невеста, — научи меня, как надлежит почить, и какой путь к полуденному упокоению, чтобы меня, по ошибке избравшую себе недоброе руководство, незнание истины не свело вместе с стадами, чуждыми для Твоих пажитей.
Сие говорила невеста в мучительной заботе о дарованной свыше красоте, и в сильном желании дознать, как можно благообразию ея сохраниться навсегда. Но еще не удостоивается она Женихова гласа, Богу лучшее, что о ней предзревшу (Евр. 11, 40), чтобы замедление наслаждения воспламенило любовь ея большим вожделением, и оть сего вместе с любовию возрасло веселие. Напротив того друзья Жениховы беседуют с нею, в предлагаемом совете объясняя способ, как обезопасить настоящия блага. Да и их речь прикровенна по своей неясности. Она читается так: аще не увеси самую тебе, добрая в женах, изыди ты в пятах паств твоих, и паси козлища у кущей пастырских (Песн. 1, 7). Хотя смысл речений сих явствен по связи с тем, что уже изследовано; однакоже в словосочинении, по–видимому, есть некоторая неясность. Посему какой же смысл речи? Самое надежное для нас охранение — познать себя, и тому, кто видит не себя, но что–либо иное около себя, не думать, будто бы видит себя, чему подвергаются не углубляющиеся в себя самих, которые, усматривая у себя телесную силу, или красоту, или славу, или могушество, или какое обилие богатства, или кичливость, или вес, или рост тела, или благообразие лица, или иное что подобное, думают, что это они сами. Поэтому бывают они ненадежными охранителями себя самих, по привязанности к чуждому не храня и пренебрегая свое собственное. Ибо как человеку охранять то, чего он не знает? Посему самая надежная стража благ, какия у нас, — не не знать себя самих и каждому знать о себе, что он такое, с точностию отличать себя от того, что около него, чтобы, когда не приметит того, вместо себя не охранять чужаго. Ибо кто имееть в виду жизнь в этом мире, и здешния драгоценности признает достойными охранения, тоть не умеет своего собственнаго отличить от чужаго; потому что все преходящее — не наше. Да и как владеть человеку тем, что проходит мимо и утекает? Итак, поелику постоянство и неизменность свойственны естеству духовному и невещественному, а вещество преходит, непрестанно изменяясь каким–то течением и движением, то удаляющийся от постояннаго по необходимости непременно носится вместе с неимеющим постоянства. И кто гонится за преходящим, оставляет же постоянное, тот погрешает в том и другом, потому что одно упускает, а другаго не может удержать. Поэтому совет друзей Жениховых выражает сказанное: аще не увеси ты самую тебе, добрая в женах, изыди ты в пятах паств, и паси козлища у кущей пастырских. Что же это значить? — Кто не познал себя, тоть исключается из стада овец, делается же принадлежащим к стаду козлов, которым отведено место по левую руку. Ибо так добрый Пастырь овец поставил по правую руку, а козлищ отлучил от лучшаго жребия, поставив по левую руку.
Итак, из совета друзей Жениховых научаемся следующему: должно смотреть на самое естество вещей, и не заключать об истине по обманчивым следам. Слово же об этом надлежит изложить яснее. Многие из людей не разсуждают сами, каково естество вещей, но, смотря на обычай живших прежде, погрешают в здравом суждении о действительном, не какое–либо разумное разсуждение, но неразумный обычай полагая в основание к оценке прекраснаго; отчего усиливаются достигнуть начальства и властительства, ставят в великое иметь в свете знатность и вещественный вес, между тем как неизвестно, чем каждое из сих преимуществ кончится после настоящей жизни; потому что не безопасным поручителем за будущее служит обычай, концем котораго оказывается часто присоединение к стаду козлов, а не овец. Конечно же, разумеешь это выражение, взятое из евангельскаго образа речи. Но кто имеет в виду, чем собственно отличается естество человеческое (а это есть разум), тот пренебрежет неразумный обычай; и что не приносит пользы душе, того не изберет, признав прекрасным. Поэтому не надобно обращать внимание на следы пасомых, какие в этой оземленелой жизни отпечатлеваются пятами совершивших путь ея; ибо суд наш о том, что предпочтительнее, если основывается на видимом, сомнителен, пока не будем вне этой жизни и там не узнаем, кому мы следовали. Посему, кто не по самой действительности отличает хорошее от худаго, но идет по следам шедших прежде, и предшествовавший обычай жизни береть себе в учителя собственной жизни, тот во время праведнаго суда, часто сам не зная как, делается из овцы козлищем. Посему и он может от друзей Жениховых услышать следующия слова: если ты, душа, из очерненной соделавшаяся доброю, прилагаешь попечение о том, чтобы дар благообразия оставался при тебе вечно, то не блуждай по следам проходивших жизнь прежде тебя. Ибо неизвестно: не козлищ ли стезя тобою видима, и ты, последуя за ними, потому что не видны тебе протоптавшие следами своими этот путь, когда жизнь будет тобою пройдена и заключат тебя в затвор смерти, не увеличишь ли собою стада козлищ, по следам которых, сама того не зная, проходила ты жизнь. Ибо аще не увеси ты самую тебе, добрая в женах, изыди ты в пятах паств, и паси козлища у кущей пастырских.
Яснее можно выразуметь сие по другому какому–то списку, в котором словосочинение не имеет, по–видимому, недостатка в связи. Ибо сказано: «если себя самой не ведаешь ты, добрая в женах; то сошла ты со следов стад, и пасешь козлов против кущей пастырских». Так что смысл, открывающийся в сих речениях, в точности согласен с тем взглядом, какой пред сим представлен касательно сего изречения. Итак, Писание говорит: чтобы тебе, душа, не потерпеть сего, будь внимательна к себе. Ибо это надежное хранилище благ. Знай, сколько пред прочею тварию почтена ты Сотворшим; не небо соделано образом Божиим, а также не луна, не солнце, не красота звезд, ниже иное что видимое в твари: ты одна стала отображением естества, всякий ум превышающаго подобием нетленной красоты, отпечатком истиннаго Божества, вместилищем блаженной жизни, отражением истиннаго света, на который взирая, сама будешь тем же, что и Он, уподобляясь Сияющему в тебе лучем, отражающимся от твоей чистоты. Нет существа так великаго, чтобы могло с тобою померяться величиною; целое небо обемлется Божиею дланию, а земля и море заключаются в горсти руки Божией. Однакоже Тот, Кто столько всесилен и всеобемлющ, Кто всю тварь сжимает в длани, Сам делается всецело вмещаемым в тебе: и обитает в тебе, и не утесняется, ходя в твоем естестве, Сказавший: вселюся в них, и похожду (2 Кор. 6, 12. 16). Если на это обратишь внимание, то ни на чем земном не остановишь ока. Что об этом говорит? Даже и небо, по мнению твоему, не будет для тебя чудно. Ибо как тебе, человек, дивиться небесам, когда видишь, что сам ты долговечнее небес? И небеса преходят, а ты во веки пребываешь с Присносущим. Не подивишься широте земли и в безпредельность простирающемуся морю, будучи, подобно вознице, правящему парою коней поставлен начальствовать над сими стихиями, имея их благопокорными и подвластными своему изволению, потому что земля прислуживает тебе жизненными потребностями, и море, как взнузданный какой конь, подставляет тебе хребет и человека охотно приемлет на себя всадником. Посему, если сама себя познаешь ты, добрая в женах, то презришь весь мир и, всегда имея пред очами невещественное благо, не обратишь внимания на блуждающие по этой жизни следы. Итак, будь всегда внимательна к себе самой и не станешь блуждать около стада козлов, во время Суда вместо овцы не окажешься козлом, не будешь отлучена от стояния одесную, но услышишь сладостный глас, который руноносным и кротким овцам изречет: приидите благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие, от сложения мира (Матф. 25, 34). Да сподобимся его и мы о Христе Иисусе Господе нашем! Ему подобает слава во веки веков! Аминь.
Беседа 3
(1, 8) Конем в колесницех Фараоновых уподобих тя, ближняя Моя. (9) Что украшены ланиты твоя, яко горлицы, выя твоя, яко монисты? (10) Подобия злата сотворим ти с пестротами сребра. (11) Дондеже Царь на восклоненiи Своем, нард мой даде воню свою. (12) Вязание стакти брат мой мне, посреде сосцу моею водворится: (13) грезн Кипров брат мой мне, в виноградех Енгаддовых.
Разсмотренное нами прежде настоящаго чтения, в предисловии к Песни песней, имеет сходство с появляющимся после ночи около утра разсветом; ибо не полный этот свет, но предначатие света. А подобно сему и сказанное, хотя предуказует нам восхождение истиннаго света, но не содержит в себе самаго ясно показавшагося солнечнаго круга. Ибо там говорят невеста, друзья и отроковицы; а теперь, подобно солнечному кругу, возсиявает голос Самаго Жениха, сиянием лучей затмевая всю светлость видимых прежде звезд и разсветавшаго утра. И все прежнее имеет силу некиих очистительных жертв и окроплений, которыми приведенная в чистоту душа приуготовляется к принятию Божественнаго; а настоящее слово есть причащение самаго Божества, потому что Бог Слово собственным Своим гласом преподает слушающему причастие неумаляющейся силы. И как при Синае двухдневными очищениями приуготовленный Израиль на третий день утром сподобляется Богоявления, не занятый уже измовением одежд, но явно приемлющий Самаго Бога, ради чего предварительными очищениями омывал душевную скверну, так и теперь, в предыдущих словах в предшествовавшие два дня сделанное обозрение предисловия к Песни в такой мере доставило пользу, в какой заключающийся в сказанном смысл омыло и очистило от плотской скверны. В сей же день, который есть третий после перваго и втораго очищения, явится Сам Бог Слово, не мраком и бурею, не трубным звуком и огнем, страшно поядающим окружность горы от подошвы до вершины, объявляя и обнаруживая Свое присутствие, но приятным и удободоступным, из страшнаго онаго вида преобразившись к веселию невесты. Поелику невесте было нужно узнать места упокоения, где пребывает добрый пастырь, чтобы по незнанию не потерпеть чего неприятнаго. И потом друзья к дознанию истины преподали надежный способ — душе на себя обращать внимание и себя познавать (потому что незнание себя признали началом и следствием неведения и всего инаго, что надлежит знать; да и как познать что–либо, не зная себя?) то, по достаточном уже очищении владычественнаго в душе, для любящей невесты возсиявает при этом Слово, одобрением настоящаго побуждающее к совершенству; ибо похвала преспеянию влагает в преуспевших сильнейшее пожелание наилучшаго.
Посему какое слово изречено деве истинным Словом? Конем Моим, — сказано, — в колесницех фараоновых уподобих тя, ближняя Моя (Песн. 1, 8). Но поелику нет возможности с перваго взгляда усмотреть смысл сказаннаго, то надлежит тщательно, сколько будет можно, изследовать предложенное. Из истории дознаем, что коням фараоновым противопоставлена была иная сила — облако, жезл, сильный ветр, разделенное на двое море, песчаная глубина, стеной отвердевшия волны, сухая бездна, посреди водяных стен образовавшаяся суша — и все это послужило во спасение израильтянам, тогда как фараон со всем воинством, с конями и колесницами покрыть был волнами. Посему, так как никакой конной силы не было противопоставлено египетскому воинству, то трудно дознать, каким коням, оказавшим себя против колесниц египетских, уподобляется теперь Словом невеста. Конем Моим, — говорит Он, — одержавшим победу в колесницех фароновых, уподобих тя, ближняя Моя. Не явно ли, что, как невозможно одержать победу в морском сражении, не сокрушив силы морскаго воинства на кораблях противников, так и в конном сражении не будет побежден тот, кому противниками не противопоставлено никакой конной силы? Посему, если в воинстве египтян наибольшую силу составляла конница, то ей противопоставленную невидимую силу, которою совершена победа над египтянами, Слово наименовало конями. Ибо и они чувствовали, кто борется с ними, и взывали друг к другу: Господь поборает на египтпяны; бежим от лица Господня (Исх. 14, 25). Явно же, что истинный Военачальник, сообразно с военным уготовлением сопротивников, вооружил собственную Свою силу. Посему была некая невидимая сила, чудесами на море соделавшая погибель египтян; ее–то Слово и наименовало конями. И мы предполагаем, что это было Ангельское воинство, о котором говорит Пророк: яко всядеши на кони Твоя, и еждение Твое спасение (Авв. 3, 8); и о колеснице Божией сделал упоминовение Давид, говоря: колесница Божия тмами тем (Псал. 67, 18); в нее впряжены тысячи гобзующих. Также и сила, подемлющая Пророка Илию с земли выспрь в эфирную страну, называется в Писании конями, да и самаго Пророка история называет колесницею Израилевою и конями (4 Цар. 2, 12); и Пророк Захария обошедших целую вселенную, тех, которыми земля населена есть и молчит (Зах. 1, 11) наименовал конями, обращающими речь к Всаднику, стоящему между двумя горами (Зах. 1, 8). Посему у Обладающаго всем есть некие кони, то подемлющие Пророка, то населяющие вселенную, то впряженные в колесницу; иные же в деле спасения людей приемлют на себя всадником Бога, и иные сокрушают египетскую силу. Итак, поелику, по словам Священнаго Писания, оказывается великая разность в образе действий, то приблизившаяся к Богу путем добродетели уподобляется коням, истребителям египетской силы; ибо так говорит ей Слово: конем Моим в колесницех фараоновых уподобих тя, ближняя Моя.
Много великих похвал заключают в себе слова сии, и уподобление этим коням составляет некий перечень преспеяний. Ибо все, что упоминается об Израиле во время пресельничества у египтян — рабство, тростие, брение, плинфы, вся земляная работа, жестокие приставники при таких делах, каждый день требующие у них подати брением, ради которых и вода делается кровью, и светь помрачается, и жабы вползают в домы, и пещный прах производит на телах горящие струпы и все по порядку, пруги, скнипы, гусеницы, град и что потерпели первородные, — все это и то, что лучшаго пересказывает история, а именно, чем совершается спасение израильтян, служит поводом к похвалам душе, вступившей в единение с Богом. Ибо невеста не была бы уподоблена оной, истребившей злых египтян, силе, которою Израиль освободился от жестокаго мучительства, если бы не преуспела в такой мере во всем этом и в истреблении Египта, и в приуготовлении для шествия к Богу из тины египетской преселяемых в землю обетования. А поелику, как говорит божественный Апостол, все, что содержит в себе Богодухновенное Писание, преднаписано в научение нам (Рим. 15, 4), то и сказанным невесте советует нам слово, что и нам надлежить, восприяв на себя возседшим Слово, преоборов египетских коней с самыми колесницами и всадниками и потопив в воде все их лукавое владычество, таким образом, уподобиться оной силе, как некиих коней, погрузив в воде сопротивное воинство. А чтобы яснее дознать сказанное, то вот значение его. Невозможно уподобиться тем коням, которыми потоплены в глубин колесницы египетския, если кто, таинственной водою освободившись от рабства сопротивнику и в воде оставив всякую египетскую мысль и всякий иноплеменный порок и грех, не выдет из нея чистым, нисколько не вводя с собою в следующую за тем жизнь египетской совести. Ибо, кто совершенно чист от всех египетских язв: крови, жаб, гнилых струпов, тмы, пругов, скнипов, града, огненнаго дождя и прочаго, о чем упоминает история, тот достоин уподобиться оной силе, всадником которой делается Слово. Без сомнения же, не безизвестно нам, что означается язвами, почему язвою для Египтян стали кровь, запах жаб, преложение света в тму и все прочее по порядку. Ибо кто не знает, в следствие какой жизни делается иной кровию из пригоднаго прежде в питие, изменившись в испорченное, и какими делами в собственном доме порождает зловоние жаб, как светлую жизнь претворяет в дела, любезныя ночи и темныя, которыми геенская пещь разжигает гнилые струпы осуждения? Так и каждое из египетских зол не трудно обратить в назидание и уцеломудрение слушателя, но напрасно было бы распространяться в слове о том, что всеми признано.
Посему, став лучше их и подобных им и приблизившись к Богу, и сами, конечно, услышим: конем Моим в колесницех фараоновых уподобих тя, ближняя Моя. Но, может быть, целомудренных и ведущих чистую жизнь огорчает уподобление коню, потому что многие из Пророков запрещають нам уподобляться коням. Иеремия именем коней означает прелюбодейное неистовство, когда говорит: кони женонеистовни сотворишася, кийждо к жене искренняго своего ржаше (Иер. 5, 8). Великий Давид почитает страшным делом, если кто станет яко конь и меск, и у сделавшихся такими повелевает стягивать челюсти броздами и уздою (Псал. 31, 9). Поэтому Соломон в продолжение слова отклоняет такую мысль, говоря: хотя ты и конь, но не таковы твои челюсти, чтобы для сжатия их была нужда в броздах и узде; напротав того, ланита твоя украшается чистотою горлиц, ибо говорит: что украшени ланиты твоя яко горлицы? (Песн. 1, 9) А наблюдавшими подобныя вещи засвидетельствовано, что птица сия, если сожительство будет расторгнуто, на последующее время не ищет себ пары, и, таким образом, в ней естественно преуспевает целомудрие. Посему в значении похвалы взято здесь имя сей птицы, то есть челюсти Божественных коней вместо узды служит подобие горлице, чем означается, что таковым коням прилична жизнь чистая. Посему с удивлением говорит им Слово: что украшены ланиты твоя яко горлицы?
Присовокупляеть же Оно к этому и другую в уподоблении похвалу, говоря: выя твоя яко монисты (Песн. 1, 9). Ибо, однажды вдавшись в иносказательное значение, от видимаго у коней примышляет похвалу невесте; хвалит же выю, выгибаюшуюся в виде круга, какою бывает она, как видим у величавых коней, потому что упоминание о монистах указываеть на круг, вид котораго, представляемый выею, делает коня благолепнейшим себя самаго. Ибо слово: ὅρμος в собственном смысле употребляется о приморских местах, где лунообразно вдающийся внутрь берег, в недра свои принимает морския воды и доставляет в себе покой приплывающим из моря; а в смысле переносном тем же словом называется по наружному виду шейное украшение — цепь. И когда вместо ὅρμος — цепь говорим уменьшительно: ὁρμίσϰος — цепочка, тогда таковым словом показываем подобие внешняго вида в малом очертании. Посему уподобление выи монистам показывает, что Слово великия похвалы восписывает невесте [16]. Во–первых, потому что конь, изгибая шею в виде круга, смотрит, как ступают собственныя ноги его, которыми бежит непреткновенно и безопасно, не спотыкаясь о камень, не оступаясь в яму; не мало же служит к похвале души, — обращать ей внимание самой на себя, со всякою безопасностию ускорять божественное течение, превозмогая и минуя все препятствия в течении, бывающия от каких–либо искушений. Потом, самое первообразное значение слова: ὅρμος, откуда, по подобию наружнаго вида, шейное украшение названо монистами (ὁρμίσϰος), заключает в себе преизбыток великих некиих похвал, когда выя уподобляется означаемому словом: ὅρμος. Какия же похвалы чрез это открывает нам Слово? Приятна и спасительна для пловцев пристань, приятно после злострадания в море найдти какой–либо тихий залив (ὅρμον), где, забыв испытанныя на море бедствия, вполне предаются успокоению, за продолжительные труды утешая себя тишиною; не имеют уже более ни страха кораблекрушения, ни мысли о подводных камнях, ни опасения от разбойников, ни бушевания ветров, ни воздымаемаго ветрами из глубин моря; напротив того, обуреваемые находят себя вне всех этих опасностей, потому что море в заливе спокойно. Посему, если кто приведет душу свою в такое состояние, что в неволненном безмолвии будет она иметь тишину, нимало не возмущаемая духами злобы, не надмеваясь гордостию, не пенясь волнами раздражительности, не обуреваясь другою какою–либо страстию, не носясь всяким ветром, воздвигающим различныя волны страстей, если у кого душа сама приходит в такое состояние и обуреваемых в житейском море треволнениями всякаго рода зол упокоивает в себе, раскрыв пред ними гладкую и неволненную добродетельную жизнь, так что вступивший в нее не подлежит уже бедствиям крушения, то прекрасно уподобляется похваляемым в слове монистам, так как множественным числом означается совершенство в каждом роде добродетели. Ибо, если бы уподоблена была одному только монисту, то, конечно, похвала была бы несовершенною, как непредставляющая тогоже свидетельства и о прочих добродетелях. Теперь же уподобление многим монистам заключает в слове полное свидетельство о добродетелях. И это есть некий совет, предлагаемый в слове всей вообще Церкви, а именно, что не должно нам, имея в виду какое–либо одно из добрых дел, оставаться нерадивыми о преспеянии в прочих, напротив того, если монистом у тебя стало целомудрие, чистою жизнию, как некиими бисерами, украшающее выю, то пусть будет у тебя и другое монисто, содержащее в себе драгоценные камни заповедей и увеличивающее собою красоту выи. Пусть будеть у тебя и иное украшение на вые — благочестивая и здравая вера, кругом облегающая собою выю души — эта золотая гривна, блистающая на вые чистым златом Боговедения, о которой говорит книга Притчей: венец благодатей приимеши на твоем версе и гривну злату о твоей выи (Прит. 1, 9). Итак, вот совет, подаваемый нам монистами.
Время же подвергнуть обозрению и последующия слова, с какими друзья Жениховы обращаются к деве; читаются оныя так: подобия злата сотворим ти с пестротами сребра. Дондеже Царь на восклонении своем (Песн. 1, 10–11). Для имеющаго в виду связь всей речи смысл этих слов представляется несколько зависящим от сообщеннаго нам прежде взгляда и последовательно из него вытекающим; смысл же буквальный, получая глубокость от переносных значений, делаеть трудным к уразумению выражаемое речью загадочною. Поелику лепота души уподоблена коням — истребителям египетских колесниц, то есть Ангельскому воинству, а коням сим, — говорит прекрасный Всадник, — уздою служит чистота, которую означил он уподоблением ланит горлицам, убранство же выи составляют различныя гривны, сияющия добродетелями, то и друзьям желательно сделать некое присовокупление к красоте коней, подобиями злата убрав сбрую, которую испещряют чистотою серебра, чтобы тем паче сияла красота убранства, когда светлость золота срастворена с блеском серебра. Но, оставив переносныя значения слов, необходимо не лишать речь полезнаго для нас смысла. Хотя душа, достигшая чистоты посредством добродетелей, уподобилась оным коням, однакоже еще не подчинилась Слову и не носила на себе ради спасения Носимаго на таковых конях: надлежало коню сперва самому всем украситься и тогда уже принять на себя всадником Царя. Но сверху ли приспособляет Себе коня Тот, Кто, по слову Пророка, вседает на нас, коней Своих, и к нашему спасению совершаеть еждение (Авв. 3, 8), или в нас делается обитающим, ходящим и проницающим до глубин нашей души, нимало не разнится сие по смыслу. В ком есть что–либо одно из того и другаго, в том преуспееть и остальное. Ибо имеющий на себе Бога, конечно, имеет и в себе; и приявший в себя, подъял Того, Кто в нем. Посему Царь упокоится на коне сем, а для Божия могущества одно и тоже, как сказано, и седалище, и восклонение; то ли, другое ли будет в нас, благодать равна. Посему, так как приспешники царские убранством коня делают его годным к восприятию Царя, а в разсуждении Бога одно и то же: быть Ему в ком и на ком, то приспешники и служители, оставив продолжение речи в переносном значении, коня соделали ложем. Ибо надлежало нам, — говорять они, — подобия злата сотворить с пестротами сребра, которыя украсили бы вид коня, чтобы Царь был на нем, — поясняют они, — не как на седалище, но как на восклонении Своем. Такой вид имеет связь речи, как показало Слово.
Но и следующее стоит того, чтобы не проходить сего мимо, не обратив внимание на то, почему в украшения берутся не самое золото, а подобия злата, и не самое серебро, но из этого вещества на подобии злата выбитыя пестроты? Наше о сем предположение таково: всякое учение о неизреченном Естестве, хотя оно, повидимому, представляет всего более боголепную и высокую мысль, есть подобие злата, а не самое золото; ибо невозможно в точности изобразить превысшее понятия благо. Хотя будет кто и Павлом, посвященным в тайны рая, хотя услышить несказанные глаголы, но понятия о Боге пребудут невыразимыми, потому что, по сказанному Апостолом, глаголы о сих понятиях неизреченны (2 Кор. 12, 4). Посему сообщающие нам добрыя некия умозаключения о разумении таин не в состоянии сказать, в чем состоит самое естество; называют же Сиянием славы, Образом ипостаси (Евр. 1, 3), Образом Божиимь (Кол. 1, 15), Словом в начале, Богом Словом (Иоан. 1, 1); все же это нам, которые не видим этого сокровища, кажется златом, а для тех, которые в состоянии взирать на действительное, есть не золото, но подобие золота, представляющееся в тонких пестротах серебра. Серебро же есть означение словами, как говорит Писание, — сребро разженное язык праведного (Прит. 10, 20). Посему такова выраженная сим мысль: естество Божие превышает всякое постигающее разумение, понятие же, какое о Нем составляется в нас, есть подобие искомаго, потому что показывает не тот самый образ, егоже никтоже видел есть, ниже видети может (1 Тим. 6, 16), но как в зеркале и в загадочных чертах оттеняется некоторое представление искомаго, составляемое в душах по каким–то догадкам. Всякое же слово, означающее таковыя понятия, имеет силу какой–то неделимой точки, которая не может объяснить, чего требует мысль, так что всякое разумение ниже мысли Божественной, а всякое истолковательное слово кажется неприметною точкою, которая не может разшириться до всей широты смысла. Посему Писание говорит, что душа, руководимая такими понятиями к помышлению о непостижимом, должна одною верою уготовлять себя в обитель Естеству, превосходящему всякий ум. Сие–то и значить, что говорят друзья: тебе, душа, прекрасно уподобившаяся коню, сотворим некия изображения и подобия истины. Ибо такова сила сих сребряных словес, что речения кажутся какими–то искрометными воспламенениями, которыя не могут сделать в точности видимым заключаемаго в них смысла. Но ты, прияв в себя их, чрез веру соделайся подъяремником и обителию Того, Кто по вселении в тебя намерен восклониться у тебя. Ибо ты — престол Его, а соделаешься и домом. Иный же, может быть, скажет, что Павлова душа, или иная какая ей подобная, сподобилась таковых глаголов. Ибо Павел, однажды соделавшись избранным сосудом Владыке, и на себе и в себе имел Господа, быв и конем, как пронесший имя Его пред языки и цари (Деян. 9, 15), и домом, вмещающим невместимое естество, потому что не сам уже жил, но показывал в нем Живущаго (Гал. 2, 2) и представлял опыты, как в нем глаголет Христос (2 Кор. 13, 3).
Когда сие в дар чистой и девственной душе принесли друзья Жениховы, то есть служебнии дуси, в служение посылаеми за хотящих наследовати спасение (Евр. 1, 14), тогда невеста, по приращении дарований, делается в некоторой мере более совершенною. И более приблизившись к Возлюбленному, прежде нежели красота Его открылась очам, к искомому соприкасается чувством обоняния, и силою сего обоняния уразумев, как бы качества какаго тела, говорит, что благовоние Его узнала по благоуханию мира, которому имя — нард, с такими словами обращаясь к друзьям: нард мой даде воню свою (Песн. 1, 11). Как вы, — говорит она, — приносите мне в дарах не самое безпримесное злато Божества, но подобия злата, в понятиях для нас вместимых, а не в ясных словах, открывая, что надлежить знать о Боге, мелкими пестротами словеснаго сребра представляя некоторые образы искомаго, так и я по благоуханию моего мира ощутила чувством собственное Его благовоние. Некий подобный сему смысл, кажется мне, имеет сказанное. Поелику искуственная и соразмерная некая смесь из многих и различных, но не разнаго качества имеющих запах, ароматов составляет таковое миро, одноже некое вложенное в него благовонное произрастение, которому имя — нард, именование сие дает целому составу; и сие, из всех ароматических качеств слагаемое в одно благоухание, достигшее чистоты чувство принимает за самое благовоние Жениха, то, как думаем, Слово научаеть нас сказанным, что, хотя составляющее самую сущность — то, что выше произведения существ и управления ими, неприступно, неприкосновенно и непостижимо; однакоже заменяется это для нас тем благовонием, которое, подобно миру, приуготовляется в нас чистотою добродетелей, и уподобляется чистотою своею — чистейшему по естеству, благостию — благому, нерастлением — нетленному, неизменностию — неизменяемому, и всеми добродетельными в нас преуспеяниями — истинной добродетели, о которой говорит Пророк Аввакум, что занимает все небеса (Авв. 3, 3), Посему невеста, друзьям Жениховым произнося слова сии: нард мой даде воню свою мне, по моему мнению, так, и подобно сему, любомудрствует: если кто, всякий благоуханный цветок или аромат собрав с различных лугов добродетели, и всю свою жизнь благоуханием каждаго из своих предначинаний соделав единым миром, соделается во всем совершенным, то, хотя по природе не может возводить неуклоннаго взора к Самому Богу Слову, как и смотреть на солнечный круг, однакоже в себе самом, как в зеркале, видит солнце, потому что лучи оной истинной и Божественной добродетели, истекающим от них безстрастием просиявающие в жизни, достигшей чистоты, делают для нас видимым невидимое и постижимым недоступное, в нашем зеркале живописуя солнце. А что касается до заключающагося в сем понятия, одно и тоже, назвать ли сие лучами солнца, или истечениями добродетели, или ароматными благоуханиями, ибо, что ни приложим из этого к цели слова, из всего составляется одна мысль, что добродетелями приобретаем мы ведение о благе, превосходящем всякий ум, как бы по некоторому образу делаем заключение о первообразной Красоте.
Так и невеста — Павел, уподобляющийся добродетелями Жениху, и жизнию живописуя в себе неприступную красоту, из плодов духа: любви, радости, мира и подобных сему видов мироваря сей нард, сказал о себе, что он — Христово благоухание (2 Кор. 2, 15), и в себе обоняя неприступную оную и превосходную благодать, и другим предоставляя себя — свободно пользоваться им, как некиим благовонным курением, между тем как благоухание, по собственному каждаго расположению делается в них или животворным, или смертоносным. Как одно и то же миро, если прикоснутся к нему кантар [17] и голубь, не одинаково действует на обоих, но голубь от благоухания мира делается более сильным, а насекомое гибнет; так действовал и великий Павел — этот Божественный фимиам. Если кто был голубь, подобно Титу, или Силуану, или Тимофею, то разделял с ним благовоние мира, по его примерам преуспевая во всяком добре. А если кто был Димас, или Александр, или Ермоген, то, не терпя фимиама воздержания, подобно насекомым, они бежали от благоухания. Почему и сказал благоухающий таковым миром: Христово благоухание есмы в спасаемых и в погибающих: овем убо воня смертная в смерть, овем же воня животная в живот (2 Кор. 2, 15–16).
Если же и евангельский нард имеет нечто сродное с миром невесты, то, кому угодно, может из написаннаго заключить и об ином нарде пистике многоценном, который, будучи излиян на главу Господа (Матф. 26, 7), всю храмину исполнил благовония (Иоан. 12, 3). Может быть, и этого мира не чуждо миро, которое невесте даде воню Жениха, в Евангелии же, излиянное на Самаго Господа, наполняеть благоуханием храмину, в которой была вечеря, потому что, кажется мне, и там жена в пророческом некоем духе предсказала миром таинство смерти, как свидетельствует Господь о сделанном ею, говоря: на погребение Мя сотвори (Матф. 26, 12). И Господь дает повод храмину, наполненную благовонием, представлять себе как весь мир и целую вселенную, сказав: идеже аще проповедано будет Евангелие во всем мире, благоухание дела сего будет передаваемо с проповедию Евангелия, и самое Евангелие, — говорит Господь, — будет памятником сей жене. Итак, поелику в Песни песней нард дает невесте воню Жениха, а в Евангелии целаго тела Церкви во всей вселенной и во всем мире помазанием делается благоухание, наполнившее тогда всю храмину; то, может быть, по этому находится некое общение между тем и другим, так что и то, и другое кажется одним. И об этом довольно.
Следующее же изречение, сообразно с содержанием описываемаго в брачной песни, повидимому, произносится уготовавшеюся уже для брачнаго чертога, показывает же в себ высшее и совершеннейшее любомудрие, преуспевать в котором свойственно только совершенным. Посему что значит сказанное: вязание стакти брат мой мне; посреде сосцу моею водворится? (Песн. 1, 12) Говорят, что любящия наряжаться женщины не наружными только убранствами имеют попечение привлекать к себе сожителей, но стараются посредством какого–либо благовония приятными для мужей своих соделать и тела, под покровом одежды скрывая сообразно с потребностию действующий аромат, который, издавая собственное свое благоухание, ароматным благовонием напоевает и тело. При таковом же у них обычае, на что отваживается высокомудрая оная дева? Вязание, — говорит, — у меня, которое к вые привешиваю на груди, и им придаю благоухание телу — не какой–либо другой благовонный аромать, но Сам Господь; Он, соделавшись стакти, возлежить в вязании совести, водворяясь в самом сердце моем, потому что местное положение сердца, как говорят наблюдатели подобных вещей, среди сосцев. Там, в том месте, где хранится доброе сокровище, — говорит невеста, — есть у ней вязание. Но говорят, что сердце есть и некий источник в нас теплоты; из него по биющимся жилам во все тело разделяется теплота, от которой телесные члены, согреваемые огнем сердца, делаются и теплыми, и исполненными жизни. Посему приявшая во владычественный ум благоухание Христово и сердце свое соделавшая вязанием для таковаго фимиама, все поодиночке житейския предначинания, как члены какаго тела, приуготовляет исходящим из сердца духом, чтобы кипели они, и никакое беззаконие ни в одном телесном члене не охлаждало любви к Богу.
Но поступим к следующим словам. Послушаем, что говорит о плодах своих виноградная лоза, плодовитая, распростирающая ветви, как выражается Пророк, во всех странах дому Божия (Псал. 127, 3) и кольцами любви обвивающаяся около Божественной и пречистой жизни. Грезн Кипров, — говорить она, — Брат мой мне, в виноградех Енгаддовых (Песн. 1, 13). Кто так блажен, или лучше сказать, кто столько выше всякаго блаженства, что, смотря на собственный свой плод, в самом грозде души своей видит Владыку виноградника? Ибо вот сколько возрасла в собственном нарде познающая благоухание Жениха, соделавшая Ему из себя благовонное стакти, в вязание сердца восприявшая аромат, чтобы благо сие навсегда осталось у ней не выдыхающимся; она соделывается матерью Божественнаго грозда, до страдания пребывающаго Кипровым, то есть цветущаго, а в страдании изливающаго вино; ибо вино, веселящее сердце, по домостроительстве страдания, делается и именуется кровию гроздовою (Втор. 32, 14). Посему, так как наслаждение гроздом двояко: одно цветом, когда увеселяет чувства благоуханием; другое — созревшим уже плодом, когда можно по произволу или наслаждаться вкушением, или увеселять себя вином на пиршествах, то здесь невеста просит плода у цветущаго грезна, цвет винограда называя Кипром. Ибо рожденный нам отрок Иисус, в приявших Его различно преспевая премудростию и возрастом, и благодатию (Лук. 2, 52), не во всех одинаков, но по мере того, в ком пребывает, сколько человек в состоянии вместить Его, таким и оказывается: или младенчествующим, или преспевающим, или совершенным, по природе грозда, который не всегда усматривается на лозе в одном и том же виде, но меняет вид со временем, — зеленея, цветя, спея, созревая, делаясь вином [18]. Посему виноградная лоза величается собственным своим плодом, который, хотя не созрел еще для вина, но ожидает исполнения времен, однакоже не остается без употребления для наслаждения, потому что вместо вкуса увеселяет обоняние, чувствилища души услаждая ожиданием благ — парами надежды: ибо верность и несомненность уповаемой благодати делается наследием для терпеливо ожидающих чаемаго ими. Посему–то грезн Кипров есть грозд, обещающий вино, но еще не соделавшийся вином, а напротив того цветом (цвет же есть надежда) удостоверяющий в будущей благодати. Присовокупление же слова: Гадди означает тучную страну, где насажденная виноградная лоза производит сочный и сладкий плод. Описатели местностей говорять, что участок Гадди способен произращать сочные грозды. Посему, так как чья воля согласна с законом Господним, кто в нем поучается всю ночь и весь день, тот делается вечно зеленеющим древом, утучняемым притоками вод, приносящим плод в надлежащее время; то и лоза Женихова поэтому, насажденная в Гадди — месте тучном, то есть в глубине разумения, орошаемая и возращаемая Божественными учениями, плодопринесла сей цветущий и Кипров грезн, в котором видит своего Делателя и Насадителя. Как блаженно таковое делание, котораго плод уподобляется образу Жениха! Поелику Жених, как говорит Премудрость, есть истинный свет, истинная жизнь, истинная правда и все сему подобное, то, когда кто–либо в делах оказывается тем же, чем и Жених, тогда он, смотря на грозд собственной своей совести, видит в нем Самаго Жениха, в светлой и чистой жизни, как в зеркале, отражая свет истины. Посему и говорит плодовитая лоза: мой есть грезн, по цвету Кипров, тот самый истинный грезн показавший себя на жерди древяной (Числ. 13, 24), котораго кровь для спасаемых и веселящихся удобопиема и спасительна, о Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Беседа 4
(1, 14) Се еси добра, искренняя Моя, се еси добра: очи твои голубине. (15) Се еси добр, брат мой, и еще красен одр наш со осенением, (16) преклади наши кедровыя, дски наши кипарисныя. (2, 1) Аз цвет польный, и крин удольный. (2) Якоже крин в тернии, тако искренняя Моя посреде дщерей. (3) Яко яблонь посреде древес лесных, тако брат мой посреде сынов: под сень Его восхотех и седох, и плод Его сладок в гортани моем. (4) Введите мя в дом вина, вчините ко мне любовь: (5) утвердите мя в мирех, положите мя в яблоцех: яко уязвлена любовию аз. (6) Шуйца Его под главою моею, и десница его обимет мя. (7) Заклях вас, дщери Иерусалимли, в силах и крепостех села: аще возставите и возбудите любовь, дондеже восхощет.
Сказывают, что очищающие золото по правилам искусства, если красота блеска его померкла от какого–либо с намерением примешеннаго нечистаго вещества, помогают доброцветности плавлением на огне, повторяют это неоднократно и при каждом расплавливании смотрят, на сколько после перваго при последующем плавлении золото стало светлее, и до тех пор не перестают очищать вещество огнем, как самый вид золота засвидетельствует собою, что оно чисто и не имеет никакой подмеси. А почему, приступая к настоящему обозрению прочитаннаго, сделали мы упоминание об этом, будет сие для нас явствовать из самаго смысла того, что написано. Естество человеческое в начале было какое–то златое и сияющее подобием пречистому благу, но после сего от примеси порока соделалось худоцветным и черным; как в первых стихах песни слышали мы от невесты, что нерадение о винограде соделало ее очерненною. Его–то врачуя от безобразия, в премудрости зиждущий все Бог не новую какую–либо красоту, которой не было прежде, устрояет для него, но очерненное преплавляя в чистое, чрез это разложение приводит его в прежнюю лепоту. Посему, как строгие испытатели золота после перваго плавления смотрят, на сколько прибыло красоты в веществе, утратившем нечистоту в огне, и потом, после втораго плавления, если недостаточно очищено первым, вычисляют увеличивающуюся краcоту золота, и многократно делая то же, известными науке средствами пробовать узнают всегда приращение красоты; так и теперь Исправляющий это очерненное золото, как бы плавлением каким просветляя душу подаваемыми ей врачествами, в предшествовавших сему словах засвидетельствовал о благообразии в видимом каких–то коней, а теперь уже открывшуюся в деве красоту одобряет как действительно красоту девы; ибо говорит: се еси добра, искренняя Моя, се еси добра: очи твои голубине (Песн. 1, 14).
Слово научает сказанным, что возстановление красоты состоит в том, чтобы человеку соделаться искренним Источника красоты, снова приобщиться к истинной красоте, от которой он удалился. Ибо сказано: се добра еси, искренняя Моя. Потому прежде сего не была ты добра, что, став чуждою первообразной красоты, от дурнаго сближения с пороком, изменилась до гнусности. Смысл же сказуемаго таков: естество человеческое соделалось готовым принимать все, что ему по мысли; и к чему поведет его наклонность произвола, в то и изменяется; приняв в себя страсть раздражительности, делается раздраженным; когда одолеет похоть, предается сластолюбию; когда явится наклонность к боязни, к страху и к одной из страстей, принимает на себя образ каждой страсти; как и наоборот великодушие, чистоту, миролюбие, негневливость, несокрушимость печалями, отважность, непреткновенность — все сии качества прияв в себя, отличительный признак каждаго из них выказывает состоянием души, наслаждаясь в безмятежии миром. Посему, так как добродетель не имееть никаких связей с пороком, следует, что невозможно быть обоим вместе в одном человеке. Отступившийся от целомудрия непременно предается невоздержной жизни, и возгнушавшийся нечистою жизни самым отвращением от зла преуспевает в жизни неоскверненной. Так и все другое: смиренномудрый далек от гордыни, и надмившийся кичливостию отринул смиренномудрие. И какая надобность останавливаться на сем, говоря о всем подробно? Как в разсуждении того, что противоположно по естеству, отсутствие одного делается положением и присутствием другаго; так, поелику имеем мы произволение, и в нашей власти — сообразоваться, с чем нам желательно, то соделавшейся красивою прилично говорит Слово: отступив от общения с злом, приблизилась ты ко Мне, а став близкою к неприступной красоте, сама соделалась прекрасною, подобно некоему зеркалу, изобразив в себе Мои черты. Ибо действительно, зеркалу подобен человек, претворяющийся согласно с образами произвольно избранными. Увидит ли он золото, является золотом и показывает в образе самые лучи сего вещества; появится ли что отвратительное, — чрез уподобление отпечатлевает в себе гнусность этого, представляя в собственном своем виде какую–нибудь лягушку или жабу, или тысяченожку, или иное что–либо неприятное на взгляд, что только из этого нашлось бы перед глазами. Итак, поелику душа, которую очистило Слово, порок оставив позади, приняла в себя солнечныи круг и сама возсияла с явившимся в ней светом, то посему говорит ей Слово: прекрасна уже ты стала, приблизившись к Моему свету, приближением привлекши общение красоты.
Се еси добра, продолжает Жених, искренняя Моя; потом, останавливая на ней внимание, и как бы усмотрев, что совершается в ней какое–то приращение и усиление красоты, снова повторяет то же слово, сказав: се еси добра. Но, произнося это в первый раз, наименовал ее искреннею; а здесь называет, как узнается она по виду очей; ибо говорит: очи твои голубине. Прежде, когда уподобляема была коням, похвала ограничивалась ланитою и выей; теперь же, когда явною стала собственная ея красота, похваляется приятность очей. А похвала очей состоит в том, что очи голубине; сие же, кажется мне, дает видеть такую мысль: поелику в чистых зеницах очей бывают видимы лица, на которыя око пристально смотрит (ибо сведущие в естествословии говорят, что глаз, принимая в себя вторжения подобий, которыя текут от видимых вещей, чрез это самое производит зрение); то поэтому похвалою благообразия очей делается вид голубицы, открывающийся в их зеницах; ибо на что человек пристально смотрит, подобие того и в себя приемлет. Посему, так как не смотря уже на плоть и кровь, обращает он взор к жизни духовной, как говорить Апостол, духом живя, духом ходя (Гал. 5, 25), духом умерщвляя деяния плотския (Рим. 8, 13), и став всецело духовным, а не душевным и не плотским; то поэтому о душе, освободившейся от плотскаго пристрастия, дается свидетельство, что в очах у него вид голубицы, то есть, что в зрительной силе души светятся черты жизни духовной. Итак, поелику чистым соделалось око невесты; и способным принять в себя черты голубицы; то начинает она посему взирать на красоту Жениха. Теперь дева в первый раз пристально смотрит на образ Женихов, когда в очах у ней голубица. Ибо никтоже может рещи Господа Iисуса, точию Духом Святым (1 Кор. 12, 3).
И дева говорит: се еси добр, брат мой, и еще красен (Песн. 1, 15). С этого времени ничто другое не кажется мне прекрасным; напротив того, отвратилась я от всего, что прежде почиталось таким; не ошибаюсь уже в суждении о красоте, так чтобы прекрасным признать что, кроме Тебя, или какую человеческую похвалу, или славу, или знатность, или могущество в этом мире. Хотя для обращающих внимание на чувство и прикрашено это призраком красоты, но оно не то, чем признается. Да и как быть прекрасным тому, что даже вовсе не имеет самостоятельности? Ибо высоко ценимое в этом мире имеет бытие в одном только мнении думающих, что оно существует. Но Ты действительно прекрасен, и не только прекрасен, но всегда таков в самой сушности прекраснаго, непрестанно пребывая тем, что Ты Сам в Себе, не временем цветешь, а в другое время перестаешь опять цвести, но вечности жизни спротяженна Твоя красота; ей имя — человеколюбие. Ибо от колена Иудова возсиял нам Христос (Евр. 7, 14), иудейский же народ состоит в братстве с народом, приходящим к Тебе из язычников; посему, по причине явления Божества Твоего во плоти, прекрасно Ты наименован Братом возлюбившей.
Потом дева присовокупляеть: одр наш со осенением (Песн. 1, 15), то есть, естество человеческое познало Тебя, или познает, по домостроительству соделавшагося приосененным. Ибо говорит дева: ты, добрый брат, прекрасно и пришел к одру нашему; соделавшись приосененным: а если бы не приосенил Ты Сам Себя, пречистый лучь Божества прикрыв зраком раба; кто стерпел бы Твое явление? Не бо узрит кто лице Божие, и жив будет (Исх. 33, 20). Посему Ты, прекрасный, пришел, но соделавшись таким, что мы возмогли принять Тебя; — пришел, лучи Божества приосенив покровом тела. Ибо естество смертное и скорогибнущее как могло бы уготовиться к сочетанию с естеством пречистым и неприступным, если бы между нами, живущими во тме, и между светом, не послужила средою сень тела? Одром же именует невеста единение естества человеческаго с Божеством, объясняя оное в применительном смысле, как и великий Апостол обручает нас Христу — деву, уневещиваеть душу, и говорит, что прилепление друг к другу двоих до общения в одно тело есть великая тайна единения Христова с Церковию; ибо, сказав: будета два в плоть едину, присовокупил: тайна сия велика есть: аз же глаголю во Христа, и во Церковь (Ефес. 5, 32). По сей–то тайне душа — дева общение с Богом наименовала одром. А сим одром не иначе возможно было сделаться, как в следствие пришествия к нам Господа, приосененнаго телом.
Он не только Жених, но и Домоздатель; Сам и зиждет в нас дом, и служит веществом для здания. Ибо налагает на доме кровлю, украшая дело веществом негниющим, — а таковы кедр и кипарис, в которых свойственная деревам твердость выше всякой причины гниения; ни времени не уступаеть, ни червю не дает в себе зародиться, ни плесенью не изедается. Из дерев сих кедры, так как длинны, связывают широту дома под кровлею; а кипарисы так называемою обшивкою украшают внутреннее устройство дома. Читается же сие так: преклади дому нашего кедровыя, дски наши кипарисныя (Песн. 1, 16). Но загадочное значение дерев, без сомнения, явно для тех, которые следят за связию мыслей. Господь в Евангелии различныя приражения искушений именует дождем, говоря о хорошо построившем дом на камне, что сниде дождь, и возвеяша ветры, и приидоша реки (Матф. 7, 25), и здание осталось ничего не претерпевшим при этом. Итак, по причине сего зловреднаго дождя, потребны нам таковые преклади, а ими будут добродетели, которыя, будучи тверды и неуступчивы, недопускают внутрь себя притока искушений, да и во время искушений противятся влиянию порока. Дознаем же сказанное, с предлагаемым здесь сличив изречение у Екклесиаста, ибо там говорится: в леностех смирится строп, и в празднестве рук прокаплет храмина (Еккл. 10, 18). Если дерева, употребленныя на кровлю, по тонкости гибки и не тверды, а хозяин дома ленив для того, чтобы приложить попечение о здании, то не будет пользы от кровли, и дождь протечет каплями. Ибо кровля по необходимости вдавливается, уступая тяжести воды, и хилость дерев не противится, подламываясь от приражения тяжести; посему вода, скопившаяся во впадине, переходит внутрь, и самыя капли, по слову притчи, изгоняют человека из дому его в дождливый день (Прит. 27, 15). Так загадочным значением притчи повелевается, чтобы по твердости добродетелей были мы неуступчивы притоком искушений, без чего, размягчаемые прибоем страстей, сделаемся со впадинами и примем в свои таибницы со вне проникающий в сердце приток таких вод, от которых портится сберегаемое в нас. Кедры же сии суть Ливанстии, ихже насадил Господь, на которых птицы вогнездятся, которыми еродиево жилище предводительствует (Псал. 103, 16–17). Итак, кедры, то есть добродетели, доставляют безопасность дому брачнаго ложа; на них гнездятся души, соделавшияся птицами и улетевшия от сетей, ими предводителствует еродиево жилище, которым Писание называет дом; сказывають же, что птица сия имеет отвращение оть совокупления, и если по какой–то естественной необходимости составляют они между собою пары, то делают сие, сжимаясь при этом с негодованием, и выказывая неудовольствие: почему, кажется мне, именем сей птицы Слово Божие загадочно означает чистоту.
Сии же преклади на кровле чистой ложницы видит невеста, усматривает же и кипарисное украшение, которое какою–то выглаженностию и складностию в сложении частей придает блеск видимой красоте; ибо невеста говорит, что кипарисная обшивка кровли; а обшивкою называется какое–то сплочение прилаженных и чисто выструганных досок, разнообразящее красоту кровли. Чему же сим научаемся? Кипарис естественно благовонен; он не допускает также гнилости и пригоден для всякой художественной плотничной работы, по своей гладкости и стройности слоев годен также для резных украшений. Посему, думаю, научаемся мы сказанным, не только по навыку преспевать в добродетелях тайно, но не быть нерадивыми и о видимом благообразии. Ибо надлежит промышлять добрая пред Господом и пред человеки (Рим. 12, 13), быть явленными Богови, и увещавать человеки (2 Кор. 5, 11), свидетпельство добро имети от внешних (1 Тим. 3, 7), сиять пред людьми делами светлыми и благообразно ходить ко внешним (1 Сол. 4, 12). Таковы дски по благоуханию Христову, намеком на которое служит кипарис, искусно обделываемый в благообразии жизни, как прекрасно и стройно умел слагать подобное сему премудрый здатель Павел, который говорит: вся у вас по чину и благообразно да бывают (1 Кор. 14, 40).
Так по преуспеянии в этом бывает приращение в нас красоты, потому что равнина нашего естества произращает благоуханный и чистый цвет; имя же цвету крин, в котором естественно усматриваемая белизна дает подразумевать блистание целомудрия. Ибо сие сказуеть о себе невеста, говоря: после того, как при одре нашем приосенен стал телом Жених, который построил Себе меня в дом, кровлю подперев кедрами добродетелей, и потолок украсив благоуханием кипарисов, и я на поле естества соделалась цветом, отличающимся от прочих цветов и доброцветностию и благоуханием; ибо возрасла из удолий крином. Читается же сие так: Аз цвет польный, и крин удольный (Песн. 2, 1). Ибо действительно, по предварительному нашему обозрению, душа возделана на равнине естества. И слыша о поле, разумеем широту человеческаго естества, способность его принимать в себя многия и безчисленныя понятия, речения и уроки. Итак, обработанная Возделывающим естество наше, показанным выше способом, душа благоуханным, белым и чистым цветом возрастает на поле нашего естества. Поле же сие, хотя, по сравнению с небесным жительством, именуется удолием, но тем не менее есть поле, и возделанной на нем душе нет препятствия правильно сделаться цветом; потому что росток из углубления восходит в высоту, что, как можно видеть, бывает с крином. Ибо стебель крина, по большей части в виде тростника выбегая от корня прямо в верх, дает потом на верхушке цветок, находящийся в немалом промежуточном разстоянии от земли, чтобы, как думаю, красота его в превыспренности оставалась чистою, не оскверняемою смешением с землею.
Посему и правдивое око, взирая на соделавшуюся, или вожделевшую соделаться, цветом деву (ибо в сказанном подразумеваем то и другое, — или что величается она, как соделавшаяся тем, чем возжелала, или что должна стать цветом Делателя, по Его премудрости из удолий человеческой жизни появившись в красоте крина) — правдивое, говорю, око Жениха, видя благое вожделение взирающей на Него девы, намеревается ли только она соделаться, или уже соделалась, чем пожелала, прекрасно изъявило изволение, чтобы соделалась она крином, не заглушаемым терниями жизни, которыя Жених наименовал дщерями, молча, как думаю, указывая на враждебныя человеческой жизни силы, которых отец называется обретателем злобы. Посему Жених говорит: якоже крин в тернии, тако сестра Моя посреде дщерей (Песн. 2, 2). Какое усматриваем совершающееся в душе преспеяние в восхождении на высоту! Первое восхождение то, что душа уподобилась коням, истребителям египетской силы; второе восхождение — то, что стала искреннею и соделала очи свои голубиными; посему третие восхождение — то, что наименована не искреннею только, но сестрою Владыки. Ибо говорит Он: иже аще сотворит волю Отца Моего, Иже есть на небесех, той брат Мой и сестра Ми, и мати есть (Матф. 12, 49).
Итак невеста, поелику соделалась цветом и тернистыя искушения нимало не повредили ей в том, чтобы стать крином, забыв же люди своя и дом отца своего (Псал. 44, 11), обратила она взор к истинному Отцу; то посему и именуется сестрою Господа, как введенная в сие родство Духом всыновления, и освободившаяся от общения с дщерями лжеименнаго отца, снова соделывается превзошедшею себя самую, и очами голубиными, то есть духом пророчества, видит тайну. Говорить же она следующее: яко яблонь посреде древес лесных, тако брат мой посреде сынов. Посему что же видит она? Святое Писание именует обыкновенно лесом нечистую человеческую жизнь, заросшую различными видами страстей, где гнездятся и укрываются губительные звери, природныя свойства которых, при свете и солнце оставаясь бездейственными, приобретають силу во тме; ибо по захождении солнца, — говорит Пророк, — с наступлением ночи, во время ея звери выходят из нор (Псал. 103, 19–20). Итак, поелику пустынный зверь, питающийся в лесу, разорил прекрасный виноград естества человеческаго, как говорит Пророк: озоба ѝ вепрь от дубравы, и уединенный дивий пояде ѝ (Псал. 79, 14), то в лесу насаждается посему яблонь, которая как тем, что она дерево единой сущности с человеческим веществом (ибо искушено по всяческим по подобию разве греха (Евр. 4, 15), так и тем, что приносит такой плод, которым услаждаются чувствилища души, большее имеет отличие от леса, нежели какое у крина от терния. Ибо крин имеет приятность только по виду и благоуханию, а приятность яблони удовлетворяет трем чувствам, увеселяя глаз красотою вида, услаждая чувство обоняния благовонием, и, делаясь пищею, доставляет услаждение чувству вкуса. Посему невеста хорошо видить различие свое со Владыкою; потому что Он бывает нам усладою для очей, став светом, и миром для обоняния, и жизнию для ядущих; ядый Его да жив будет, как негде говорить Евангелие (Иоан. 6, 57), а человеческое естество, усовершенное добродетелию, делается цветом, только не делателя питающим, но украшающим себя само. Ибо не Он имеет нужду в наших, но мы нуждаемся в Его благах, как говорит пророк: благих моих не требуеши (Псал. 15, 2).
Посему достигшая чистоты душа видить Жениха, соделавшагося яблонию посреде древес лесных, чтобы, привив к Себе все дикия ветви в лесу, приуготовить к обильному произращению подобнаго плода. Посему, как, по причине уподобления тернию, признали мы чадами лжеименнаго отца тех дщерей, которыя, будучи насаждены подле цвета, со временем и сами переходят к благодати крина: так и здесь, услышав об уподобившихся таковым лесным деревам, предполагаем, что означают не друзей, но противников Жениховых и те, которых из бывших сынами тмы и чадами гнева Жених общением плода преобразуеть в сынов света и в сынов дня.
Почему обучившая чувствия душа говорить: плод Его сладок в гортани моем (Песн. 2, 3). Плод же, без сомнения, есть учение; ибо Пророк говорит: коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим (Псал. 118, 103). Яко яблонь посреде древес лесных, тако брат мой посреде сынов: под сень Его восхотех и седох, и плод Его сладок в гортани моем. Ибо тогда подлинно услаждаются Словом чувствилища души, когда при зное искушений осеняет нас сень яблони, и не дает нам сгарать от такого солнца, опаляющаго обнаженную голову. Но найдти прохладу под сению древа жизни можно не иначе, как разве когда вожделение приводит к тому душу. Видишь, для чего вложена в тебя вожделевающая сила? — Для того, чтобы возбудить в тебе любовь к яблоне, наслаждение которою в приближающихся бывает многоразлично; потому что и глаз упокоевается видением красоты, и нос вдыхает благоухание, и тело питается, и уста услаждаются, и отвращается зной, и сень делается престолом, на котором возседаеть душа, отрекшись от седалища губителей (Псал. 1, 1).
Потом невеста говорит: введите мя в дом вина, вчините ко мне любовь: утвердите мя в мирех, положите мя в яблоцех: яко уязвлена любовию аз (Песн. 2, 4–5). Душа, прекрасно уподобившаяся коням, чтобы совершить ей Божественное течение, как бы частыми и усиленными скачками простирается вперед, не возвращается же назад к тому, что улучила в достигнутом уже прежде. Она жаждет еще, и такова сила жажды, что не довольствуется чашею премудрости для утоления жажды не почитаеть достаточным влить в уста целую чашу, но домогается, чтобы ввели ее в самый дом вина, чтобы примкнуть уста к самым точилам, изливающим сладкое вино, увидеть грозд, сгнетаемый в точилах, и ту виноградную лозу, которая питает таковый гроздь, и Делателя истинной виноградной лозы, соделывающаго грозд сей столько питательным и приятным. Излишним было бы делом разбирать каждое из сих понятий порознь, потому что явно усматриваемое в каждом из них переносное значение. Без сомнения же желательно уразуметь оную тайну, почему от истоптания точила багряными делаются Жениховы одежды, о которых говорит Пророк: почто червлены ризы Твоя, и одежды Твоя яко от истоптания точила (Ис. 63, 2)? Ради сего и подобнаго сему невеста желает быть внутри дома, в котором совершается сие таинство вина. Потом, вошедши внутрь, устремляется еще к большему, ибо просит подчинить ее любви, — Любы же, по слову Иоанна, есть Бог (1 Иоан. 4, 8), подчинить Которому душу, как объявил Давид, есть спасение (Псал. 61, 2). Итак, говорить невеста, поелику я в дом вина, то подчините меня любви, или вчините ко мне любовь. Какую ни употребишь перестановку слов, в том и другом случае, то есть, когда душа, или подчиняется любви, или подчиняет себе любовь, означаемое то же.
Или, может быть, сими словами научаемся мы одному из высших догматов, а именно тому, какую любовь надлежит воздавать Богу, и какое иметь расположение к другим. Ибо, если надобно всему быть по чину и благообразно, то в подобном сему тем паче прилична чинность. И Каин не был бы осужден за то, что худо разделил, если бы, право принесши, сохранил приличие по чину касательно того, что было им оставлено на потребу себе, и что посвяшено Богу. Ему должно было в жертву Богу принести начатки из первородных, а он, что было более ценнаго, тем насытившись сам, предложил Богу остатки. Посему надлежит знать чин любви, предписываемый законом, — как надобно любить Бога, как ближняго, и жену, и врага, чтобы исполнение любви не соделалось каким–то безпорядочным и превратным. Ибо Бога любить должно всем сердцем, всею душею и силою, и всем чувством, а ближняго, как себя самаго, и жену тому, у кого чистая душа, как Христос любит Церковь, а тому, кто более страстен, как свое тело; так повелевает установитель порядка во всем подобном, Павел (Ефес. 5, 25. 28); и врага любить должно так, чтобы не воздавать злом за зло, но благодеянием вознаграждать за обиду. Ныне же можно видеть, что любовь у многих смешана, безпорядочна, и по причине ничем несогласимой нестройности действуеть погрешительно. Одни и деньги, и почести, и жен, если расположены к ним горячее, любят от всей души и всеми силами, так что желали бы положить за них и жизнь; а Бога только для вида; ближнему же едва оказывают и такую любовь, какую предписано иметь ко врагам; а к ненавидящим имеють такое расположение, чтобы огорчившим отмстить большим злом. Итак, невеста говорить: вчините ко мне любовь, чтобы воздавала я ее Богу, сколько должно, а каждому из других без недостатка в надлежащей мере.
Или в слове сем можно подразумевать и следующее: поелику я, — говорит невеста, — возлюбленная в начале, за преслушание была причислена ко врагам, а ныне снова возвратилась в ту же милость, любовию примирившись с Женихом, то законность и неизменность сей милости подтвердите мне вы, друзья Жениховы, со тщанием и внимательностию соблюдая непременною во мне наклонность к лучшему.
Сказав это, невеста опять переходит к более возвышенной речи, потому что просит для прочности благ подкрепить ее мирами, и говорить: утвердите мя в мирех. Какия необычайныя и новыя подпоры! Как мира соделаются столпами дома? Как твердость построения кровли опирается на благоухании? Не явно ли, конечно, что достояние добродетелей, многими способами с успехом приобретаемое, по различию действий и именуется? Ибо не только увидеть доброе и придти в общение с наилучшим, но и сохранить непреткновенность в прекрасном есть добродетель. Посему желающий быть утвержденным в мирех домогается себе твердаго пребывания в добродетелях. Ибо добродетель есть миро, потому что она удалена от всякаго зловония грехов.
Иный подивится сказанному в след за сим: почему вожделевает невеста устлать дом не кустами какими и тернами, и сеном, и тростником, лучше же, как говорит Апостол, не древами, тростием и сеном (1 Кор. 3.12), из чего уготовляются вещественные домы; но постилкою на потолке дома у ней служат яблоки; ибо говорить: положите мя в яблоцех, чтобы этоть плод стал для нея всем и во всем, — красотою, миром, услаждением, пищею, прохладою, доставляемою им тенью, покойным седалищем, подпирающим столпом, покрывающим потолком. Ибо, как красота, с вожделением разсматривается; как миро, доставляет приятность обонянию, как пища, утучняет тело и услаждает вкус; как сень, дает прохладу от жара, как седалище, успокоивает после труда; как кровля дома, служит покровом живущим в доме; как столп, делает непреткновенным; как видимое яблоко, украшает потолок. И придумает ли кто какое зрелище красивее разложенных яблок, когда плоды сии, в порядке расположенные на какой–либо плоскости без всяких между собою промежутков, разнообразят вид тем, что краснота одного яблока перемешана с беловатостию другаго? Посему, если возможно, чтобы положение яблок было видимо подемлющимся на плоскости вверх, то может ли что быть изящнее этого вида? А сие не невозможно для вожделения духовных благ; потому что не тяжел плод этого вида, не тянет и не клонится к земле, но по природе имеет стремление в высоту. Ибо добродетель восходить вверх, и обращает взор горе. Посему красотою таких яблок вожделевает невеста убрать потолок собственнаго дома. Ибо, кажется мне, главная забота слова не о том, чтобы от сложения яблоков на подстилке видимо было какое–то заметное зрелище. Какое было бы в этом путеводство к добродетели, если бы в сказанном не усматривалось какой–либо полезной для нас мысли?
Посему, какая это мысль, по нашему гаданию? В лесу естества нашего по человеколюбию Произросший, чрез причастие Плоти и Крови соделался яблоком; ибо в сем плоде можно видеть подобие по цвету и плоти, и крови; белесоватостию он уподобляется свойству плоти, а разлитая по ней краснота свидетельствует видом, что плод имеет сродство с естеством крови. Посему, когда душа, услаждающаяся Божественным, вожделееть обратить взор на этот кров, сею загадкою научаемся следующему: то, что, взирая горе, обращаем внимание на яблоки, значит, что к небесному жительству путеводимся евангельскими учениями, которыя открыл нам Пришедший свыше и превыше всех Сущий, в явление Свое во плоти показав в Себе самом образцы всех добрых дел, как говорит Господь: научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Матф. 11, 29). Тоже самое говорит и Апостол, предписывая нам смиренномудрие (одним примером можно доказать всю истину сего слова). Ибо взирающим горе говорит: сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Iисусе, Иже во образе Божии сый, не восхищением непщева быти равен Богу, но Себе умалил, зрак раба приим, с плотию и кровию Пребывавший в жизни и вместо предлежащия Ему радости, добровольно Приобщившийся нашего уничижения и Снисшедший до испытания смерти (Флп. 2, 5–8). Посему невеста говорит: положите мя в яблоцех, чтобы, взирая всегда в высоту, видеть мне образцы добрых дел, показуемые в Женихе; там кротость, там негневливость, там незлопамятность на врагов и человеколюбие к оскорбляющим, за злобу воздаяние благодеянием; там воздержание, чистота и великодушие, отсутствие всякаго тщеславия и житейской прелести.
Сказав сие, невеста хвалит стрельца за меткость, за то, что искусно направил в нее стрелу; ибо говорит: уязвлена любовию аз. Сим словом указывает на стрелу, глубоко лежащую в ея сердце; Устреливший сею стрелою есть любовь. Дознали же мы из Святаго Писания, что любовь есть Бог. Он пускает в спасаемых избранную стрелу Свою, единороднаго Сына, Духом жизни помазав тройное жало острия. Острие же есть вера, чтобы, в ком будет она, вместе со стрелою введен был и Устреливший, как говорит Господь: Аз и Отец едино есма (Иоан. 10, 30); и: приидем и обитель у него сотворим (Иоан. 14, 23). Посему душа, возвысившаяся божественными восхождениямн, видит в себе сладкую стрелу любви, которою уязвлена, и уязвление обращает себе в похвалу, говоря: уязвлена любовию аз. Какая прекрасная язва! Какое сладостное поражение, с которым во внутренность проникает жизнь там, где пронзила стрела, отверзшая себе как бы некую дверь и вход! Ибо вместе и прияла в себя стрелу любви, и стрельба изменилась немедленно в брачное веселие. Ибо известно, как руки распоряжаются луком, сообразно с потребностию исправляя то или другое дело; левая рука держит лук, а правая тянет к себе тетиву, привлекая за разрезной конец стрелу, придерживанием левой руки направляемую к цели. Посему служившая незадолго прежде целию для стрелы теперь вместо стрелы себя видит в руках стрельца, между тем как иначе правая и иначе левая рука обемлет стрелу. Но поелику в последствии образы представлений приводятся в переносном значении из брачной песни, то невеста не то представила, что левою рукою поддерживается острие стрелы, а правая обемлет другую ея часть, так чтобы душа стала стрелою в руке сильнаго, направляемою к горней цели; напротив того, представила, что левая рука подложена, вместо острия, под главою, а правою обемлется прочее, чтобы, как думаю, в слове сими вдвойне загадочными выражениями вместе изложено было любомудрие божественнаго восхождения, показывая, что и Жених, и стрелец наш есть один и тот же, что чистая душа служит для Него и невестою, и стрелою, и как стрелу, направляет Он ее к доброй цели, как невесту, восприемлет в общение неистленной вечности, долготу жития и лета жизни даруя десницею, а шуйцею богатство вечных благ и славу Божию (Прит. 3, 16), которой непричастными делаются ищущие славы мира сего. Посему говорит: шуйца Его под главою моею (Песн. 2, 6), — шуйца, которою стрела направлена в цель. А десница Его, меня обемля и привлекая к Себе, делаеть легкою к возношению горе и пускает вверх, и не отлучает от стрельца, так что вместе и несусь в следствие вержения, и упокоеваюсь в руках Владыки. Об отличительных же свойствах сих рук говорит книга Притчей, что долгота жития и лета жизни в деснице Премудрости, в шуице же ея богатство и слава (Прит. 3, 16).
Потом невеста обращает речь к дщерям горняго Иерусалима; речь же сия есть убеждение, предлагаемое с заклятием, — всегда умножать и возращать любовь, пока не приведет в исполнение воли Своей Тот, Кто всем хощет спастися и в разум истины приити (1 Тим. 2, 4). Вот сия речь, которую произносит невеста: заклях вас, дщери иерусалимли, в силах и крепостех села: аще воставите, и возбудите любовь, дондеже восхощет (Песн. 2, 6). Клятва есть слово, собою удостоверяющее в истине; действие же клятвы двояко: она или сама удостоверяет слушающаго в истине, или заклятием других приводит в необходимость ни в чем не лгать. Например: клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ея (Псал. 131, 11). Здесь клятвою подтверждается верность обетования. Когда же Авраам, прилагая попечение о благородном супружестве единороднаго, повелевает рабу своему в брачное сожительство Исааку не приводить никого из рода ханаанскаго, осужденнаго на рабство, чтобы примесь рабскаго рода не причинила вреда благородству преемства, а напротив того избрать сыну супругу в отечественной ему земле и в родстве его; тогда заклятием приводит раба в необходимость не вознерадеть о приказании, и если пошлет его, ради себя самаго сделать то, что признал он за благо для сына; так слуга заклинается Авраамом устроить Исааку приличное супружество. Посему, так как действие клятвы двояко, то здесь душа, восшедшая на такую высоту, какой видели мы ее достигшею в изследованном нами прежде, обучаемым ею душам указуя дальнейший путь к совершенству, своею клятвою не удостоверяет слушающих в несомненности того, что улучила сама; но заклятием руководить их к жизни добродетельной, к неусыпной и бодрственной любви, до тех пор, пока не исполнится благая Его воля, которая в том состоит, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. А клятва, как там была о стегне патриарховом (Быт. 24, 9), так здесь в силах и крепостех села; ибо так говорить Писание: заклях вас, дщери иерусалимли в силах и крепостех села: аще воставите, и возбудите любовь, дондеже восхощет. В словах сих разсмотреть должно, во первых, какое это село; потом, какая крепость села и сила его, и есть ли между ними разность, или тем и другим означается одно; сверх того, что значить возставить, и что — возбудить любовь; а выражение дондеже восхощет объясняется сказаннымь прежде.
Что селом Владычнее слово означает мир, явно сие каждому из Евангелия; а что преходит образ мира сего (1 Кор. 7, 31), и ничего не оказывается прочнаго в непостоянном естестве, это явно по громогласному свидетельству Екклесиаста, который все видимое и преходящее причислил к вещам суетным. Посему, какая же сила у такаго села, которое есть мир? Или какая крепость в том, памятование о чем с заклятием, данное дщерям иерусалимским, повеление делает ненарушимым? Если смотреть на видимое, будто бы в нем есть какая–то сила, то подобное предположение отвергает Екклесиасть, именуя суетою все, на что указывают, и чего домогаются люди в видимом. Ибо суетное несостоятельно; а несостоятельное по сушности не имеет силы. Или, может быть, в означении слова: сила множественным числом найдется какая догадка о выражаемом им понятии? Ибо из Святаго Писания известно нам такое различие в разсуждении подобных имен: когда говорится в единственном числе сила, тогда таким речением разумение отсылается к Божеству; а когда то же имя произносится во множественном числе то представляется словом естество ангельское. Так Христос — Божия Сила и Премудрость (1 Кор. 1, 24); здесь единственным числом Писание дает разуметь Божество. Благословите Господа вся силы Его (Псал. 102, 21), — здесь множественное число силы показывает значение разумнаго ангельскаго естества. А слово крепость, сопоставленное с словом сила, усиливает значительность понятия; так Писание повторением равносильных речений тверже выражает, что ему желательно. Так в словах: Господи, крепосте моя и утверждение мое (Псал. 17, 23), каждое из речений означаеть одно и то же, но сопоставление равносильных слов показывает усиление означаемаго. Посему множественное означение сил и подобообразное упоминание о крепостех возводит, как видно, мысль слышащих к естеству ангельскому, так что заклинание, представляемое наставницею обучаемым душам в подтверждение сокровеннаго, делается силою не преходящаго мира, но всегда пребывающаго естества Ангелов, на которых повелевается взирать, чтобы их примером утверждались непоколебимость и постоянство добродетельнаго жития. Поелику имеем обетование, что по воскресении жизнь человеческая соделается подобною состоянию Ангелов (Обетовавший же не лжив); то следует и жизнь в мире сем приуготовлять к жизни, чаемой после сего, так чтобы, живя во плоти, и проводя время на селе мира сего, жить не по плоти и не сообразоваться веку сему, но и во время жизни в мире иметь попечение о жизни чаемой. Посему невеста клятвенным подтверждением внушает душам обучаемых, чтобы жизнь их, с преспеянием проводимая на этом селе, имела в виду небесныя силы, подражая безстрастием чистоте ангельской. Ибо, когда так возставляется и возбуждается любовь, то есть возвышается от присовокупления, и возрастаеть до большей меры; тогда, как сказала невеста, исполняется воля Божия, как на небе, так и на земле, по причине ангельскаго безстрастия, преуспевающаго и в нас. Воть что уразумели мы в словах: заклях вас, дщери иерусалимли, в силах и крепостех села: аще воставите, и возбудите любов дондеже восхощет. Если же найдется иное какое слово, более приближающееся к истине искомаго; то примем благодать, и возблагодарим Открывающаго сокровенныя тайны Духом Святым о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему подобает слава во веки веков! Аминь.
Беседа 5
(2, 8) Глас Брата моего: се Той идет скача на горы и прескача на холмы: (9) подобен есть Брат мой серне, или младу еленю на горах Вефилских. Се Сей за стеною нашею, проглядаяй оконцами, приницаяй сквозе мрежы. (10) Отвещает Брат мой и глаголет мне: востани, прииди ближняя Моя, добрая Моя, голубице Моя, (11) яко се зима прейде, дождь отиде, отиде себе: (12) цвети явишася на земли, время обрезания приспе, глас горлицы слышан в земли нашей: (13) смоквь изнесе цвет свой, винограды зреюще даша воню. Востани, прииди ближняя Моя, добрая Моя, (14) голубица Моя в покрове каменне, близ предстения: яви ми зрак Твой, и услышан сотвори ми глас Твой: яко глас Твой сладок и образ Твои красен. (15) Имите нам лисы малыя, губящия винограды: и виногради наши созревают. (16) Брат мой мне, и аз Ему, пасый в кринах, (17) дондеже дхнет день, и двинутся сени. Обратися, уподобися ты, Брате мой, серне, или младу еленю на горах юдолей.
В нынешнем чтении предложенное нам из любомудрия Песни песней и приводит в пожелание обозреть превысшия блага, и в души наши влагает печаль, внушая некоторым образом отчаяние невозможностию уразуметь непостижимое. Ибо как не ощутить человеку печали, усматривая, что приведенная в чистоту душа, после того, как в стольких восхождениях возвышена любовию до приобщения блага, по видимому, как говорит Апостол, не постигла еще искомаго? Хотя, смотря на оныя восхождения, которыя совершены по сказанному в предшествовавших беседах, ублажил я ее за то восхождение, в которое познала она сладкую яблонь, отличив ее от безплодия лесных дерев, и сень яблони соделала вожделенною, и усладившись плодом, вошла в ложницу веселия (веселие же именует она вином, от котораго веселится сердце вкушающих), и вчиненная в любовь, утверждается в мирех, обложенная яблоками, и приняв в сердце стрелу любви, снова в руках стрельца сама делается стрелою, руками сильнаго направляемою в цель истины. Видя сие и подобное сему, разсуждал я, что возвысившаяся на столько степеней душа достигла самого верха блаженства. Но, сколько видно, совершенное доселе есть еще только предначатие восхождения, потому что душа все оные восходы именует не каким–либо обозрением или ясным постижением истины, но гласом желаннаго, котораго свойства отличаются по слуху, а не по разумению и познаются и увеселяють. Посему, если душа, столько возвысившаяся, сколько, как знаем, возвысился Павел, восхищенный до третиих небес, не оказывается еще в точности достигшею предлежащаго ей; что, по всей вероятности, будет с нами, или что заключить нам о себе, которые не приблизились даже и к преддвериям таинниц, предстоящих нашему обозрению? А неудобозримость искомаго можно видеть из сказаннаго душею.
Глас Брата моего, — говорить она; не вид, не лице, не очертание, указывающее на естество искомаго, но глас, доставляющий только догадку, а не твердое свидетельство о том, Кто Таков издающий глас. Ибо что изрекаемое походит больше на уподобление, а не на какую–либо несомненную удостоверенность в постижении, явствует сие из того, что слово не ограничивается одним каким–либо смысломь и не один образ имееть в виду; напротив того, из сказуемаго явно, что душа в сих видениях увлекается многим, думая видеть и нечто иное, и не останавливаясь постоянно на одних и тех же чертах постигнутаго. Сказано: се Той идет, не стоя на месте, не дожидаясь, чтобы во время остановки познал Его устремляющий на Него взор, но похищая себя из вида прежде, нежели душа пришла в совершенное познание. Ибо продолжает она: идет скача на горы и прескача на холмы (Песн. 2, 8). И хотя признается теперь серною, но опять уподобляется и молодому оленю. Душа говорит: подобен есть Брат мой серне, или младу еленю на горах Вефильских (Песн. 2, 9). Так всегда постигаемое имееть то одне, то другия черты.
Сие–то по первоначальному понятию приводит меня в печаль, ввергая в отчаяние достигнуть точнаго уразумения Превысшаго. Впрочем, возложив надежду на Бога, дающаго глагол благовествующим силою многою (Псал. 67, 12), должно попытаться и сие обозрение последовательно и в некоторой связи приноровить к тому, что выразумели мы прежде. Глас Брата моего, — говорить душа, — и тотчас присовокупляет: се Той идет. Что–же подразумеваем в этом? То, что, может быть, сказанное предуказует открытое нам Евангелием домостроительство Бога Слова, как предвозвещенное Пророками, так вполне открытое Богоявлением Сына во плоти. Ибо Божественный глас свидетельствует делами, и с словом обетования согласуется исполнение, как говорит Пророк: якоже слышахом, тако и видехом (Псал. 47, 9). Душа говорит: глас Брата моего (то есть, что мы слышали): се Той идет (это прияли мы очами), многочастне и многообразне древле Бог глаголавый отцем во пророцех (вот и слышание гласа), в последок дний глагола нам в Сыне (Евр. 1, 1–2), Это и есть сказанное невестою: се Той идет, скача на горы и прескача на холмы, как сродно и сообразно серне в особенном некоем отношении, и опять, по другому понятию, уподобляясь младу еленю. Серна означает остроту зрения у Назирающаго всяческая. Ибо сказывают, что животное сие, чрезвычайно зоркое, по этой силе имеет свое имя: но быть зорким то же, что и быть видящим. Итак, Кто над всем назирает, у Кого все в виду, Тот потому, что все видит, именуется Богом всяческих. Посему, так как во плоти явился Бог, явившийся миру для низложения сопротивных сил, то уподобляется Он серне, как Призревший с небес на землю, и молодому оленю, как Перескакивающий чрез горы и холмы, то есть, Попирающий и Сокрушающий лукавыя высоты демонской злобы. Ибо Писание горами называет то, что приведено в смятение крепостию Его, как говорит Давид, преложено в сердца морская (Псал. 45, 3), и погружено в сродном сему месте бездны. Об этих горах Господь сказал ученикам: аще имате веру, яко зерно горушно, рцыте горе сей (указывая при сем слове на онаго лукаваго на новые месяцы мучащаго беса): двигнися и верзися в море (Матф. 17, 15. 20). Итак, поелику естеству молодых оленей свойственно истреблять ядовитых пресмыкающихся, дыханием и качеством плоти своей обращать в бегство этот род змей, то посему Назирающий всяческая уподобляется серне и еленю младу, как попирающий и истребляющий сопротивную силу, которая в переносном значении названа горами и холмами.
Посему Женихов был тот глас, которым глаголал Бог во пророцех, и по гласе пришло Слово, скача на сопротивныя горы и прескача на холмы, равно покоряя под ноги Свои всякую отступническую силу и низшую, и высшую. Ибо различие холмов от гор то и дает разуметь, что и властвующий над сопротивными низлагается подобно своему подчиненному, попираемый с силою и властию. Ибо одинаково покоряются лев и дракон, — эти высшие, и также змий и скорпион, почитаемые низшими. Скажу для примера: в толпах, следовавших за Господом, были горы — бесы, или в синагогах, или в стране Герасинов, или в других многих местах, высившие и возносившие главу над естеством человеческим. Из них были и холмы, и горы, и высшие, и низшие. Но младый елень, истребитель змиев, и учеников претворяющий в естество еленей, когда говорит: се даю вам власть наступати на змию и на скорпию (Лук. 10, 19), на всех равно налагает стопу, тех обращая в бегство, а с сих прескача на других и тем доказывая, что величие высоких по добродетели не затемняется высотами порока. Ибо горы Вефильския, как видно из толкования имени, указывают на жизнь высокую и небесную; потому что речение: Вефиль, как утверждают знатоки еврейскаго языка, значить: дом Божий, почему сказано: на горах Вефильских.
Их–то увидело соделавшееся чистым и зоркое око души, скачущее вместе с Божественными оными скаканиями по высотам сопротивных; и о том, что будет в последствии времени, ведет речь, как уже о настоящем, по достоверности и несомненности чаемой благодати взирая на надежду, как на дело. Ибо говорит, что Той, Кто с благодвижною скоростию скачет на горы и перескакивает с холмов на холмы, показывает Себя неподвижным, остановясь позади стены и беседуя сквозе мрежи оконцев. Буквально же читается так: се Сей стоит за стеною нашею, проглядаяй оконцами, приницаяй сквозе мрежи (Песн. 2, 9). Посему описываемое в слове, если понимать чувственно, таково: Возлюбивший с невестою, пребывающею внутри дома, беседует в окна, между тем как разделяет обоих находящаяся среди них стена, но словесное общение происходит безпрепятственно, глава проглядывает в окно, и глаз приникает внутрь сквозь оконныя сетки. Высший же взгляд держится того смысла, какой найден по предыдущему изследованию. Ибо слово постепенно и последовательно приближает естество человеческое к Богу, сперва озаряя его чрез Пророков и предписания закона. Так понимаем, что Пророки суть оконца, вводящия свет, ткань же законных предписаний — мрежи, а сквозь то и другое проникает внутрь луч истиннаго света. Но после сего происходит совершенное озарение светом, когда седящим во тме и сени является Свет (Матф. 4, 16) истинный, по растворении с естеством нашим. Посему сперва лучи пророческих и законных понятий, возсиявающие душе сквозь разумеваемыя нами оконца и мрежи, возбуждают пожелание увидеть солнце на открытом небе. И таким образом пожеланное исполняется потом на самом деле.
Послушаем же, что глаголеть Церкви Тот, Кто не вошел еще внутрь, но стоит и вещает ей в проводники света. Ибо говорить она: отвещает Брат мой и глаголет мне, востани, прииди ближняя Моя, добрая Моя, голубице Моя, яко се зима прейде, дожд отиде, отиде себе, цвети явишася на земли, время обрезания приспе, глас горлицы слышан в земли нашей, смоквь изнесе цвет [19] свой, винограды зреюще даша воню. (Песн. 2, 10–13). Как прекрасно описывает приятность весны Творец ея, Которому говорит Давид: жатву и весну Ты создал еси (Псал. 73, 17)! Полагает конец зимней унылости, сказывая, что прошла и зимняя угрюмость и неприятность дождей. Указывает на луга, наполненные и украшающиеся цветами. О цветах же говорит, что они в полной красе, и пригодны к обрезанию, так что, без сомнения, собиратели цветов сорвут их на плетение венков или на приуготовление мира. К приятности времени присоединяет слово и то, что рощи оглашаются пением птиц, раздается в слух приятный голос горлиц. Упоминает также о смокве и о винограде, о будущем от них наслаждении, которому полагается начало видимым, а именно в смокве произращением зародышей, а на виноградной лозе появлением цвета; почему обоняние услаждает она благовонием. Так слово роскошно описывает весеннее время года, отметая все угрюмое и останавливаясь на приятных изображениях. Но нет, думаю, надобности удерживать мысль на описании сих приятностей; а напротив того, ими надлежит путеводиться к означаемым сими описаниями таинствам, чтобы открылось нам богатство мыслей, сокровенное в речениях. Посему, что же значить то, о чем говорим мы?
Человеческий род оцепенел некогда от мраза идолослужения, когда удободвижное человеческое естество преложилось в неподвижное естество чтилищь. Ибо сказано: подобни им да будут творящии я и вси надеющиися на ня (Псал. 134, 18). Сему и следовало произойти. Ибо как возводящие взор к истинному Божеству приемлют в себя черты, свойственныя естеству Божественному; так внимающий суете идолов претворяется в тоже, что у него пред глазами, из человека делаясь камнем. Итак, поелику, окаменев оть служения идолам, неподвижно было к лучшему естество, оцепеневшее от мраза идолопоклонства; то по сему самому в лютую зиму сию возсиявает солнце правды и производит весну; когда полуденный ветр разрешает таковое оцепенение, и вместе с возсиянием солнечных лучей согревает все освещаемое ими, чтобы и окаменевший от мраза человек, как скоро разгорячится духом, и согреть будет лучем Слова, снова соделался водою, текущею в жизнь вечную. Ибо сказано: дхнет дух Его, и потекут воды (Псал. 147, 7), по обращении камня во езера водная и несекомаго во источники водныя (Псал. 113, 8); о чем открытее взывал иудеям Креститель, говоря, что камни сии будуть воздвигнуты, и соделаются чадами Патриарху, уподобляясь ему добродетелию (Матф. 3, 9).
Итак, вот что слышить от Слова Церковь, в пророческия оконца и сквозь законныя мрежи приемля луч истины, когда стояла еще преобразовательная стена учения, разумею закон, дающий сень грядущих благ, но не указующий самаго образа вещей (Евр. 10, 1). Позади сей–то стены стояла истина, тесно связанная с прообразом, сперва чрез Пророков озарявшая Церковь Словом, а потом явлением Евангелия разсеявшая всякое подобное тени представление прообраза, при чем средостение разорено, внутренний же воздух в доме соединился с эфирным светом, так что нет более потребности в освещении чрез оконца, когда сам истинный свет евангельскими лучами просвещает все внутреннее. Посему–то Слово, воставляющее низверженныя (Псал. 144, 15), в проводники света взывает Церкви, говоря: востань от падения, поползнувшаяся в срамоту греха, потерпевшая запинание от змия, падшая на землю, и пребывающая в падении преслушания, востань. Даже недостаточно тебе быть востановленною только от падения, — продолжает слово, — но и прииди, преспеянием в добре совершая течение добродетели. Сие дознали мы и на разслабленном. Слово не воставляет только сие бремя одра, но и повелевает ему ходить; при чем, кажется мне, перехождением с места на место Писание означает поступление к лучшему и возрастание в оном.
Посему Жених говорит: востани, и прииди. Какая сила в повелении! Глас Божий подлинно есть глас силы, как говорит псалмопение: се даст глас свой, глас силы (Псал. 67, 34); и: Той рече, и быша, Той повеле, и создашася (Псал. 32, 9). Вот и теперь сказал лежащей: востани, и еще: прииди и повеление немедленно исполняется на деле. Ибо невеста вместе и приемлет в себя силу Слова, и востает на ноги, и предстоит и делается ближнею свету, как засвидетельствовано Самим Словом, давшим сие приказание; ибо так говорит: востани, прииди ближняя Моя, добрая Моя, голубице Моя (Песн. 2, 10). Что за порядок в слове! Как одно соединено тесно с другим! Как связно, как бы в цепи какой, сохраняется последовательность понятий! Слышит невеста повеление, укрепляется в силах от этого слова и востает, проходит, приближается, делается доброю, именуется голубицей. Ибо возможно ли прекрасный образ увидеть в зеркале, в котором не бывало изображения какого–либо прекраснаго лица? Посему и зеркало естества человеческаго не прежде стало прекрасно, но уже после того, как приблизилось к прекрасному, отразило в себе образ Божественной красоты. Как имело оно в себе вид змия, пока лежало на земле, и на него взирало; так, подобно сему, поелику востало, лицем к лицу стоит с добром, а порок оставило позади себя; то, на что взирает, образ того и приемлет на себя. Взирает же на первообразную красоту, а красота — голубица. Приблизившись чрез это к свету, делается светом, во свете же отражается прекрасный образ голубицы, разумею ту голубицу, образ которой известил о присутствии Святаго Духа.
Так Слово, подав глас невесте, и как ближнюю, наименовав ее доброю, а за доброту назвав голубицею, продолжает и последующую речь, сказав, что не владычествует более унылость душевной зимы, потому что мраз не противостоит лучу. Се, — говорит Слово, — зима прейде, дожд отиде, отиде себе (Песн. 2, 11). Многоименным делаеть зло, придавая ему наименования по различиям действий. Одно и то же и зима, и дождь, и капли, но в отдельности каждым из сих именований означается одно какое–либо в особенности искушение. Зимою, что зеленело, вянет, краса дерев, естественно украшающихся листьями, опадает с ветвей и смешивается с землею, умолкает сладкопение голосистых птиц, предается бегству соловей, немеет ласточка, чуждается гнезда горлица, все уподобляется унылости смерти, мертвеет отпрыск, умирает зелень, и как кости, с которых снята плоть, так ветви, обнаженныя от листьев, делаются неприятным зрелищем вместо того благообразия, какое ветвям доставляли зеленые отпрыски. Что же скажет иный о бедствиях на море, бывающих зимою? Как оно, вращаясь и воздымаясь из глубин, уподобляется буграм и горам, прямо вверх подымая водяную вершину? Как подобно неприятелю устремляется на сушу, несется из берегов, непрерывными ударами волн, как приражениями военных орудий, потрясая землю? Но все сии и подобныя сим зимния невзгоды представляй себе в иносказательном значении. Что значит отцветающее и увядающее зимою? Что — падающее с вершин и разрешающееся в землю? Что — умолкающий голос певчих птиц? Что — ревущее водами море? Что идущий при этом дождь? Что — дождевыя капли? Как дождь отходит себе? Ибо всем этим загадочное изображение таковой зимы означает нечто одушевленное и произвольное.
Хотя слово наше и не станет объяснять сего по порядку, но слушающему, может быть, явен смысл, заключающийся в каждом изречении. Так, например, естество человеческое цвело первоначально, пока было в раю, напаяемое водою онаго источника, и зеленело, когда вместо листьев украшал его стебль безсмертия. Но поелику зима преслушания изсушила корень; то цвет опал, и разложился в землю, человек утратил лепоту безсмертия, по охлаждении любви к Богу от умножившихся беззаконий изсохла зелень добродетелей; а отсего сопротивными духами воздвигнуто в нас множество различных страстей, от которых постигают душу гибельныя крушения. Но вот пришел Сотворивший весну душ наших, Который запретил лукавому духу, воздвигшему некогда море, а ветрам и морю сказал: молчи, престани (Марк. 4, 3. 9); и все пришло в тишину и благоведрие, все снова начинает разцветать, и наше естество украшается свойственными ему цветами. Цветы же жизни нашей суть добродетели, которыя ныне цветут, плод же свой приносят во время свое. Потому говорит Слово: зима прейде, дождь отиде, отиде себе: цвети явишася на земли, время обрезания приспе (Песн. 2, 11–12). Видишь, — говорит, — луг, цветущий добродетелями? Видишь целомудрие — этот белый и благовонный крин? Видишь стыдливость — эту розу? Видишь эту фиалку — Христово благоухание? Почему же не соплетаешь из них венца? Теперь время, в которое собравшему надлежит украситься плетением таковых венцев, время обрезания приспе. О сем свидетельствует тебе глас горлицы, то есть, глас вопиющаго в пустыни (Марк. 1, 3); ибо горлица эта — Иоанн, этот предтеча светлой весны, указующий людям прекрасные цветы добродетели и предлагающий их намеревающимся стать собирателями цветов; потому что указывал на Цвет от кореня Иессеева, на Агнца Божия, вземлющаго грех мира, и внушал покаяние в худых делах и добродетельное житие.
Ибо продолжаеть Слово: глас горлицы слышан в земли нашей (Песн. 2, 12), землею, может быть, именует осуждаемых за порочную жизнь, какими Евангелие представляет мытарей и блудниц. Ими услышано было Иоанново слово, когда прочие не принимали проповеди. А сказанное о смокве, что изнесе цвет свой (Песн. 2, 13), будем разуметь так: смоква от действия на нее теплоты весьма сильно втягивает в себя влагу из глубины, и как скоро в сердцевине ея скопляется много сырости, при переваривании соков, происходящем в растении, естество по необходимости извергает из ветвей, что в соках было негоднаго и земленистаго; и делает это многократно, чтобы подлинный и питательный плод дать от себя в надлежащее время чистым от неполезнаго качества. Сие же вместо сладкаго и совершеннаго плода, в виде плода также производимое смоквою, называется цветом (ὄλυνϑος), который хотя и сам может со временем стать снедным для желающих, однако–же — не плод, а служит только предначатием плода. Посему, кто увидит это, тот, конечно, собирает уже почти плоды; потому что цвет, о котором сказано, что изнесе его смоковница, служит знаком годных в снедь смокв.
Поелику Слово описывает невесте духовную весну; а время сие сопредельно с двумя временами года, временем зимней унылости и временем вкушения плодов летом; то, хотя ясно возвещает Оно, что худыя времена миновались, однакоже не совершенно еще показываеть плоды добродетели, но сберегаеть их к надлежащему времени, когда настанет жатва. А что означается жатвою, конечно, знаешь из Господняго слова, в котором сказано, что жатва кончина века ест (Матф. 13, 39). Теперь же указуеть Слово на цветущия при добродетелях надежды, которых плод, как говорит Пророк, появится во время свое (Псал. 1, 3). Итак, поелику естество человеческое, подобно упоминаемой здесь смоковнице, в продолжение умопредставляемой нами зимы, собрало в себя много дурной влаги, то Соделывающий для нас душевную весну, и надлежащим возделыванием Возращающий человечество, сперва вместо побегов прекрасно извергает из естества все, что в нем есть земленистаго и неполезнаго, очищая исповедию от излишеств, и потом уже, правилами более образованной жизни налагая на него некия черты чаемаго блаженства, как бы цветом каким, провозвещает будущую сладость смокв. Сие–то и означается сказанным, что смоква изнесе цвет свой.
Так разумей и зреющий виноград, из котораго вино, веселящее сердце, наполнит некогда чашу премудрости, и с высоким проповеданием (Прит. 9, 3) предложено будеть сопиршественникам, с правом почерпнуть в нем доброе и трезвенное упоение, разумею то упоение, в котором человек от вещественнаго восторгается к Божественному. Теперь виноград украшается цветом, и издается им некое благоухающее, приятное и сладостное испарение, срастворенное с обемлющим Духом; без сомнения же, наученный Павлом, знаешь этого Духа, Который соделывает благоухание сие в спасаемых (2 Кор. 2, 15).
Сии признаки прекрасной весны душ наперед указует Слово невесте и понуждаеть поспешнее насладиться предлагаемым, возбуждая ее своими речами и говоря: востани, прiиди ближняя Моя, добрая Моя, голубице Моя (Песн. 2, 13). Сколько догматов в речениях сих кратко указует нам Слово! Ибо богодухновенному учению несвойственно из какого–либо пустаго суесловия останавливаться на одних и тех же речениях. Напротив того, повторением сим показывается некая великая и боголепная мысль, именно же сказуется нечто подобное следующему. Блаженное, вечное и всякий ум превышающее Естество, все естества Собою обемля, никаким не обемлется пределом. Ибо в разсуждении Его не представляется ничего, ни времени, ни места, ни цвета, ни очертания, ни вида, ни обема, ни количества, ни протяжения, ни инаго чего описующаго, именования, или вещи, или понятия; напротив того, всякое добро, о Нем умопредставляемое, простирается в безпредельность и некончаемость. Где не имеет места зло, там нет никакого предела добру. В нас, при изменчивости естества, поелику в произволении нашем есть равная возможность склоняться к тому и другому из противоположнаго, и доброе, и злое попеременно уступают место друг другу, и пределом добраго делается появляющийся порок; и все предначинания душ наших, одно другому противоположныя и противящияся, друг другу уступают место, и друг другом определяются. Но Естество простое, чистое, однообразное, непреложное, неизменяемое, всегда одно и то же, никогда из Себя не выходящее, потому что не допускает до Себя возможности быть в общении с злом, пребывает безпредельным в добре, не видя даже пред Собою и предела, потому что не имеет в виду ничего противоположнаго. Посему, когда человеческую душу привлекает к общению с Собою, тогда по преимуществу в лучшем в равной тому всегда мере ставит ее выше, нежели сколько она причастна; потому что душа по причастии превосходнейшаго становится непрестанно выше себя самой, и, возрастая, не останавливается в возрастании; добро, котораго она причастна, однако пребывает наравне с нею, и душа, всегда более и более причащающаяся наравне с тем находит оное непрестанно в преизбытке.
Итак, обратим взор на невесту, по восхождениям добродетели, как бы по ступеням лестницы, руководимую Словом на высоту. Сперва Слово оконцами Пророков и сквозе мрежи заповедей закона вводит светлый луч, приглашает ее приблизиться к свету и стать прекрасною при свете, приняв на себя вид голубицы. Потом, когда, сколько могла вместить, приимет на себя красот, опять Слово, как еще вовсе непричастную красот, привлекает к приобщению красоты превысшей, чтобы, по мере преспеяния, при представляющейся непрестанно новой красоте, возрастало в ней вместе пожелание, и представлялось ей, что она, по преизбытку открываемых всегда в высоте благ, едва только приступает к восхождению. Посему–то Слово воставшей уже невесте повторяет: востани, и идущей: прииди. Ибо и для того, кто действительно востал, никогда не прекратится нужда воставать непрестанно, и для поспешающаго ко Господу не истощится путь к продолжению Божественнаго течения. Всегда надлежит воставать, и приближающимся даже к цели в течении своем никогда не успокаиваться. Сколько раз повторяет Жених: востани и прииди, столько же раз дает силу на восхождение к большему совершенству. Так разумей и что далее предложено в слове. Повелевающий из прекрасной делаться прекрасною предлагает прямо апостольское слово, предписывая в той же образ преображаться от славы в славу (2 Кор. 3, 18), так что — слава для нас, если и непрестанно приемлемое и всегда обретаемое, хотя бы оно было чем–то наиболее всего великим и возвышенным, признается нами меньшим чаемаго в последствии, Посему и той, которая по прежним преспеяниям была голубицею, тем не менее снова повелевается по преобразовании в лучшее стать тою же голубицею. И если исполнится это последующее слово и то, что выше сего, покажет опять сим же наименованием.
Ибо говорит: прииди в себя, голубице Моя, в покрове каменне; близь предстения (Песн. 2, 14). Посему какое восхождение к совершенству означается сказанным теперь? То, чтобы не иметь более в виду старания о привлекающем, но путеводителем к лучшему избрать собственное вожделение. Ибо сказано: прииди в себя; не оть скорби, не по нужде, но собственными своими разсуждениями, без понудительной необходимости, усилив в себе ревность о прекрасном, потому что добродетель не знает над собою властелина, произвольна, свободна от всякой необходимости. Таков был Давид, который молится, чтобы о вольных только делах его благоволил Бог (Псал. 118, 108), и дает обещание принести жертву волею (Псал. 53, 8). Таков каждый из святых, посвящающий себя Богу и приводимый к тому не нуждою. Посему и ты покажи совершенную готовность восприять в себя вожделение восхождения к лучшему. А соделавшись таковою, — говорит Слово невесте, — придешь в покров каменный, близь предстения. Сказанное Словом (ибо загадочную сию речь надлежит переложить в более ясную) имеет такой смысл: один покров душе человеческой — высокое Евангелие; кто под сим покровом, тот после того, как истина раскрыла сокровенныя гадания заповедей, не имеет уже нужды в учении прикровенном понятиями иносказательными и загадочными. А что камнем называется евангельская благодать, не будеть сего оспоривать никто, сколько–нибудь приобщившийся вере. Ибо из многих мест Писания можно дознать, что камень есть Евангелие. Посему смысл сказаннаго таков: если ты, душа, упражнялась в законе, если сквозь пророческия оконца увидела разумением лучи света, то не оставайся дольше под тению стены закона, потому что стена производить сень грядущих благ, а не самый образ вещей: напротив того, перейди по близости от стены на камень, потому что камень в связи с предстением; так как евангельской вере предстением служит закон, и во взаимной между собою связи учения, одно другому по силе своей близкия. К заповеди: не прелюбодействуй, что ближе другой заповеди: не пожелай, и к этой: будь чист от убийства, также другой: не скверни сердца своего гневом? Итак, поелику покров каменный в связи с предстением, то не далек для тебя переход со стены на камень. Обрезание на стене, обрезание и на камне; овца и здесь и там; там кровь, и здесь кровь; там Пасха, и здесь Пасха; и все почти тоже, одним и тем же между собою связано, кроме одного, что камень духовен, а стена перстна, и с стеною вместе образуется телесное и земное, а евангельский камень не имеет в себе плотскаго брения понятий. Но и обрезание приемлет человек, и пребывает всецело здравым, не терпя никакой утраты от урезания в составе естества. Хранит он и субботу тем, что не делает зла, и не допускает праздности в добре, научившись, что делать добро позволительно и в субботу. Вкушение пищи признает безразличным, и не касается нечистаго; ибо научен Камнем, что не сквернит ничто входящее устами (Матф. 15, 11). Напротив того, отвергая во всем телесныя наблюдения закона, смысл речений прелагает на духовное и разумное значение, согласно с Павлом, который сказал: закон духовен есть (Рим. 7, 14). Ибо кто так приемлет закон, тот становится под покровом евангельскаго Камня, тесно соединенным с телесным предстением.
Вот что взывало Слово невесте в оконца, и прекрасно ответствует на это голубица сия, озаренная лучем мыслей, и уразумевшая Камень, который есть Христос (1 Кор. 10, 4). Ибо говорить: яви ми зрак Твой, и услышан сотвори ми глас Твой: яко глас Твой сладок, и образ Твой красен (Песн. 2, 14). Сказанное же ею имеет такой смысл: не беседуй больше со мною пророческими и законными гаданиями, но в такой мере, сколько могу видеть, покажи мне Себя явно, чтобы стать мне внутри евангельскаго Камня, оставив предстение закона. И сколько вместит мой слух, столько в уши мои дозволь войдти гласу Твоему; ибо если глас этот и в оконца так сладок, то кольми паче будет любезен при явлении Твоем лицем к лицу. Так говорит невеста, уразумев тайну евангельскаго Камня, на сколько руководило ее к тому многочастно и многообразно в оконцах бывшее Слово, и приходить в вожделение Богоявления во плоти, чтобы Слово стало плотию, Бог явился во плоти, и слуху нашему стал слышен Божественный глас, обещающий достойным вечное блаженство. Но как сходны с сим прошением невесты слова Симеона, который говорит: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видесте очи мои спасение Твое (Лук. 2, 29–30)! Ибо он увидел, как желала видеть невеста. Сладкий же глас Женихов познают приявшие благодать Евангелия, изрекшие: глаголы живота вечнаго имаши (Иоан. 6, 68).
Посему чистый Жених приемлет прошение невесты, как справедливое, и намереваясь показать Себя ей явно, сперва понуждает ловцев изловить лисиц, чтобы винограду не было от них больше препятствия к созреванию, говоря: имите нам лисы, которыя, хотя малы, но губят винограды: винограды же зацветут, если ничто не будет им больше причинять вреда. Имите нам лисы малыя, губящия винограды: и виногради наши созревают (Песн. 2, 15). Можно ли следовать за высотою сих мыслей по их достоинству? Какое чудо Божественнаго величия заключаеть в себе это слово! Какой преизбыток Божия могущества выражается значением сказаннаго! Тот, о ком говорится так многое, этот человекоубийа (Иоан. 8, 44), во злобе сильный (Псал. 51, 1), у кого язык изощрен, яко бритва (Псал. 51, 2) со угльми пустынными (Псал. 119, 4), кто ловит, яко лев во ограде своей (Псал. 9, 30), этот змий великий (Иез. 29, 3), отступник (Иов. 26, 13), ад, разширяющий уста свои (Авв. 2, 5), миродержитель темной власти (Ефес. 6, 12), имущий державу смерти (Евр. 2, 14), и как от лица его сказует пророчество тот, кто отемлет пределы языков, которые поставил; как очевидно, Вышний по числу Ангел Своих (Втор. 32, 8), кто обемлеть вселенную, яко гнездо, и берет яко оставленая яица (Псал. 10, 13), кто говорит, что выше облак поставит престол свой и будет подобен Вышнему (Ис. 14, 14), и о ком столько страшнаго и ужаснаго сообщает Слово в книге Иова, что ребра его медяны, хребет его железо слияно (Иов. 40, 13), и внутренности якоже смирит–камен (Iов. 41, 6), и все подобное, чем только Писание изображает страшное это естество, — сей–то столько могущественный вождь столь многих демонских полчищ, какое имя получает от истиннаго и единственнаго Могущества? И его малою лисою, а с ним и всех окружающих его, все подвластное ему воинство, с равным уничижением именует лисами же Посылающий на уловление их ловцев, которыми могут быть ангельския силы, торжественно предшествующия Владыке при явлении Его на земле, вводящия в мир Царя славы и указующия незнающим, кто есть сей Царь славы, крепкий и сильный в брани (Псал. 23, 8); а также можеть иный сказать, что это служебнии дуси, в служение посылаемiи за хотящих наследовати спасение (Евр. 1, 14); и еще иный в праве утверждать, что ловцы сии суть посланные для изловления сих зверей Апостолы, которым сказал Господь: сотворю вы ловцы человеком (Матф. 7, 4). Ибо не успели бы в ловитве человеков мрежею слова уловляющие души спасаемых, если бы сих зверей, этих малых лисиць, не изгнали прежде из нор, то есть из сердец, в которых они гнездились, и тем не очистили места Сыну Божию, где приклонить Ему главу, когда лисий род не будет больше гнездиться в сердцах.
По крайней мере, кого ни предполагает Слово ловцами, из даннаго им повеления познаем великое и неизреченное Божие могущество. Не сказало Слово: изловите вепря от дубравы, озобавшаго виноград Божий, или уединенного дивия (Псал. 79, 14), или рыкающаго льва, или кита великаго, или подводнаго змия. Ибо такими приказаниями Слово показало бы ловцам некоторую силу противоборствующих. Напротив того, как говорит оно, все земныя владычества, с которыми борьба у человеков, начала, и власти, и миродержители тмы, и духи злобы суть малыя лисы, коварныя и бедныя в сравнении с нашею силою. Если их одолеете, то восприимете благодать свою. Виноград наш — естество человеческое, и плодоношение гроздов начинается цветами добродетельнаго жития. Итак, имите нам лисы малыя, губящия винограды: и виногради наши созревают. Услышала Божие повеление виноградная лоза — жена, о которой говорит Давид: жена твоя, яко лоза плодовита (Псал. 127, 3). И увидела она, что силою Повелевшаго освобождена от губительства сих зверей, и немедленно предала себя Делателю, разорившему средостение ограды; потому что к единению с желанным не имеет уже препятствия в стене закона.
Но говорит: аз Брату моему, и Брат мой мне, пасый в кринах, дондеже дхнет день, и двигнутся сени (Песн. 2, 16–17), то есть, говорить невеста: лицем к лицу увидела я Присносущнаго, тем, что Он есть, но ради меня от сестры моей, синагоги, возсиявшаго в человеческом образе, и в Нем успокоиваюсь, делаюсь Его обителию. Ибо Он есть Пастырь добрый, который не сено дает в пищу пасомым, но чистыми кринами питает овец, не сеном уже питая сено; потому что сено есть пища, свойственная естеству безсловесному, а человек, как существо словесное, питается истинным словом; а если насытится сеном, то сам сделается сеном. Сказано: всяка плоть сено (Ис. 40, 6), пока она плоть. Но если кто соделается духом, родившись от Духа, то уже не травяною будет кормиться пищею, но пищею его будет Дух, о чем и дают разуметь чистота и благоухание крина. Посему и сам питающийся будет чистым и благоуханным крином, изменясь по свойству пищи. Вот тот день, который разливается, или дышет, лучами, как наименовало Божественное слово, разлияние лучей, производимое Духом, назвав дыханием, от чего приходять в движение тени этой жизни, в которыя со тщанием всматриваются не озарившие еще душевнаго ока светом истины, но на тень и суетное взирающие, как на нечто состоятельное, действительно же сущее упускающие из вида, как не существующее. Напротив того, питающиеся кринами, то есть, утучняющие душу чистою и благоуханною пищею, удалив от себя всякое обманчивое и призрачное представление вожделеваемаго в этой жизни, увидят истинную основу сущности вещей, став сынами света и сынами дня.
Видит сие невеста и побуждает Слово привести скорее в исполнение надежду приобщиться благ, говоря: обратися, Брате, уподобися серне, или младу еленю на горах юдолей (Песн. 2, 17). Как серна, смотри и Ты, Который видишь помышления человеческия, читаешь помыслы сердец. Уничтожь порождение злобы, как младый елень, истребляя породу змей. Усматриваешь ли юдоли гор человеческой жизни, востания которых подобны не вершинам, но дебрям? Посему–то Слово со всею скоростию поспешает на юдоли гор, потому что все высящееся против истины есть бездна, а не гора, юдоль, а не возвышенность. Почему, если ступишь на них, — говорит невеста, — то всякая таковая дебрь наполнится, и всякая таковая гора смирится (Ис. 40, 4). Так говорит душа, которую пасет Слово, не среди каких–либо терний, или былий, но в благоухании кринов чистаго жития, которыми да насытимся и мы, пасомые словом о Христе Иисусе, Господе нашем! Ему подобает слава и держава во веки веков! Аминь.
Беседа 6
(3, 1) На ложи моем в нощех исках Егоже возлюби душа моя, исках Его, и не обретох Его, воззвах Его, и не послуша мене. (2) Востану убо, и обыду во граде, и на торжищах, и на стогнах, и поищу, Егоже возлюби душа моя: поисках Его, и не обретох Его, звах Его, и не послуша мене. (3) Обретоша мя стрегущии, обходящии во граде: видесте ли, Егоже возлюби душа моя? (4) Яко мало егда преидох от них, дондеже обретох, Егоже возлюби душа моя: удержах Его, и не оставих Его, дондеже введох Его в дом матере моея и в чертог заченшия мя. (5) Заклях вас, дщери иерусалимския, в силах, и в крепостех сельных: аще подвижете и воздвижете любовь, дондеже аще восхощет. (6) Кто сия, восходящая от пустыни, яко стебло дыма, кадящее смирну и ливан, от всех благовоний мироварца? (7) Се одр Соломонь, шестьдесят сильных окрест его от сильных Исраилевых: (8) вси имуще оружия, научени на брань, муж, оружие его на бедре его, от ужаса в нощех.
В настоящем чтении из Песни песней снова научаемся великим и возвышенным догматам, потому что повествование невесты есть любомудрие, тем, что повествует она о себе, обучающее, какими пред Божеством надлежит быть любителям премирной Лепоты. А что дознаем из предложенных словес, то подобно следующему — ибо, думаю, наперед надлежит изложить смысл, заключающийся в речениях, а потом уже привести богодухновенньш сии изречения в связь с обозренным прежде — итак (если сказать, выразившись кратко), в сказанном открывается некое следующему подобное учение: естество существ, по самому высшему разделу, состоит из двух частей: одна часть — существа чувственныя и вещественныя, а другая — существа духовныя и невещественныя. Чувственным называем все, что постигаем чувствами, а духовным, — что не подлежит чувственному наблюдению. И естество духовное не имеет пределов и неопределимо; а чувственное, без сомнения, обемлется некиими пределами. Ибо кроме того, что всякое вещество различается по количеству и качеству, усматриваемые в нем обем, наружный вид, поверхность и очертание делаются пределом составляемаго о нем понятия, так что изследывающий вещество ничего сверх этого не может заимствовать из своего представления. А духовное и невещественное, будучи свободно от подобнаго ограждения, ничем не ограничиваемое, не знает предела. Но и естество духовное делится также двояко: как есть несозданное Естество, творящее существа, всегда сущее тем, что Оно есть, всегда Само Себе тождественное, не приемлющее никакого приращения и не допускающее умаления благ; так и естество, приведенное в бытие сотворением, всегда обращает взор к первой Причине существ, и причастием Сей вечно преизбыточествующей Причины соблюдается в добре, и некоторым образом непрестанно созидается, в следствие приращения благ изменяемое в нечто большее, так что и в нем не усматривается какого–либо предела, и возрастанию его в наилучшем не полагается никакой границы, а, напротив того, настоящее благо, хотя бы казалось оно особенно великим и совершенным, всегда и непрестанно служит началом высшаго и болынаго. Посему и в этом оправдывается апостольское слово, когда естество, простираясь в предняя, в забвение приходит о достигнутом прежде (Флп. 3, 13). Ибо всегда нечто большее, в преизбытке находимое добрым, к себе привлекая расположение причащающихся, не позволяет обращать взор к прошедшему, чрез наслаждение тем, что предпочтительнее, устраняя памятование о том, что ниже по достоинству. Посему, как думаем, такова мысль, которой научает нас невеста любомудрием своего повествования. Но время уже сперва припомнить самую букву богодухновенных словес, а потом заключающийся в речениях смысл привести в связь с обозренным прежде.
На ложи моем в нощех исках Егоже возлюби душа моя, исках Его, и не обретох Его, воззвах Его, и не послуша мене. Востану убо, и обыду во граде, и на торжищах, и на стогнах, и поищу, Егоже возлюби душа моя: поисках Его, и не обретох Его. Обретоша мя стрегущии, обходящии во граде: видесте ли, Егоже возлюби душа моя? Яко мало егда преидох от них, дондеже обретох, Егоже возлюби душа моя: удержах Его, и не оставих Его, дондеже введох Его в дом матере моея и в чертог заченшия мя (Песн. 3, 1–4). Почему же в сказанном находим мысли, обозренныя нами прежде догматически? В предшествующих восхождениях к Слову невеста при каждом совершившемся приращении изменяема была всегда к лучшему, и никогда не останавливалась на приобретенном ею благе. То уподоблена коням, ниспровергшим египетскаго мучителя; то еще по убранству на шее приравнена монистам и горлицам. Потом, как бы не удовольствовавшись сим, восходить еще к высшему; ибо по сладости нарда познаеть Божественное благоухание. Но и на сем не останавливается, а напротив того, и Самаго еще Возлюбленнаго, как некий благовонный аромат, примыкает к себе посреди словесных сосцев, из которых источаеть вошедшия во вместилище сердца Божественныя учения. После сего делает плодом своим Самаго Делателя, именуя Его гроздом, который в цвете своем благоухает чем–то сладостным и приятным. И, достигнув такого возраста в следствие таковых восхождений, называется доброю, делается искреннею, и красота очей ея уподобляется голубям. Потом поступает еще к большему; потому что, соделавшись более острозрительною, дознает красоту Слова, и дивится, как, подобно доброй сени, нисходит Оно на одр дольней жизни, осененное вещественным естеством человеческаго тела. При этом описывает в слове дом добродетели, для крыши котораго пригодным веществом служат кедр и кипарис, не принимающие гнилости и тления, чем и объясняется в слове постоянство и непреложность расположения к добру. При этом сравнительно показывается и видоизменение ея в отношении к лучшему; представляется она крином в тернии; а также и ею усматривается различие Жениха с другими; потому что именуется Он яблонию посреди безплоднаго леса, которая красуется доброцветностию плодов, и под тень которой пришедши невеста бывает в доме вина, утверждается в мирех, полагается в плодах яблони, прияв в сердце избранную стрелу, и от сладостнаго уязвления сама делается опять стрелою в руках Стрельца, потому что левая рука направляет вершину к горней цели, а правая удерживает стрелу при себе. После сего, как достигшая уже совершенства, и прочим изображает в слове свое усердие к Любимому, и их каким–то заклинанием возбуждая к любви.
Посему, кто не скажеть, что душа, столько возвысившаяся, находится на самом крайнем пределе совершенства? Однакоже, конец достигнутаго прежде делается началом руководства к высшему. Ибо все оное признано звуком гласа, посредством слуха, обращающаго душу к созерцанию таинств; и она начинает видеть Любимаго, являющагося очам в ином виде; потому что походит Он на серну и уподобляется молодому оленю. И сие явление не стоит неподвижным для нашего взора на месте своем, а напротив того, скачеть по горам, с окраин перескакивая на вершины холмов. И снова невеста приводится в высшее состояние: когда пришел к ней другий глас, которым побуждается оставить тень стены, стать под открытым небом, и упокоиться в покрове каменне, близ предстения (Песн. 2, 14), и насладиться весеннею красотою, собирая и цветы этого времени года зрелые, красивые и годные к обрезанию (Песн. 2, 12), и все, что только наслаждающимся дарит весна для наслаждения, при мусикийском пении птиц. И невеста, став от сего еще совершеннее, признает себя достойною явно увидеть лице Вещающаго, и от Него принять слово, не чрез других уже произносимое. При сем справедливо снова ублажить душу, сим высоким восхождением пришедшую на самую вершину вожделеваемаго. Ибо кто примыслит для блаженства что–либо большее сего — видеть Бога? Но и это, как составляет конец достигнутаго прежде, так делается началом надежды высших благ. Ибо невеста снова слышит глас, повелевающий ловцам, для спасения словесных виноградов, изловить портящих плоды зверей — оных малых лисиц. И когда сие сделано, начинается взаимное перехождение одного в другаго, и Бог бывает в душе, и душа также переселяется в Бога. Ибо говорить невеста: Брат мой мне, и аз (Песн. 2, 16) в Нем, пасущем в кринах, и человеческую жизнь из подобных тени представлений преложившем в действительность существ. Видишь ли, на какую высоту вступила невеста, по пророческому слову, приходя от силы в силу (Псал. 83, 8)? Она достигла, кажется, самаго верха в надежде благ; ибо что выше сего — пребывать в Самом Любимом, и в себя восприять Любимаго? Однако же, и сего достигши, снова сетует, как имеющая нужду во благе, и как не получившая еще предмета своего вожделения, затрудняется, огорчается, и такое затруднение души объявляет, пересказывая о том всем, описывая в слов, как находила искомое.
Все же сие дознаем из обозрения предложенных нами речений, из которых ясно научаемся, что и величие естества Божия не ограничивается никаким пределом, и никакая мера ведения не служить таким пределом в уразумении искомаго, за которым надлежало бы любителю высокаго остановиться в стремлении в предняя; а напротив того, ум, высшим разумением восходящий к горнему, находится в таком состоянии, что всякое совершенство ведения, достижимое естеству человеческому, делается началом пожеланию высших ведений.
С точностию вникни в предлагаемое обозрению слово, выразумев наперед то, что чувственное изображение в слове есть брачный чертог, и что брачное некое учреждение представляет обозрению такие предметы, любомудрие о которых, значения сих понятий перелагая в нечто чистое и невещественное, посредством представляемаго ими, излагаеть догматы, загадочным смыслом того, что делается при сем, воспользовавшись также к уяснению раскрываемаго учения. Посему, так как слово душу представило невестою, от всего же сердца, оть всей души и всею силою любимый ею Бог именуется Женихом; то в следствие сего душа, пришедши, как думала, на самую вершину уповаемаго, и помыслив о себе, что уже в самом тесном единении с Возлюбленным, совершенное приобщение блага именует ложем, и нощию называеть время тмы, именем же ночи указывает на созерцание невидимаго, подобно тому, как созерцал Моисей, быв во мраке, идеже бяше Бог (Исх. 20, 21), как говорить Пророк, положивый тму закров Свой, окрест Его (Псал. 17, 12). В сию–то тму поставленная душа научается тогда, что оть достижения совершенства она столько же далека, как и не приступавшие еще к началу; ибо говорит: как сподобившаяся совершенства, уже как бы на ложе каком упокоеваясь в постижении познаннаго, когда, оставив чувствилища, пребывала я внутри невидимаго, когда объята была Божественною нощию, ища Сокровеннаго во мраке, тогда, хотя имела я любовь к Возлюбленному, но это Любимое мною улетало из объятия помыслов. Искала я Его на ложи моем в нощех, чтобы познать, какая Его сущность, откуда ведет начало, чем оканчивает, в чем Его бытие, но не обретох Его (Песн. 3, 1), звала Его по имени, какое только можно мне было изобрести имя для Неименуемаго, но не было имени, значение котораго касалось бы Искомаго. Ибо как званием по имени мог быть обретен, Кто паче всякаго имене (Флп. 2, 9)? Посему–то говорить невеста: воззвах Его, и не послуша мене (Песн. 3, 1). Тогда познала я, что великолепию, славе и святыне Его нет конца. Посему–то снова востает и озираеть мыслию духовное и премирное естество, которое именует градом. Вот, — говорит, — Начала, Господства и поставленные для Властей Престолы (это торжество небесных, (Евр. 12, 23), которое именует она торжищем, это необъятное числом множество, которое означает именем стогн), не найдется ли между ними Любимое? Посему невеста, разыскивая, обошла весь ангельский чин, и когда в обретенных благах не увидела Искомаго, так стала разсуждать сама с собою: не постижимо ли хотя для Ангелов Любимое мною? и говорить им: не видесте ли хотя вы, Егоже возлюби душа моя? (Песн. 3, 3) Поелику же молчали на такой вопрос, и молчанием показали, что и для них непостижимо Искомое ею, то, когда пытливым умом обошла весь оный премирный град, и от духовных и безплотных сушеств не узнала Желаннаго, тогда, оставив все обретаемое, таким образом, признала Искомое по одной непостижимости того, что Оно такое; потому что в сем Познаваемом всякий постижимый признак служит для ищущих препятствием к обретению. Посему говорит: мало егда преидох от них (Песн. 3, 4), оставив всю тварь, и прошедши все умопредставляемое в твари, миновав всякий доступный путь, верою обретох Любимое, и уже не выпущу из объятия веры Обретеннаго, держась Его, пока не будет внутри чертога моего. А чертог, без сомнения есть сердце, которое тогда делается вместительным для Божественнаго вселения, когда возвращается в состояние, в каком было первоначально при образовании своем заченшею. И, конечно, кто под именем матери будет разуметь первую причину нашего устроения, тот не погрешить. Но время Божественныя вещания снова предложить в буквальном их чтении, чтобы речения сии применить к обозрнному.
На ложи моем в нощех исках Егоже возлюби душа моя, исках Его, и не обретох Его, воззвах Его, и не послуша мене. Востану убо, и обыду во граде, и на торжищах, и на стогнах, и поищу, Егоже возлюби душа моя: поисках Его, и не обретох Его. Обретоша мя стрегущии, обходящии во граде: видесте ли, Егоже возлюби душа моя? Яко мало егда преидох от них, дондеже обретох, Егоже возлюби душа моя: удержах Его, и не оставих Его, дондеже введох Его в дом матере моея и в чертог заченшия мя (Песн. 3, 1–4). После этого невеста снова по человеколюбию беседует со дщерями иерусалимскими (которых прежде сравнительно по красоте с невестою, уподобленною крину, Слово наименовало тернием) и, заклиная силами мира, возбуждает к равномерной любви, чтобы изволение Жениха и на них оказалось действенным. Но в предшествовавших беседах говорено было, какой это мир, в котором сии крепости и силы, и какое это изволение Любимаго от всего сердца и от всей души, и потому нет потребности снова длить слово о том же, когда обозрен уже нами смысл сих речений, достаточно объясняющий разумеемое в сем месте. Напротив того, поступим к продолжению слова, если только возможно будет и нам взойдти с этою совершенною голубицею, воспаряющею в высоту, и услышать голос друзей Жениховых, в чудо вменяющих восхождение ея от пустыни, которое тем паче увеличивает изумление в зрителях, что пустыня производить подобную, так что уподобляется она красоте дерев, возращенных в пустыне испарениями благоуханий; а благоуханиями были смирна и ливан. Вместе с испарением их воставала и восходила вверх какая–то пыль утонченных ароматов, так что вместо сей пыли, растворенной в воздух, было разлияние тонких ароматных частиц, от чего пыль подымалась прямо ввыспрь. Читается же сие так: кто сия восходящая от пустыни, яко стебло дыма кадящее смирну и ливан, от всех благовоний мироварца? (Песн. 3, 6)
Если кто с точностию вникнет умом в сказанное, то найдет истину учения, какое мы предуразумели. Как в зрелищных представлениях, хотя одни и теже показывають в действии данную им историю, однако же зрители об изменяющих разными личинами на себе вид думают, что являются совершенно другие, и в являющемся теперь рабом и частным человеком вскоре потом видят витязя и воина, и он опять, оставив наружность подчиненнаго, принимает на себя вид военачальника, или даже облекается в образ царя: так и преспевая в добродетели, не всегда с теми же отличительными чертами остаются, по причине вожделения высших благ, преобразующиеся от славы в славу (2 Кор. 3, 18); а напротив того, непрестанно, по мере преспевающаго в каждом совершенства сих благ, просиявает особая некая свойственная жизни черта, из одной изменяемая в другую, по причине приращения благ. Посему, кажется мне, удивляются видимому друзья Жениховы, которые еще прежде знали невесту доброю, да и доброю в женах; а после того убрали красоту ея подобием злата с пестротами сребра (Песн. 1, 10). Теперь же, не усматривая в ней ни одного из прежних признаков, но отличая по высшим приметам, дивятся не только восхождению, но и тому, откуда могла придти. Ибо сие служит к усилению изумления, что видят восходящею одну, и видимое уподобляется роще дерев. Им представляется, что видят выбегающия и вырастающия в высоту стебла. Питает же стебла сии не тучная какая–либо и орошенная, но сухая, жаждущая, пустынная земля. Посему, в чем же укореняются стебла сии, и из чего растут? Корнем для них служит ароматная пыль, а поливкою — испарение благоуханий, орошающее рощу сию благовонием. Сколько слово сие заключает в себе похвал той, о которой засвидетельствовано подобное сему? Ибо то, что друзья Жениховы спрашивают друг друга о представшей их взорам, как об являющейся в ином виде, а не в прежнем образе, служит совершеннейшею похвалою преспеяния в добродетели, свидетельствуя о великом изменении и превращении в невесте к лучшему. Ибо вот слова удивляющихся, вменяющих в чудо этот, вопреки обычному виду цветущий образ: сия восходящая от пустыни (Песн. 3, 6), как прежде мы видели, была черна, как же сложила с себя очерненный образ? От чего белоснежным блистает у нея лице? Пустыня, как видно, причиною сего; она сделала то, что невеста, подобно некоему отпрыску, дала побеги в высоту; пустыня претворила ее в такую красоту. Ибо не по случайному какому стечению обстоятельств, и не по безразсудному какому жребию произошло восхождение ея на высоту; напротив того, собственными трудами, воздержанием и попечительностию приобрела красоту. Так некогда и душа Пророка соделалась жаждущею Божественнаго источника, потому что плоть его, став пустою, непроходною и безводною, ощутила в себе Божественную жажду (Псал. 62, 2). Посему и невеста тем самым, что восходит от пустыни, представляет о себе свидетельство, что внимательностию и воздержанием вошла на великую и значительную высоту, и чрез это соделалась чудом для друзей Жениховых, которые красоту ея объясняют многими подобиями, потому что одним и объять всего не возможно. И сперва уподобляют изящество ея стеблу, и стеблу не одному, но делается уподобление примечаемых в ней чудес множеству дерев, чтобы изображением рощи указывалось на многовидность и разнообразие добродетелей. Потом в образ красоты берется кадильный дым, и притом не простый, но срастворенный из смирны и ливана, чтобы в одно сливалась приятность их испарений, которыми изображается красота невесты. Новою для нея похвалою служит соединение сих ароматов. Смирна употребляется при погребении тел, а ливан по некоей причине освящается в честь Богу. Посему намеревающийся посвятить себя на служение Богу не иначе будеть ливаном, воскуряемым Богу, как разве соделается прежде смирною, то есть, умертвит уды свои, яже на земли (Кол. 3, 5), спогребшись Приявшему за нас смерть, и умерщвлением удов на собственную свою плоть восприяв ту смирну, которая употреблена при погребении Господа (Иоан. 19, 39). А по совершении сего всякий вид благоуханий добродетели, раздробленных, как бы в ступе какой, в колесе жизни, производит из себя ту сладостную пыль, которую прияв с дыханием, благоуханным делается тот, кто исполнен умащеннаго миром духа.
После свидетельства о красоте невесты, друзья Жениховы, уготовители чистаго брачнаго чертога, невестоводители непорочной невесты, показывают ей красоту царскаго одра, чтобы тем паче привести невесту в вожделение Божественнаго и пречистаго сожительства с Царем. Вот описание царскаго одра, на который указывая невесте, представляют ея взору изображаемое в слове; ибо говорят: се одр Соломонь, шестьдесят сильных окрест его от сильных Израилевых, вси имуще оружия, научены на брань: муж, оружие его на бедре его, от ужаса в нощех (Песн. 3, 7–8). Что сего сказания об одре нет в истории, ясно будет всякому из повествуемаго о Соломоне в смысле плотском. Слово со всею точностию описало его дворец, трапезу и прочий образ жизни в продолжение царствования, но об одре не сказало ничего новаго и особеннаго; почему по всей необходимости должно не останавливаться в толковании на букве, но при тщательнейшем некоем наблюдении, отступив мыслию от вещественнаго значения выражений, обратить речь к духовному обзору. Ибо какое украшение для брачнаго одра составят шестьдесят оруженосцев, у которых все сведения — военные страхи, а наряд — примкнутое при теле оружие и окружающий их ночный ужас? Писание словом ужас, какой, как говорит оно, бываеть при сих оруженосцах, указывает на изступленную боязнь, происходящую от каких–то ночных страхований. Посему всячески должно отыскать в сих речениях какий–либо смысл, сообразный с обозренным прежде. Какой же это смысл? Кажется, что Божественная красота имееть в страшном достолюбезное, делающееся видимым по противоположности красоте телесной: ибо в телесной красоте влечеть к вожделению, что приятно и усладительно на взгляд и далеко от всякаго страшнаго и раздраженнаго расположения, а оная пречистая красота есть страшное и изумляющее мужество. Поелику страстное и нечистое вожделение телесное, имеющее себе место в плотских членах, как разбойничье какое скопище, строит козни уму, и, уловив его в свою волю, нередко отводит в плен, а это враждебно Богу, потому что, как говорит Апостол, мудрование плотское вражда на Бога (Рим. 8, 7), то следует любви Божественной происходить от противоположнаго телесному вожделению, так что, если последним правят во всем вольность, изнеженность и прихотливая роскошь, то устрашающее и изумляющее там мужество делается пищею Божественной любви. Ибо когда мужественное раздражение приведет в ужас и обратит в бегство засаду сластолюбия, тогда откроется чистая красота души, неоскверняемая никакою страстию телеснаго вожделения. Посему–то брачный одр Царя по необходимости окружается оруженосцами, которых опытность в военном деле и готовый при бедре меч производять ужас и изумление в омраченных помыслах, подстерегающих ночью и во мраце состреляющих правыя сердцем (Псал. 10, 2).
А что вооружение остеняющих собою одр истребительно для нечистых удовольствий, это сделается явным из описания, в котором слово говорит: вси научени на брань: муж, оружие его на бедре его (Песн. 3, 8). Ибо действительно, имея при бедре привешенный меч, знающим можно, как надлежит, вести брань с плотию и кровию. Да и не несведущий в понятиях и загадочных речениях Писания по упоминанию о бедре понимает, конечно, означаемое, а именно, что меч есть Слово. Посему, кто препоясан сим страшным оружием (разумею меч целомудрия), тот достолюбезен для нетленнаго одра, есть один от сильных Израилевых, и достоин быть включенным в список шестидесяти.
Не сомневаемся же, что и число сие имеет некое таинственное значение; но это явно тем одним, кому благодать Духа открывает сокровенныя тайны. А мы утверждаем, что хорошо довольствоваться с перваго взгляда усматриваемыми понятиями в слов, как узаконяет Моисей о Пасхе, чтобы употребившие в снедь снаружи видимыя мяса не касались с пытливостию скрытаго в костях неясности (Исх. 12, 10). Если же кто вожделевает сокровенных мозгов слова; то пусть просит у Открывающаго сокровенное достойным. Впрочем, чтобы не показалось, будто бы обходим слово без упражнения в нем, и не радим о Божией заповеди, повелевающей испытывать Божественныя Писания (Иоан. 5, 39), сказанное о шестидесяти разсмотрим так. Двенадцать жезлов, по числу колен Израилевых, берутся Моисеем по повелению Божию; но всем предпочтен один — как один из всех прозябший. Еще Иисусом Навином берутся из Иордана камни в равном числе с коленами Израильскими, и ни один из них не отринут; потому что все равночестно приняты во свидетельство таинства на Иордане. В сих повествованиях большая есть последовательность; ибо слово показывает некоторое преспеяние народа в усовершенствовании себя, так что в начале законодательства нашелся один живый и прозябший жезл, прочие же отринуты, как сухие и безплодные; но по прошествии долгаго времени, когда Израильтяне достигли точнейшаго уразумения законных им предписаний, так что поняли и приняли вторично совершенное над ними Иисусом обрезание, и когда каменный нож отъял у них все нечистое (конечно же, разумный слушатель понимает означаемое камнем и ножем): тогда, по утверждении в них законной и добродетельной жизни, как и естественно было ни один из камней, взятых во имя колен Израильских, не оказался отринутым. Поелику же всегда надлежит домогаться приращения благ, то, когда прошло время, и сил у Израиля стало больше, ибо в предлагаемых нам изречениях Слово говорить о сильных Израилевых, тогда берется уже не по одному камню, или по одному жезлу, от колена, но, вместо жезлов или камней, от каждаго колена по пяти мужей воителей, наученых на брань от сильных Израилевых, вооруженных мечем, остеняющих собою Божественный одр, из которых посему ни один не бывает отринут, потому что пять делаются начатком каждаго колена, а это число, двенадцать раз само с собою сложенное, даеть полное число шестидесяти. Посему надобно, чтобы от каждаго колена пять страшных оружеборцев стали хранителями царскаго одра, так что если бы не доставало до пяти, то не полное число не было бы и принято. Но нельзя ли, наконец, отважиться на разсуждение о том, почему от каждаго колена вооружаются пять воинов, чтоб стать стражами царскаго одра, и почему каждый из сих пяти по вооружении, привесив к бедру меч, делается страшным для противоборствующих? Или очевидно, что единый камень заменяють сии пять оруженосцев, служа каждому чувству, имеющему при себе, на поражение сопротивников, приличный ему меч? Меч ока — всегда взирать ко Господу, смотреть прямо и не оскверняться никаким нечистым зрелищем. Оружие также слуха — слышание Божественных учений и то, чтоб не принимать никогда слухом суетнаго слова. Так можно и вкус, и осязание, и обоняние вооружить мечем воздержания, обороняя, чем следует, каждое из чувств. От сего оцепенение и ужас поражают потемненные помыслы, для которых удобным временем строить козни душам служат ночь и тма, когда, — сказал Пророк, — дикие звери с лукавством отискивають себе пищу в стадах Божиих, ибо сказано: положил еси тму, и бысть нощь, в нейже пройдут вси зверие дубравнии: скимни рыкающии восхитити (Псал. 103, 20–21). Поелику же всякий спасаемый делается Израильтянином: не вси бо сущiи от Израиля, сии Израиль (Рим. 9, 6); напротив того, всякий, кто устремляет взор к Богу, за такой образ действия в собственном смысле называется сим именем; взирающему же на Бога свойственно ни одним из чувствилищ не обращаться ко греху (ибо никто не может взирать на двоих господ, но одному надлежит стать ненавистным, если соделается любимым другой), то посему самому все спасаемое делается единым одром Царя. Ибо, если вс, соделавшиеся чистыми сердцем узрят Бога (Матф. 5.8), видящие же Бога в собственном смысле бывают и именуются Израилем; а сие имя по какой–то сокровенной причине делится на двенадцать колен: то полнота спасаемых прекрасно слагается из числа шестидесяти, когда от каждой части берется один, и этот один по числу чувств делится на пять оруженосцев. Посему–то один Царев одр окружают все облекшиеся во вся оружия Божия (Ефес. 6.11), все соделавшиеся Израилем, и поелику, при представляемой повсюду в двенадцати коленах доблести, вся полнота доблестных слагается из числа шестидесяти; то все единым чиноначальником, Екклесиастом и Женихом счиняемые в общение единаго тела, будут единый полк, единое воинство, единый одр, то есть, одна Церковь, один народ, одна невеста.
А что одр есть упокоение спасаемых, сему научаемся словом Господа, Который без стыда ударяющему в двери ночью говорит: уже двери затворены суть, и дети со мною на ложи сут (Лук. 11, 7). Прекрасно же слово тех, которые с оружием правды преуспели в безстрастии, именует детьми, давая нам знать чрез это, что благо, приобретаемое нашею попечительностию, есть не какое–либо иное с сообщенным естеству в начале. Ибо и препоясавшийся мечем внимательностию к добродетельной жизни устранил от себя страсть; и младенец по возрасту нечувствителен к таковой страсти, потому что незрелость возраста не дает страсти места. Посему вместе можно дознавать, что есть при одре оруженосцы, и что покоющиеся на одре — младенцы; потому что одно безстрастие в тех и других; одни не принимали в себя страсти, а другие удалили ее от себя; одни еще не познали, а другие, обратившись и став детьми по безстрастию, воставили себя в первобытное состояние. Посему блаженное дело оказаться в числе их, соделавшись или младенцем, или оруженосцем, или истинным Израильтянином: Израильтянином, как в чистоте сердца взирающим на Бога; оруженосцем, как в безстрастии и чистоте охраняющим царев одр, то есть, сердце свое, и младенцем, как покоющимся на блаженном ложе о Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава во веки веков! Аминь.
Беседа 7
(3, 9) Одр сотвори себе Царь Соломон от древес ливанских. (10) Столпы его сотвори сребряны, и восклонение его злато, восход его багрян, внутр его камение постлано, любовь от дщерей иерусалимских. (11) Дщери Сиони, изыдите и видите в Царе Соломоне, в венце, имже венча Его мати Его, в день обручения Его, и в ден веселия сердца Его. (4, 1) Се еси добра, ближняя Моя, се еси добра: очи твои голубине, кроме замолчания твоего: власи твои, яко стада козиц, яже открышася от Галаада. (2) Зубы твои, яко стада остриженых, яже изыдоша из купели, вся двоеплодны, и неродящия нест в них. (3) Яко вервь червлена устне твои, и беседа твоя красна; яко оброщения шипка ланиты твои, кроме замолчания твоего. (4) Яко столп Давидов выя твоя, создан в Фалпиофе: тысяща щитов висит на нем, вся стрелы сильных. (5) Два сосца твоя яко два млада близнца серны, пасомая в кринах, дондеже дхнет день, и подвигнутся сени. (6) Пойду себе к горе смирней, и к холму Ливанску. (7) Вся добра еси, ближняя Моя, и порока несть в тебе.
Царь Соломон по многому приемлется в образе истиннаго Царя — разумею же многое, во Святом Писании повествуемое о нем в лучшую сторону. Ибо называется мирным, имеет безмерную мудрость, созидает храм, царствует во Израиле и судит народ в правде, и происходит от семени Давидова, да и царица Ефиоплян приходит к нему. Все сие и подобное сему сказуется о нем прообразовательно, преднаписует же силу Евангелия. Ибо кто столько мирен, как убившiй вражду (Ефес. 2, 16), пригвоздивший на кресте врагов Своих (Кол. 2, 14), нас, лучше же сказать, мир примиривший Себе (2 Кор. 5, 19), и средостение ограды разоривый, да оба созиждет Собою во единая нового человека, творя мир (Ефес. 2, 14–15), проповедавший мир дальним и ближним (Ефес. 2, 17) чрез благовествующих благая (Рим. 10, 15)? Кто таковый здатель храма, как положивший основания его на горах святых (Псал. 86, 2), то есть, на Пророках и Апостолах, назидающий же, как говорит Павел, на основании Апостол и Пророк (Ефес. 2, 20) камение живо (1 Петр. 2, 5), камни одушевленные, которые, по слову пророческому (Зах. 9, 16) [20], сами собою катятся, чтобы сложиться в стены, и чтобы, когда ни единством веры и союзом любви прилажены будут один к другому, возросла чрез них Церковь Святая, и совершилось жилище Божие Духом (Ефес. 2, 21–22)? А что мудростию своею Соломон означает истинную Премудрость, тому, принимая во внимание историю и действительность, не станет противоречить никто; ибо история свидетельствует о Соломоне, что он преступил за пределы человеческой мудрости, вместив на широте сердца ведение всего, так что и предшественников превзошел и для потомков стал недостижим, И Господь по естеству Своему, по тому самому, что такое Он, есть Сущность истины, премудрости и силы. Посему, так как сказано Давидом: вся премудростию сотворил еси (Псал. 103, 24), Божественный Апостол, толкуя Пророка, говорит, что Тем создана быша всяческая (Кол. 1, 16), и сим дает знать, что словом: Премудрость Пророк означает Господа. А что Господь есть Царь Израилев, это засвидетельствовано и врагами Его, надписавшими на кресте признание Его царскаго сана: Сей есть Царь Иудейск (Лук. 23, 38). Ибо принимаем сие свидетельство, хотя думают иные, что оно умаляет величие державы, ограничивая владычество Господа царством Израильским. Но на деле выходить не так; напротив того, сие надписание на кресте, упоминая о части, восписует начальство над всем уже тем, что не прибавляет: Сей есть Царь одних иудеев. Ибо надпись без ограничений, засвидетельствовав начальство Его над иудеями, в признании сем не сказав того ясно, подразумевала и державу над всеми; потому что Царь всей земли, конечно, имеет владычество и над частию ея. И заботливость Соломона о правдивом суде означает истиннаго Судию всего мира, Который говорить: Отец не судит никомуже, но суд весь даде Сынови (Иоан. 5, 22), и: не могу о Себе творити ничесоже, но, якоже слышу, сужду: и суд Мой праведен есть (Иоан. 5, 30). Ибо вот самый крайний предел правдиваго суда — не от себя, по какому–либо пристрастию, давать решение подсудимым, но сперва выслушивать подлежащих суду, а потом уже делать о них приговор. Посему–то сила Божия признает нечто и для нея невозможным; ибо Истина не может уклонить суд от правды. А что Господь по плоти от семени Давидова, и что предуказуется сие рожденным от Давида, о том, как о признаваемом всеми, умолчим в слове.
Тайна же, заключающаяся в сказании о царице ефиопской, почему, оставив ефиопское царство и прошедши столь великия разстояния, поспешает она к Соломону по славе о мудрости его, принося царю в дар камение драгое, золото и сладости ароматов (3 Цар. 10, 10), соделается ясною для познавшаго, к какому из евангельских чудес она относится. Ибо кто не знает, что первоначально церковь из язычников прежде, нежели соделалась Церковию, черна была идолослужением, и великим растоянием неведения (Деян. 17, 30) отделялась оть ведения истиннаго Бога? Но когда явися благодать Божия (Тит. 2, 11), возсияла Премудрость, и истинный Свет излиял лучи свои к седящим во тме и сени смертной, тогда, поелику Израиль смежил очи для Света, и сам себя соделал далеким от причастия благ, приходят ефиопляне — с верою притекающие язычники, и бывшии иногда далече стали близ (Ефес. 2, 3), омыв черноту таинственною водою, так что Ефиопия предваряет руку свою к Богу (Псал. 67, 32), и дары приводит Царю (Псал. 71, 10): ароматы благочестия, злато Боговедения и камение драгое делания заповедей и добродетелей.
Но что имея в виду, с сего начинаю предстоящее нам обозрение речений, объясню это в слове, предложив уже наперед буквальное чтение Божественных словес, которое таково: одр сотвори себе Царь Соломон от древес ливанских. Столпы его сотвори сребряны, и восклонение его злато: восход его багрян, внутрь его камение постлано, любов от дщерей иерусалимских (Песн. 3, 9–10). Посему, как в изследованном прежде о Соломоне Слово нашло, какими чертами в этом лице описывается таинство храма, так и уготовлением одра означается домостроительство о нас, потому что Бог многообразно бывает в достойных Его, столько бывая в каждом, сколько возимеет каждый силы и достоинства. Ибо один делается некиим местом Божиим, а другий — домом, иный — престолом, а иный — подножием; а еще иный делается колесницею или послушным конем, приемлющим на себя добраго Всадника и в угодность Правящему совершающим свой бег. А как научаемся теперь, иный бывает и одром [21] Его, именно же, кто премудростию Его устрояется не только из дерев ливанских но и из золота, серебра, багряницы и камней, что прилично каждой части, и чем приводится в действие любовь Божия, потому что не всякий вмещает действенность любви, но разве о ком известно по жизни, что это дщерь вышняго свободнаго Иерусалима (Гал. 4, 26). Посему, что носящий в себе Бога служить одром Обитающему и Возседающему в нем, это может быть ясным и прежде наших объяснений; потому что кто, подобно святому Павлу, живет не к тому сам, но имеет живущаго в нем Христа (Гал. 2, 20), и представляет доказательство глаголющаго в нем Христа (2 Кор. 13, 3), тот в собственном смысле называется и бывает одром для Носимаго на нем и им Держимаго. Но не в этом состоит искомое нами; надлежит же паче со тщанием выразуметь, что означается разнообразием и разнородностию вещества.
Итак, почему на устроение одра вместе с золотом, серебром, багряницею и каменьями берется и дерево? Между тем, премудр архитектон Павел вместе с сеном и тростием, и дерево признает негодным к построению дома, как истребляемое искушающею дело губительною силою огня (1 Кор. 3, 10–13). Но мы знаем некоторый род дерева, не остающагося тем, что оно есть, но превращающагося в золото, или серебро, или что–либо иное драгоценное. Ибо в велицем дому Божием, — говорит Апостол, — есть сосуди злати и сребряни по естеству, давая сим, как думаю, разуметь тварь безплотную и духовную, а также древяни и глиняни, означая ими, может быть, нас, которых преслушание оземленило и сделало глиняными, а грех вкушением от древа из золотых сосудов обратил в деревянные. По достоинству же вещества распределяется и употребление сосудов: те, которые из вещества более дорогаго, назначаются в честь, а другие оставляются на служение нечестное. Но что говорит о таких сосудах Павел? Что во власти сосуда, по собственному его произволению, или из деревяннаго сделаться золотым, или из глинянаго серебряным; ибо Апостол говорит: аще кто очистит себе, будет сосуд в честь Владыце, на всякое дело благое уготован (2 Тим. 2, 20–21). Посему, сказанным приводимся, может быть, несколько к предлагаемому в слове умозрению. Гора Ливан во многих местах Святаго Писания упоминается в показание сопротивной силы; так, когда говорится у Пророка: стрыет Господь кедры ливанския, и истнит я и Ливан, яко тельца (Псал. 28, 5–6), очевидно, того тельца, который в пустыне стерт в прах Моисеем, и по мелкости частиц стал удобопиемым для Израильтян. Ибо пророчеством объясняется здесь, что, не только порожденныя сопротивною силою бедствия, но и самая гора — первоначальный корень зла, этот Ливан, питающий вещество таковых дерев, приведены будут в ничто. И так мы некогда были деревами на Ливане, пока укоренялись в нем порочною жизнию и прелестию идольскою; но поелику словесною секирою ссечены мы с Ливана и стали в руках Художника, то соделал Он из нас одр Себе, естество дерева пакибытием претворив в серебро и золото, в доброцветную багряницу и в блестящие камни.
И как, — говорить Апостол, — Бог каждому в меру его разделяет дары Святаго Духа, одному дает пророчество, по мере веры (Рим. 12, 6), а другому — другое какое–либо из действ, к какому каждый сроден и какую может приять благодать, или став оком тела Церкви, или будучи поставлен на место руки, или подпирая тело, как нога, так и в устройстве одра один делается столпом, другой восходом, иный же, как часть служащая для головы, наименован восклонением, а есть и такие, которые назначены внутрь. Для всего этого, по какому–то закону, примышляет Художник неоднородное вещество на убранство, но, хотя все украшается красотою, однако же для каждой из сих частей примышляется различная и соответственная краса. Почему столпы одра — серебро; а восходы их — багряница; восклонение же под головою, на которое Жених приклоняет главу Свою, — из золота, и вся внутренность испещрена драгоценными камнями. А потому под столпами разуметь должно столпов Церкви, у которых слово в точности сребро чисто и разжжено (Псал. 11, 7). Багряница же — это в высоком житии восшедшие на царство; потому что багряница почитается отличительным признаком царскаго достоинства, И владычественное его, на что Устроивший одр восклоняеть главу Свою, — это золото чистых догматов. Все же невидимое и сокровенное украшается чистою совестию драгоценных камней, и из них всех составляется любовь от дщерей иерусалимских (Песн. 3, 10).
А если угодно кому одром назвать всю Церковь, и части одра разделит Он, по различиям действий каким–либо лицам, как говорено было о сем прежде; то и в сем случае весьма удобно будет Слову части одра применить к каждому чину, установленному в Церкви, как говорит Апостол: положи Бог в Церкви первее Апостолов, второе Пророков, третие учителей, потом и все один за другим чины (1 Кор. 12, 28), к совершению святых (Ефес. 4, 12). Посему под именами веществ, служащих к устройству одра, разумеются священники и учители, и честное девство, внутри одра чистотою добродетелей блистающее, как бы какими лучами камней. Но о сем довольно.
Последующая же часть слова заключает в себе увещание невесты дщерям иерусалимским. Как великий Павел почитал для себя ущербом, если не соделает всех (1 Кор. 7, 7) причастниками собственных своих благ, а потому слушающим говорил следующее: будите якоже аз: зане и аз был некогда подобен вам (Гал. 4, 12), и: подражатели мне бывайте, якоже аз Христу (1 Кор. 11, 1): так и человеколюбивая невеста, сподобившись сама Божественных Владычних таин, когда увидела ложе Царя и соделалась Его одром, взывает отроковицам (а ими могут быть души спасаемых), говоря: долго ли останетесь заключенными в вертепе этой жизни? Изыдите из прикровений естества, видите дивное зрелище, став дщерями Сиона, зрите венец весьма приличный главе Царя, который возложила на него матерь по слову Пророка, говорящаго: положил еси на главе Его венец от камене честна (Псал. 20, 4). Конечно же, никто из осмотрительных в суждении, когда речь о Боге, не будет строго разбирать значения имени, почему вместо Отца упоминается матерь, в том и другом речении находя один смысл, потому что Божество и не женскаго, и не мужескаго пола. Да и как о Божестве помыслить что–либо подобное, когда и в нас — людях не на всегда остается это, а, напротив того, когда вси делаемся едино о Христе, тогда и признаков сего различия совлекаемся с целым ветхим человеком (Гал. 3, 28)? Посему–то всякое, какое ни найдется, имя равносильно для указания на естество нетленное, потому что ни женский, ни мужеский пол не сквернят своим именованием значения, какое имеет естество пречистое. Посему–то в Евангелии говорится, что Отец творит браки (Матф. 22, 2), и Пророк Богу говорит: положил еси на главт Его венец от камене честна: а здесь сказано, что венец на Жениха возлагается матерью. Поелику брак один, и невеста одна, и Одним возлагается на Жениха венец, то вовсе нет разности, назвать ли единороднаго Бога Сыном Божиим, или, по выражению Павла, Сыном любве Божией (Кол. 1, 13); потому что по тому и другому именованию одна сила уневещивает Его для сожительства с нами. Посему невеста говорит отроковицам: изыдите и будьте дщерями Сиона, чтобы с высокой стражбы (так толкуется Сион) возмогли вы увидеть чудное зрелище — венценоснаго Жениха. Венцем же для Него делается Церковь, вокруг обемлющая главу Его одушевленными камнями. Соплетатель таковаго венца есть любовь, и не погрешит, кто матерью назовет ее, или любовию; потому что, по слову Иоанна, Бог Любы есть (1 Иоан. 4, 8). Этим венцем, — сказует невеста, — увеселяется Жених, восхищаясь брачным сим украшением: ибо радуется, как действительно соделавший Церковь Своею сожительницею, увенчаваемый добродетелями отличнейших в ней. Но лучше присовокупить самыя Божественныя изречения, буквально читаемыя так: дщери Сиони, изыдите и видите Царя Соломона в венце, имже венча Его мати Его, в день обручения его, и в день веселия сердца Его (Песн. 3, 11).
Прияв таковое человеколюбие невесты, по которому она, в подражание Владыке, сама хощет всем спастися и в разум истины приити (1 Тим. 2, 4), Слово соделывает ее еще более досточестною, став проповедником и живописателем ея красоты. Ибо не просто изрекается похвала красе, заключающая в себе какия–либо общия хвалы красоте; но напротив того, Жених дает место в слове всем порознь частям, каждому члену сравнением и уподоблением восписуя свою особую похвалу. Говорит же так: се еси добра, ближняя Моя, се еси добра (Песн. 4, 1), ибо, подражавшая человеколюбивому изволению Владыки, и повелевшая отроковицам выдти каждой, подобно Аврааму, от земли своей и от рода чувствилищ своих (Быт. 12, 1), чтобы увидеть чистаго Жениха, носящаго венец — Церковь, действительно делается она близкою к Владычней благости, любовию к ближнему приблизившись к Богу. Посему говорит ей Слово: добра еси, добрым произволением приблизившись к Благому. Повторение же похвалы показывает нелживость свидетельства: ибо сугубым свидетельством подтверждать истину определяет Божественный закон. Посему сказано: се еси добра, ближняя Моя, се еси добра.
Но поелику вся Церковь есть едино тело Христово, а во едином телеси, как говорить Апостол, мнози уды, уды же вси не тожде имут делание (Рим. 12, 4–5), а напротив того, одного создал Бог в теле оком, а кто–либо другий насажден быть ухом, некие же по действию сил делаются руками, а некие, носящие бремена, называются ногами, а иное будет делом вкуса и обоняния, и по порядку всего, из чего составляется человеческое тело, и в общем составе тела Церкви можно находить уста, зубы, язык, сосцы, чрево, выю, а как говорит Павел, и даже мнящиися неблагообразнии быти в теле (1 Кор. 12, 22–24); то посему точный ценитель красоты каждому из членов, нравящихся Ему в целом теле, слагает особую и приличную похвалу.
Похвалы сии начинаются с главнейших членов. Ибо в членах наших что дороже глаз? Они приемлют в себя свет; ими приобретается познание друзей и неприятелей; ими различаем свое и чужое; они бывают наставниками и учителями во всяком делании, природными и неотлучными путеводителями в непогрешительном шествии; их положение выше других чувственных орудий показывает предпочтительность доставляемой ими нам пользы. Без сомнения же, известно слушателям, к каким членам Церкви относится похвала очам. Оком был Самуил прозорливец (1 Цар. 9, 9), ибо так его называли; оком был Иезекииль, поставленный от Бога быть стражем (Иез. 3, 17) ко спасению им охраняемых; око — Михей видящий и Моисей богоглаголивый, наименованный посему и богом (Исх. 7, 1); очи — все поставленные в путеводство народу, которых современники именовали прозорливыми (4 Цар. 14, 13). И ныне занимающие место сие в теле Церкви и поставленные епископствовать, в собственном смысле, именуются очами, если неуклонно будут взирать на Солнце правды, никогда не притупляя зрения делами темными, и если станут различать свое от чужаго, зная, что чуждо естеству нашему все видимое и временное; свое же ему то, что предлежит нам по упованию, и обладание чем навсегда пребывает неотемлемым. Дело очей — распознавать дружественное и неприязненное, чтобы истиннаго друга любить от всего сердца и всею душею и силою, совершенную же ненависть (Псал. 138, 22) оказывать врагу жизни нашей. Да и наставник в том, что должно делать, учитель полезному, руководитель в шествии к Богу в точности исполняет дело чистаго и здраваго ока, подобно телесным очам, предуказуя высокое житие прочим. Потому–то Слово с сего начинает восхвалять красоту невесты, и говорит очи твои голубине [22] (Песн. 4, 1). Ибо видя, что поставленные на место очей не прикосновенны к злу, и одобрив простоту и невинность их нрава, наименовало их голубями; так как отличительное свойство голубей — невинность (Матф. 10, 16). Или, может быть, Слово изрекает очам некую, подобную следующей, похвалу: поелику изображения всего видимаго, падая на чистую зеницу, приводят в деятельность зрительную силу, то по всей необходимости, на что кто смотрит, образ того восприемлет глазом, подобно зеркалу, изображая в себе очертание видимаго. Посему, когда приявший в Церкви власть заменять зрение не обращает взоров ни на что вещественное и телесное, тогда преуспевает в нем духовная и невещественная жизнь. А таковая жизнь образуется благодатию Святаго Духа. Посему, самая совершенная похвала сим очам, если образ их жизни сообразен благодати Святаго Духа, потому что Дух Святый — голубь.
Восхваляются же два ока, чтобы в похвале участвовал целый человек: и видимый, и умопредставляемый. Посему–то Слово присовокупило к похвале и другое преимущество, сказав: кроме замолчания твоего (Песн. 4, 1), ибо в доброй жизни иное явно, так что известно и людям, а другое сокровенно и тайно, видимо единому Богу. Посему, Кто видить несоделанное (Псал. 138, 16) и усматривает сокровенное, Тот свидетельствует о восхваляемом лице, что в нем умалчиваемое значительнее видимаго, когда говорит: очи твои голуби, кроме замолчания твоего. Ибо к тому, что уже восхвалено, не принадлежить то, чему безмолвно удивляются.
Но Слово, поступая далее, постепенно ведет похвалу красоте, обращая речь к волосам, и говорит: власи твои, яко стада козиц, яже открышася от Галаада (Песн. 4, 1). Впрочем, прежде надлежит выразуметь естественное свойство волос, чтобы потом познать, какую похвалу невесте приносит в дар Слово, похваляя власы. Итак, волосы на голове женской именуются у Павла славою, и, как говорит он, даны жене вместо одеяния (1 Кор. 11, 15). А приличным для жен одеянием признает он стыдливость и целомудрие, написав буквально так: подобает женам, обещавающимся благочестию, со стыдением и целомудрием украшать себя (1 Тим. 2, 9–10). Посему, под волосами на голове, которые растит жена, мудростию Павловою разумеются стыдливость и целомудрие. Неприлично же и подумать, что у души, дающей обет жить богочестиво, кроме стыдливости и целомудрия, другая какая–либо слава наименована волосами, которых если не имеет жена, срамляет главу свою, как говорит Апостол (1 Кор. 11, 5). Если же так любомудрствовал о волосах Павел, то Апостолову мысль можно будет внести и в похвалу, какая в слове о волосах восписуется Церкви, по изречению нами разсматриваемому, которое говорит: власи твои, яко стада козиц, яже открышася от Галаада. Ибо Слово вменяеть сим в похвалу добродетельное житие. Но к слову о волосах следует присовокупить и то, что волосы лишены всякаго жизненнаго чувства. Ибо к приращению похвал немало служит и это, что в волосах неть ощущения ни утомления, ни удовольствия. Тело, из котораго они вырастают, чувствует боль, когда их выщипывают; самый же волос, режут ли его, или жгут, или тщательно сводять каким–либо притираньем, не чувствуеть того, что с ним делается. А не иметь чувства свойственно мертвым. Посему, в ком не возбуждает никакого ощущения вожделеваемое в этом мире, кого не надмевают слава и честь, не оскорбляют обида и безчестие, кто, напротив того, сохраняет себя одинаковым при том и другом из противоположных на него действий, тот есть восхваляемый у невесты волос, соделавшийся совершенно мертвым и неподвижным для всего, что в мире сем так или иначе будет на него действовать.
Если же особенное преимущество волосов приравнивается стадам козиц, яже открышася от Галаада, то, хотя не могли еще мы выразуметь, что надлежит знать о сем в точности, однакоже догадываемся, что, как царь, ливанския древа претворив в золото, серебро и багряницу, уготовал себе одр, так добрый Пастырь умел овладеть стадами коз, и в стада овец превратить эти козьи стада с горы Галаад. А это — имя горы иноплеменников, открывающей в себе такую благодать, что и тех, которые из язычников последовали за добрым Пастырем, соделал власами, украшающими невесту, которыми, на основании предварительнаго взгляда, означаются целомудрие, стыдливость, воздержание и умерщвление плоти.
Или, может быть, под такой взгляд на коз подходит и долгое время любомудрствовавший на горе Галаад Илия, который всего более обучал воздержною жизнию, был нищ по виду, оброс волосами, вместо мягкой какой–либо одежды прикрывался козьею кожею, Посему все, подобно оному Пророку, преспевающие в своей жизни, делаются украшением Церкви, по преобладающему ныне способу любомудрия, как бы стадами, друг с другом трудясь в деле добродетели. А что Галаад открывает такия стада, в этом заключается еще больший избыток досточуднаго, потому что от языческой жизни обратились мы к любомудрию по Богу. Не Сион, святая Его гора, обучил таковому житию, но народ, посвятивший себя идолам, столько изменился в жизни, что преспеяниями в добродетели украсил главу невесты.
Потом в ряду похвал Слово упоминаеть и зубы, умалчивая пока о похвалах устам и губам, чего не должно оставлять неизследованным. Так почему же в похвалах зубы упоминаются прежде уст? Иный, может быть, скажет, с намерением в большем изяществе показать красоту, что в описании зубов скрытным образом указуется на улыбку уст; но я разсуждаю, что в похвалах красота зубов по другим видам предшествует хвалам уст. Ибо Слово после этого не оставило не восхваленными и уста, сказав: яко вервь червлена устне твои, и беседа твоя красна (Песн. 4, 3). Посему что же заключаю об этом? В науках наилучший порядок — сперва выучиться, а потом говорить. А кто назовет науки снедями души, тот не погрешит против истины. Как телесную пищу, размягчая зубами, делаем ее пригодною для желудка, таким же образом и в душе есть некая на мелкия части разлагающая уроки сила, посредством которой наука делается полезною для обучаемаго. Посему утверждаю, что наставников, обсуждающих и разбирающих уроки, а тем делающих для нас учение удобопонятным и полезным, слово в переносном смысле называет зубами. Посему–то похвала зубам занимает первое место, а потом уже воздается хвала устам. Ибо уста не украсились бы красотою слова, если бы эти зубы люботрудным уразумением наук не вложили в уста дара слова.
Итак, в разсуждении зубов постигли мы эту причину порядка похвал; теперь время изследовать и самую похвалу, а именно, что красота зубов уподоблена остриженным стадам, которыя все, едва только вышли из купели, равно восхищаются двойничными родами. Похвала же буквально читается так: зубы твои, яко стада остриженных, яже изыдоша из купели, вся двоеплодны, и неродящия несть в них (Песн. 4, 2). Посему, если примем во внимание одно то, что в примере понимается телесно, то не знаю, почему кто–либо назовет служащим к похвале зубов это сравнение их с многородящими стадами. В похвалу зубам ставится их крепость и стройное положение, и то, что они твердо гладким и стройным рядом укоренены в деснах. Какую же красоту зубов изображают своим подобием стада, выходящия из купели с порождением двойней и разсыпавшияся по лесистым холмам, сего невозможно понять с перваго взгляда. Зубы поставлены в ряд, стройно касаясь друг друга, а козы разсеяны, отделяемыя одна от другой потребностию в пастбище. Притом, так как зуб по природе обнажен, то не идет с ним и в сравнение, что носит на себе руно.
Посему должно изследовать, почему украшающий похвалами стройность зубов сравнивает красоту их с двоеплодными стадами, на которых острижено руно и нечистота тела омыта в купели. Поэтому, что же примыслим в объяснение сего? Те, которые Божественныя тайны более ясным истолкованием дробят до того, что духовная сия пища делается удобоприемлемою для тела Церкви, исправляють сим должность зубов, приемля в уста свои жесткий и плотно сложенный хлеб слова, и подробным обозрением делая удобоснедным для душ вкушающих. Так (ибо лучше мысль сию представить в примерах) блаженный Павел сперва просто, без приготовления, как неприправленный какой кусок, предлагает нам заповедь из закона, говоря: да не заградиши устен вола молотяща (1 Кор. 9, 9), потом, умягчив толкованием, понятным делаеть намерение закона, говоря: еда о волех радит Бог? Или нас ради всяко написася (1 Кор. 9, 10)? Много и иных подобных сему мест, например: Авраам два сына име, единаго от рабы, а другаго от свободныя (Гал. 4, 22). Вот хлеб неприправленный!
Но Апостол, раздробляя его, несколько удобоснедным делает для питаемых, переносит сказание на два Завета: один рождающий в рабство, другий освобождающий от рабства (Гал. 4, 24. 26). Так и весь закон (не будем длить времени, говоря о всем порознь), Апостол, взяв, как дебелое какое тело, размягчает своим на него взглядом, из плотскаго делая его духовным и говоря: вемы, яко закон духовен есть (Рим. 7, 14). Посему, что приметили мы в разсуждении Павла, заменяющаго собою для Церкви потребность зубов тем, что до тонкости уясняет догматы, то скажем и о всяком, в подражание Павлу, уясняющем нам тайну. Посему зубами служат для Церкви те, которые размягчают и пережевывают для нас неприправленные злаки Божественных словес. Как Божественный Апостол изображает жизнь желающих добра дела епископства (1 Тим. 3, 1), перечисляя подробно, каким надлежит быть приявшему на себя священство, а при всем том иметь и дар учительства, так и здесь Слово от поставленных в Церкви на сие служение — быть зубами, требует, чтобы прежде всего были пострижены, то есть обнажены от всякой вещественной тяготы, потом в купели совести омыты от всякой скверны плоти и духа, сверх же сего всегда восходили в преспеянии и никогда не увлекались обратно в бездну, а напоследок, чтобы они во всяком виде добродетели восхищались двоеплодием благих порождений, и ни в каком роде добрых предначинаний не были неродящими.
Двойной же приплод загадочно указывает на то, что заслуживает одобрение умопредставляемое в нас с той и другой стороны, так что таковые зубы двоеплодны, рождая в душе безстрастие, а в телесной жизни благоприличие. К сему Слово последовательно присовокупляет похвалу, приличную устнам, красоту их уподобляя верви червленой, на что толкование приводит само Слово, назвав вервь красною беседою. А сие, как служением зубов красится красота в устах, обозрено уже предварительно в сказанном прежде, потому что в служении зубов, то есть в наставлении учителей говорят уста Церкви. Потому сперва зубы остригаются и омываются, перестают быть неродящими, но делаются двоеплодными, и тогда уже уста разцветают червленостию, когда вся Церковь, по согласию в добре, бывает едиными устами и единым гласом. Представление же красоты двояко. Ибо Слово не просто только вервию называет уста, но присовокупляет и вид доброцветности, так что тем и другим украшаются уста Церкви, и подобием верви и червленостию, с каждой стороны особо. Ибо Церковь подобием верви обучается единомыслию; так что вся делается единою вервию и одною цепью, свитою из разных понятий; а червленостию научается взирать на ту Кровь, которою мы избавлены, и всегда иметь в устах исповедание Искупившаго нас Кровию. Ибо тем и другим приводится в полноту благолепие во устах Церкви: и когда вера предозаряет исповедание, и когда любовь сообемлется верою. И если представление сие надлежит очертать каким–либо определением, то определим сказанное так: червленая вервь есть вера любовию поспешествуема (Гал. 5, 6), так что верою обнаруживается червленость, а любовию истолковывается вервие. Что ими украшаются уста невесты, свидетельствует Истина. Сие же: беседа твоя красна, не имеет нужды в каком–либо более подробном обозрнии или ином истолковании. Ибо Апостол предварительно объяснил, что беседа сия есть глагол веры, егоже проповедаем: аще исповеси усты твоими Господа Иисуса и веруеши в сердце твоем, яко Бог Того воздвиже из мертвых, спасешися. Сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение (Рим. 10, 8–10). Вот та красная беседа, которою уста Церкви, подобно червленой верви, цветут благолепно!
Но Жених благоугождается при красоте уст и румянцем ланиты. А эту часть лица обычай по неправильному употреблению слова называет яблоком. Поэтому яблоко ланиты уподобляет Слово оброщению шипка [23] похвалу ему написав буквально так: яко оброщения шипка ланиты твои, кроме замолчания твоего (Песн.4.2). Но что восхваляется стыдливость, нетрудно всякому заключить в связи обозреваемаго. Ибо Слово, представив Церковь телесно в виде невесты, и добродетели разделив на части соответственно изображению красоты в лице, теперь, под видом румянца, цветущаго на ланитах, приличным образом хвалит целомудрие, украсив стыдливостию под загадочным именем шипка, потому что плод сей кисел вкусом и воспитывается под негодною в пищу поверхностию. Потому хорошо и удачно в этом обозрении употребляется к изображению преспеяния в целомудрии. Ибо как вяжущий вкус оброщения шипка питает и сберегаеть сладость заключающагося в нем плода, так жизнь воздержная, суровая и изнуренная бывает стражем доброт целомудрия. Но и здесь похвала сей добродетели делается сугубою и за проявляемое ея жизнию благообразие, и за преспеяние в душевном безстрастии, чему, как говорит Апостол, похвала не от человек, но от Бога (Рим. 2, 29). Ибо стыдливость, просиявающая в делах, за то, что явно, имеет свою похвалу; но похвала сия не касается умалчиваемых и сокровенных чудес, которыя усматриваются оным единым Оком, видящим тайное.
Из сказаннаго же после сего дознаем, что все совершенное богоносными святыми служило некиим образцем и наставлением для преспеяния в добродетели. Супружества, переселения, войны, построения зданий, все в некотором смысле предизображено было в назидание последующей жизни. Ибо сия, говорить Апостол, писана быша в научение наше, в нихже концы век достигоша (1 Кор. 10, 11). Война с иноплеменниками внушает нам быть мужественными против порока. Рачение о супружеской жизни загадочно предлагает нам сожительство с добродетелями. А также и переселение предполагает водворение в добродетельную жизнь. И все тщание, какое прилагалось ими о построении зданий, повелевает прилагать попечение о наших домах, созидаемых добродетелию. Почему, кажется мне, и тот знаменитый столп, в котором Давид, имея в виду преспеяние Церкви, положил самое лучшее из добыч, прообразовал сим делом имеющих рачение о добродетели. Хотя столп сей оказывается воздвигнутым на высоте какой–то горы, однакоже в то время признан был пригодным для хранения добычь, какия царь, поработив иноплеменников, с прочими богатствами соделал собственным своим достоянием. Посему Царь своею мудростию показал, какое благо для человеческой жизни имея в виду, Давид построением столпа как бы некоторый совет предложил последующей жизни. Ибо применением к чему–либо и уподоблением намереваясь восхвалить красоту каждаго из членов всего тела Церкви и по порядку описывая в слове, какими должны быть те, которые в народе занимают место выи, упоминает о сем столпе, которому придается имя Давидово, а известен он также под именем укреплений; потому что укрепления называются Фалпиоф.
А буквально читается сие так: яко столп Давидов выя твоя, создан в Фалпиофе: тысяща щитов висит на нем, вся стрелы сильных (Песн. 4, 4). Поэтому вещественное построение столпа имеет знаменитость; потому что оно — дело царя Давида, занимает видное место, и в нем сложены оружия, щиты и стрелы, которых множество показывает слово наименованием: тысяща. А наша цель уразуметь силу Божественнаго слова; почему столпу сему уподобляется та часть Церкви, которой имя — выя. Посему надлежит прежде изследовать, какая часть в нашем теле называется сим именем выя, а потом приложить именование к члену Церкви.
Итак, что укоренено среди рамен, поддерживает собою голову и служит основанием лежащему выше, то называется выею; зад ея подперт костями, а перед свободен оть костяной ограды. Да и кость по свойству своему не походит на такую, какая в руке или ноге, не какая–либо сама с собою сомкнутая и нераздельная, но самое соединение одной с другою костей, во многих местах разделеных в виде позвонков, производится посредством приросших к ним мочек, мышц и связок, и посредством того мозжечка, который наподобие трубки проходит по средине, и котораго оболочка соединяется с чувствилищною плевою, а содержимое ею — с головным мозгом. Спереди же выя содержит в себе дыхательное горло, служащее приемником отвне в нас втекающаго и вселяющагося воздуха, которым огонь в предсердии приводится в естественную для него деятельность; она содержит в себе также проходы для пищи, между тем, как все, вошедшее устами, гортань и горло препровождают в приемлющую это пустоту. Но выя имеет и иное некое преимущество пред прочими членами. По положению дыхательнаго горла вверху есть в нем место для вырабатывания голоса, где уготованы все голосовыя орудия, от которых порождается звук, когда дыхательное горло сообщаемым ему воздухом приводится в круговое сотрясение. Так, по описании телеснаго нашего члена, не трудно будет из обозреннаго уже здесь уразуметь выю и тела Церкви, именно же, кто в собственном смысле по соответственным тому действованиям приемлет на себя это имя, называется выею и уподобляется столпу Давидову? Посему, во первых (а это и есть самое первое), если кто носит на себе истинную Главу всего, разумею ту Главу, которая есть Христос, из Него же все тело составляемо и счиневаемо (Ефес. 4, 16), то он в собственном смысле носить на себе имя сие. А сверх того, он — выя, если способен принять в себя Духа, возгревающаго и делающаго огнеподобным сердце наше, и если благозвучным гласом служит Слову, потому что Бог не для инаго чего в естестве человеческом устроил голос, как для того, чтобы стать ему орудием слова, изглашающим движения сердца. Но выя сия пусть имеет и питательную деятельность, разумею учение, которым соблюдается сила всего тела Церкви. Потому что, пока притекает пища, тело остается в бытии, а при недостатке в пище оно гибнет и разрушается. Да подражает же и стройному положению позвонков, чтобы из тех, которые в народе составляют из себя каждый нечто особое, союзом мира соделать один член, и преклоняемый, и возставляемый, и удобно обращаемый в ту и другую сторону. Такою выею был Павел, и если кто другой, подражая ему, преуспел в жизни. Соделавшись сосудом избранным для Владыки, носил он имя Господа; в такой точности соединена была с ним Глава всяческих, что, если изглаголал что, то не он уже был глаголющим, но все это вещала его Глава, как коринфянам указывал он на глаголющаго и вещающаго в нем Христа (2 Кор. 13, 3). Так доброгласно и благозвучно было у него орудие дыхания, Духом Святым изглашающее слово истины! Так гортань его услаждалась всегда Божественными словесами, из себя питая все тело животворными оными учениями! А если спросишь и о позвонках, кто соединял так всех в единое тело союзом мира и любви? Кто научил так выю преклоняться, занимаясь неважным, и опять выпрямляться, мудрствуя горняя, проворно и свободно смотреть по сторонам, уклоняясь и обезопашивая себя от различных диавольских козней?
Посему такая выя действительно зиждется Давидом. Под Давидом же разумей Царя, Отца Царева, который первоначально уготовал человека к тому, чтобы ему быть столпом, а не развалиною, и снова возсоздал его благодатию, обезопасив многими щитами, так что недоступен он больше нашествиям вражеским; потому что повешенные щиты видимы не на земле лежащими, но окружающими его на воздухе; а со щитами и стрелы сильных приводят в страх неприятелей, так что не решаются начать приступ к столпу. Думаю же, что множеством щитов означается нам Ангельская стража, вокруг остеняющая таковый столп. Да и упоминание о стрелах указывает на подобную мысль. Ибо Слово не просто сказало: стрелы, но присовокуплением слова сильных дало нам видеть преоборающих; так что сказанное согласно с изречением псалмопения: ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их (Псал. 33, 8). Число же: тысяща, кажется мне, в точности не означает десяти сотен; но взято в слове в показание множества. Ибо, по принятому словоупотреблению, Писанию обычно числом сим показывать множество, как Давид вместо множества говорит: тысяча гобзующих (Псал. 67, 18), и: паче тысящ злата и сребра (Псал. 118, 72). Так поняли мы выю, утвержденную на раменах. А под раменами, на которых выя, разумеем усильныя старания о деятельной жизни, при которых мышцы наши содевают себе спасение. Возрастание же в большую меру души, высящейся по Богу, без сомнения, усмотрел тот, кто внимательно следил за тем, что было сказано, потому что прежде приятно было для невесты уподобляться коням, преоборовшим египетскаго мучителя, и благолепием выи походить на монисты; теперь же о каком совершенстве ея в добре свидетельствует Жених, потому что красоту выи не с какими–либо монистами на шее сравнивает, но по величию называет столпом, который, если смотрят на него вдали стоящие, делает видным не пышность только здания, с какою возведено оно до весьма большой высоты, но и положение места естественно возвышающагося над соседними местами? Посему, когда столп был делом Царя и достиг высокаго жития, тогда на нем оказывается истинным сказанное Господом: не может град укрытися, верху горы стоя (Матф. 5, 14). Ты же вместо града разумей столп.
Время приступить к уразумению, что значат эти два юнца серны, которые помещаются близ сердца невесты и названы в слове сосцами, как сказано: два сосца твоя яко два млада близнца серны, пасомая в кринах (Песн. 4, 5). Потому что положение сердца находится между сими двумя юнцами, для которых кормом служит не сено и терние, но крины, во все время пастбища предлагающие свой цвет и не на время только цветущие, а в другое время увядающие, но долго сим юнцам доставляющие собою пищу, пока не перестануть превозмогать тени вожделеннаго обольщения жизнию; пока повсюду не возсияет уже светь, а все озарится днем, разливающим свет, куда хочет. Ибо так продолжает Слово: дондеже дхнет день, и подвигнутся сени (Песн. 4, 6). Конечно же, научившись из Евангелия, знаешь, что Святый Дух тем самым, что дышет, идеже хощет, производит свет в изведывающих, откуду приходит и камо идет (Иоан. 3, 8), о чем теперь Слово выражается так: два сосца твоя яко два млада близнца серны, пасомая в кринах, дондеже дхнет день, и подвигнутся сени.
А что днем называется Дух Святый, дышущий светом для тех, в ком пребывает, в этом, не думаю, чтобы вопреки слову усумнился кто–либо из имеющих ум. Ибо, если рожденные от Духа делаются сынами света и сынами дня, то чем иным надлежит представить себе Дух Святый, как не светом и днем, дыхание котораго заставляет бежать тени суетности? Вполне же необходимо при появлении солнца не оставаться теням, но удаляться и переменять место.
Но благовременно будет к изследованию слова присовокупить и тайну о двух юнцах серны, которые рождены близнецами, и которым пищею служить крин, а местом пажити — земля добрая и тучная, по слову же Господней притчи, самое сердце (Матф. 13, 19. 23). Пасущиеся на ней и собирающие с нее цветы чистых помыслов тучнеют. Цвет же крин по природе имеет двоякий дар благоухания, соединеннаго с доброцветностию; почему тем и другим бывает приятен для собирающих, будут ли подводить его под чувство обоняния или наслаждать очи изяществом красоты. Ибо обоняние исполняется Христова благоухания, а наружным видом показываются чистота и неоскверненность.
Посему сказанным, может быть, объясняется уже нам подразумеваемое словом, а именно, что, при подробном обозрении двоякаго человека, одного телеснаго и видимаго, а другаго духовнаго и невидимаго, по рождению обоих находим близнецами, потому что вместе друг с другом вступают в жизнь. Ни душа не существует прежде тела, ни тело не приготовляется прежде души; напротив же того, одновременно появляются в жизни; а также и пищею им по естеству служат чистота, благоухание и все сему подобное, чем плодоносны добродетели; но иным вместо питательнаго бывает иногда вожделенно вредоносное, и они не питаются цветами добродетели, но услаждаются терниями и волчцами, чем, как слышим, евангельская притча именует грехи, злое прозябение которых произвело злоумышление змия.
Итак, поелику потребны очи, умеющия различать, способныя в точности распознать крин и терние и выбрать спасительное, и отринуть вредоносное, то посему, соделавшагося подобным великому Павлу сосцем для младенцев, млекопитателем новорожденных в Церкви, Слово наименовало двумя сосцами, уподобляемыми вместе друг с другом рожденным юнцам серны, всем свидетельствуя о благоискусстве таковаго члена Церкви, потому что тем и другим способом успешно изводится на пажить чистых кринов, зорко отличая терние от питательнаго, и потому, что держится владычественнаго в душе, назнаменованием котораго служит сердце, питающее собою сосцы, сверх сего и потому еще, что не в себе замыкает благодать, но имеющим нужду в слове дает сосцы, якоже доилица греет своя чада, как делал и говорил Апостол (1 Сол. 2, 7).
Но доселе Слово, продолжая похвалу членам Церкви, в последующем восписывает хвалу целому ея телу, когда смертию упразднит имущаго державу смерти (Евр. 2, 14) и снова возведет Себя в собственную Свою славу Божества, которую имело из начала, прежде мир не бысть (Иоан. 17, 5). Ибо сказав: пойду Себе к горе смирней и к холму Ливанску (Песн. 4, 6), и тем указав на славу Божества, присовокупило: вся добра еси ближняя Моя, и порока несть в тебе (Песн. 4, 7), научая сказанным, во–первых, что никтоже возмет душу Его от Него, но область имеет положити ю, и область имеет паки прияти ю (Иоан. 10, 18), пошедши Себе на гору смирнскую, не наших ради заслуг (никто да не хвалится!), но по собственной Своей благодати, прияв смерть за грешников; а потом, что естеству человеческому невозможно было иначе очиститься от порока, как только когда Агнец вземляй грехи мира (Иоан. 1, 29) Собою уничтожил всякую порочность. Посему, сказав: вся добра еси ближняя Моя, и порока несть в тебе, и продолжая речь о таинстве страдания, загадочным намеком о смирне, потом упомянув о ливане, которым указует Божество, тем самым научает нас, что причащающийся с Ним смирны, без сомнения, приобщится и ливана. Ибо, кто с Ним страждет, тот без сомнения с Ним и прославляется. А кто однажды был в Божественной славе, тот всецело прекрасен, став вне сопротивнаго порока, от котораго да будем далеки и мы ради за нас умершаго и воскресшаго Христа Иисуса, Господа нашего. Ему подобает слава и держава во веки веков! Аминь.
Об устроении человека
Посвящение
Брату, рабу Божию Петру, Григорий, епископ Нисский.
Если бы отличающихся добродетелью должно было вознаграждать Ценным имуществом, то целый мир, как говорит Соломон, оказался бы малым для того, чтобы стать равноценным твоей добродетели, потому что благодарность, подобающая твоей честности, выше цены богатства.
Но Святая Пасха требует обычного дара любви, который приносим высокой душе твоей, человек Божий, хотя он и меньше дара, какой следовало бы принести тебе по достоинству, но не скуднее дара, какой только в наших силах. Дар этот есть слово, подобное некоей убогой ризе, сотканной не без труда нашим умом. Хотя содержание слова многим, может быть, покажется смелым, однако же не сочтут его неприличным. Ибо Божие творение достойно уразумел один Василий, поистине созданный по Богу и душу свою по образу Сотворившего образовавший, общий наш отец и учитель, обозрением своим сделавший высокое устройство Вселенной для многих удобопонятным и с этим миром, который сотворен Богом по истинной премудрости, ознакомивший приведенных к созерцанию его мудростью. Но мы, будучи не в силах и удивляться ему по достоинству, вместе с тем задумали присовокупить то, чего не доставало в обозрении великого, не для того, чтобы своим подлогом опорочить его труд (ибо непозволительно оскорблять эти великие уста, приписывая им наши слова), но чтобы не подать мысли, будто слава учителя оскудела в его учениках. Так как в шестодневе недостает рассуждения о человеке, то, если бы никто из учеников его не приложил старания восполнить этот недостаток, это справедливо послужило бы поводом к упреку вопреки великой его славе, будто не хотел он образовать в слушателях какой–либо разумной способности. Теперь же, когда осмелились мы по мере сил изложить недостающее, если в труде нашем найдется нечто как бы не недостойное его учения, то, без сомнения, это будет отнесено к учителю. Если же слово наше не достигнет высоты его взгляда, то обвинение не падет на него и он избежит упрека, будто бы не хотел ученикам сообщить что–либо дельное, а мы справедливо окажемся повинными пред ищущими предлогов к упреку, как в тесноте сердца своего не вместившие мудрости наставника.
Не малоценна же предлежащая нам в обозрение цель, не уступает она первенства ни одному из чудес мира, а, может быть, и важнее всего нами познаваемого, потому что ни одно другое существо не уподобляется Богу, кроме этой твари — человека. Поэтому, что ни скажем, у благопризнательных слушателей за все готово уже нам извинение, если даже слово наше гораздо ниже достоинства. Ибо, говоря о человеке, думаю, не должно оставлять неисследованным и того, что, как веруем, было с ним прежде, и того, что, как ожидаем, будет еще впоследствии, и того, что усматриваем в нем ныне. Иначе старание наше окажется не соответствующим данному обещанию, если, когда предметом обозрения является человек, отложено будет в сторону что–либо относящееся к этому предмету. Да и что в человеке представляется противоречащим по несходству с бывшим в нем первоначально, тогда как теперь по какой–то необходимой последовательности считается естественным, надлежит но указанию Писания и по соображению, выведенному из умозаключения, согласовать так, чтобы все изложенное было в связи и порядке, все показывало, что и кажущееся противоречащим направлено к одной и той же цели, и Божие могущество находит надежду безнадежному и исход невозможному. Для легкости же признал я лучшим предложить тебе слово, разделив на главы, чтобы содержание всего сочинения мог ты видеть кратко в содержаниях каждой отдельной части.
Глава первая
В которой заключается некое частное естествословие мира и более привлекательное изображение предшествовавшего бытию человека
Сия книга бытия небесе и земли, говорит Писание (Быт. 2, 4), когда совершилось все видимое и каждое из существ заняло отдельно свойственное ему положение, когда небесный свод кругом объял собою Вселенную, а в середине ее нашли себе место тела тяжелые и стремящиеся вниз — земля и вода, взаимно друг другом поддерживаемые. Некоторой же связью и скрепой сотворенного в естество существ вложены божественное искусство и божественная сила, этой двойной действенностью правящие Вселенною. Ибо покоем и движением сообщили они бытие несуществующему и продолжение бытия существующему вокруг того, что в неподвижном естестве тяжелое и непреложное, как бы вокруг какой неподвижной оси, приводя в самое быстрое движение полюс, вращающийся подобно колесу, соблюдая неразрушимость взаимно в том и другом, потому что круговращаемая сущность скоростью движения плотность земли сжимает в нечто круговидное, а твердость и упорство непременной неподвижностью непрерывно поддерживает движение вращающегося около нее. Действенностью же этих противоположностей — неподвижным естеством и не знающим покоя круговращением — производится в том и другом равный избыток, потому что и земля не прелагается с собственного своего основания, и небо не умаляет и не ослабляет стремительности движения. И что это прежде всего уготовано премудростью Сотворившего, как некое начало всего устройства существ, думаю, на это указуя, великий Моисей сказал: В начале сотвори Бог небо и землю (Быт. 1, 1), т. е. все явления в твари, порождаемые движением и покоем и приведенные в бытие по Божию изволению. Итак, поскольку небо и земля совершенно противоположны друг другу по противоположности их действий, то тварь, занимающая середину между противоположными, заимствуясь Частью от прилежащего, посредствует собою между крайностями, так что явным делается через эту среду взаимное соприкосновение противоположностей. Хотя и воздух легкостью естества и способностью к движению уподобляется несколько приснодвижности и легкости огненной сущности, однако же и не такой, чтобы ему быть чуждым родства с веществами плотными, как не пребывающий всегда неподвижным и не текущий, не рассевающийся непрестанно, а, напротив того имея общие свойства с тем и другим, служит как бы взаимной какой границей противоположности действий, в себе самом смешивая вместе и разделяя то, что по естеству противоположно. По тому же закону и влажная сущность двоякими качествами связывается с каждым из противоположных естеств. Ибо тем, что тяжела и стремится вниз, она в великом родстве с естеством земным, а тем, что обладает какой–то орошающей и проникающей действенностью, не совсем отчуждена от естества движимого, но есть какое–то стечение и смешение противоположностей: тяжести, преложенной в движение, и движения, не связанного тяжестью, так что и противоположное естеством друг другу на самых крайних пределах одно с другим соединено посредствующим. Лучше же, говоря точнее, само естество вещей противоположных по свойствам совсем недалеко от смешения с естеством других качеств, поэтому, думаю, все, являющееся в мире, одно к другому склонно, и тварь, оказывающаяся с противоположными свойствами, сама с собою согласна. Поскольку движение понимается не как одна перемена места, то усматривается оно и в превращении и в изменении; и опять естество непреложное не допускает движения в изменении, а потому премудрость Божия, заменив свойства одни другими, приснодвижное сделала непреложным, а неподвижное — превратным, устроив это, вероятно, по особой промыслительности, чтобы такие свойства естества, каковы непревратность и непреложность, оказавшись в одной из видимых тварей, не заставили и тварь эту признавать Богом. Ибо нельзя предполагать божества в том, что движимо или изменяемо. Поэтому–то земля, хотя стоит, но не чужда превратностей, а небо, напротив того, не являясь превратным, не имеет неподвижности, так как божественная сила, соединив с неподвижным естеством превратность, а с превратным — движимость, обменом свойств оба эти естества сроднила между собой; мысль же о божественности их сделала чуждой для них, потому что, как сказано, ничто подобное, т. е. и движимое и изменяемое, не признается за естество божественное.
Итак, все уже достигло своего конца. Ибо, как говорит Моисей, совершишася небо и земля (Быт. 2, 1) и все, что между ними, и это, отдельно взятое, украсилось соответствующей красотой: небо — лучезарностью светил, море и воздух — плавающими и летающими тварями, земля — разнообразием всякого рода растений и четвероногих. Все это произвели, из себя сразу в одно и то же время они но Божию изволению, получив на то силы; и земля наполнилась красот, произрастив вместе с цветом и плоды, наполнились луга всем, что видим на лугах, все утесы и горные вершины, всякий склон и всякая равнина, все, что во впадинах, увенчалось зазеленевшей травою и красивыми деревьями, едва только показавшимися из земли и сразу достигнувшими совершенной красоты. Возвеселилось же, вероятно, все, и взыграли созданные Божиим повелением животные, стадами и но родам бродящие по лесам; пением певчих птиц повсюду огласилось все, что было густо покрыто и осенено деревьями. Но вид моря, как следовало, был несколько иной: такой, что во множестве заливов море пребывало в тишине и покое, и, по Божию изволению, затишья и пристани, углубившись в берега сами собою, приучали море к суше и тихим движением волн спорили в красоте с лугами, между тем как легкие и безвредные ветерки на одной только поверхности производили приятную для взоров рябь. И все богатство твари готово было и на земле и на море, но не было еще того, кому пользоваться этим.
Глава вторая
Почему человек последний в творении
Так, человек — великая эта и досточестная тварь — не обитал еще в мире существ, потому что неестественно было начальнику явиться прежде подначальных, но после того, как уготовано сперва владение, следовало показать и царя. Поэтому, когда Творец Вселенной устроил имеющему царствовать как бы царский некий чертог, и это были сама земля, острова, море и наподобие крыши сведенное над ними небо, тогда в царские эти чертоги собрано было всякого рода богатство;
богатством же называю всю тварь, все растения и прозябения, все, что чувствует, дышит, имеет душу. Если же к богатству причислить надо и вещества, какие только по какой–либо доброцветности в глазах человеческих признаны драгоценными, например золото и серебро и те из этих камней, которые любезны людям, то обилие всего этого, как бы в неких царских сокровищницах, скрыв в недрах земли, потом уже показывает в мире будущего человека, заключающихся в нем чудес, частью зрителя, а частью владыку, чтобы при наслаждении приобрел он познание о Подателе, а по красоте и величию видимого исследовал неизреченное и превышающее разум могущество Сотворившего. Поэтому–то человек введен последним в творение — не потому, что, как нестоящий, отринут на самый конец, но потому, что вместе с началом бытия должен бил стать царем подчиненных. Как добрый гостеприимец до приготовления снедей не вводит гостя к себе в дом, но, приготовив все благоприлично — убрав, какими следовало, украшениями дом, пиршественную горницу, трапезу, припасши уже пригодное для пиши, — принимает у себя сопиршественника, подобным образом богатый и щедрый Угоститель естества нашего, всякого рода красотами убрав жилище, уготовив этот великий и всем снабженный пир, потом уже вводит человека, вменив ему в занятие не приобретать то, чего еще пет, но наслаждаться тем, что уже есть. Поэтому в основание устройства полагает в нем сугубое начало, смешав с земным божественное, чтобы ради того и другого иметь ему наслаждение, какое сродно и свойственно тому и другому, наслаждаясь и Богом но естеству божественному, и земными благами но однородному с ними чувству.
Глава третья
О том, что человеческое естество досточестнее всякой видимой твари
Достойно же нашего обозрения и то, что, когда полагаемо было основание столь пространному миру и основным его частям, вошедшим в состав целого, творение совершалось как бы спешно, приводимое в бытие божественным могуществом, вдруг совокупно изрекаемым повелением. Устроению же человека предшествует совет, и Художником по начертанию слова предызображается будущее создание, и каково должно быть оно, и какого Первообраза подобие носить на себе, и для чего оно будет, и что произведет по сотворении, и над чем ему господствовать — все это предусматривает Слово, чтобы человек принял достоинство, которое выше его бытия, приобрел власть над существами прежде, нежели сам пришел в бытие. Ибо сказано: И рече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию: и да обладает рыбами морскими, и зверми земными и птицами небесными, и скотами и всею землею (Быт. 1, 26). Какое чудо! Устрояется солнце, и никакого не предшествует совета, также и небо, хотя нет ничего ему равного в сотворенном, и такое чудо созидается единым речением, о том же, из чего и как, и о чем–либо ином, этому подобном, не сказано ни слова. Так и все, взятое порознь, — эфир, звезды, наполняющий середину воздух, море, земля, животные, растения — все приводится в бытие словом. К одному только устроению человека Творец Вселенной приступает как бы с рассмотрительпостыо, чтобы и вещество приуготовить для его состава, и образ его уподобить первообразной некоей красоте, и предназначить цель, для которой будет он существовать, и создать естество соответственное ему, приличное его деятельности, пригодное для предложенной цели.
Глава четвертая
О том, что устроение человека во всем дает видеть начальственную его власть
Как в этой жизни художники придают вид инструменту соответственно его функциям, так наилучший Художник создал паше естество как некий сосуд, пригодный для царственной деятельности, и по душевным преимуществам, и по самому телесному виду устроив его таким, каким нужно быть для царствования. Ибо душа прямо показывает в себе царственность, и возвышенность, и великую далекость от грубой низости тем самым, что она, не подчиняясь, свободно, полновластно располагает своими желаниями. А это кому иному свойственно, кроме царя? И сверх того сделаться образом Естества всеми владычествующего значит не что иное, как при самом создании немедленно стать естеством царственным. Ибо, как по человеческому обычаю приготовляющие изображения державных и черты лица снимают верно, и облачением в порфиру показывают царское достоинство, и изображение называется обыкновенно царем, так и человеческое естество, поскольку приуготовлялось для начальствования над другими по причине подобия Царю Вселенной, выставлялось как бы неким одушевленным изображением, то общее с Первообразом имело и достоинство и имя, но не в порфиру было облечено, не скипетром и диадемою показывало свой сан (этого нет и у Первообраза), а вместо багряницы облечено добродетелью, что царственнее всех одежд, вместо скипетра утверждено блаженством бессмертия, вместо царской диадемы украшено венцом правды, так что, в точности уподобляясь красоте Первообраза, всем доказывало царский свой сан.
Глава пятая
О том, что человек есть подобие Божией царственной власти
Божественная же красота не во внешних чертах, не в приятном складе лица и не какою–либо доброцветностью сияет, но усматривается в невыразимом блаженстве добродетели. Поэтому, как живописцы представляют па картине человеческие лица красками, стирая для этого таких цветов краски, которые близко и соответственно выражают подобие, чтобы красота подлинника в точности изобразилась в списке, так представь себе, что и наш Зиждитель как бы наложением некоторых красок, т. е. добродетелями, расцветил изображение до подобия с собственной Своей красотой, чтобы в нас показать собственное Свое начальство. Многовидны и различны эти как бы краски изображения, которыми живописуется истинный образ: это не румянец, не белизна, не какое–либо смешение этих цветов одного с другим; не черный какой–либо очерк, изображающий брови и глаза; не какое–либо сорастворение красок, оттеняющее углубленные черты, и не что–либо подобное всему тому, что искусственно произведено руками живописцев, по вместо всего этого — чистота, бесстрастие, блаженство, отчуждение от всего худого и все однородное с тем, чем изображается в человеке подобие Божеству. Такими цветами Творец собственного Своего образа живописал наше естество. Если же отыщешь и другие черты, которыми обозначается Божественная красота, то найдешь, что и подобие их в нашем образе сохраняется в точности.
Божество есть ум и Слово, ибо в начале бе Слово (Ин. 1, 1), и Пророки, по словам Павла, ум Христов имеют (1 Кор. 2, 16), глаголющий в них (2 Кор. 13, 3). Недалеко от этого и естество человеческое. Видишь в себе и слово и разум, подобие подлинного Ума и Слова. Бог есть также любовь и источник любви; об этом говорит великий Иоанн:
Любы от Бога есть, и Бог любы есть (1 Ин. 4, 7—8). Это Зиждитель и нашего естества сделал отличительной чертой. Ибо говорит: О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Ин. 13, 35). Следовательно, где нет этой любви, там искажены все черты образа. Божество над всем назирает, все слышит, все испытует, и ты приобретаешь понятие о существах посредством зрения и слуха и имеешь разум, способный делать разыскания и исследования о существах.
Глава шестая
Исследование о родстве ума с Божественным естеством, где мимоходом обличается учение аномеев
Никто да не подумает, будто бы утверждаю, что Божество, подобно человеческому образу действия, различными силами постигает существа. Ибо в простоте Божества невозможно представлять себе различия и многовидности познавательной деятельности. И у нас нет каких–либо многих познавательных сил, хотя и многообразно постигаем чувствами то, что живет. Одна у нас сила — это вложенный в нас ум, обнаруживающийся в каждом из ощущений и объемлющий существа. Он посредством глаз видит явление, посредством слуха уразумевает сказанное, любит приятное и отвращается того, что не доставляет удовольствия; действует рукою, как ему угодно, берет или отталкивает ею, как признает для себя полезным, пользуясь для этого содействием этого орудия. Поэтому если у человека, хотя и различны орудия, устроенные природою для чувства, но во всех один действующий, всем движущий и пользующийся каждым орудием сообразно с предложенною целью, и он различием в образе действий не изменяет естества, то возможно ли полагать в Боге при многоразличных силах многозначность сущности. Ибо, как говорит Пророк, Создавши око, и насаждей ухо (Пс. 93, 9), эти деятельности как бы отличительные некоторые черты в образец того, что в Нем Самом, напечатлел в природе человека. Он говорит: Сотворим человека по образу Нашему (Быт. 1, 26).
Но где же у нас ересь аномеев? Что скажут они на такое изречение? Как после сказанного спасут пустоту своего учения? Скажут ли, что возможно одному образу уподобляться различным лицам? Если Сын не подобен Отцу по естеству, то как устраивает один образ различных естеств. Сказавший Сотворим человека по образу Нашему и множественным числом обозначивший Святую Троицу не упомянул бы об образе в числе единственном, если бы Первообразы были не подобны один другому, потому что тем, которые несходны друг с другом, невозможно показать себя в одном подобии. Напротив того, если различны были естества, то, без сомнения, составили бы и различные образы, создав соответственный естеству образ. Но, поскольку, хотя образ один, Первообраз же образа не один, кто будет столько неразумен, чтобы не признать Первообразов одного другому подобными и непременно между собою сходными. Поэтому–то, может быть, Слово при самом устроении человеческой жизни, отсекая эту злую мысль, говорит: Сотворим человека по образу и по подобию Нашему.
Глава седьмая
Почему человек лишен природой оружий и покровов
Но что значит эта прямизна стана? Почему телу не прирождены силы, служащие к охранению жизни? Напротив того, человек вводится в мир лишенным естественных прикрытий, каким–то безоружным и бедным, имеющим нужду во всем потребном для жизни, достойным, по–видимому, более сожаления, нежели ублажения. Не имеет ни рогов для защиты, ни острых когтей, ни копыт, ни зубов, ни какого–либо жала, от природы снабженного смертоносным ядом, чем обладают многие животные для защиты от оскорбляющих, и не покрыто у него тело волосяной оболочкой, хотя поставленному начальствовать над другими надлежало от природы быть огражденным собственными своими оружиями, чтобы для собственной своей безопасности не иметь нужды в помощи других. А теперь лев, вепрь, тигр, барс и другие подобные животные от природы имеют достаточную силу для своего спасения. И волу рога, и зайцу скорость, и серне легкий скачок и зоркость глаз, иному какому–либо животному величина, другим хобот, птицам крылья, пчеле жало и всем непременно дается, как обычно, природою что–либо для их спасения. Один только человек всех быстроногих медлительнее, великорослых ниже обезопашенных прирожденными оружиями беззащитнее.
Как же, спросит иной, такому дано в удел начальство над всеми? Но нетрудным считаю доказать, что видимая недостаточность нашего естества и служит предлогом к обладанию над подчиненными. Если бы у человека столько было силы, что скоростью перегонял бы он коня, не стирал ничем жестким ног, защищенных какими–либо орудиями или копытами, имел у себя рога, жало, когти, то, во–первых, при таких прирожденных телу его отличиях был бы он каким–то зверским и неприступным, а потом пренебрегал бы начальством над другими, нимало не нуждаясь в содействии подчиненных. Теперь же для того именно жизненные потребности разделены на каждого из подчиненных нам, чтобы начальство над ними сделать для нас необходимым. Медлительность и неудободвижимость тела ввели в потребность и обуздали коня; нагота плоти сделала необходимою попечительность об овцах, которая ежегодной данью шерсти с них восполняет недостаток нашего естества. Нужда привозить к нам припасы для жизни из других стран запрягла вьючных животных для таких услуг. Невозможность, подобно прочим животным, питаться травою сделала вола подручным нам в жизни, который трудами своими облегчает нам жизнь. Поскольку же для борьбы с каким–либо из других животных, наносящих нам вред зубами, потребно было иметь зубы и грызться, то пес в нашу потребность вместе со скоростью предоставил собственный свой род, став для человека как бы одушевленным мечом. А, что крепче ограды рогов, пронзительнее остроты когтей, то придумано людьми. Это железо, которое не всегда при нас, как рога и когти у зверей, но, оказав временную помощь нам в борьбе, остается потом само по себе. И вместо крокодиловой чешуи можно и человеку сделать из нее оружие, на время прикрывшись этой кожей. Если же нет ее, то искусством обращается в нее и железо, которое, оказав временную услугу на войне, свободным от бремени оставляет воина в мирное время. Услуживают нам в жизни и крылья птиц так, что но примышлению своему не уступаем в скорости пернатым. Одни из них делаются ручными и помогают ловцам, другие же умышленно привлекаются на наши потребы. А искусство, по примышлению своему сделав стрелы наши крылатыми, для наших потребностей посредством лука доставляет нам скорость пернатых. И то, что ступни наши во время шествия терпят боль и стираются, сделало необходимым употреблять в пособие то, что поручено нам. Ибо из этого можем приготовлять удобную для ног обувь.
Глава восьмая
Почему у человека прямой стан, и о том, что руки даны для слова, а вместе и учение любомудрия о различии душ
У человека стан прямой, лицо обращено к небу, и смотрит он горе, а этим означается его право начальствовать и царское достоинство. Ибо то самое, что из живых существ таков один только человек, у всех же прочих тела поникли долу, ясно доказывает различие в достоинстве преклонившихся пред владычеством возвысившейся над ними власти. У всех прочих передние члены суть ноги, потому что согбенное имеет нужду в опоре. А в устройстве человека члены эти стали руками. Ибо в потребность прямому стану достаточно было одного основания, так как и двумя ногами безопасно подпирается он во время стояния. Сверх того содействие рук помогает и потребности слова. И кто услугу рук назовет особенностью словесного естества, тот не совсем погрешит. Обращаясь умом, не только к этой общей и с первого взгляда представляющейся мысли, что при даровитости рук, означаем мы слово письменами (ибо не чуждо в нас словесного дара и это — говорить посредством письмен и некоторым образом беседовать рукою, сохраняя звуки в буквенных очертаниях), но имея в виду и другое, утверждаю, что руки содействуют произнесению слова.
Лучше же сказать, прежде, нежели начнем исследование об этом, обратим внимание на сказанное выше, ибо едва не забыли мы того порядка в творении, по которому предшествует прозябение растений из земли, а за ними последуют бессловесные животные и потом по устроении их, — человек. Ибо дознаем из этого, не только, может быть, представляющееся с первого взгляда, а именно что Творцу казались полезными для животных трава, а для человека скот, поэтому созданы прежде животных травоядных их пища, а прежде человека годное к тому, чтобы служить человеческой жизни. Но мне кажется, что Моисей излагает в этом некое сокровенное учение и таинственно сообщает любомудрие о душе, о котором мечтала и внешняя ученость, но не уразумевала его в ясности. Ибо слово учит нас тому, что в трех различиях усматривается жизненная и душевная сила. Есть только некая сила растительная и питательная: приемля годное к приращению питаемого, называется она естественной и усматривается в растениях, потому что и в произрастающем можно примечать некую жизненную силу, лишенную чувства. Но, кроме этого, есть другой вид жизни, которому принадлежит и первый, и к нему присоединена способность управлять собою по чувству. Такова жизнь в естестве бессловесных. Они не только питаются и растут, но имеют чувственную деятельность и чувственное понимание.
Совершенная же жизнь в теле усматривается в естестве словесном: разумею естество человеческое, питаемое, чувствующее, имеющее дар слова и управляемое разумом.
Пусть же у нас принято будет в слове такое деление: из существ иное есть нечто умопредставляемое, а иное — телесное, но деление умопредставляемого на собственные ему части отложено в сторону, потому что не о нем у нас речь. А из телесного иное вовсе лишено жизни, иное же причастно жизненной деятельности. Опять из тел живых иное живет, имея чувства, а иное лишено чувства. Потом чувствительное разделяется опять на словесное и бессловесное. Поэтому законодатель говорит, что после неодушевленного вещества как бы в некое основание существ одушевленных прежде всего образована эта естественная жизнь, осуществившаяся в прозябении растений, потом вводит в бытие тварей, управляемых чувством. И поскольку по этой последовательности из принявших жизнь телесную иные могут быть чувствующими себя и без разумного естества, а естество словесное не иначе может быть в теле, как в растворении с чувственным, то по этой причине последним после растений и животных устроен человек, так что природа каким–то путем последовательно восходила к совершенству. Ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном — человеке. По естественному виду души он питается; с растительной же силою соединена чувствительная, по природе своей занимающая середину между умопредставляемой и вещественной сущностью, в такой мере грубейшая первой, в какой она чище последней. Потом с тем, что есть тонкого и светоносного в естестве чувствующем, совершается некое освоение и срастворение умопредставляемой сущности, чтобы человек составлен был из этих трех естеств.
Так, подобное этому узнали мы от апостола, когда говорил он Ефессянам, желая им да сохранится всесовершенная благодать и тела и души и духа в пришествие Господа (1 Фес. 5, 23), питательную часть называя телом, чувствующее означая словом душа, а умопредставляемое — словом дух. А также и Господь научает в Евангелии книжника предпочитать всякой заповеди любовь к Богу, свидетельствуемую от всего сердца, от всей души и всем помышлением (Лк. 10, 27). Ибо и здесь, мне кажется, слово Писания объясняет уже разность, сердцем называя состояние телесное, душою — естество среднее, а помышлением — высшую умопредставляемую и творческую силу. Отсюда апостол знает три различные произволения и именует плотским то, которое занимается чревом и его услаждениями; душевным — которое в середине между добродетелью и пороком, возвышается над пороком, но не вполне причастно добродетели; и духовным — которое имеет в виду совершенство жития по Богу. Почему Коринфянам, порицая их преданность забавам и страстям, говорит: Плотстии есте (1 Кор. 3, 3) — и не можете вместить в себя совершеннейших учений. В другом же месте, делая некое сличение произволения среднего с совершенным, говорит: Душевен же человек не приемлет яже от Духа: юродство бо ему есть. Духовный же востязует убо вся, а сам той ни от единого востязуется (1 Кор. 2, 14—15). Поэтому, как душевный выше плотского, так в том же отношении духовный превышает душевного.
Итак, если Писание говорит, что человек создан был последним после всего одушевленного, не иное что означается этим, как то, что Законодатель любомудрствует о душе нашей по необходимой некоторой последовательности в порядке, усматривая совершенное в окончательном. Ибо в словесном заключается и прочее, а в чувственном есть, без сомнения, и естественное, последнее же усматривается только вещественным. Поэтому природа естественным образом, как бы по степеням, — разумею отличительные свойства жизни, — делает восхождение от малого к совершенному.
И поскольку человек есть словесное некое живое существо, то нужно было устроить телесное орудие, соответственное потребности слова. Как видим, что музыканты с родом орудий соображают и музыку, на лире не свиряют и свирели не употребляют вместо гуслей, так подобным этому образом и для слова нужно было соответственное устройство орудий, чтобы, согласно с потребностью речений, изглашалось слово, образуемое голосовыми членами. Для этого–то приданы телу руки. Ибо если можно насчитать тысячами жизненных потребностей, в которых эти досужие и па многое достаточные орудия рук полезны для всякого искусства и всякой деятельности, с успехом служа в мирное и военное время, то преимущественно перед прочими нуждами природа придала их телу ради слова.
Если бы человек лишен был рук, то у него, без сомнения, по подобию четвероногих соответственно потребности питаться устроены были бы части лица, и оно было бы продолговато и утончалось к ноздрям. У рта выдавались бы вперед губы мозолистые, твердые и толстые, способные щипать траву. Между зубами вложен бы был язык, отличный от теперешнего — мясистый, упругий и жесткий, помогающий зубам, или влажный и по краям мягкий, как у собак и прочих сыроядных животных, вращающийся между острыми рядами зубов. Поэтому если бы у тела не было рук, то как образовался бы у него членораздельный звук, когда устройство рта не было бы приспособлено к потребности произношения? Без сомнения, необходимо было бы человеку или блеять, или мычать, или лаять, или ржать, или реветь подобно волам и ослам, или издавать какое–либо зверское рыкание. А теперь, когда телу дана рука, уста свободны для служения слову.
Следовательно, руки оказываются принадлежностью словесного естества; Творец и их примыслил для удобства слову.
Глава девятая
О том, что орудное устройство человека приспособлено к потребности слова
Поскольку Творец созданию нашему даровал некую Божественную благодать, вложив в образ подобие Своих благ, то прочие блага дал естеству человеческому по Своей щедрости; об уме же и мудрости должно сказать, что в собственном смысле не столько их дал, сколько сообщил, снабдив образ собственными красотами Своего естества. А как ум есть некое умопредставляемое и бестелесное достояние, то дар был бы несообщим и неудалим, если бы движение его не обнаруживалось каким–либо примышлением. Для этого–то потребовалось это орудное устройство, чтобы ум, подобно смычку касаясь голосовых членов, каким бы то ни было изображением звуков истолковывал внутреннее движение. И, как искусный какой музыкант, не имея по болезни собственного своего голоса, но желая выказать свое знание, пользуется в пении чужими голосами, — свирелями или лирой, — обнаруживая перед всеми свое искусство, так ум человеческий, изобретатель всякого рода мыслей, по невозможности выказать стремлений мысли душе, понимающей при помощи телесных чувств, как сведущий какой художник, касаясь этих одушевленных орудий, извлекаемым из них звуком делает явными сокровенные мысли.
В человеческом же орудии смешана какая–то музыка свирели и лиры, как бы в одно время издающих стройный звук. Дыхание, через бьющуюся жилу из воздухоприемных сосудов вытесняемое вверх, когда усилие говорящего издать голос приводит в напряжение орган, сотрясаемый приражениями изнутри, которые кругом объемлют этот подобный свирели проход, издает звук, уподобляющийся несколько звуку свирели, несвободно кружась по перепончатым возвышениям в горле. А нёбо во рту идущий снизу звук принимает полостью, которая под ним, и в двойных свирелях, простирающихся до ноздрей, как бы чешуйчатыми какими возвышениями, хрящами в верхней части носа раздробляя звук, делает его сильнейшим. Щеки же, язык, орган около гортани, по которому спускается подбородок, имеющий впадину и оканчивающийся острием, — все это в различных видах и многими способами представляет движение смычка но струнам, в нужное время с большой скоростью соответственно потребности настраивающее тоны, а разжатие и сжатие губ производят то же, что и воздух в свирели у задерживающих его пальцами, т. е. ту же стройность нения.
Глава десятая
О том, что ум действует посредством чувств
Поскольку ум посредством этого орудного снаряда слагает в нас слово, то стали мы словесными. Но не имели бы, как думаю, дара слова, если бы на устах лежала вся тяжесть и трудность служения потребности тела принятием пищи. Теперь же такое служение приняли па себя руки, а уста оставили свободными для служения слову.
Действование же этим орудием двояко: одно — в произведении звука, другое — в восприятии представлений, получаемых извне. И одно действование не смешивается с другим, а остается при том, к чему назначено природой, не беспокоя соседа: слух не говорит и голос не слышит. Ибо голос всегда непременно что–либо издает, а слух, постоянно приемля в себя, не насыщается, как говорит где–то Соломон (Притч. 27, 20), что, по моему мнению, особенно заслуживает в нас удивления. Какова же обширность этого внутреннего вместилища, в которое стекается все, вливающееся посредством слуха? Кто составители памятных записей о всех входящих в него речах? Какие помещения для влагаемых слухом понятий и почему при множестве и разнообразии этих понятий, одно к другому прилагаемых, не бывает смешения и ошибок во взаимном положении всего сложенного? А равно этому же подивится иной и в деятельности зрения. Ибо посредством зрения ум подобным этому образом овладевает тем, что вне тела, к себе привлекает облики видимых вещей, написуя в себе начертания всего, подлежащего зрению. И как, если обширный какой город разными входами будет принимать в себя пришлых и не все они станут входить в одно место в городе, но одни пойдут на рынки, другие — в дома, иные — в церкви или расположатся кто на улице, кто в переулке, кто в зрелищном доме — каждый по собственному своему усмотрению, так подобным этому вижу населенный внутри нас и град ума, который посредством чувств наполняют разные входы, и ум, рассматривая и разбирая каждого входящего, размещает но соответственным местам знания.
И во взятом в пример городе нередко бывает, что иные, являясь соплеменниками и родственниками, не одними воротами вступают в город, но, по случаю одни войдя тем, другие — другим входом, тем не менее, как скоро прибудут внутрь стенной ограды, снова между собою сходятся, имея взаимные связи. А можно найти, что бывает наоборот: ничем не соединенные и незнакомые друг с другом пользуйся часто одним входом в город, но общение при входе не связывает их между собою, потому что, войдя в город, могут отделиться к соплеменникам. Подобное нечто усматриваю и в обширной области ума. Нередко из разных органов чувств собирается в нас одно познание, так как один и тот же предмет многочастно делится по чувствам, а бывает также и обратное: одним каким–либо чувством познаем многое и разнообразное, ни с чем по природе между собой несходное. Например (ибо всего лучше уясняется понятие примерами): пусть предлагается сделать разыскание о свойстве соков–что сладко для чувства и отвратительно для вкушающих. По опыту найдены и горечь желчи, и сладость качества в меде. При разности этих вещей одно доставляет познание один и тот же предмет, многочастно вселяемый в мысль или вкусом, или обонянием, или слухом, нередко же осязанием и зрением. Потому что видит ли кто мед, слышит ли имя его, пробует ли на вкус, обонянием ли познает запах, испытывает ли осязанием — каждым из органов чувств приобретает познание об одном и том же предмете. Но разнообразно также и многовидно то, чему научаемся с помощью одного какого–либо чувства, потому что слух принимает всякие звуки и понимание, приобретаемое посредством глаз, безразлично действует при взгляде на различные предметы, потому что одинаково встречается и с белым, и с черным, и со всеми до противоположности различными цветами. А то же сказать подобает и о вкусе, то же — и об обонянии, то же — о понимании посредством осязания; каждое чувство свойственным ему пониманием дает познание о предметах всякого рода.
Глава одиннадцатая
О том, что естество человеческое неуразумеваемо
Поэтому что же такое по природе своей ум, который уделяет себя чувственным силам и каждой приобретает сообразное ей познание о существах? Что он есть нечто иное от чувств, в этом, думаю, не сомневается никто из здравомыслящих. Если бы ум был одно и то же с чувством, то, конечно, имел бы сродство с одной из чувственных деятельностей, потому что он прост и в простом не усматривается разнообразия. Но теперь в сложности всех чувств иное нечто есть осязание, и иное — обоняние, также и другие чувства между собой разобщены и не смешиваются, тогда как ум равно присущ каждому чувству;
поэтому непременно надлежит предположить естество ума чем–то отличным от чувства, чтобы к умопредставляемому не примешалось какого–либо разнообразия. Кто разуме ум Господень? — говорит апостол (Рим. 11, 34). А я присовокуплю к этому: кто уразумел собственный свой ум? Пусть скажут утверждающие, что разумением своим объяли естество Божие, уразумели ли они себя самих? Познали ли естество собственного своего ума? Есть ли он что–либо многочастное и многосложное и поэтому умопредставляемое в сложности? Или ум есть какой–то способ срастворять разнородное? Но ум прост и несложен; как же рассеивается в чувственной многочастности? Отчего в единстве разнообразное? Как в разнообразии единое?
Но нашел я решение этих недоумении, прибегнув к Божию слову. Ибо сказано: Сотворим человека по образу нашему и по подобию (Быт. 1, 26). Образ, пока не имеет недостатка ни в чем представляемом в первообразе, в собственном смысле есть образ, но, как скоро лишается в чем–либо подобия с первообразом, в этом самом не есть уже образ. Поэтому так как одним из свойств, усматриваемых в Божием естестве, является непостижимость сущности, то по всей необходимости и образ в этом имеет сходство с Первообразом. Если бы естество образа оказалось постижимым, а Первообраз был выше постижения, то эта противоположность усматриваемых свойств обличила бы погрешительность образа. Но как не подлежит познанию естество нашего ума, созданного по образу Сотворившего, то имеет он точное сходство со Сверхсущностным, непознаваемостью своею отличая непостижимое свое естество.
Глава двенадцатая
Исследование о том, в каком месте должно полагать владычественное души, и учение естествословия о слезах и смехе, также естественное некое рассуждение об общении вещества, естества и ума
Поэтому да умолкнет всякое водящееся догадками пустословие заключающих мыслительную деятельность в каких–либо телесных членах. Одни из них полагают, что владычественное души — в сердце, другие говорят, что ум пребывает в головном мозгу, и такие мнения подтверждают некоторыми слабыми вероятностями.
Предполагающий владычество в сердце в доказательство своего положения приводит местное положение сердца, так как оно, по–видимому, занимает середину всего тела чтобы произвольное движение из середины удобно уделялось всему телу и таким образом приходило в деятельность. А в подтверждение своего учения предъявляет скорбное и раздраженное расположение человека, а именно что такие страстные движения, по–видимому, этот орган в теле возбуждают к состраданию.
А те, которые головной мозг освящают в храм рассудку, говорят, что голова устроена природой как твердыня всего тела и в ней, как некий царь, обитает ум, окружаемый органами чувств, как бы некими предстоящими перед ним вестниками или щитоносцами. И в доказательство такого мнения представляют они, что, у кого повреждена мозговая оболочка, у тех рассудок действует неправильно, и, у кого голова отяжелела от упоения, те делаются не знающими приличия.
Каждый же из защитников этих мнений присовокупляет и другие, более естественные причины своей догадки о владычественном в душе. Ибо один утверждает, что движение мысли имеет сродство с огненной стихией, потому что и огонь и мысль приснодвижны. И поскольку, по общему признанию, из сердца источается теплота, то, утверждая поэтому, что движение ума срастворяется приснодвижностью теплоты, говорит, что сердце, в котором заключается теплота, есть вместилище умного естества. А другой рассуждает, что мозговая оболочка (ибо так называют плеву, объемлющую собою головной мозг) есть как бы основание и корень всех органов чувств, И этим уверяются в своем положении, что умственная деятельность имеет седалище не в ином месте, а в той части, с которой соединенное ухо отражает входящие в него звуки; и зрение, связанное основанием вместилища глаз вследствие входящих в зеницы образов, производит внутри их отпечатление; и качества испарений в этой части различаются при втягивании их ноздрями; и чувство вкуса оценивается различением мозговой оболочки, которая вблизи от себя пускает несколько волокнистых чувствительных отпрысков по шейным позвонкам до сетчатого прохода в находящихся тут мускулах.
Признаю и я справедливым, что мыслительная сила души часто приводится в замешательство при усилении страданий и рассудок ослабевает в естественной ему деятельности от какого–либо телесного обстоятельства, а также, что некоторым источником огненного начала в теле является сердце, приводимое в движение с порывами раздражения. А сверх того, что в основании органов чувств лежит мозговая оболочка, по словам естествословов покрывающая собою головной мозг и умащаемая исходящими оттуда испарениями, слышав от занимавшихся анатомическими исследованиями, не отрицаю таких сказаний. Но не принимаю этого в доказательство, что бесплотное естество объемлется какими–либо местными очертаниями. Ибо дознали мы, что расстройство ума бывает не от одной головной боли, но и при болезненном состоянии плев, связывающих подреберные члены; страждет также мыслительная сила, как утверждают сведущие во врачебной науке, называя болезнь эту бешенство, потому что именование этим плевам — грудобрюшные. И это ощущение скорби ошибочно разумеется происходящим в сердце, потому что при колочении не в сердце, а в брюшном отверстии по неопытности относят страдание к сердцу. Подобное нечто усматривают с точностью вникавшие в болезненные состояния, а именно что от естественно происходящего во всем теле ослаблении волокон при скорбных расположениях и при завалах все препятствующее свободному дыханию скопляется в самих внутренних пустотах. Почему при стеснении служащих к переведению дыхания внутренностей тем, что окружает их, втягивание в себя воздуха делается часто насильственным, потому что сама природа расширяет стесненное, чтобы раздвинуть сжавшееся. Такое же трудное дыхание признаем припадком скорби, называя вздохом и стоном. Но кажущееся стеснение в сердечной сорочке есть неприятность, ощущаемая не в сердце, а в брюшном отверстии по той же самой, разумею, причине, по которой при ослаблении волокна, желчеприемный сосуд от стеснения изливает и это колочение и эту едкую мокроту на брюшное отверстие. Доказательство же этого — то, что у огорченных и наружность делается бледноватой и желтоватой от чрезмерного скопления желчи, разливающей свою влагу по кровеносным жилам.
Но еще более подтверждает мысль мою то движение, которое происходит от противоположной причины, разумею веселие и смех. Ибо от удовольствия разрешаются и расширяются как–то телесные волокна в услаждаемых каким–либо приятным слухом. Как там от скорби замыкаются тонкие и незаметные отдушины волокон и, сжимая внутреннее расположение внутренностей, к голове и мозговой оболочке возгоняют влажное испарение, которое, во множестве будучи принято пустотами головного мозга, но волокнам, находящимся в его основании, гонится к глазам, откуда сжиманием бровей извлекается каплями влага, и эта капля называется слезою, так представь себе, что в противоположном этому расположении более обыкновенного расширены волокна и ими во внутренность втягивается какой–то воздух, а оттуда силою природы изгоняется опять проходом, идущим ко рту, причем гонят вместе такой воздух все внутренности, более же всего печень, как говорят, с каким–то порывистым и кипучим движением. Почему природа, устраивая Удобство для выхода воздуха, расширяет идущий ко рту проход, при выдыхании в обе стороны раздвигая щеки, и что бывает при этом, то называется смехом.
Итак, не подобает заключать из этого, что владычественное Души — в печени, а также по причине воскипения крови в грудобрюшии во время раздражительных расположении полагать, что местопребывание ума — в сердце. Но, хотя и должно это зависеть от известных органов в телах, однако же следует при этом полагать, что ум но необъяснимому закону срастворения без предпочтительности соприкасается с каждым членом.
Если иные противопоставят нам в этом Писание, свидетельствующее, что владычествепное души — в сердце, то не без исследования примем слово. Ибо упомянувший о сердце упомянул и о почках, сказав: Испытали сердца и утробы Боже (Пс. 7, 10), а этим показал, что или в том и другом или ни в том ни в другом не заключена умственная сила.
Узнав, что умственные деятельности при известном расположении тела слабеют или совсем бездейственны, не признают этого достаточным доказательством того, что сила ума ограничивается каким–либо местом, так что с появлением местных опухолей и ум уже не имеет для себя простора. Ибо телесно такое мнение, будто бы, когда сосуд занят чем–нибудь в него вложенным, ничему другому не найти уже для себя в нем места. Умное естество и в пустотах телесных вселяться не любит, и преизобилием плоти не изгоняется. Но поскольку тело устроено подобно музыкальному инструменту, то, как нередко случается, что искусные в музыке не могут показать своего искусства по негодности инструментов, не поддающихся искусству (и свирель, поврежденная временем, или разбитая от падения, или сделавшаяся негодной от ржавчины и плесени, не издает звука и не действует, хотя дует в нее признаваемый искуснейшим игроком на свирели), так и ум, действуя на целый инструмент и сообразно с умственными деятельностями прикасаясь, по обычаю, к каждому члену, в тех из них, которые в естественном положении, производит, что ему свойственно, а в тех, которые отказываются принимать художническое его движение, остается безуспешным и бездейственным. Ум обыкновенно состоит в каком–то свойстве с тем, что в естественном положении, и чужд тому, что выведено из этого положения.
И мне более естественным кажется, с одной стороны, то умозрение, с помощью которого можно познать одно из лучших учений. Поскольку прекраснейшее и превосходнейшее из всех благ есть само Божество, к которому устремлено все вожделевающее прекрасного, то утверждаем поэтому, что и ум, как созданный по образу Наилучшего, пока, сколько можно ему, причастен подобия Первообразу и сам пребывает в красоте; если же сколько–нибудь уклонится от этого подобия, лишается красоты, в которой пребывал. А как, по сказанному нами, ум украшается подобием первообразной красоты, подобно какому–то зеркалу, которое делается изображающим черты видимого в нем, то сообразно с этим заключаем, что и управляемое умом естество держится его и само украшается предстоящей красотой, делаясь как бы зеркалом зеркала, а им охраняется и поддерживается вещественное в том составе, естество которого рассматривается. Поэтому, пока одно другого держится, во всем соразмерно происходит общение истинной красоты, посредством высшего украшается непосредственно за тем следующее. А когда произойдет некое расторжение этого доброго единения или, наоборот, высшее будет низшим, тогда, как скоро само вещество отступит от природы, обнаруживается его безобразие (потому что вещество само в себе безобразно и неустроено), и безобразием его портится красота естества, украшаемого умом. И, таким образом, совершается естеством передача испорченности вещества самому уму, так что в чертах твари не усматривается уже образ Божий. Ум, составляя в себе образ доброт, подобно кривому зеркалу, оставляет неизображенными светлые черты добра, отражает же в себе безобразие вещества. И, таким образом, совершается происхождение зла, производимое изъятием прекрасного. Прекрасно же все то, что состоит в свойстве с первоначальным благом, а что вне сношения и сходства с этим, то, несомненно, чуждо прекрасного. Поэтому если по рассмотренному нами истинное благо одно и ум по тому уже, что создан по образу прекрасного, сам имеет возможность быть прекрасным и естество, поддерживаемое умом, есть как бы некий образ образа, — то доказывается этим, что вещественное образуется в нас и приводится к своему концу, когда управляет им естество; разрушается же снова и распадается, когда разлучено с преобладающим и поддерживающим и расторгнуто его единение с прекрасным. А подобное этому не иначе происходит, как при обращении естества к обратному порядку, когда пожелание склоняется не к прекрасному, а к тому, что само имеет нужду в украшающем. Ибо при нищете вещества в собственном своем образе уподобляющееся ему по всей необходимости преобразуется в нечто некрасивое и безобразное.
Но это в некоторой последовательности разыскано нами, как входящее в предмет обозрения. Ибо вопрос был о том, в одной ли какой части нашего тела помещается умственная сила или равно простирается на все части. И как ограничивающие ум местными частями в подтверждение такого своего предположения представляют, что мысль не благоуспешно действует у имеющих мозговые оболочки в неестественном состоянии, то наше слово доказало, что во всякой части человеческого состава, которой обычно каждый действует, сила дууши равно пребывает бездейственной, когда часть эта не в естественном состоянии. А из этого последовательно вытекло предложенное в слове умозрение, из которого узнаем, что в человеческом составе ум управляется Богом, а умом — наша вещественная жизнь, когда она в естественном состоянии. Если же уклоняется от естества, то делается чуждой и деятельности ума.
Но возвратимся опять к тому, с чего начали, а именно что в тех, которые не вышли из естественного состояния вследствие какого–либо страдания ум действует свойственной ему силой и крепок в хорошо устроенных и, наоборот, делается немощным в тех, которые не дают в себе места его деятельности. Можно и другими доказательствами подтвердить вероятность учения об этом, И если не обременительно для слуха утружденных уже словом, сколько можем, рассудим кратко и об этом.
Глава тринадцатая
Исследование о сне, зевоте и сновидениях
Вещественная и быстро протекающая жизнь тел, всегда движущаяся вперед, в том и имеет силу бытия, что никогда не останавливается в движении. Как какая–нибудь река, текущая по своему направлению, хотя то углубление, по которому течет, показывает полным, однако же в ней не всегда видима одна и та же вода в одном и том же месте, но одна уже протекла, а другая притекает, так и вещественное в здешней жизни вследствие какого–то движения и течения меняется от непрерывного преемства противоположностей, так что никогда не может стать без изменения, но при невозможности прийти в неподвижность продолжает непрестанное движение, подобное заменяя подобным. Если же когда движимое прекратит свое движение, то непременно произойдет и прекращение существования. Например: за полнотою последовала пустота, и место пустоты заняла опять полнота; сон ослабил напряженное в бодрствовании, потом бодрствование привело в напряжение то, что было ослаблено. И никакое из этих состояний не продолжается вместе с другим непрестанно, но оба уступают место друг другу при появлении того и другого, и, таким образом, естество этими переменами обновляет само себя, так что, непрестанно пребывая в том или другом состоянии, переходит из одного в другое. Ибо в живом существе всегдашнее напряжение деятельностей производит какой–то разрыв и расторжение напрягаемых членов, а непрестанный покой тела приводит состав его в какой–то упадок и в расслабление. Если же вовремя и умеренно быть в том и другом состоянии, то это дает естеству силу к поддержанию себя; при постоянном переходе из противоположности в противоположность в одной из них находит оно себе упокоение от другой. Так, переход этот, когда тело напряжено бодрствованием, ослабляет в нем напряжение сном, на время прекращая деятельность сил чувственных, подобно тому как и коней после состязания отъединяют от колесниц.
Благовременный же отдых для телесного состава необходим, чтобы пища беспрепятственно разошлась но всему телу известными в нем для этого путями, тогда как никакое напряжение не мешает этому переходу. Что бывает с увлажненной землей, когда солнце осветит ее теплыми лучами: из глубины ее извлекаются некие туманные пары; подобное этому происходит и с нашей землей, когда пища воскипает внутри естественной теплоты. Пары, которые по природе стремятся вверх, воздухообразны и переходят в то, что над ними, собираются в головных помещениях, подобно какому–то дыму, ищущему выхода себе в стенные пазы. Потом, испаряясь отсюда по волокнам органов чувств, перемешиваются, и от них по необходимости в бездействие приходит чувство, давая свободный проход этим парам. Зрение преграждается ресницами, которые опускает на глаза как бы наложенный какой–то свинец — такова их тяжесть. Слух, ослабнув от этих же самых паров, как будто от наложенной какой двери на слуховые члены, успокаивается от естественной деятельности. Такое страдательное состояние есть сон, во время которого чувство в теле бездейственно и всякое естественное движение неисполнимо, чтобы передача пищи, проходящей вместе с парами по каждому из внутренних путей сообщения, совершалась удобно.
Поэтому–то, если чувственный орган стеснен внутренним испарением, а сну мешает какая–либо потребность, то волокна, наполнившись парами, сами собою естественно напрягаются и вследствие напряжения ослабевший от паров орган утончается, как подобное нечто делают выжимающие из одежд воду, для чего сильно их скручивают. И поскольку части горла округлены и изобилуют волокнами, то, когда нужно изгонять из них сгустившиеся пары (так как круговидную часть невозможно вытягивать по прямой черте, если не будет растянута в окружности, то по этой причине по принятии в себя человеком воздуха во время зевоты, когда в подбородке внизу горловым языком производится впадина и все, что внутри, растягивается в виде круга), дымная эта густота, угрожавшая этим членам, выдыхается вместе с выдыхаемым воздухом. Но известно, что подобное этому случается нередко и после сна, когда сколько–нибудь паров остается в местах, из которых пет выхода и выдыхания.
Итак, ум человеческий ясно этим доказывает, что поступает он согласно с естеством; если, когда оно здорово и бодрствует, и сам действует и бывает в движении, а когда погружено в сон, и сам остается неподвижным, если только и сонного мечтания не примет кто за движение ума, происходящее во время сна. Но мы утверждаем, что одну рассудительную и здравую деятельность мысли подобает приписывать уму, а о мечтательных и сонных грезах, как о неких призраках умственной деятельности, думает так, что составляютсяя случайно той душой, котоая неразумна. Ибо, когда душа отрешена сном от чувств, тогда по необходимости приходится ей быть и вне умственной деятельности, потому что посредством чувтств в человеке происходит срастворение ума и потому, когда чувства не действуют, по необходимости бездейственна и мысль.
Доказательством служит то, что мечтающий во сне часто представляет себе неуместное и невозможное, чего не было бы, если бы душа и тогда управлялась рассудком и размышлением. Но мне кажется, что в душе покоятся превосходнейшие ее силы, — разумею умственную и чувственную деятельность, — действует же во время сна одна только питательная ее часть. В ней–то некие подобия бывшего наяву и отголоски произведенного чувством и мыслью, какие только отпечатлены в ней памятливой силой души, вновь, как ни есть, живописуются, если только в такой душевной способности сохранился какой напоминающий отголосок. Об этом мечтает человек, не какой–либо неразрывной связью доводимый до собеседования с видимым, но обольщаемый смешанными и непоследовательными обманчивыми представлениями.
Но, как в телесных действиях, когда каждый член производит что–нибудь особо по данной ему от природы силе, бывает некое и покоящегося члена соучастие с движимым, подобно этому и в душе, если одна часть покоится, а другая — в движении, и целое соучаствует с частью. Ибо невозможно совсем расторгнуться естественному единству, когда какая–либо из естественных сил преобладает отчасти своей деятельностью. Но, как в бодрствующих и старательных преобладает ум, чувство же прислуживает, и не отстает от них и правящая телом сила, потому что ум по мере потребности снабжает пищею, чувство принимает доставленное, а питательная сила тела усваивает себе поданное, — так и во сне извращается как–то в нас владычество этих сил и при преобладании селы неразумной прекращается деятельность других сил, но не уничтожается совершенно. И как тогда питательная сила возбуждена сном к пищеварению и все естество занимает собою, то и не совсем отрешается от нее сила чувственная (ибо невозможно тому разделиться, что единожды соединилось) и не приходит в силу ее деятельность, бездействием органов чувств останавливаемая во время сна. А как по тому же закону и ум состоит в связи с чувственной способностью души, то следует сказать, что, когда в движении эта способность, и он приходит в движение, а когда та в покое, покоится с нею вместе. Нечто подобное этому бывает обыкновенно с огнем, когда отовсюду покрыт он соломой, так что никакое дуновение не возбуждает пламени, тогда и лежащего близко к нему не поедает и не угасает совершенно, но вместо пламени сквозь солому выходит в воздух какой–то пар. А если подует на него что–нибудь, то дым обращается в пламя. Таким же образом и ум, во время сна закрытый бездействием чувств, и не в состоянии через них явить силу свою, и не угасает совершенно, но движется, как нечто дымящееся, отчасти действуя несколько, отчасти не имея возможности действовать. И, как иной музыкант, налагая смычок на ослабевающие струны лиры, не по размеру выводит песнь, потому что ненатянутая струна не может издать звука, но, хотя рука производит часто искусные движения, водя смычком сообразно с местным положением тонов, однако же звуков нет, а разве только при движении струн отдается какой–то глухой и нескладный звон, так, когда сном ослаблен инструмент органов чувств или вовсе упокоевается художник, если инструмент от какого–то переполнения или обременения терпит совершенное расслабление, или действует несильно и слабо, потому что инструмент чувства не принимает в себя искусства в точности.
Потому и сбивчивая память, и предусмотрительность, дремлющая под какими–то наложенными покровами, представляют подобия того, что озабчивало наяву, и нередко указывают нечто из сбывающегося. Ибо по тонкости естества душа имеет нечто большее сверх телесной дебелости и может усматривать иное из действительно существующего. Впрочем, не может с какой–либо прямотой объяснить сказуемое, чтобы наставление о предстоящем было ясно и открыто, что рассуждающие о подобных вещах называют загадкою. Так виночерпий выжимал гроздь в чашку Фараонову, так хлебодар представлял, что несет кошницы, — чем каждый занимался наяву, тем же занимающимся почитал себя и в сновидении. Подобия обычных им занятий, отпечатлевшиеся в предусмотрительной способности души, подали случай по такому пророчеству ума предугадать о том, что сбылось при времени.
Если же Даниил и Иосиф и подобные им без всякого у них смущения чувств Божественной силой обучаемы был ведению будущего, то это не относится к настоящему слову. Ибо никто да не вменяет этого силе сновидения, так как иначе вследствие этого и наяву бывающие Богоявления почтет, конечно, не видением, но самослучайно производимым обычным делом естества. Поэтому, как из всех людей, управляющихся собственным умом, немного таких, которые удостаиваются явного собеседования с Богом, так, хотя у всех вообще бывают равного достоинства естественные сонные видения, только некоторые, а не все делаются в сновидениях причастными Божественного некоего откровения. А всем другим если сообщается в сновидениях некое предведение о чем–нибудь, то бывает это сказанным выше способом.
Если же египетский и ассирийский властители Самим Богом путеводимы были к ведению будущего, то в этом особенное было Божие смотрение. Явной должна была сделаться сокровенная мудрость святых, чтобы не без общей пользы совершить ей течение в жизни. Как было бы узнано, что таков Даниил, если бы обаятели и волхвы не оказались бессильными открыть сонное видение? Как спасся бы народ египетский, если бы Иосифа, заключенного в темнице, не вывело на среду истолкование сновидения? Поэтому в этом есть нечто иное и не надлежит заключать об этом по обыкновенным сновидениям.
Само обычное видение снов есть общее для всех и состоит в представлениях разного рода и вида. Ибо или, как сказано, в памяти у души остаются отголоски ежедневных занятий, или нередко состояние снов сообразуется с известными расположениями тела. Так, жаждущему кажется, что он у источников; и нуждающемуся в пропитании — что он на пиру; и юноше во цвете сил мечтается сообразное его страсти и возрасту.
Но узнал я и другую причину бывающего во сне, ухаживая за одним из близких мне, подвергшимся умопомешательству. Обремененный пищей, принятой в количестве, превышавшем силы его, кричал он, укоряя вокруг стоявших за то, что наполнили желудок его мерзостью и возложили на него тяжкое бремя. И, когда тело у него готово уже было покрыться потом, жаловался, что у присутствующих приготовлена вода прыскать ей на лежащего. И он не переставал кричать, пока причины таких укоризн не объяснил конец дела. Ибо вдруг потек из тела сильный пот и разрешившийся желудок показал бывшую во внутренностях тяжесть. Потому что при ослабленной болезнью трезвости терпела природа, соучаствовавшая в страдании тела, не чувствуя приводящего ее в беспокойство и по болезненному расстройству уже не имея сил привести в ясность причиняющую скорбь, то, как и следовало, если бы мыслительная сила души была усыплена и не болезнью, но естественным сном, У находящегося в таком состоянии могло сделаться сновидением, в котором водою означалось облитие потом, а тяжестью внутренностей — обременение пищей. И многим из обучавшихся врачебной науке кажется то же, а именно что но различию страданий бывают у больных и сонные видения: иные — у имеющих расстроенный желудок; иные — у людей с поврежденными мозговыми оболочками; иные — у больных горячкой; не одни и те же — у страдающих от желчи и от мокрот; опять иные — у полнокровных и у изнеможденных. Из этого можно видеть, что питательная и растительная сила души имеет нечто всеянное в нее от умственной силы вследствие срастворения и это некоторым образом уподобляется известному расположению тела, сообразно преобладающей страсти преобразуясь в сонных мечтах. Еще составляются сновидения у многих по состоянию нравов: иные мечтания — у человека мужественного, и иные — у боязливого; иные сновидения — у невоздержанного, и иные — у целомудренного; об ином грезит человек щедрый, и об ином — ненасытный. И такие мечтания образует в душе вовсе не мысль, но неразумное расположение; о чем привыкла душа размышлять наяву, образы того составляет она в сновидениях.
Глава четырнадцатая
О том, что ум не в какой–либо части тела, и о различии телесных и душевных движений
Но далеко уклонились мы от предположенного. Слово наше имело для себя целью показать, что ум не привязан к какой–либо части тела, но равно прикосновен ко всему телу, сообразно с природой производя движение в подлежащем его действию органе. Бывает же иногда, что ум следует и естественным стремлениям, как бы делаясь слугой. Ибо нередко управляет им естество телесное, влагая в него и чувство скорбного, и вожделение увеселяющего, почему естество это доставляет и первые начала, производя или пожелание пищи, или вообще побуждение к какому–нибудь удовольствию, а ум, принимая такие побуждения, но собственным своим примышлениям доставляет телу средства к получению желаемого. Но не со всеми бывает подобное этому, а только с имеющими более грубые расположения — с людьми, которые, поработив разум естественным побуждениям, при содействии ума отыскивая усладительное для чувств, раболепно льстят им; с более же совершенными бывает не так: ими правит ум, избирая полезное разуму, а не страсти, естество же идет по следам правителя.
А как слово наше открыло разности в жизненной силе: силу питательную без чувства, силу питательную и растительную, чуждую разумной деятельности, силу разумную и совершенную, распоряжающуюся всякой другой силой, так что можно существовать и при тех силах и иметь превосходство по умственной силе, то никто да не предполагает поэтому, что в человеческом составе существуют три души, усматриваемые в особых своих очертаниях; почему можно было бы думать, что человеческое естество есть некое сложение многих душ. Напротив того, истинная и совершенная душа по естеству одна, умная и невещественная, посредством чувств соединенная с естеством вещественным. А все вещественное, подлежа превратности и изменению, если соделается причастным одушевляющей силы, придет в движение возрастанием; если же лишится жизненной деятельности, кончит движение тлением. Поэтому не бывает ни чувства без вещественной сущности, ни деятельности умственной силы без чувства.
Глава пятнадцатая
О том, что душой в собственном смысле и является, и называется душа разумная, другие же именуются так по подобоименности, и о том, что сила ума простирается на все тело, касаясь его сообразно с каждым членом
Если иная тварь имеет питательную деятельность, а другая упражняется силой чувствующей и первая не имеет чувства, а последняя — естества умного и поэтому предполагает кто–либо множество душ, то такой не объяснит различия душ отличительными их чертами. Ибо все мыслимое в существах, если представляется в уме совершенно тем, что оно есть, в собственном смысле именуется придаваемым ему именем. А если что не во всех чертах есть то, чем наименовано, то напрасно носит это название. Например, если кто покажет настоящий хлеб, то скажем, что такой в собственном смысле это имя придает предмету, а если кто вместо естественного хлеба покажет сделанный искусственно из камня, у которого и вид такой же, и равная величина, и есть подобие в цвете, так что по многому кажется он одним и тем же с Первообразом, недостает же ему одного — возможности служить пищей, — то на это скажем, что камень получил название хлеба не в собственном смысле, но не по точному словоупотреблению. На том же основании и все, о чем сказывается что–либо, не во всех отношениях принадлежащее этому, имеет название не по точному словоупотреблению. Так, поскольку и совершенство души в умной силе и дар слова, то все, что не таково, может быть чем–то подобоименным душе, однако же есть не действительная душа, а некая жизненная деятельность, названием приравниваемая душе.
Поэтому естество бессловесных, как недалеко отстоящее от этой естественной жизни, Узаконивший о всем отдал также в употребление человеку, чтобы оно вместо зелий служило вкушающим. Ибо говорит: Едите всякое мясо, яко зелие травное (Быт. 9, 3). Так невелико кажется преимущество у чувствительной деятельности перед питательной и растительной без чувствительной!
Да научит это плотолюбцев не обращаться много мыслью к поразительному для чувств, но обращать внимание на преимущества душевные, так как в них усматривается истинная душа, а чувство есть в равной мере и у бессловесных.
Но последовательность слова привела нас к иному. Ибо обозрению нашему предстояло не то доказывать, что из представляемого мыслью о человеке важнее умственная деятельность, нежели вещественное в составе, но что ум у нас не заключается в каких–либо частях, а равно и во всех и во всем, и не объемля их извне, и не содержась внутри их, ибо это в собственном смысле говорится о сосудах или других телах, друг в друга вкладываемых. Общение же ума с телесным состоит в каком–то невыразимом и немыслимом соприкосновении; оно и не внутри происходит, потому что бестелесное не удерживается телом, и не объемлет извне, потому что бестелесное не окружает собою чего–либо. Напротив того, Чудным и недомыслимым каким–то способом ум, приближаясь к естеству и соприкасаясь с ним, примечается и в нем, и около него, но не в нем восседая и не объемля его собою, а так, что того сказать или представить умом невозможно, кроме одного, а именно что, когда естество по особой его связности в добром состоянии, тогда и ум бывает действенен, если же оно потерпит какую–то утрату, по мере ее и движение бывает погрешительно.
Глава шестнадцатая
Взгляд на Божественное изречение, в котором сказано: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт. 1, 26), причем подвергается исследованию, что означается словом образ: уподобляется ли блаженному и бесстрастному страстное и привременное и как в образе мужской и женский пол, когда нет их в Первообразе
Но возвратимся опять к Божию слову: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт. 1, 26). Как низко и недостойно естественного величия человека представляли о нем иные из язычников, величая, как они думали, естество человеческое сравнением его c этим миром! Ибо говорили: человек есть малый мир, состоящий из одних и тех же со Вселенной стихий. Но, громким этим именованием воздавая такую похвалу человеческой природе, сами того не заметили, что почтили человека свойствами комара и мыши, потому что и в них растворение четырех стихий, почему какая–либо большая или меньшая часть каждой из них непременно усматривается в одушевленном, а не из них неестественно и составиться чему–либо одаренному чувством. Потому что важного в этом — почитать человека образом и подобием мира, когда и небо преходит, и земля изменяется, и все, что в них содержится, преходит прохождением содержащего. Но в чем же, по церковному учению, состоит человеческое величие. Не в подобии тварному миру, но в том, чтобы быть по образу естества Сотворившего. Поэтому что же означается словом «образ»?
Может быть, спросишь: как уподобляется телу бестелесное, вечному временное, неизменяемому — что круговращательно изменяется, бесстрастному и нетленному — страстное и тленное, чуждому всякого порока — что всегда с ним живет и воспитывается? Великое расстояние между тем, что умопредставляется по Первообразу и что созидается по образу. Образ, если он подобен Первообразу, в собственном смысле называется образом; если же подражание далеко от предположенного, то все такое есть нечто иное, а не образ того, чему подражают. Как же человек — существо смертное, страстное, скоропреходящее — есть образ естества беспримесного, чистого, всегда сущего? Но истинное об этом учение ясно ведать возможно одной в подлинном смысле Истине, а мы, сколько вмещаем, некими догадками и предположениями следя за Истиною, о предмете исследования думаем так.
И Божие слово, изрекшее, что человек создан по образу Божию, не лжет; и жалкая бедность естества человеческого не уподобляется блаженству бесстрастной жизни. Ибо, если сравнит кто естество наше с Богом, необходимо признать одно из двух; что или Божественное естество страстно, или человеческое бесстрастно, — чтобы понятие подобия могло быть прилагаемо к обоим. Если же и Божественное не страстно, и наше не чуждо страсти, то остается, значит, другое какое–либо понятие, по которому утверждается истинность Божественного изречения, сказывающего, что человек создан по образу Божию. Следовательно, подобает нам возвратиться к самому Божественному Писанию, нет ли в написанном какого руководства к решению вопроса? После сказанного: Сотворим человека по образу — Писание и о том, для чего сотворим, присовокупляет следующее: И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его: муж и жену сотвори их (Быт. 1, 27). Хотя сказано было выше, что такое слово провозглашено в низложение еретического нечестия, и мы, научившись, что Единородный Бог сотворил человека по образу Божию, никоим образом не должны различать Божества в Отце и Сыне, когда Святое Писание Того и Другого равно именует Богом, Который и сотворил человека, и но образу Которого создан человек; но речь об этом пусть будет оставлена, вопрос же должен обратиться к исследованию предлежащего: почему и Божественное естество блаженно, и человеческое бедственно, а в Писании последнее именуется подобным первому? Поэтому с точностью исследовать должно речения, ибо найдем, что нечто иное есть созданное по образу, и иное — ныне оказывающееся бедственным.
Сказано: Сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, творение созданного по образу приводится к окончанию. Потом делается повторение сказанного об устроении и говорится: Мужа и жену сотвори их. Для всякого, думаю, понятно, что это следует разуметь, не относя к Первообразу, ибо во Христе Иисусе, как говорит апостол, несть мужеский пол ни женский (Гал. 3, 28). Однако же слово сказывает, что человек разделен на эти полы. Поэтому устроение естества нашего есть некое двоякое: одно уподобляемое естеству Божественному и другое разделяемое на разные полы. Нечто подобное этому дает подразумевать Писание словосочинением написанного, сперва сказав: Сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его — и потом присовокупив к сказанному: Мужа и жену сотвори их, что чуждо умопредставляемому о Боге. Ибо думаю, что Божественным Писанием в сказанном преподается некий великий и возвышенный догмат, и он таков: человеческое естество есть среднее между двух некоторых, одно от другого разделенных и стоящих на самых крайностях, между естеством Божественным и бестелесным и между жизнью бессловесной и скотской, потому что в человеческом составе можно усматривать часть того и другого из сказанных естеств, из Божественного — словесность и разумность, что не допускает разности в мужском и женском поле, и из бессловесного — телесное устроение и образование, разделяемое на мужской и женский пол. То и другое из этих естеств непременно есть во всяком причастном человеческой жизни. Но, как дознаем от изложившего по порядку происхождение человека, умное в нем первенствует, прирождено же человеку общение и сродство с бессловесным. Ибо Писание сперва говорит: Сотвори Бог человека по образу Божию, показывая этими словами, как говорит апостол, что в таковом несть мужеский пол ни женский; потом присовокупляет отличительные свойства человеческого естества, а именно: Мужа и жену сотвори их. Поэтому что же узнаем из этого?
Да не понегодует на меня кто–либо, что издалека поведу речь о настоящей мысли. Бог по естеству Своему есть всякое то благо, какое только можно объять мыслью, или, лучше сказать, будучи выше всякого блага и мыслимого, и простираемого, Он творит человека не но чему–либо иному, а только потому, что благ. Будучи же таковым и поэтому приступив к созданию человеческого естества, не в половину показал могущество благости, дав нечто из того, что у Него есть, и поскупившись в этом общении. Напротив того, совершенный вид благости в Боге состоит в том, что приводит человека из небытия в бытие и соделывает его нескудным в благах. Поскольку же подробный список благ велик и обозначить их числом неудобно, то Божие слово, в кратком изречении совокупив все блага, обозначило их, сказав, что человек создан по образу Божию. Ибо это значит то же, что и сказать: соделал естество человеческое причастным всякого блага, потому что, если Божество есть полнота благ, а человек Его образ, то, значит, образ в том и имеет подобие Первообразу, что исполнен всякого блага. Следовательно, в нас есть представление всего прекрасного, всякая добродетель и мудрость, все, что только есть умопредставляемого о наилучшем. Одним из числа всего необходимо является и это — быть свободным, не подчиняться какому–либо естественному владычеству, но иметь самовластную, по своему усмотрению решимость, потому что добродетель есть нечто неподвластное и добровольное, принужденное же и невольное не может быть добродетелью.
Итак, поскольку образ во всем носит на себе черты первообразной красоты, то, если бы не имел в чем–либо различия, был бы уже, конечно, не подобием, но казался бы по всему тем же самым, во всем неотличным. Поэтому какое же различие усматриваем между самим Божеством и уподобляемым Божеству? То, что Божество не создано, а подобие произведено творением. А различие такого свойства сопровождалось опять различием других свойств. Ибо всеми непременно признается, что естество несотворенное непременно и всегда таково же; естество же тварное не может пребывать без изменения, потому что сам переход из небытия в бытие есть некоторое движение и изменение в существующее несуществовавшего, прелагаемого по Божественному изволению. И, как черты кесаря на меди Евангелие называет образом, из чего дознаем, что, хотя по внешнему виду в изображении есть подобие кесарю, однако же в действительности имеется различие, так и, согласно с настоящим словом, разумея вместо черт то из усматриваемого в Божественном и человеческом естестве, в чем есть подобие, на самом деле находим различие, какое примечается в несотворенном и сотворенном. Итак, поскольку несотворенное пребывает одинаковым, и притом всегда, а приведенное в бытие творением начинает и существование изменением и сродственно такому образу бытия, то Сведый вся прежде бытия их (Дан. 13, 42), как говорит пророчество, соображаясь с тем или, лучше сказать, подразумевая силой предведения, к чему склонно движение человеческого произвола по самоуправству и самовластию (поскольку знал будущее), изобретает для образа различие мужского и женского пола, которое не имеет никакого отношения к Божественному Первообразу, но, как сказано, присвоено естеству бессловесному.
Причину же такого примышления могут знать одни самовидцы истины и слуги словесе (Лк. 1, 2), а мы, сколько возможно, в неких гаданиях и образах представляя себе истину, пришедшее на мысль не излагаем утвердительно, а в виде упражнения предложим благопризнательным слушателям. Итак, что же придумали об этом? Слово Божие, сказав: Сотвори Бог человека, неопределенностью выражения указывает на все человеческое, ибо твари не придано теперь это имя — Адам, как говорит история в последующем; напротив того, имя сотворенному человеку дается не как какому–либо одному, но как вообще роду. Поэтому общим названием естества приводимся к такому предположению, что Божественным предведением и могуществом в нервом устроении объемлется все человечество. Ибо надлежит думать, что для Бога в сотворенном Им нет ничего неопределенного, а, напротив того, для каждого из существ есть некоторый предел и мера, определенные премудростию Сотворившего. Поэтому, как один человек по телу ограничивается количеством и количественность есть мера телесного у него состава, определяемая поверхностью его тела, так, думаю, по силе предведения как бы в одном теле сообъята Богом всяческих полнота человечества, и этому–то учит слово, изрекшее: Сотвори Бог человека, и по образу Божию сотвори его. Ибо не в части естества образ, и не в ком–либо одном из усматриваемых таким же благодать, но на весь род равно простирается такая сила, а признак этого тот, что всем равно дарован ум, все имеют способность размышлять, наперед обдумывать и все прочее, чем изображается Божественное естество в созданном по образу Его. Одинаково имеют это и явленный при первом устроении мира человек, и тот, который будет при скончании Вселенной; они равно носят в себе образ Божий. Поэтому целое наименовано одним человеком, потому что Для Божия могущества нет ничего: ни прошедшего, ни будущего, но и ожидаемое наравне с настоящим содержится всесодержащей Действенностью. Поэтому все естество, простирающееся от первых людей до последних, есть единый некий образ Сущего. А различие рода относительно к мужскому и женскому полу дано твари впоследствии по следующей, как думаю, причине.
Глава семнадцатая
Что надлежит отвечать недоумевающим о том, что если чадородие после греха, то как рождались бы души, если бы первобытные люди пребывали несогрешившими
Лучше же сказать, прежде исследования предположенного благоразумнее, может быть, поступим, приискав решение предлагаемое нам противниками. Ибо говорят, что прежде греха не повествуется ни о рождении, ни о болезни рождения, ни о желании чадородия. Но, когда после греха изгнаны люди из рая и жена осуждена в наказание на болезни рождения, тогда Адам приступил к супруге своей и познал ее брачно, и тогда положено начало чадородию. Поэтому если в раю не было брака, ни болезни рождения, ни самого рождения, то вследствие этого, говорят, необходимо заключить, что не было бы множества душ человеческих, если бы дар бессмертия не обращен был в смертность и брак не соблюл естества рождающимися вновь, вместо отходящих вводя происшедших от них, так что грех, вошедший в жизнь человеческую, некоторым образом принес пользу. Ибо род человеческий ограничивался бы четою первосозданных, если бы страх смерти не побудил естества к произведению потомства.
Но и в этом опять истинное учение, если оно доступно кому, может быть явным только для посвященных, подобных Павлу, в тайны рая, а наше мнение таково: саддукеи оспаривали некогда учение о воскресении и в подтверждение своего учения указывали на жену многобрачную, бывшую за семью братьями, потом спрашивали: которого из них женою будет она по воскресении. Господь на этот вопрос отвечает, не только вразумляя саддукеев, но и всем после них открывая тайну жизни по воскресении, и говорит: В воскресение бо ни женятся, ни посягают (Мф. 22, 30), ни умрети бо ктому могут: равни бо суть Ангелом, и сынове суть Божий, воскресения сынове суще (Лк. 20, 36). Дар же воскресения не иное что обещает нам, как восстановление падших в первоначальное состояние, ибо эта ожидаемая благодать есть возвращение к первоначальной жизни, вводящее изгнанного из рая снова в него. Поэтому если жизнь восстанавливаемых имеет сродство с жизнью ангелов, то очевидно, что жизнь до преступления была некая ангельская. Почему и возвращение к первоначальной нашей жизни уподобляется ангелам. Но, как сказано, хотя брака у ангелов нет, однако же воинство ангельское состоит из бесчисленных множеств. Так повествовал в видениях и Даниил. Следовательно, если бы не произошло с нами вследствие греха никакого превращения и падения из ангельского равночестия, то и мы таким же образом для размножения не имели бы нужды в браке. Но какой способ размножения у естества ангельского — это неизреченно и недомыслимо по гаданиям человеческим; впрочем, несомненно то, что он есть. И он мог бы действовать и у людей, малым чим от ангел умаленных (Пс. 8, 6), приумножая человеческий род до меры, определенной советом Сотворившего.
Если же кто затрудняется, спрашивая о способе происхождения людей, не нужно ли было для этого человеку содействия брака, то и мы спросим его о способе бытия ангелов: почему они составляют бесчисленные множества, будучи и одной сущностью, и многочисленными? Ибо даем приличный ответ возражающему: как мог бы человек быть без брака, когда говорим: так же, как ангелы существуют без брака. А что человек до преступления подобен был ангелам, доказывает это восстановление его опять в это же подобие.
После такого нашего об этом рассуждения подобает возвратиться к прежнему вопросу: почему по устроении образа Бог примышляет для твари различие в мужском и женском поле. Для этого, как утверждаю, полезно предварительно нами изложенное начало. Приводящий все в бытие и целого человека по собственной своей воле соделавший Божиим образом не хотел бы видеть, чтобы число душ достигало своей полноты постепенным приращением рождаемых, но силою предведения мгновенно представив мысленно в этой полноте всю человеческую природу и почтив ее высоким и равноангельским жребием, поскольку прозреваемой силой предусмотрел, что произволение человеческое не пойдет прямым путем к прекрасному и потому отпадет от равноангельской жизни, то, чтобы не сделалось малым число душ человеческих, утратив тот способ, каким ангелы возросли до множества, поэтому самому примышляет для естества способ размножения, сообразный для поползнувшихся в грех, вместо того что прилично ангельскому величию, насадив в человечестве скотский и бессловесный способ взаимного преемства. Поэтому–то, кажется мне, и великий Давид, сожалея о бедности человека, такими словами оплакивает человеческое естество:
Человек в чести сый не разуме, называя честью равночестие с ангелами; поэтому продолжает: Приложися скотом несмысленным, и уподобися им (Пс. 48, 21). Ибо подлинно стал скотен принявший природу свою по наклонности к вещественному этот текучий способ размножения.
Глава восемнадцатая
О том, что страсти бессловесных имеют в нас причиной сродство с бессловесным естеством
Думаю, что и всякая страсть от этого начала, как из некоторого источника возникши, наводняет человеческую жизнь. Доказательством же сказанного служит сродство страстей, равно обнаруживающееся и в нас и в бессловесных, ибо несправедливо приписывать первые начала страстного расположения естеству человеческому, созданному по образу Божию. Но поскольку привзошла в этот мир и жизнь бессловесных, а человек по сказанной выше причине и из естества бессловесных заимствовал нечто, разумею способ рождения, то через это заимствовал и прочее замечаемое в этом естестве ибо не в раздражительной силе у человека подобие Божие и не сластолюбием отличается естество преимущественное; и боязливость, и дерзость, и желание большего, и отвращение от скудости, и все тому подобное далеки от признаков боголепия. Поэтому естество человеческое извлекло это из бессловесной в себе части, ибо, чем бессловесная жизнь ограждена для самосохранения, то, будучи перенесено в жизнь человеческую, стало страстью. Животные плотоядные охраняются раздражительностью; животных многородящих спасает сластолюбие; животное малосильное хранит робость, удоболовимое сильнейшими — страх, преизбыточествующее плотью — прожорливость. И не удовлетворить в чем–либо своему сластолюбию для бессловесных служит предлогом к скорби. Все это и подобное тому по причине скотского рождения вошло в устройство человека.
И да позволено мне будет, подражая ваятельному искусству, описать человеческий образ словом. Как между изваяниями можно видеть двулицые, которые обделывают на удивление зрителям любители художества, на одной голове представляя два вида лиц, так и человек, кажется мне, носит в себе до противоположности двоякий вид, в богоподобии ума изображая подобие Божественной красоте, а в страстных стремлениях представляя близость свою к скотообразности. Но часто и разум, но наклонности и расположению к бессловесному затмевая в себе лучшее худшим, доходит до скотоподобия, ибо, как скоро до этого унизит кто мысленную деятельность и принудит рассудок стать служителем страстей, происходит какое–то превращение добрых черт в бессловесный образ и все естество изменяет свой вид, а рассудок, подобно земледельцу, обрабатывает начатки страстей и постепенно взращивает их в большем количестве, потому что, употребив свое содействие страсти, произвел он многочисленное и обильное порождение нелепостей. Так сластолюбие имело началом уподобление бессловесному, но в человеческих поступках возросло, породив такое число разных грехов сластолюбия, какого нельзя найти в бессловесных. Так вожделение к раздражительности сродно со стремительностью бессловесных, возрастает же при содействии помыслов, ибо отсюда — мстительность, зависть, лживость, злоумышленность, лицемерие. Все это произращено худым деланием ума. Ибо, если страсть эта лишится содействия помыслов, то раздражительность останется чем–то скоропреходящим и бессильным, подобным пузырю, который, едва явится на воде, и тотчас лопается. Так прожорливость свиней ввела любостяжателность, и величавость коней стала началом гордыни. И все, происшедшее от скотского бессловесия и взятое в отдельности при худом употреблении ума стало пороком; как и наоборот, если рассудок восприимет власть над такими движениями, то каждое из них превратится в вид добродетели. Так раздражительность производит мужество, робость — осторожность, страх — благопокорность, ненависть — отвращение от порока, сила любви — вожделение истинно прекрасного, а величавость нрава возвышает над страстями и образ мыслей сохраняет не порабощенным злу. Такой вид возношения духа восхваляет апостол, повелевая постоянно мудрствовать горняя (Кол. 3, 2). Так можно найти, что всякое такое движение, возносимое возвышенностью мысли, сообразуется с красотой того, что по образу Божию. Но поскольку есть какая–то тяжелая и вниз стремящаяся наклонность греха, то чаще бывает иное, ибо тяжестью бессловесного естества более увлекается вниз владычественное души, нежели сколько тяжелое и перстное возносится вверх возвышенностью мысли. Потому нередко окаянство наше делает, что не узнаем дара Божия, потому что плотские страсти налагаются, подобно отвратительной маске, на красоту того, что но образу.
Поэтому взирающие на подобное этому извинительны несколько, когда нелегко соглашаются, что есть в них образ Божий. Напротив того, смотря на преуспевших но жизни, можно усматривать в людях образ Божий. Ибо если кто, будучи страстным и плотским, заставляет не верить, что человек украшен как бы Божественной красотой, то, несомненно, высокий по добродетели и чистый от скверн утвердит тебя в лучшем о людях мнении. Например (ибо всего лучше объяснить мысль эту примерами), пусть скверной лукавства омрачил в себе красоту естества кто–либо из известных порочностью, какой–нибудь Иехония, если кто и другой упоминается по причине худых его дел, зато в Моисее и подобных ему сохранился вид образа чистым. Поэтому, в ком не померкла красота, теми ясно подтверждается верность Мазанного, что человек сотворен как Божие подобие.
Но иной, может быть, приводится в стыд тем, что жизнь наша по подобию бессловесных поддерживается пищей, и потому признает человека недостойным той о нем мысли, что создан но образу Божию;
пусть же надеется, что естеству нашему некогда сообразно ожидаемой жизни даровано будет освобождение от этого служения. Несть бо, как говорит апостол, Царство Божие брашно и питие (Рим. 14, 17). И Господь предрек: Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих (Мф. 4, 4). Да и воскресение указывает нам па жизнь равноангельскую. Поскольку же у ангелов нет пищи, то к удостоверению достаточно этого доказательства, что освободится от такого служения человек и будет жить по подобию ангелов.
Глава девятнадцатая
Ответ утверждающим, что наслаждение уповаемыми благами должно состоять опять в пище и питии, по написанному, что вначале в раю этим жил человек
Но, может быть, скажет иной, что человек придет опять не в тот же образ жизни, если первоначально нужно было нам вкушать пищу, а после настоящей жизни освободимся от этого служения. А я, слушая Святое Писание, не только телесное разумею вкушение и плотское веселие, но знаю и другую некую, имеющую некоторое сходство с телесной, пищу, наслаждение которой простирается на одну душу. Ядите мой хлеб, — повелевает алчущим премудрость (Притч. 9, 4), и Господь ублажает алчущих такой снеди (Мф. 5, 6) и говорит: Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет (Мф. 7, 37). И великий Исаия способным понять высоту его повелевает: пиите радость (Ис. 25, 6). Есть и некая пророческая угроза достойным наказания, что наказаны будут голодом и голод этот будет не от какого–либо недостатка в хлебе и воде, но от лишения слова, ибо сказано: Не глад, ни жажду воды, но глад слышания слова Господня (Ам. 8, 11). Поэтому надлежит представлять себе некий плод, достойный Божия наслаждения в Едеме (а Едем толкуется: наслаждение), и не сомневаться, что питался им человек; и для пребывания в раю не воображать себе непременно эту преходящую и истекающую пищу. Сказано: От всякого древа, еже в рай, снедию снеси (Быт. 2, 16). Чувствующему здравый голод кто даст это древо, еже в рай, заключающее в себе всякое благо, которому имя всяко — все, вкушение чего даруется человеку Божиим словом. Поскольку с этим родовым и высшим понятием неразрывен всякий вид благ, то в чем заключается целое? И кто отвратит меня от этого смешанного и обоюдного вкушения с древа? Ибо, конечно, неявно для более прозорливых, что это всяко есть нечто такое, чего плод — жизнь, и это смешанное опять нечто такое, чего конец — смерть. Ибо обильно Предложивший человеку наслаждение всяким, без сомнения, по некоторому закону и но промыслительности воспрещает человеку вкушение того, что не есть ни то, ни это. И мне кажется лучшим учителями в истолковании этого понятия избрать великого Давида и премудрого Соломона, потому что оба они дар дозволенного услаждения признают единым, тем действительным благом, которое подлинно есть всякое благо, и Давид говоря: Насладися Господеви (Пс. 36, 4), и Соломон самую премудрость, которая есть Господь, именуя древом живота (Притч. 3, 18). Итак, одно и то же с древом жизни есть всякое древо, вкушение от которого дозволяется Словом созданному по Богу. Противополагается же этому древу другое древо, вкушение от которого есть ведение добра и зла — не в том смысле, что оно особо, по частям приносило в плод каждую из означенных противоположностей, но в том, что оно произращало некий слитный и смешанный плод, срастворенный из противоположных качеств. Вкушение этого плода воспрещает Начальник жизни, советует же змий, чтобы устроить вход смерти. И присоветовавший это делается убедительным, прикрасив плод доброцветностью и сладостью, чтобы и на вид казался приятен, и возбуждал желание вкусить его.
Глава двадцатая
Какова жизнь в раю и что такое запрещенное древо
Поэтому что это такое, в чем срастворено ведение добра и зла вместе, и что украшено удовольствиями для чувства? Конечно, на далеким от истины будет мое гадание, если в начале обозрения употреблю понятие того, что значит ведение. Думаю же, что здесь Писание под ведением понимает не познание, но нахожу, но словоупотреблению Писания, некую разность в словах: ведение и различение. Ибо апостол говорит, что отличать добро от зла со знанием дела принадлежит совершеннейшей способности и чувствам обученным (Евр. 5, 14). Поэтому дает и повеление вся искушать (1 Фее. 5, 21) и говорит, что различать свойственно духовному (1 Кор. 2, 15). Но ведение не везде по смыслу речи означает познание и уразумение, а иногда и расположение к приятному. Так, позна Господь сущия Своя (2 Тим. 2, 19). И Моисею говорит Бог: Познал Я тебя паче всех (Втор. 34, 11). Об осужденных же за порочность говорит Всеведущий: Яко николиже знах вас (Мф. 7, 23).
Итак, древо, которым в плод приносится смешанное ведение, принадлежит к запрещенному. А плод этот, имевший защитником своим змия, смешан из противоположностей по той, может быть, причине, что предлагается не зло обыкновенное, каким представляется оно само в себе по собственной своей природе, потому что не имел бы и силы порок, не прикрашенный ничем хорошим, привлекающим обольщаемого к пожеланию. А ныне смешана несколько природа зла; внутри имеет пагубу, как скрытый некий обман, а по наружности показывает обольстительное некое представление добра. Сребролюбцам кажется прекрасною добро–цветность вещества, но корень всем злым бывает сребролюбие (1 Тим. 6, 10). Кто поползнулся бы в зловонную тину непотребства, если бы удовольствия не почитал чем–то прекрасным и желательным для себя, увлекаемый этой приманкой в страсть? Так и прочие грехи, имея в себе скрытую гибель, желательными кажутся на первый взгляд, но какому–то обольщению для неосмотрительных столько же привлекательными, как и дело доброе. Поскольку многие признают прекрасным то, что веселит чувства, и подобоименны как действительно прекрасное, так и кажущееся прекрасным; но этому самому и бывающее вожделение зла, как и добра, в Писании наименовано ведением добра и зла, и под ведением понимается какое–то сорасположение и примешение, т. е. не отрешенное зло (так как цвел красотою), но и не чистое добро (потому что скрывал в себе зло), но смесь того и другого — этот плод запрещенного древа, вкушение которого, по сказанному, ведет к смерти прикасающихся. А этим почти открыто выражает то учение, что подлинно доброе по природе своей просто и однолично, чуждо всякой двойственности и сочетания с противоположным, а злое разнообразно и прикровенно, иным чем–то признается и иным оказывается на опыте; и ведение его, т. е. познание на опыте, делается началом и причиной смерти и тления.
Поэтому–то змий указывает этот зловредный плод греха, не обнаружив явно того зла, которое заключал он в себе по природе своей (человек и не прельстился бы очевидным злом), но облистав видимость какой–то красотой и очаровав каким–то чувственным удовольствием при вкушении, достойным вероятия показался жене, как говорит Писание. Ибо сказано: И виде жена, яко добро древо в снедь, и яко угодно очима видети, и красно есть, еже разумети: и вземше от плода его, яде (Быт. 5, 6); и эта снедь для людей стала матерью смерти.
Поэтому вот что значит этот смешанный плод, по ясному истолкованию смысла Писания, по которому это древо наименовано ведением добра и зла, потому что подобно зловредности яда, вложенного в мед, поскольку услаждает чувство, кажется добром, а поскольку губит прикасающегося, делается самым крайним злом. Поэтому, когда зловредный яд подействовал на жизнь человеческую, тогда человек — это великое и дело, и имя, отображение Божественного естества, как говорит Пророк, — суете уподобился (Пс. 143, 4). Итак, образ Божий состоит в том, что усматривается в нас лучшего, а все то, что в жизни нашей скорбного и бедственного, далеко от подобия Божеству.
Глава двадцать первая
О том, что воскресения подобает ожидать не столько вследствие проповеди Писания, сколько по самой необходимости вещей
Но порок не столько могуществен, чтобы превозмогать ему добрую силу; и безрассудство естества нашего не выше и не тверже Божественной премудрости. Да и невозможно превратному и изменяемому быть сильнее и постояннее того, что всегда то же и водружено в добре. Совет же Божий всегда и непременно непреложен, а нашей природы превратность не тверда даже и во зле. И непременно всегда движимое, если оно на пути к добру, по беспредельности проходимого дела никогда не прекратит стремления вперед и не найдет никакого конца искомому, достигнув которого могло бы со временем остановиться в движении, а если уклонилось оно в противоположное, то, когда совершит путь порока и достигнет самой крайней меры зла, тогда приснодвижность стремления, по природе своей не находя никакого покоя, как скоро пройдет поприще порока, по необходимости обращает движение к добру. Ибо, так как порок не простирается в беспредельность, но ограничен необходимыми пределами, то по этому самому за пределом зла следует преемство добра; а таким образом, по сказанному, всегдашняя подвижность нашей природы опять наконец возвращается на добрый путь, памятью прежних несчастий уцеломудриваемая не отдаваться снова в плен подобным бедствиям. Поэтому нам снова будет возможно течение на поприще добра, потому что порок по природе своей ограничен необходимыми пределами. Сведущие в небесных явлениях говорят, что весь мир исполнен светом, а тьма бывает в месте, отененном преградой земного тела, да и место это, по шаровидности земного тела, ограничивается конической поверхностью, какую описывает солнечный луч; солнце же, во много крат превосходящее величиной землю, отовсюду кругом объемля ее лучами, при вершине конуса сопрягает сходящиеся лучи света; и потому, если предположим, что будет кто–либо в силах перейти расстояние, на которое простирается тень, то непременно окажется он во свете, не пресекаемом тьмой. Так, думаю, подобает разуметь и о нас, что, Дойдя до предела порока, когда будем на краю греховной тьмы, снова начнем жить во свете, потому что Естество доброты до неисчетности во много крат преизбыточествует перед мерой порока. Поэтому снова рай, снова это древо, которое есть древо жизни; снова дар образа и достоинство начальства, впрочем не над тем, кажется мне, что людям ныне по житейской потребности подчинено Богом; но предстоит нам упование иного некоего царства, о котором слово остается для нас несказанным.
Глава двадцать вторая
Ответ возражающим: если воскресение есть нечто прекрасное и доброе, то почему его доныне не было, но подобает надеяться после нескольких оборотов времени
Но будем держаться последовательности в исследованиях. Иной, может быть окрылив мысль сладостью надежды, почтет бременем и потерею для себя, если нескоро насладиться тех благ, которые выше и чувства, и ведения человеческого, и несносным представляет это протяжение времени, отделяющее его от желаемого. Но пусть не тревожит себя, подобно какому–нибудь ребенку, которого огорчает малое замедление в доставлении ему удовольствия. Поскольку все устраивается разумом и премудростью, то по всей необходимости подобает признать и все, что ни бывает, не чуждым этого разума и присущей в нем премудрости. Поэтому скажешь: какой же это закон, по которому не сразу совершается переход от жизни скорбной в вожделенное состояние, но определенное некое время, продолжительная тяжкая и телесная эта жизнь ждет конца — исполнения всего, чтобы тогда уже, как бы от некоей узды освободившись, человеческая жизнь, опять независимая и свободная, возвратилась к житию блаженному и бесстрастному?
Но приближается ли слово наше к истине искомого, видит это ясно сама истина; а что пришло на мысль нам, таково: именно же то первое слово, к которому возвращаюсь снова. Бог говорит: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию; и сотвори Бог человека; по образу Божию сотвори его (Быт. 1, 26—27). Поэтому образ Божий, усматриваемый во всем естестве человеческом, уже был, по не произошел еще Адам, потому что Адамом по словопроизводству означается земная тварь, как говорят сведущие в еврейском языке, почему и апостол, преимущественно обученный отечественному языку израильтян, называет человека от земли перстным (1 Кор. 15, 47), как бы переводя на греческий язык название Адам. Итак, но образу сотворен человек — это всецелое естество, эта богоподобная тварь; и по образу сотворена всемогущей Премудростью не часть целого, но вся в совокупности полнота естества. Знал Объемлющий горстью все пределы, как говорит Писание, выражающееся: В руце Его вси концы земли (Пс. 94, 4); знал Ведущий все и прежде бытия вещей, объяв ведением, в каком числе род человеческий, происшедший от каждого. Но поскольку провидел в нас наклонность к худшему и то, что, добровольно утратив равночестие с ангелами, человек приблизится к общению с низшим, то примешал поэтому нечто к собственному Своему образу от бессловесной твари. Ибо в Божественном и блаженном естестве нет различия мужского и женского пола. Но перенеся на человека отличительное свойство бессловесного устроения не соответственно высоте твари, дарует нашему роду способ размножения. Не тогда, как сотворил человека но образу, сообщил ему и силу раститься и множиться, но когда уже произвел различение это, мужской и женский пол, тогда говорит: Раститеся и множитеся и наполните землю (Быт. 1, 28). Ибо подобное этому свойственно естеству не Божественному, но словесному, как дает знать история, повествуя, что прежде сказано это Богом о бессловесных. Почему, если бы прежде, нежели придано естеству разделение на мужской и женский пол. Бог этим словом дал человеку способность раститися, то не имели бы мы нужды в таком способе рождения, каким рождаются бессловесные. Поэтому, провидев Своим предведением, что полнота человеческого рода войдет в жизнь рождением, какое свойственнее животным, в известном порядке и в связности правящий всем Бог, поскольку вообще для человечества такой способ рождения необходимым сделала наклонность нашей природы к униженному, которую прежде ее появления предвидел Тот, Кто будущее видит наравне с настоящим, по этому самому предусмотрел и соразмерное устроению людей время, чтобы появлению определенного числа душ соответствовало и продолжение времени, и тогда остановилось текучее движение времени, когда прекратится в нем распространение человеческого рода. А когда кончится этот способ рождения людей, с окончанием его кончится и время и, таким образом, совершится обновление Вселенной и за изменением целого последует и переход человечества от тленного и земного к бесстрастному и вечному. Это, кажется мне, имеет в виду и божественный апостол, предрекая в Послании к Коринфянам внезапную остановку времени и поступление движимого в обратный путь, когда говорит: Се тайну вам глаголю, вси бо не успнем: вси же изменимся: вскоре во мгновении ока, в последней трубе (1 Кор. 15, 51 —52). Ибо, как думаю, когда полнота человеческого естества в предуведанной мере достигнет конца, потому что не потребуется уже никакого приращения к числу душ, тогда, как словами «вскоре во мгновении ока» наименовав этот неизмеряемый и неимеющий протяжения предел времени, учит апостол, в мгновение времени совершится изменение существ. Почему, кто Достиг этой самой последней и крайней точки времени, тому, так как ничего не остается за этим краем, невозможно получить это временное посредством смерти изменение, разве когда прозвучит труба воскресения, пробуждающая умерших и оставшихся в жизни, подобно изменяемым через воскресение, мгновенно прелагающая в нетление, так что тягота плоти не повлечет уже ее долу и бремя не удержит под землею, но пойдет она по воздуху вверх, ибо апостол говорит: Восхищены будем на облацех в сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем (1 Фее. 4, 17).
Поэтому да ожидают времени, которое необходимо продолжится соразмерно приращению человеческого рода. Ибо Авраам и другие патриархи имели желание видеть блага и не переставали искать Небесного Отечества, как говорит апостол (Евр. 11, 16), однако же пребывают еще только в надежде благодати, по слову Павлову, Богу лучшее что о нас предзревшу, да не без нас, как говорит Павел, совершенство приимут (40). Поэтому если иные терпят это замедление издалече только верою и надеждою, как свидетельствует апостол, видевшие целовавшие блага (13), несомненность наслаждения уповаемым поставляя в том, чтобы обетованное признавать верным что надлежит делать многим из нас, у которых, судя по жизни, нет, может быть, и надежды на лучшее? Изнемогала от вожделения душа у пророка, и в песнопении исповедует он эту до страсти пламенеющую любовь, говоря, что желает и скончавается душа его пребывать во дворех Господних (Пс. 83, 3), хотя бы должно было приметатися (11) там в числе последних, потому что выше и предпочтительнее быть там последним, нежели первенствовать в селениях грешничих этой жизни. Однако же переносил он замедление и, ублажая пребывание там, кратковременное участие в тех благах предпочитая тысячам лет, лучше бо, говорит, день един во дворех Твоих паче тысящь (11), не огорчался необходимым смотрением о существующем и признавал достаточным для ублажения иметь людям блага в уповании. Почему в конце Псалма говорит: Господи Боже сил блажен человек уповаяй на Тя (13). Поэтому надлежит и нам не скорбеть о кратковременном замедлении уповаемого, но прилагать старание о том, чтобы не сделаться недостойными уповаемых благ. Если кто предскажет какому–либо опытному человеку, что во время лета будет собрание плодов, наполнятся хранилища и трапеза будет полна снедей во время этого обилия, то суетен он будет, если поспешит желать наступления этого времени, когда подобает еще сеять и попечительностью заготовлять себе плоды. Время, хочет ли, не хочет ли кто, непременно наступит в определенный срок, но неодинаково увидят его, кто заготовил себе изобилие плодов и кто остался па этот час с пустыми руками и без всякого запаса. Так, думаю, поскольку из Божественной проповеди для всякого явно, что настанет время изменения, то подобает не о времени любопытствовать (ибо несть ваше, сказал Христос, разумети времена и лета (Деян. 1, 7)) и не изыскивать каких–либо умозаключений, которыми иной ослабит в душе надежду воскресения, но, подкрепясь верою в ожидаемое, добрым житием закупать будущую благодать.
Глава двадцать третья
О том, что, кто признает начало устроения мира, тот необходимо согласится и о конце
Если же кто, взирая на настоящее течение мира, совершающееся в некоторой связности, в какой усматривается временное продолжение, скажет, что невозможно произойти предвозвещенной остановке движимого, то такой, очевидно, не верит, что и в начале небо и земля сотворены Богом. Ибо кто придает движению начало, тот непременно не усомнится и о конце, а, кто не принимает конца, тот не принимает начала. Но, как совершитися веком глаголом Божиим, но слову апостола, разумеваем, веруя от неявляемых видимым быти (Евр. 11, 3), так той же верой руководиться будем и слыша глагол Божий, предвозвещающий необходимую остановку существ. А как она будет, это должно быть изъято из предметов нашего любопытства. Ибо и там, отложив в сторону исследование непостижимого, верой приняли мы совершитися видимому от неявляемых, хотя разум внушал нам недоумевать во многом, представляя немаловажные поводы к сомнению в том, чему поверили. Ибо и там любителям споров можно благовидными доводами поколебать веру так, чтобы не признавалось истинным учение о сотворении вещества, какое преподает нам Святое Писание, утверждая, что все существа имеют бытие от Бога.
А защитники противного учения усиливаются доказать, что вещество совечно Богу, пользуясь следующими доводами в подтверждение своего учения. Если Бог по естеству прост, не вещественен, не качественен, не количественен, не сложен и чужд очертания по наружному виду; всякое же вещество ограничивается в пространственном протяжении, не избегает постижения посредством чувств, будучи познаваемо по цвету, по наружному виду, по величине, по количеству, по твердости, по прочим усматриваемым в нем свойствам, из которых ни одного невозможно представлять себе в естестве Божественном, то какая возможность из невещественного произойти веществу, из не имеющего протяженности естеству протяженному? Ибо если верить, что произошло это от Бога, то очевидно, что сущее в Боге по неизреченному закону пришло таким образом в бытие. А если в Нем было нечто вещественное, то как же не вещественен Тот, Кто имел в Себе вещество? То же сказать подобает и о всем ином, чем отличается вещественное естество. Если в Боге есть количество, то как же не количественен Бог? Если в Нем есть нечто сложное, то как же Сам Он прост, неделим на части и не сложен? Поэтому разум понуждает или по необходимости признать, что Бог вещественен, потому что от Него произошло вещество, или, если кто не согласится на это, необходимо предположить, что для устроения Вселенной вещество пришло к Нему извне. Поэтому если оно было вне Бога, то, конечно, кроме Бога, было нечто иное, относительно к вечности умопредставляемое нерожденным вместе с Сущим. Почему постигаются разумом одно с другим вместе два безначальных и нерожденных существа, из которых одно художественно действует, а другое приемлет на себя искусное это действование. Если же кто по этой необходимости предположит, что Создателю предстояло вечное вещество, то какую защиту своим учениям найдет этот манихей, который естеству благому по нерожденности противопоставляет вещественное начало?
Но мы, слыша, что говорит Писание, уверовали, что все от Бога; о том же, как было оно в Боге, как о превышающем наш разум, не смеем любопытствовать, веруя, что все возможно Божию могуществу: возможно и несуществующее привести в бытие, и сущему по произволению придать качества. Вследствие же этого, как признаем силу Божией воли достаточной для создания существ из несуществовавшего, так преобразование созданного возводя к той же силе, верим не чему–либо невероятному. Но как, может быть, есть возможность какими–либо доводами убедить спорящих о веществе, то не минуем и этого, чтобы не показалось, будто бы умалчиваем по недостатку слова.
Глава двадцать четвертая
Возражение утверждающим, что вещество совечно Богу
Не вне того, до чего последовательно доходит разум, кажется и это предположение о веществе, утверждающее, что происходит оно от умопредставляемого и невещественного. Ибо найдем, что всякое вещество состоит из каких–либо качеств и, если бы лишено было их, никак не могло бы постигаемо быть разумом. Но каждый вид качества отделяется в понятии разума от подлежащего. Понятие же есть нечто умопредставляемое, а не телесное рассмотрение. Например, если подлежит рассмотрению какое–либо животное, или дерево, или что–либо другое из имеющего вещественный состав, то многое в предмете этом представляем мыслью отдельно, и понятие отдельного не смешивается с подлежащим рассмотрению. Ибо иное понятие о цвете, иное — о тяжести, иное — опять о количестве, и иное — о каком–либо осязательном свойстве, потому что мягкость, длина и прочие упомянутые качества ни одно с другим, ни с самим телом не смешиваются по понятию. Но каждому из свойств, каково оно само в себе, придается особое положительное определение, не имеющее ничего общего с каким–либо иным качеством из усматриваемых в подлежащем. Поэтому если умопредставляем цвет, так же умопредставляемы твердость, количественность и прочие подобные этим свойства. Если с отъятием каждого из этих свойств у подлежащего уничтожается всякое понятие о теле, то следует предположить, что находим причину уничтожения тела в отсутствии чего–то, а совокупное стечение того же производит вещественное естество. Как не тело то, в чем нет цвета, наружного вида, твердости, протяжения, тяжести и прочих свойств, да и каждое из этих свойств также не тело, а, напротив того, взятое отдельно есть нечто отличное от тела, так и наоборот, где стеклись вместе сказанные свойства, там производится телесное существо. Но если представление этих свойств принадлежит уму, а умопредставляемое также и Божество по естеству, то нет никакой несообразности в том, что бестелесным естеством произведены эти умопредставляемые начала бытию тел, потому что умопредставляемое естество производит умопредставляемые силы, а взаимное соединение этих последних приводит в бытие естество вещественное. Но этого пусть мимоходом только коснется наше исследование. А нам опять подобает обратить слово к вере, которой принимаем, что Вселенная сотворена из ничего, и, наученные Писанием, не сомневаемся, что снова будет преобразована в некое иное состояние.
Глава двадцать пятая
Как можно иного из внешних привести к тому, чтобы, по учению Писания, поверил воскресению
Но иной, может быть, смотря на разрушившиеся тела и но мере собственных своих сил судя о Божестве, скажет, что слово о воскресении есть нечто невозможное, и станет при этом утверждать, что, как движущемуся теперь прийти в покой, так не движущемуся теперь прийти в движение нет и возможности. Но таковой пусть примет для себя первым и самым важным доказательством истины воскресения достоверность проповеди о нем. А достоверность сказуемого в Писании делает несомненной событие прочих предречений. Поскольку божественное Писание предлагает много всякого рода сказаний, то, рассмотрев, точно ли лживо или истинно прочее, в нем сказанное, можно поэтому составить понятие и о догмате воскресения. Ибо, если слова Писания в другом чем изобличаются лживыми и погрешающими против истины, то, конечно, и это слово не нелживо. Если же все прочее свидетелем истины имеет опыт, то последовательно будет, основываясь на этом, и предречение о воскресении почитать истинным. Поэтому приведем себе на намять одно или два предвещания и с предсказанным сличим событие, чтобы узнать из этого, близко ли к истине это учение.
Кто не знает, как в древности процветал народ израильский, противостоявший всем царствам во Вселенной?! Какие во граде Иерусалиме были царские дома! Какие стены, башни! Какое величественное здание — храм! Все это признавали достойным удивления и ученики Господни и, с изумлением взирая на видимое, как дает видеть евангельское сказание, желают обратить внимание Господа, говоря Ему: Каковы дела, и каковы здания (Мр. 13, 1). Господь же дивящимся настоящему показывает будущее запустение места и уничтожение этой красоты, говоря, что вскоре не останется ничего видимого ими. Да и во время страдания жены следовали за Господом, оплакивая несправедливый над Ним приговор, потому что не примечали еще будущего домостроительства. А Господь советует им молчать о том, что делается с Ним, потому что не слез это достойно;
отложить же сетование и плач до времени, действительно требующего слез, когда город будет обложен осаждающими и страдания дойдут до такой крайности, что неродившийся будет почитаем блаженнейшим. А вместе с этим предвозвестил и это ужасное дело–поедать детей, сказав, что в те дни будут ублажать утробу, которая не рождала (Лк. 23, 29). И где же теперь царские те дома? Где храм? Где стены? Где сторожевые башни? Где царство израильское? Один здесь, другой там, едва не по целой Вселенной рассеяны израильтяне. А с разорением всего этого разрушены и царские дома.
И мне кажется, что Господь предвозвестил это и подобное этому не ради самых происшествий (принесло ли бы слушателям столько пользы предречение о том, что непременно сбудется; они узнали бы это на опыте и не будучи предуведомлены о будущем), но чтобы слышавшие вследствие этого приобрели веру и сказанному о важнейшем. Ибо свидетельство самих дел об одном служит доказательством истины и другого. Если бы, когда какой–либо земледелец толкует о силе семян, случилось неопытному в земледелии не поверить, то первому для доказательства истины достаточно было бы, показав силу одного какого–либо из лежащих в мере семян, поручиться и за прочие. Ибо увидевший, что одно зерно пшеницы, или ячменя, или чего другого, наполняющего выставленную меру, будучи брошено в землю, произрастило колос, по этому одному зерну перестанет не верить и о прочих. Так для засвидетельствования тайны воскресения, кажется мне, достаточно того, что признана всеми истина прочего, что сказано в Писании; лучше же сказать, опытное дознание самого воскресения, которое приобрели мы не столько из слов, сколько из самих дел.
Поскольку чудо воскресения велико и превышает веру, то Господь, начав с низших степеней чудотворения, как бы приобучает нас к вере постепенно большими чудесами. Как некая мать, воспитывающая младенца сообразно с его возрастом, пока уста его мягки и нежны, из сосцов поит молоком, а когда появятся зубы и младенец подрастет, дает ему хлеб, но негрубый и худо испеченный, чтобы жесткая пища не повредила нежных и непривычных десен, но разжевывая своими зубами, приводит в состояние, соразмерное и соответственное силе вкушающего. Потом, но мере приращения укрепляющихся сил, привыкшему к нежной нище младенцу дает постепенно более и более твердую пищу. Так и Господь, человеческое малодушие, как несовершенного какого младенца, питая и напоевая чудесами, сперва показует подобие силы воскресения над отчаянной болезнью. И хотя велико было чудо само в себе, однако же не таково, чтобы не поверил кто повествованию о нем. Ибо запретив огню, сильно распалявшему тещу Симонову, произвел такой переворот в болезни, что в силах стала прислуживать присутствующим та, о которой ожидали уже, что умрет (Лк. 4, 39). Потом Господь присовокупил нечто немногое к этой силе и сыну царедворца, лежавшему в признанной всеми опасности (ибо, по сказанию истории, имеяше умрети, когда вопиял отец: Сниди, прежде даже не умрет отроча (Ин. 4, 48—49)), дает опять восстание, когда были уверены, что он умрет, совершив это чудо с большим могуществом, потому что и не приближался даже к больному, но издали силою повеления послал ему жизнь. И еще постепенно восходит к более высоким чудесам. На пути к дочери архисинагога намеренно замедлил шествием, чтобы обнаружилось неизвестное народу исцеление от кровотечения, и между тем в это время смерть овладела больной. Поэтому, когда душа Уже разлучилась с телом и смятенные с плачевным воплем жаловались на постигшую утрату, Господь повелительным словом, как ото сна, восставляет девицу опять к жизни, с какой–то постепенностью и последовательностью возводя человеческую немощь к важнейшему.
Потом и это превышает новым чудом и высшей силой пролагает людям путь к вере в воскресение. Писание повествует о некотором городе Наине в Иудее. В нем у некоей вдовы был единородный сын, не в таких уже летах, чтобы почитать его отроком, но из детского возраста переходивший в мужской. Юношей именует его Писание, История в немногом повествует многое, и повествование вполне есть плач. Сказано, что мать умершего 6е вдова (Лк. 7, 12). Видишь ли тяжесть несчастья и как трогательно в немногом изображено словом страдание. Ибо что значит сказанное. То, что не было у нее надежды иметь детей, которая могла бы уврачевать бедственную утрату, потому что женщина бв вдова. Не на кого было и взглянуть ей вместо этого умершего, потому что был он у нее единородный, а сколько в этом горестного, нетрудно понять всякому, кто не чужд естества. Его одного познала в болезнях рождения, его одного вскормила сосцами. Он один делал для нее веселую трапезу. Он один служил поводом к радости в доме: играя, учась, занимаясь делом, веселясь в прогулках, в упражнениях, в собраниях молодых людей. Всем, что в глазах матери и сладостно и драгоценно, был он один. И эта отрасль рода, ветвь преемства, опора старости приближалась уже к поре вступления в брак. Да и само упоминание о возрасте показывает другую причину плача. Писание, назвав юношей, выразило, что это был цвет увядшей красоты, что едва только пробивался у него пушок, но не было густой бороды, и ланиты сияли еще красотою. Поэтому, насколько было естественно страдать о нем матери! Но слово Божие не обошло молчанием и того, что как бы огнем сжигались внутренности у матери, и как она, объемля лежащего мертвеца, горький продолжала над ним плач, как не спешила погребением умершего, но, подавляемая страданием, как можно долее старалась продолжить над ним сетование. Ибо сказано: Видев ю Иисус милосердова. И приступль коснуся во одр, носящий же сташа: и рече мертвецу: юноше, тебе глаголю, востани: и даде его матери его живым (Лк. 7, 13—17). Так, когда немалое продолжение времени юноша был мертвым и едва только не предан погребению, Господом совершается над ним гораздо большее чудо, хотя повеление было такое же.
Но еще на высшую степень восходит чудотворение, так что явленное приближается более к невероятному чуду — воскресению. Заболел некто из знаемых Господом и любимых Им; имя больному было Лазарь. И Господь замедляет посещением друга, находясь вдали от больного, чтобы смерть в отсутствие Жизни нашла возможность и силу с помощью болезни сделать свое дело. В Галилее Господь объявляет ученикам о состоянии Лазаря и о Своем отправлении к нему, чтобы воздвигнуть лежащего. Но они, боясь жестокости Иудеев, затруднялись и опасались идти опять в Иудею в среду убийц. Поэтому не спеша и откладывая, хотя медленно, но возвращаются из Галилеи, потому что превозмогала власть и ученики ведены были Господом увидеть в Вифании как бы предначатки общего воскресения. Четыре дня уже прошло после предсмертного страдания. Совершено было над умершим все предписанное законом. Тело сокрыто в могиле и, как обыкновенно, стало пухнуть, предавшись тлению, растекаясь в земной гной; труп по необходимости распадался на части. Недоступное было дело, с насилием природе: что обратилось в зловоние, то возвратить опять к жизни. И тогда–то в самом ясном чуде представляется доказательство этого невероятного дела — общего воскресения. Ибо не от трудной болезни восставляется кто–либо и не при последнем находящийся дыхании возводится к жизни, не девица только что умершая оживотворяется, не юноша, сопровождаемый в могилу, снова отрешается от одра, но муж преклонных лет, мертвый, уже смердящий, отекший, предавшийся тлению. Так что и ближним его казалось нестерпимым, чтобы приближался к гробу Господь, по причине гнусности распадающегося на части тела; оживотворенный единым воззванием удостоверяет в проповеди о воскресении, т. е. о том ожидаемом и для всех вообще, что опытом дознали мы отчасти. Ибо, как во время общего обновления, говорит апостол. Сам Господь в повелении, во гласе Архангелове, и в трубе снидет (1 Кор. 4, 16) восстановить мертвых в нетление, так и теперь, по гласу повеления, преданный гробу, оттрясши смерть, как бы некий сон, и сложив с себя произведенное мертвенностью тление, целым и неповрежденным исходит из гроба — и этому исхождению не воспрепятствовали руки и ноги, обвязанные пеленами.
Неужели и этого мало для веры в воскресение мертвых? Или будешь требовать чего–либо иного, чтобы утвердиться тебе решительно в мнении об этом. Но, кажется мне, не напрасно сказано о бывшем в Капернауме, когда и Господь как бы от лица людей говорит Самому Себе следующее: Всяко речете Ми притчу сию, врачу исцелися сам (Лк. 4, 23). Ибо учение о воскресении, преподанное людям в чуде над телами других, должно было подтвердить на воспринятом от пас Человеке. Видел уже ты сильную проповедь в других. Видел готовых умереть — отроковицу, едва только лишившуюся жизни, юношу, выносимого в могилу, мертвеца истлевшего и всех, равно единым повелением возвращенных к жизни. Или спросишь о подвергшихся смерти от ран и пролития крови, не уничтожает ли благодати на них оказавшийся какой–либо недостаток животворящей силы. Воззри на Того, Чьи руки пригвождены гвоздями. Воззри па Того, Чье ребро пронзено копьем. Наложи персты свои на оставшиеся следы гвоздей. Вложи руку свою в язву, нанесенную копьем. Без сомнения, определишь, насколько следовало острию углубиться в тело, по широте язвы заключая о том, далеко ли прошло оно внутрь. Ибо язва, дающая свободный ход человеческой руке, показывает, как глубоко внутрь проникло железо. Поэтому если восстал Он, то прилично будет провозгласить апостольское слово: Како глаголют нецыи, яко воскресения мертвых несть (1 Кор. 15, 2)?
Итак, поскольку всякое пророчество Господа оказывается истинным по свидетельству событий, а в рассуждении этого не только научены мы словом, но и от самих возвращенных к жизни воскресением на самом деле получили доказательство обетования, то какой остается предлог неверующим. Оставив тех, которые философиею и тщетною лестию (Кол. 2, 8) отражают от себя безыскусственную веру, будем держаться простого исповедания, узнав о способе благодати из немногих слов Пророка, когда говорит: Отъимеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся: послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли (Пс. 103, 29—30). И тогда, сказывает Пророк, возвеселится Господь о деле Своих (31), потому что исчезнут грешницы от земли (35). Ибо как мог бы кто–либо именоваться грешником, если бы не было греха?
Глава двадцать шестая
О том, что воскресение не есть что–либо невероятное
Но есть и такие, которые, по бессилию человеческого рассудка судя о Божественной силе по нашим мерам, утверждают, что невместимое для нас невозможно и для Бога. Ибо они указывают на уничтожение древних мертвецов, на остатки обращенных в пепел огнем, а сверх этого представляют еще в слове плотоядных животных: рыбу, которая, приняв в собственное свое тело плоть потерпевшего кораблекрушение, сама также сделалась пищей людей и посредством пищеварения перешла в состав евшего. И многое, подобное этому и само в себе маловажное и недостойное великой Божией силы и власти, описывают в опровержение учения, как будто невозможно Богу теми же опять путями через разложение восстановить человеку принадлежащее ему. Но мы в кратких словах положим конец длинным изворотам красноглаголивой их суетности, признавая, что совершается разложение тела на то, из чего оно состояло, и не только земля по Божию слову разлагается в землю, но и воздух, и влажность переходят в сродное им, и совершается перехождение в сродное всего, что в нас, хотя бы тело человеческое было пожрано плотоядными птицами или свирепыми зверями и смешалось с их плотью, хотя бы прошло под зубами рыб, хотя бы огнем превращено было в пары и в пепел. Куда бы кто в предположении своем не перенес человека словом, без сомнения, он все еще в мире. А что мир содержится в руке Божией — этому учит богодухновенное слово. Поэтому если ты не знаешь и того, что у тебя в горсти, то неужели думаешь, что Божие ведение немощнее твоей силы и не в состоянии с точностью отыскать того, что содержится в Божией длани?
Глава двадцать седьмая
О том, что и по разложении человеческого тела на составные части Вселенной можно каждому из общего снова найти в целости свое собственное
Но, может быть, смотря на составные части Вселенной, подумаешь: поскольку воздух, который в нас, похищен сродной ему стихией, а также и теплота, и влажность, и зеленистое смешались с однородным, то от общего частному трудно возвратиться в свое место. Почему же не заключать по человеческим примерам, что по крайней мере это не превышает пределов Божественного могущества. Без сомнения, видел ты где–нибудь около жилищ человеческих общее стадо каких бы то ни было животных, составленное из общего достояния. Но, когда снова оно делится владельцами, тогда или привычка животного к дому, или положенные на нем знаки каждому доставляют свое. Нечто подобное представляя в уме и о себе, не погрешишь в приличном истине. Поскольку душа естественной какой–то дружбой и любовью была расположена к сожителю — телу, то хранится тайно в душе какая–то дружеская связь и знакомство вследствие срастворения со свойственным, как бы от каких–то наложенных природой знаков, по которым остается в ней неслитная общительность, отличающая свою собственность. Поэтому, когда душа снова повлечет к себе сродное и собственно ей принадлежащее, тогда какое, скажи мне, затруднение воспретит Божественной силе произвести соединение сродного, поспешащего к своей собственности по некоему неизъяснимому влечению природы. А что в душе и по отрешении от тела остаются некоторые знаки нашего соединения, это показывает разговор в аду, из которого видно, что, хотя тела преданы были гробу, однако же в Душах оставался некоторый телесный признак, и поэтому, как Лаэарь был узнан, так и богатый не оказался неизвестным.
Поэтому нет ничего несообразного с разумом верить, что произойдет снова отрешение воскресших тел от общего к своему собственному, и особенно (если кто тщательнее исследует естество наше) потому, что составляющее нас не всецело есть нечто текущее и превращающееся, да и совершенно было бы непонятно, если бы по природе не было в нас ничего постоянного. Напротив того, но точнейшему исследованию, из того, что в нас, одно есть что–то постоянное, а другое подлежит изменению. Тело изменяется возрастанием и умалением, как бы подобно каким одеждам, передаваемое с каждым возрастом. Остается же при всякой перемене непреложным в самом себе отличительный вид, не утрачивающий однажды навсегда положенных на нем природой знаков, но при всех переменах в теле показывающий в себе собственные свои признаки. Исключить же подобает из этого закона изменение, производимое страстью, простирающееся на отличительный вид, потому что, подобно какой–то чуждой личине, закрывает этот вид болезненное безобразие, по снятии которого разумом, как у Неемана Сириянина или у описываемых в Евангелии прокаженных, сокрытый под страстью вид снова по причине выздоровления является с собственными своими признаками. Поэтому в том, что в душе богоподобно, нет изменяемо–текущего и прелагаемого, но естественно этому то, что в составе нашем постоянно и всегда одинаково. И поскольку известные видоизменения в срастворении образуют разности в отличительном виде, а срастворение не иное что есть, как смешение стихий, — стихиями же называем основные начала в устроении Вселенной, из которых составлено и человеческое тело, — то, так как отличительный вид, подобно оттиску печати, остается в душе, она необходимо знает изобразившее печать, эти черты, да и во время обновления опять приемлет на себя это, как сообразное с чертами отличительного вида; сообразно же, конечно, все то, что первоначально было отпечатлено в отличительном виде. Поэтому нет ничего несообразного с разумом частному из общего снова возвратиться в свое место. Сказывают же, что ртуть, пролитая из сосуда на каком–то покатом и наполненном пылью месте, разделившись на мелкие шарики, рассыпается по земле, не смешиваясь ни с чем, ей встретившимся; если же кто по многим местам рассеянную ртуть соберет опять в одно место, то она сама собой сливается с однородным, ничего постороннего не заключая в свою смесь. Подобное нечто, думаю, надлежит представлять себе и о человеческом составе, что, если только последует Божие повеление, соответственным частям самим собою присоединиться к тем, которые им свои, то обновляющему естество не будет в этом никакого затруднения. И в произрастающем из земли видим, что, возьмем ли пшеницу, или зерно из смоквы, или другое какое из хлебных или овощных семян, природе нет никакого труда превратить их в солому, и в остны, и в колос. Ибо без принуждения, сама собою соответственная пища переходит из общего в особое свойство каждого из семян. Поэтому если из общей, всем произрастениям предлежащей влаги каждое из питающихся ею растений извлекает способствующее к его возрастанию, то есть ли что необычайного в учении о воскресении, по которому каждым из воскрешаемых, подобно тому, что бывает с семенами, привлекается свойственное ему?
Поэтому из всего можно дознавать, что проповедь о воскресении не содержит в себе ничего такого, что не было бы известно из опыта; хотя умолчали мы о том, что всего известнее в нас: разумею само первое начало нашего составления. Ибо кто не знает этого чудного действия природы: что принимает в себя материнская утроба и что производит из этого? Не видишь ли, что всеваемое в утробу, как начало телесного состава, некоторым образом просто и состоит из подобных частей. Какое же слово изобразит разнообразие уготовляемого состава? Кто не научаемый подобному общей природой признал бы возможным совершающееся, а именно что это малое и само по себе незначительное служит началом столь великого дела. Называю же великим, не только взирая на образование тела, но и на то, что более достойно удивления, разумею саму душу и все в ней усматриваемое.
Глава двадцать восьмая
Против утверждающих, что души существовали прежде тел или, наоборот, что тела созданы прежде душ, и вместе некое опровержение баснословного учения о переселении душ
Не вне, может быть, пределов предлежащего нам труда — исследование того, что в церквах составляет предмет недоумении о душе и теле. Один из живших прежде нас, а именно занимавшийся учением о началах [Ориген], утверждал, что души, подобно какому–то обществу, но особым постановлениям существуют сами по себе, и там есть для них образцы порока и добродетели, и душа, пребывающая в добре, остается не испытавшею соединения с телом, но, если она уклонится от общения с добром и возымеет поползновение к здешней жизни, в таком случае бывает соединена с телом. Другие же, держась описанного Моисеем порядка в устроении человека, говорят, что душа по времени вторая после тела. Поскольку Бог, сперва взем персть от земли (Быт. 2, 7), создал человека, а потом уже одушевил его вдуновением, то на этом основании доказывают, что плоть предпочтительнее души, вошедшей в предварительно созданную плоть. Душа, говорят они, сотворена для тела, чтобы не быть ему тварью бездыханной и недвижимой. А все, делаемое для чего–нибудь, конечно, малоценнее того, для чего делается, как и Евангелие сказывает, что душа больши есть пищи, и тело одежди (Мф. 6, 25), потому что для души и тела — одежда и пища, а не для пищи — душа и не для одежды устроены тела, напротив того, когда существовали уже тела, по необходимости изобретены и одежды.
Итак, поскольку в обоих предположениях достойно порицания рассуждение и баснословящих, что души жили прежде в особом некотором состоянии, и полагающих, что они созданы после тел, то необходимо ничего из сказанного в этих учениях не оставлять без исследования. Но со всей точностью заняться рассуждениями тех и других и обнаружить все несообразности, заключающиеся в этих предположениях, потребовало бы продолжительного времени и слова. Поэтому, вкратце рассмотрев по возможности каждое из означенных мнений, снова обратимся к предположенному.
Защитники первого учения, которые утверждают, что души до жизни во плоти имеют другой образ жизни, по моему мнению, держатся еще языческих баснословных учений о переселении души из одного тела в другое. Ибо если кто в точности исследует, то по всей необходимости найдет, что учение их клонится к тому, что, как говорят, сказывал о себе один из их мудрецов, а именно: «Был я мужем, потом облекся в тело жены, летал с птицами, был растением, жил с животными водяными». И, по моему суждению, недалеко отступил от истины утверждающий о себе подобное. Ибо подобное учение, что одна душа входила в столько тел, подлинно достойно или крика каких–либо лягушек и галок, или бессловесия рыб, или бесчувственности растений. Причина же такой нелепости — та мысль, что души пред существу ют. Ибо начало подобного учения, открывая рассуждению путь к ближайшему и непосредственно за тем представляющемуся, последовательно доводит до таких бредней. Если душа каким–либо пороком отвлечется от высшего образа жизни, однажды вкусив, как говорят, телесной жизни, делается человеком; жизнь же во плоти в сравнении с вечной и бестелесной, без сомнения, признается более страстной, то душе в такой жизни, в которой больше поводов ко греху, совершенно необходимо сделаться более порочной и более расположенной к страстям, нежели сколько была прежде. Страстность же человеческой души есть уподобление бессловесному. Душа, усвоившая себе это, переходит в естество скотское и, однажды вступив па путь порока, даже и в состоянии бессловесном никогда не прекращает дальнейшего поступления во зло. Ибо остановка во зле есть уже начало стремления к добродетели, а у бессловесных добродетели нет. Поэтому душе необходимо всегда будет изменяться в худшее, непрестанно переходя в состояние более и более бесчестное и изыскивая всегда положение худшее того, в каком она находится. Но, как ниже разумного чувственное, так ниспадение из чувственного делается бесчувственностью. До этого доходит их рассуждение, хотя вращается вне истины, однако же и нелепость из нелепости выводит с некоторой последовательностью. Но выводимое из этого баснословное учение слагается уже у них из понятий бессвязных. Ибо строгая последовательность указывает на растление души. Душа, однажды поползнувшаяся в жизни высшей, не сможет остановиться ни на какой мере порока, но по наклонности к страстям из словесного состояния перейдет в бессловесное, а из этого дойдет до бесчувственности растений; к бесчувственному же некоторым образом близко неодушевленное, а за этим следует не имеющее бытия. И, таким образом, по строгой последовательности душа сделается у них совсем несуществующей. Поэтому опять по необходимости невозможно уже для нее будет возвращение к лучшему. Между тем они из растения производят душу в человека, а этим показывают, что жизнь растений предпочтительнее жизни бестелесной. Ибо доказано, что поступление души в худшее, как и естественно, низведет ее ниже. Бесчувственого же естества ниже неодушевленное, в которое последовательно низводит душу начало их учения. А как неугодно им это, пусть или навсегда заключат душу в бесчувственности, или, если хотят возвести отсюда ее в человеческую жизнь, докажут, как сказано, что древесная жизнь предпочтительнее прежнего состояния, потому что в нем совершилось ниспадение в порок, а в первой совершается возвращение к добродетели. Поэтому каким–то не имеющим ни начала, ни конца оказывается учение, по которому души прежде жизни во плоти живут сами по себе и за пороки соединяются с телами.
Нелепость же учения утверждающих, что душа позднее тела, объяснена впоследствии. Поэтому учение тех и других равно не может быть принято. Наше же учение, как думаю, должно идти к истине средним путем между этими предположениями, и оно состоит в следующем: не подобает ни предполагать, как обольщают себя язычники, будто бы души, вращающиеся со Вселенной, обременившись каким–то пороком, по невозможности идти наравне со скоростью Движущегося полюса ниспали на землю; ни утверждать также, будто бы человек создан сперва подобным изваянию из брения и для этого–то изваяния сотворена душа. Ибо в таком случае умная природа окажется стоящей меньше, чем бренная тварь.
Глава двадцать девятая
Доказательство, что одна и та же причина существования души и тела
Поскольку человек, состоящий из души и тела, есть единое, то предполагаем одно общее начало его состава, так что он ни старше, ни моложе самого себя и не прежде в нем телесное, а потом другое, Напротив того, утверждаем, что предведущим Божиим могуществом, согласно с изложенным несколько выше учением, приведена в бытие вся полнота человеческого естества, как свидетельствует об этом пророчество, которое говорит, что Бог ведает вся прежде бытия их (Дан. 13, 42). В сотворении же каждой части не предпоставляем одного другому и души телу, и наоборот, чтобы человек, разделяемый разностью во времени, не был поставляем в разлад с самим собой. Поскольку, по учению апостольскому, естество наше представляется двояким, иным в человеке видимом, и иным — в потаенном (1 Пет. 3, 4), то, если одно предсуществовало, а другое произошло после, сила Создателя окажется какой–то несовершенной, недостаточной, чтобы произвести все сразу, но раздробляющей дело и трудящейся особо над каждою половиной. Но, как о пшеничном зерне или о другом каком семени говорим, что оно в возможности заключает все относящееся к колосу: зелень, стебель, колена на стебле, плод, ости, — и утверждаем, что из всего этого но закону природы в естестве семени ничто не предсуществует или не происходит прежде, но по естественному порядку обнаруживается скрытая в семени сила и не вмешивается в дело чуждая природа: по такому же закону и о человеческом осеменении предполагаем, что с первым началом состава всевается естественная сила, которая развивается и обнаруживается с некоторой естественной последовательностью, поступая к совершению целого, ничего не заимствуя извне в средство к этому совершению, но сама себя последовательно возводя к совершенству; так что несправедливо было бы утверждать, будто произошла душа прежде тела, или тело без души, но одно начало обоих, по высшему закону — положенное первым Божиим изволением, а по другому закону–состоящее в способах рождения. Как в том, что посевается для зачатия тела прежде его образования невозможно видеть членораздельности, так в этом же самом невозможно представлять себе душевных свойств, пока не начнут действовать. И, как никто не усомнится, что это всеянное образует из себя различные члены и внутренности не иной какой–либо прившедшей силой, скрытой в семени и естественно приведенной в деятельность, так, согласно с этим, тоже можно подразумевать и о душе, что, хотя никакими деятельностями не открывает себя в видимом, но тем не менее есть уже во всеянном, потому что и отличительный вид человека, который из этого составится, заключается в этом по возможности, но скрыт но невозможности сделаться явным прежде неизбежной последовательности, а также и душа есть в семени, но неприметна, явит же себя свойственною ей естественной силой, сообразуясь с телесным возрастом. Поскольку сила к зачатию отделяется не от мертвого, но от одушевленного и живого тела, то признаем поэтому основательной ту мысль, что исходящее от живого в начало жизни не есть что–либо мертвое и неодушевленное. Ибо неодушевленное во плоти, без сомнения, мертво. Мертвенность же происходит от утраты души. Никто же не скажет при этом, что лишение возможно прежде обладания, но это говорит утверждающий, что неодушевленное, т. е. мертвенность, старше души.
Но если кто потребует и яснейшего доказательства того, что жива эта часть, которая служит началом зарождающегося живого существа, то можно уразумевать это по другим признакам, которыми одушевленное отличается от мертвого. Ибо доказательством жизни в человеке считаем некоторую теплоту, деятельность и движимость, а охлаждение и неподвижность в телах есть не что иное, как мертвенность, Итак, поскольку в том, о чем у нас речь, усматриваются и теплота и деятельность, то принимаем это за доказательство, что оно не неодушевленно. И, как с телесной стороны не называем этого ни плотью, ни костями, ни волосами, ни чем–либо усматриваемым в человеческом составе, а говорим, что, хотя по возможности является оно каждым из этих, но не оказывается еще по видимости, так и со стороны души говорим, что не имеют в этом места разумная, вожде–вательная и раздражительная сила и все прочее, усматриваемое в душе, но, согласно с устроением и усовершением тела, возрастают в человеке и душевные деятельности. Ибо, как человек совершенного возраста в делах немаловажных проявляет в себе душевную деятельность, так в начале своего образования показывает в себе сообразное и соразмерное с настоящей потребностью содействие души в том, что из всеянного вещества устраивает она себе сродное жилище. Ибо признаем невозможным, чтобы душа приноровляла к себе чужие жилища, как и сделанная на воске печать не может быть применяема к иным оттискам. Как тело из самого малого приходит в совершенный возраст, так и душевная деятельность, возрастая в человеке соответственно телу, развивается и увеличивается. При первоначальном устроении тела, подобно некоему корню, скрытому в земле, предшествует в душе одна растительная и питательная сила, потому что малость приемлющего тела не может вместить большего–Потом, когда это растение выйдет на свет и росток свой покажет солнцу, расцветает дар чувствительности. Когда же созреет и достигнет уже соразмерной высоты, тогда, подобно некоему плоду, начинает просвечивать разумная сила, впрочем не вся вдруг обнаруживаясь, но быстро возрастая вместе с усовершением орудия и столько принося всегда плода, сколько вмещают силы человека.
Если же доискиваешься душевных деятельностей в образовании тела, то вонми себе, говорит Моисей (Втор. 4, 9), и, как в книге, читай историю действий души. Ибо сама природа яснее всякого слова расскажет тебе различные занятия души в теле при устройстве и целого и частей. Но излишним почитаю описывать словом то, что касается нас самих, как бы рассуждая о каких–нибудь посторонних чудесах. Ибо кто, взирая на самого себя, найдет нужду в чужом слове, чтобы изучить собственное естество? Кто уразумел способы жизни и дознал, насколько тело способно ко всякой жизненной деятельности, тому можно познать, чем были заняты естественные силы души при первоначальном образовании человека. Почему и из этого делается явным для не совсем невнимательных, что не мертвым и не неодушевленным бывает то, что, для произведения животного существа будучи извлечено из живого тела, влагается в художническую храмину природы. И сердцевину плодов, и отростки корней сажаем в землю не омертвевшие и не утратившие вложенной в них природой жизненной силы, но сохранившие в себе хотя скрытое, но непременно живое свойство Первообраза. Такую же силу и окружающая их земля влагает не извне, отделив ее от себя самой, ибо в таком случае и мертвые части деревьев давали бы от себя отпрыски, а, напротив того, проявляет только скрытую в насажденном силу, питая собственной своей влагой и образованием корня, коры, сердцевины, отпрысков, ветвей, доводя растение до совершенства. А этого не могло бы произойти, если бы не вложена была какая–либо естественная сила, которая, привлекая в себя из окружающего сродную и сообразную пищу, делалась кустом, или деревом, или колосом, или каким–либо овощным произрастением.
Глава тридцатая
Краткое, врачебное больше, обозрение устроения нашего тела
Но, хотя точному устройству нашего тела учит каждый сам себя, имея учителем собственное свое естество в том, что он видит, живет и чувствует, однако же, можно узнать в точности все и тому, кто возьмет книги, в которых изложена история всего этого, трудолюбиво составленная мудрыми в подобном этому. Одни из них через рассечение тел изучали, какое положение имеет в нас каждый член, а другие примечали и объясняли, на что именно сотворена всякая часть тела, так что трудолюбивыми почерпается отсюда достаточное знание человеческого устроения. Но если кто потребует учительницей во всем этом иметь Церковь, чтобы ни для чего не было нужды в постороннем голосе, — ибо, как говорит Господь, вот закон для духовных овец: не слушать им чуждого гласа (Ин. 10, 5), — то кратко изложим учение и об этом.
В естестве тела приметили мы три цели, для которых устроен в нас каждый член в отдельности. Одно устроено, чтобы жить, другое — чтобы жить хорошо, и иное приспособлено к потомственному преемству. Поэтому все такое, без чего не может состояться в нас человеческая жизнь, приметили мы в трех частях: в голове, сердце и печени. А чир служит некоторым добавлением к этим благам по щедрости естества, и, чем даруется человеку возможность жить хорошо, то составляют органы чувств. Такие органы несущественны для жизни, потому что нередко и при недостатке некоторых из них человек тем не менее сохраняет жизнь, но без деятельности их человеку невозможно наслаждаться приятностями жизни. Третья же цель относится к последующему и к преемству.
Но, кроме этих органов, и другие некоторые служат к пребыванию всех вообще органов и составляют собою соответственное каждому члену дополнение. Таковы желудок и легкое: легкое дыханием воспламеняет огонь в сердце, а желудок вмещает во внутренностях пищу. Поэтому при таком разделении нашего устроения можно в точности уразуметь, что жизненная сила не однообразно и не одним каким–либо членом приводится в нас в действие, но что естество, уделив многим частям средства к устроению нашего состава, необходимым делает, чтобы каждый орган вносил свою дань в пользу целого. Почему органы, которые естеством хитро устроены для безопасности и красоты жизни, и многочисленны, и имеют великую разность. Но, думаю, что надлежит нам прежде кратко, только подробнее, раскрыть первые начала того, что служит к образованию жизни. Поэтому об общем веществе всего тела, положенном в основание каждого из его членов, да будет теперь умолчано, потому что это общее естествословие нимало не послужит нашей цели — частному обозрению. Как всеми признано, что есть в нас часть всего, усматриваемого в мире в виде стихий, т. е. тепла и холода, а также и Другой умопредставляемой нары, влажности и сухости, то подобает нам рассмотреть каждую стихию порознь.
Итак, видим три управляющие жизненные силы, из которых одна согревает все теплотой, другая согретое напоевает влагой, чтобы равносилием качества противоположностей живое существо соблюдалось в середине и влажность не была попаляема преизбытком теплоты и теплота не угашалась преобладанием охлаждающего. Третья же сила содержит собой в некоторой близости и стройности разъединенные суставы, сопрягая их своими связками и всем сообщая самодвижную произвольную силу, при недостатке которой орган этот делается отдельным и омертвевшим, лишившись произвольного дыхания. Прежде же этого более достойна примечания художественность естества нашего в самом создании тела.
Поскольку жесткое и упорное не принимает в себя деятельности чувств, как можно видеть в костях у нас и в земных растениях, в которых примечаем некоторый вид жизни в том, что растут и питаются, чувства же, напротив того, не приняло в себя упорство их, то для чувственных деятельностей нужно было изготовить как бы воску подобный некий снаряд, который мог бы отпечатлевать на себе ощутительные оттиски, и не сливал их по преизбытку влажности (потому что на влажном не удерживается отпечатленное), и не противился отпечатлению по чрезмерной отверделости (потому что неуступчивое не оставляет на себе знаков отпечатленного), но занимал середину между мягкостью и твердостью, чтобы живое существо не лишено было прекраснейшего из естественных действий — разумею движение чувствительное. Поскольку же мягкое и уступчивое, не имея никакой деятельности, свойственной вещам твердым, было бы, без сомнения, недвижимо, нечленообразно, подобно морскому киселю, то поэтому естество примешало к телу твердость костей и соединило их между собой неотъемлемой соразмерностью, сблизив и скрепив связями из жил, потом обложило их плотью, доступной чувствам, менее же чувствительной, и тверже сложенной на поверхности. На эти–то твердые по природе кости, как на некие подпирающие здание столпы, возложило всю тяжесть тела, и не одну нераздельную кость вложило в целый состав. Человек оставался бы недвижимым и бездейственным, если бы имел такое устройство, подобно какому–то дереву, держась на одном месте, потому что не мог бы производить движений вперед перестановкой ног, ни пользоваться в жизни услужливостью рук. Теперь же этим примышлением искусно устроила природа, что орудие это и подвижно и деятельно, с произвольным дыханием, проходящим по жилам, вложив в тело и стремление к движениям и силу для них. Отсюда разнообразная, многосторонняя, ко всякому примышлению пригодная услужливость рук. Отсюда поворотливость шеи, наклонения и всякие движения головы, деятельность челюсти, разведение и соединенное с тем вместе наклонение бровей; и движения прочих членов производятся как бы в некоей машине сжатием и растяжением известных жил. Проходящая же по ним сила имеет какое–то самодвижное стремление, в каждом из них действуя произвольным дыханием но особому смотрению естества. А корнем и началом всех движений в жилах оказывается облекающая собой головной мозг волокнистая плева.
Поэтому думаем: не подобает много любопытствовать о жизненных органах, что они такое, когда дознали, что движущая сила в мозгу. А что головной мозг весьма много способствует жизни, ясно открывается это из противоположных случаев. Ибо, если потерпит кто какой–либо удар или разрыв мозговой плевы, за этим немедленно последует смерть, потому что естество и на мгновение не в силах устоять против этого удара подобно тому как, если станешь выламывать основание, то целое здание с этой частью придет в потрясение. А что при своем повреждении сопровождается явной гибелью целого живого существа, в том (нельзя не признаться) главным образом заключается причина жизни.
Поскольку же у прекративших жизнь с угашением вложенной в естество теплоты омертвевшее охладевает, то поэтому и в теплоте усматриваем причину жизни. Ибо о том, за утратой чего следует омертвение, по всей необходимости подобает признать, что присутствием этого держится жизнь в живом существе. А как бы некоторый источник и начало такой силы примечаем в сердце, из которого подобные свирелям одна из другой многоветвисто исходящие трубки по всему телу разливают как бы огненное теплое дыхание.
И как непременно должно, чтобы естество доставляло теплоте некую пищу, потому что огонь не может поддерживаться сам собою, не будучи питаем чем–либо для этого пригодным, то поэтому печенью, как бы неким источником, доставляемые потоки крови вместе с теплым дыханием идут повсюду в теле так неразрывно, что по взаимном одних с другим разобщении происшедшее страдание погубило бы само естество. Да вразумит это не наблюдавших равенства, научая самим естеством, что любостяжание есть тлетворная некая болезнь. Но поскольку одно Божество ни в чем не имеет нужды, человеческое же убожество к поддержанию своему нуждается во внешнем, то трем этим силам, которыми, как сказали мы, устраивается все тело, природа доставляет извне притекающее вещество, вводя разными путями соответственное каждой силе. Ибо источнику крови, т. е. печени, природа предоставила снабжение посредством пищи. Что непрестанно доставляется пищей, то делает, что из печени изливаются потоки крови, подобно тому как снег на горах свойственной ему влажностью увеличивает подгорные источники, через всю высоту горы влагу свою сгнетая до нижних жил.
Воздух же в предсердечии входит туда через находящуюся близ него часть внутренности, которая называется легким и есть приемник воздуха и посредством лежащей в нем бьющейся жилы, простирающейся до рта, вдыханиями втягивает в себя внешний воздух. Им по середине разделенное сердце, в подражание деятельности приснодвижного огня само непрерывно движимое и подобно тому, что производят в кузницах меха, и втягивает в себя воздух из прилежащего легкого, и, наполняя происшедшие от расширения пустоты и раздувая, что есть огненного в нем самом, выдыхает в прилежащие бьющиеся жилы. И не прекращает этого действия, как втягивая внешний воздух в собственные свои пустоты расширением их, так выделяя от себя в бьющиеся жилы сжатием. Это–то, кажется мне, и делается в нас причиной этого самодвижного дыхания. Ибо часто ум занят чем–либо другим или совершенно покоится, отрешившись от тела во сне, но вдыхание воздуха не прекращается без всякого содействия в том нашего произволения. Ибо, думаю, поскольку сердце, будучи соединено с легким и связано с ним задней своей частью, своими расширениями и сжатиями приводит с собой в движение внутренности, то втягивание воздуха и дыхание производится легким. Ибо легкое, будучи чем–то редким, исполненным скважин сосудом и все пустоты в себе имея отверстыми при основании бьющейся жилы, когда сдавлено и сжато, остававшийся во впадинах воздух по необходимости с силой извергает, а когда расширено и отверсто — втягивает внешний воздух в промежуток, сделавшийся пустым от притягивания. И вот причина этого непроизвольного дыхания — невозможность, чтобы огнистое в нас сделалось неподвижным. А поскольку теплоте свойственна деятельность в движении, начало же теплоты приметили мы в сердце, то непрестанное движение в этом органе производит непрерывное побуждение к выходу и вдыхание воздуха легким. Почему, когда огненное напряжено сверхъестественно, дыхание палимых горячечным жаром делается учащенным, как будто бы сердце спешит угасить скрытый в нем пламень новым воздухом.
Но поскольку естество наше есть что–то скудное и для собственного своего поддержания имея во всем нужду бедно до того, что нет у него не только собственного своего воздуха, но и дыхания, возбуждающего теплоту, то для сохранения живого существа непрестанно привносится что–либо извне. Да и нища, поддерживающая телесный состав, у него приобретенная, почему яствами и питиями наполняет нуждающееся тело, когда оно в недостатке, вложив в него некую притягивающую, а когда в преизбытке, отталкивающую силу. и при этом сердечный огонь оказывает естеству немалое содействие. Поскольку из жизненных органов по сказанной выше причине самый главный есть сердце, оживотворяющее теплым дыханием каждый из прочих органов, то Зиждитель наш сделал, что все оно действенно по производительности силы, так что ни одна часть его не остается без действия и без пользы в домостроительстве целого. Поэтому сердце, опускаясь от легкого и непрестанным движением притянув к себе внутренности, расширяет проходы для втягивания внешнего воздуха, а поднимаясь опять вверх, способствует выдыханию того воздуха, который внутри. Передними же своими частями состоя в связи с влагалищем верхнего желудка, согревает его и приводит в движение для собственных его деятельностей, возбуждая не к втягиванию воздуха, но к принятию сообразной пищи, потому что близки между собою входы для дыхания и для пищи, идя вдоль один против другого, вверху в равной мере сближены, так что отверстиями сходятся друг с другом, и в одних устах оканчиваются оба эти прохода, из которых одним входит в нас пища, другим — дыхание. Но в глубине не везде сохраняется взаимная связь этой пары проходов, потому что сердце, помещаясь в середине между основаниями того и другого, дает силы одному для дыхания, а другому для питания. Огню обычно искать вещества для горения. Это же по необходимости происходит и с пищеприемником. Ибо, в какой мере разгорячается соседственной теплотой, в такой же сильнее привлекает питающее теплоту, а такое побуждение называем позывом на пищу.
Если телесный сосуд, в который слагается пища, примет в себя достаточное количество вещества, то и в этом случае деятельность огня не успокаивается, но, как в плавильне, производит какой–то сплав вещества и, разложив и перемешав, что было твердо, как бы из тигля какого переливает в следующие далее проходы. Потом, отделив более грубое от чистого, как бы водопроводами какими препровождает истонченное во врата печени. А густой отсед пищи отбрасывает в более широкие желудочные проходы и, несколько времени круговращая по ним разными оборотами, задерживает пищу во внутренностях, чтобы легко извергаемая по прямому проходу не возбуждала тотчас позыва на нищу в живом существе и человек по естеству бессловесных не принужден был никогда не оставлять такой работы. Поскольку же и печени наиболее потребно содействие теплоты для обращения соков в кровь, а от сердца по положению отстоит она далеко (ибо, думаю, будучи неким началом и корнем жизненной силы, не может она утесняться другим началом), то, чтобы отдаленность теплотворной сущности не повредила сколько–нибудь всему домостроительству, волокнистый проход (у сведущих в этом называется он бьющейся жилой), приняв в себя разгоряченное дыхание, из сердца переносит в печень, где, закрыв несколько отверстия его входом влаги и теплотою приведя жидкость в кипение, отлагает во влажном нечто из огненного сродства, и огненным цветом окрасив кровь. Потом, два некие водопровода, из которых каждый, подобно трубе, содержит в себе: один — дыхание, а другой — кровь, чтобы то и другое удобно пролагало себе путь, начавшись в печени, жидкое, сопровождаемое и облегчаемое движением теплоты, многочастно рассевают но всему телу, во всякой его части делясь на тысячи начал и ветвей этих проводов.
Два же начала жизненных сил, слившись между собой, сообщая телу: одно — теплоту, другое — влажность, как бы необходимую некую дань из своей собственности приносят правительственной силе жизненного домостроительства. А это есть сила, открывающаяся в мозговой оболочке и в головном мозгу; от нее всякое движение суставов, всякое сжатие мышц, всякое произвольное дыхание, передаваемое каждой части порознь; и это показывает земное наше изваяние, подобно какой–то машине приводимое в действие и движение. Что есть самого чистого в теплом и самого тонкого во влажном, то, будучи соединено той и другой силой в некую смесь и срастворение, питает и поддерживает испарениями головной мозг. А что выходит из мозга, будучи им до высшей степени чистоты утончено, то укрепляет объемлющую головной мозг плеву, которая наподобие свирели, простираясь сверху вниз, по ряду позвонков проводя и себя и лежащий в ней мозжечок, оканчивается в основании спинного позвонка. Головной мозг всем связям костей и сочленений и началам мышц, подобно какому–то всаднику, дает от себя побуждение и силу в каждом движении и при каждой остановке. Поэтому–то, кажется мне, и удостоен он более надежного охранения, обнесенный вокруг и в голове двоякою оградою костей и в позвонках выдающимися шипами и разнообразными снаружи переплетениями, что охраняет его от всякой возможности что–либо потерпеть, потому что окружен надежной стражей.
Подобным образом может иной заключить и о сердце, что оно, подобно какому–либо дому, приведенному в безопасность твердынями, также отовсюду защищено, укрепленное костяными ограждениями. Ибо сзади проходит спинной позвонок, с обеих сторон защищенный лопатками; в каждом боку опоясывающее положение ребер делает середину нимало не подверженной страданиям извне. А впереди выдаются грудь и пара ключиц, чтобы сердце отовсюду было безопасно и охранено от внешних приражений. Подобное нечто можно видеть в земледелии, когда дождь из облаков или орошение из водопроводов увлажняет землю. Представим себе в уме сад; в нем воспитываются тысячи разных деревьев и всякого рода произрастений, у которых в каждом усматриваются весьма различными и наружный вид, и качество, и свойство цвета. И когда столько растений на одном месте питаются одной и той же влагой, хотя сила, напояющая каждое из них по естеству есть какая–нибудь одна, однако же свойство питаемых растений прелагает влагу в разные свойства. Одна и та же влага в полыни горкнет, в цикуте делается ядовитым соком, а в чем другом — в шафране, в бальзаме, в маке принимает другие свойства; в одном — разгорячается, в другом — охладевает, и в ином оказывает в себе среднее качество; в лавре, в нарде и в подобных растениях — благоуханно; в смоковнице и в груше — сладко; виноградной лозой обращается в гроздь и в вино. И кислота яблока, и румянец розы, и белизна лилий, и голубоватость фиалки, и пурпуровый цвет гиацинта, и все, что можно видеть на земле, прозябая из одной и той же влажности, различается таким множеством разностей в наружности, виде и качествах. Подобное нечто и на одушевленной нашей пиве чудотворит природа, или, лучше сказать, Владыка природы. Кости, хрящи, кровеносные бьющиеся жилы, волокна, связки плоти, кожа, туки, волосы, железы, ногти, глаза, ноздри, уши — все, этому подобное, и сверх того тысячи других суставов, отличающихся друг от друга разными свойствами, питаются одним родом пищи соответственно своему естеству, так что пища, приблизившись к каждому из членов, в то и изменяется, к чему близка, делаясь свойственной и сродной с качеством этого органа. Если будет в глазе, то срастворится с этим зрительным органом и, как свойственно разностям глазных покровов, уделится каждому. Если приливает к слуховым суставам, смешивается с естеством слуха; вошедши в губу, делается губой; в костях отвердевает, в мозжечке размягчается, приходит в напряжение в жилах и растягивается с поверхностями, переходит в ногти, утончается в соответственных испарениях до того, что производит из себя волосы. Если проходит путями извилистыми, то порождает волосы вьющиеся и курчавые, а если прохождение волосородных испарений совершается путями прямыми, то и волосы производит долгие и прямые.
Но слово наше далеко уклонилось от предложенного, углубляясь в дела естества и предприемля описать, как и из чего составилось в нас все служащее как к тому, чтобы жить, так и к тому, чтобы жить хорошо, и к тому, что еще, кроме этого, примечено было нами по первому разделению. Ибо предположено было нами доказать, что осеменяющая причина нашего состава есть и не душа бестелесная и не тело неодушевленное, но что первоначально из одушевленных и живых тел рождается живое одушевленное существо. Человеческое же естество, восприняв его, подобно некоей кормилице, само питает его собственными своими силами; оно же питается в обеих своих частях, в каждой части соответственно оной явно возрастает. Ибо при этом художественном и многоискусном образовании естества тотчас обнаруживается сопряженная с ним сила души, хотя вначале оказывающаяся слабой, но впоследствии сияющая вместе с у совершением орудия подобно тому, как можно это видеть у ваятелей. Художнику нужно представить из камня вид какого–нибудь животного. Предположив себе это, сперва очищает он камень от приросшего к нему вещества, потом, отсекши излишние его части, подражанием предположенному несколько приближается к нему в грубом виде, так что и неискусный из видимого угадывает цель искусства. Снова принимаясь обделывать, еще более приближается к желаемому подобию. Потом, выработав из вещества совершенный и точный вид, доводит искусство до конца. И этот незадолго до того не имевший никакого образа камень делается у художника или львом, или человеком, или чем бы то ни было не потому, что вещество изменено этим видом, но потому, что этот вид искусственно придан веществу. Нечто подобное приписывая душе, не погрешим против истины. Ибо утверждаем, что естество, художнически все обрабатывающее из однородного вещества, приняв в себя часть, взятую от человека, создает изваяния. Но, как за постепенным обрабатыванием камня последовал вид, сначала слабый, а по окончании дела совершеннейший, так и в изваянии орудия вид души, соответственный предположенному, проявляется в несовершенном несовершенный и в совершенном совершенный.
Но он был бы совершенен и в самом начале, если бы естество не было повреждено грехом. Потому–то общение с рождением страстным и скотским сделало, что не вдруг в твари просияет Божий образ, но каким–то путем и последовательно по вещественным и животным более свойствам души ведет человека к совершенству. Подобное учение излагает и великий апостол в Послании к Коринфянам, говоря: Егда бых младенец, яко младенец глаголах, яко младенец смышлях: егда же бых муж, отвергох младенческая (1 Кор. 13, 11); не потому что в мужа входит другая душа, кроме умопредставляемой в отроке, и отвергается младенческое разумение, а появляется мужское, но потому, что та же душа, в младенце несовершенная, в муже оказывается совершенной.
Как о том, что рождается и растет, говорим, что оно живет, так и о всяком существе, которое причастно жизни и естественного движения, никто не скажет, что оно неодушевленно, хотя и невозможно утверждать, что подобная жизнь причастив совершенной души. Ибо являющаяся в растениях душевная некая деятельность не достигает до движений чувства. Опять и в бессловесных с приращением показывающая себя душевная некая сила также не достигает совершенства, потому что не вмещает в себе дара слова и разумения. Поэтому говорим, что душа человеческая есть душа истинная и совершенная, дающая познавать себя всякой деятельностью. Если же что иное причастно жизни, то называем это одушевленным по привычке выражаться неточно, не потому что в этом есть совершенная душа, но потому что приметны в этом некоторые части душевной деятельности, которые, как познаем по таинственному сказанию Моисея о бытии человека, появились и в нем оттого, что освоился со страстным. Поэтому–то и Павел желающим слушать, советуя достигать совершенства, предлагает и способ, как получить желаемое, говоря, что подобает совлечься ветхого человека и облечься в нового, обновляемого по образу Создавшаго (Кол. 2, 22). Но да возвратимся и все к той же боговидной благодати, с которой вначале сотворил Бог человека, сказав: Сотворим по образу Нашему и по подобию. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
Примечания
1
Червлёный, червлёная, червлёное (книжн. устар.). Багряный, темнокрасного цвета.
(обратно)2
Опона церк. и стар. запон, покров, завеса.
(обратно)3
Власяной, волосяной, сделанный из волос.
(обратно)4
Наперсный крест, жалуемый в награду священникам.
(обратно)5
Греческая золотая монета в 100 драхм.
(обратно)6
Персидская золотая монета с изображением Дария.
(обратно)7
Πνέυμα, по славянскому переводу: ветр.
(обратно)8
То есть двести десять тысяч.
(обратно)9
Богиня, согласно греческой мифологии, присутствующая при рождении детей.
(обратно)10
Здесь в издании творений Святаго Григория на Греческом находится пропуск. Слова означенныя вносными знаками дополнены по Латинскому переводу.
(обратно)11
Рай.
(обратно)12
Греческое слово: ὀ τὸος значит вообще приплод, а посему как рост на деньги, так и плод чрева.
(обратно)13
В Писании, а выше и у Григория Нисского читается здесь γίνεται, а не γινόσει.
(обратно)14
Сей род ехидн у древних назывался: дипсада.
(обратно)15
В сем слове св. Григория Нисского содержатся некоторые мысли и выражения, которые могут подать повод к недоразумениям, и в которых уже издревле неправомыслящие старались найти подтверждение некоторым своим, уклоняющимся от чистоты православного учения, мнениям. Св. Григорий по–видимому допускает мысль, что не только люди преуспевшие на земле в жизни духовной и бесстрастии, каковы были патриархи, пророки, апостолы, мученики, достигнут вечного блаженства, но и прочие, путем исправительного воспитания в последующей жизни, отрешившись в очистительном огне пристрастия к веществу, посредством свободного вожделения того, что благо, возвратятся к предназначенной от начала в удел нашему естеству благодати; что по совершенном устранении зла из всех существ, во всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой мы были созданы в начале. В этих и подобных выражениях, в древности последователи Оригена находили подтверждение мнения своего учителя о восстановлении всего в состояние первобытного совершенства, а в последствии латиняне думали видеть подкрепление своего учения о чистилищном огне. От нареканий оригенистов старались защитить св. Григория, преп. Варсануфий, св. Максим Исповедник, препод, Феодор Студит, патриархи Герман и Фотий. Они указывали отчасти на то, что учение о восстановлении всего имеет у св. Григория значение отличное от Оригенова (св. Феодор и Максим), отчасти на повреждение сочинений Григориевых еретиками (блаж. Герман и Фотий), отчасти на необходимость различения в писаниях св. Отцев учения догматического, внушенного Духом святым и посему принятого церковью, и частных мнений, которые они могли заимствовать от своих учителей (преп. Варсануфий). На ту же необходимость отличать в писаниях отеческих личные и частные мнения от учений вселенской церкви, указывал и блаженный Марк Ефесский латинянам, находившим в творениях св. Григория подтверждение своего учения о чистилище. «Человеку, — говорил он, — хотя бы он достиг и верха святости, не возможно не погрешать, и особенно в таких предметах, о которых прежде не было исследования и не было дано отцами общего, соборного решения». (Как сии свидетельства отцев и учителей церкви в защиту св. Григория, так и доказательства вообще чистоты его учений, заимствованные из других его сочинений, с подробностью изложены в статье: «Св. Григорий Нисский», в Прибавлениях к Твор. Св. Отцев, Часть XX, 1861 г., стр. 77—92). Впрочем внимательное чтение и сего одного слова, без сличений его с другими творениями св. Григория, может достаточно убедить, что не смотря на некоторую своеобразность мнений, учение пастыря Нисского равно далеко как от оригенизма, так и от мнений латинян о чистилище.. Необходимо иметь в виду, что св. Григорий предлагая в сем слове утешение скорбящим об отшедших из сей жизни и указывая на превосходство жизни будущей пред настоящею, говорит только об усопших христианах, скончавшихся в уповании жизни вечной и чаянии ее благ, следовательно о тех, кои уже здесь, на земле, по благодати, которой сподобились и по своей вере и делам, соделались достойными сего чаяния. От них он отличает неверных, ограничивающих надежды жизни одним настоящим, которые «по тому и считают достоплачевною смерть, что для них нет надежды на то, чему веруем мы». Что как сим неверным, так и нераскаянным грешникам предлежит вечное мучение, о сем св. Григорий учит ясно (Приб. к Тв. Отцев. Часть XX, стр. 77—81). Отсюда видно, что учение св. Григория о конечном изглаждении зла и восстановлении всего в первобытное совершенство относится только до части спасаемых, до верующих во Христа, из коих. одни (как патриархи, апостолы, пророки, мученики) и на земле достигли возможного совершенства, а прочие (т. е. верующие же во Христа), хотя и положили в настоящей жизни начало нравственному преуспеянию, но по немощи воли еще не совершенно очистили себя от греховности. Эти останки греховности, эти следы нравственного несовершенства, в жизни будущей «путем исправительного воспитания, как говорит св. Григорий, постепенно отпадут и исчезнут, как отпадает изгарь от плавимого металла. В сем смысле св. Григорий мог, не уклоняясь от чистоты православного учения говорить о совершенном исчезновении зла не вообще из мира, но из царства Божия, где будет Бог всяческая во всех, и о восстановлении в нем всего в состояние первобытного совершенства. Что же касается теперь до способа сего исправительного воспитания, который св. Григорий называет очистительным огнем или пещию очищающего огня, то он ясно дает разуметь, что выражения сии имеют у него иносказательное значение. Они заимствуются из сравнения, которым св. Григорий изъясняет необходимость изменения нашей природы при переходе ее в высшее состояние. Для сравнения употребляет он глыбу железа, сперва служащую наковальнею, потом, при посредстве огня и молота, переделываемую в тонкое оружие. Заимствуя отсюда выражение: огнь очистительный, он далее дает разуметь, что огнь сей и его действие, выражают лишение в жизни будущей с разрушением тела смертью, как чувстве и стремлении чувственной природы необходимых для поддержания телесной жизни, так и всего того, что посредством сих чувств и стремлений услаждало несовершенных и увлекало порочную волю ко греху. Сие лишение, пробудив в душе сознание суетности земных и вещественных благ и стремление к благам вечным, невещественным, будет служить путем к окончательному ее очищению. Очевидно, что в сем учении нет ничего несогласного с словом Божиим и подобного учению латинян об огне чистилищном.
(обратно)16
Греческое слово ὁρμίσϰος (цепочка) происходит от ὅρμος (цепь, вогнутость берега, место для стоянiя кораблей).
(обратно)17
Насекомое: карапузик.
(обратно)18
Последния два слова дополнены по рукописи.
(обратно)19
В греческом читается: τοὺς ὀλύνϑους зародыши ягод, как ниже сего объясняет сам св. Григорий; собственно же цвета на смокве, как известно, не бывает.
(обратно)20
По славянскому переводу: камение свято валяется на земли.
(обратно)21
Точнее: носилками.
(обратно)22
Точнее: голуби.
(обратно)23
Наружной коже гранатоваго яблока.
(обратно)



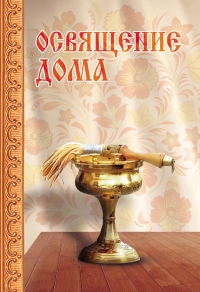
![Триодь постная [русский перевод]](https://www.4italka.su/images/articles/644966/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Избранные творения», Григорий Нисский
Всего 0 комментариев