Зиновий Зиник Ермолка под тюрбаном
© Зиник З., 2018
© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2018
Художественное оформление серии Алексея Дурасова
Работа с иллюстрациями Степана Костецкого
* * *
1
Я не помню, где и когда я впервые услышал о Шабтае Цви — еврее Османской империи родом из Измира (Смирны), известном в официальной истории еврейства как лжемессия. Он публично извратил, перевернул с ног на голову все концепции ортодоксального иудаизма и затем — в 1666 году — к ужасу всех, кто в него поверил, обратился в мусульманство. Он умер в изгнании на границе с Албанией через десять лет после перехода в Ислам.
Триста лет спустя я оказался в Иерусалиме, эмигрировав из России. Я думаю, мой инстинктивный интерес к современным версиям апокалиптических видений и мессианских ожиданий (я, лишенный российского гражданства, ждал четыре года свою жену Нину Петрову, оставшуюся за «железным занавесом» в Москве) лишь отчасти объяснял мое любопытство к судьбе этого вероотступника. Я помню вздрог от самой идеи: еврей обращается в мусульманство и вносит в свою версию суфийского ислама элементы иудаизма; значит, можно жить с двойственностью личного прошлого, уехав из России навсегда? В ту эпоху мое знакомство с историей Шабтая Цви (его называют в Турции Сабетай Севи или Саббатай Цеви, и отсюда еще одно название секты его последователей: саббатианцы или саббатеи) было, так сказать, шапочным и случайным: его имя возникало в интеллектуальной трепотне друзей-приятелей. Я поверил в его реальное существование, когда попал в греческий город Салоники.
Салоники считают центром саббатианства. Но для меня это был некий мифический город, откуда в шестидесятые годы на Советский Союз шла ретрансляция «Часа джаза» легендарного Уиллиса Коновера по «Голосу Америки», где музыкальная заставка «A» Train Дюка Эллингтона до сих пор звучит у меня в ушах мемуарной отметкой, связанной именно с этой радиостанцией, с глушилками и с мистической точкой земного шара под названием Салоники. Это был город, откуда манил нас к себе зарубежный голос. Голос загадочной Америки. И добился своего: не прошло и пятидесяти лет, и я прибыл в Салоники собственной персоной. Российские связи продолжают рифмовать сюжеты нашей западной жизни. Я попал в Салоники несколько незаконным образом, но не как «тать в ночи» (см. послание апостола Павла к Фессалоникийцам), а благодаря моей подруге Ире Вальдрон и ее московским друзьям-художникам. Они в перестроечные годы сблизились с гречанкой Марией Цанцаноглу. Мария — бывший атташе по культуре при греческом посольстве в Москве, специалист по Хармсу и русским абсурдистам, позже возглавила Государственный музей современного искусства в Салониках. Она стала и инициатором первой биеннале в этом городе саббатианства.
Удалось ей это, видимо, по двум причинам. Первая — в связи с импровизированным вернисажем на борту парохода. Эта концептуальная, так сказать, авантюра состоялась на борту грузового судна из России в перестроечную эпоху. Этот пароход, прибывший в Салоники с сухогрузом, как объяснил мне российский художник Никита Алексеев, стоял тут без дела на якоре чуть ли не целый год: власти наложили на него арест за неуплату портовых налогов и таможенных пошлин. В те перестроечные анархические годы заезжим москвичам пришло в голову превратить этот пустопорожний пароход в плавучий авангардный вернисаж. Российские концептуалисты раскрасили пароходную трубу, обили фанерой палубу, вставили тут и там рамы и стекло, и получилась первая биеннале.
На всех, кто прибывает в Салоники впервые, город производит впечатление не очень уютного, большого и шумного, несколько пыльного индустриального греческого порта. (В заброшенных портовых складах и расположились экспозиции биеннале.) Греция, которую я знал, это туристическая Греция обаятельных зеленых островов Ионии (там, где Итака и Парос), а не знойной желтизны отроги Эгейского моря. Салоники же — это второй по масштабам порт после Афин. Знакомая, но несколько стертая в памяти, как будто из полузабытого сна, огромная набережная с шоссе вдоль прибрежной полосы, с серебристыми эвкалиптами и пальмами, серый асфальт, голубое море, и белый пароход выглядывает из-за рифленых крыш припортовых складов. Там, у самой воды, эти складские помещения переделали в модные кафе с надстройками из хрома и стекла — главным образом для туристов, прибывших с визитом в выставочные залы биеннале. В годы после Второй мировой войны — в эпоху лицемерно демонстративной эгалитарности — город Салоники обрел мещанско-безликий крупноблочный фасад с бульварами и фонтанами, но выше по холму еще остались крупные особняки турецкой знати среди тенистых аллей и скверов. В закоулках, на площадках и в сквериках старой припортовой части города, обсаженных платанами и шелковицей, стоят столики обаятельных греческих ресторанчиков (греки были лучшими рестораторами при султанах), где я пил греческую ракию (анисовую водку), разводя ее, как это полагается, водой. Ракия, как и узо (как и турецкий арак или французский пастис), от воды белеет. От нее веяло зубным порошком, как в детстве, и этот запах смешивался с уличным бензином и с ароматом обугленного на ресторанных мангалах мяса и жареного октопуса, шипевшего под брызгами выжатого лимона.
Но за этой средиземноморской скукой, в ее псевдоэллинском варианте в припортовом районе, можно и сейчас обнаружить закулисную жизнь бывшей Османской империи: лабиринт улочек и старинный рынок гудят ночными барами и клубами сомнительной репутации — Салоники был городом легендарным по густому замесу проституции и криминала, разнообразного в своей этнической мультикультурной пестроте. Я попал с друзьями в один из таких подозрительных баров, где люди, уставшие от собственных слов, благодарны дикой оглушающей музыке. Танцевала одна пара. Тьма разрезалась мелькающими лезвиями света, как в киноэффектах замедленной съемки убийства. И в этом световом мелькании я понял, что у партнера отрезана по локоть рука. Его девице мешала узкая юбка, она подтянула ее до трусиков, и культя, попадавшая ей между ног, казалась огромным пенисом. В этой сцене был разнузданный, хулиганский эксгибиционизм. Я не понимал, чем эта танцующая пара — кроме порнографического курьеза — всех заинтриговала (я глядел на них добрых полчаса). Я думаю, дело вот в чем: в них не было страха выглядеть как-то не так со стороны, в чужих глазах.
Есть такие города — непрезентабельные, без архитектурных излишеств и с дешевыми барами, где оседает публика сомнительного свойства, среди которой я не выделяюсь странным чудаком. Может быть, потому, что в городской истории Салоник сыграли роль мои еврейские предки? Но мои предки (те, которые фигурируют в уцелевших семейных архивах) были из Белоруссии, в то время как евреи Салоник — сефарды — считали себя аристократами с испанским прошлым и считали ашкеназийцев из Восточной Европы плебсом. По прибытии я, как послушный турист, взялся изучать этот город, и в крупном книжном магазине тут же приобрел страшно увлекательную книгу Марка Мазовера об истории, топографии и мифологии Салоник[1] — городе Александра Македонского (на набережной возведена, разумеется, древняя башня в его честь). Salonica. Salonicco, Selanik, Solun, Salonicha, Salonique, Salonika? Как только не называли античный город Фессалоники, чье древнегреческое название — это имя сводной сестры Александра Великого — Фессалоники: ее назвали так в честь его победы (греческое νίκη — ники) над Фессалонией. Все это я добросовестно выуживал из путеводителя. Но каждый, кто в отличие от меня получил хоть какое-то элементарное религиозное образование или просто знаком с Новым Заветом, тут же связал бы Салоники с еще одним вероотступником — апостолом Павлом, бывшим евреем Савлом.
Апостол Павел в послании к фессалоникийцам призывает нас всех постоянно бодрствовать, поскольку конец света (точнее, тьмы) придет «как тать в ночи», прокрадется к нам в душу, как вор. То есть пришествие Спасителя, как осторожного и хитроумного грабителя, можно и не заметить. Второго пришествия пока не произошло (насколько нам известно), но вторжений, изгнаний и перемещений народов тут всегда хватало. Римляне, византийцы, турки и, наконец, греки новой эпохи (то есть македонцы и албанцы). Тут всегда были и славяне — главным образом, болгары. Кого тут только не было. Но с расцветом Османской империи, то есть с пятнадцатого столетия, город стал в очень сильной степени еврейским (евреи бежали в Турцию от инквизиции), а к концу девятнадцатого столетия все остальные народности, включая мусульман, были в меньшинстве. Благодаря усердному изучению книги Мазовера я узнал, что Салоники стал и центром саббатианцев: именно сюда направил свои стопы Шабтай Цви, когда был изгнан из Измира. Пора коротко изложить то, что я узнал о саббатианстве — сначала из книги Мазовера, а потом из нескольких толстых монографий об этом апостате, вероотступнике.
2
Сын агента английских торговых фирм в Турции, Шабтай Цви, как и полагается юноше из добропорядочной семьи города Измира, изучал Талмуд, стал раввином со склонностью к изучению Каббалы, но в какой-то момент произошел слом, личный надрыв, внутренняя революция. Он стал вести себя неадекватно и непредсказуемо — вплоть до богохульственных актов, вызвавших сначала раздражение, а затем и суровые административные меры по пресечению его активности со стороны местных раввинов. Изгнанный из Измира, он объездил все крупные города Османской империи, обворожил толпы поклонников и рассорился с самыми влиятельными раввинами, пока (на пути в Каир для сбора пожертвований каббалистам Иерусалима) не попал проездом в Газу. Там новоявленный пророк Шабтая Цви — Авраам Натан Ашкенази (он остался известным в истории под именем Натана из Газы) — объявил его Мессией. Натан из Газы создал целую пропагандистскую машину — с каббалистическими трактатами, эпистолами и речами в синагогах, доказывающими мессианство Шабтая, с апокалиптическими пророчествами о предстоящем возвращении на Сион. Новость распространилась тут же — от Подолии до Каира. И объясняется это не только хорошей работой почты через гонцов — в эпоху, когда еще не был изобретен телефон. Новости распространялись и устно — по цепочке. Как бы ни были разрознены евреи в разных странах мира — идеологически, этнически или религиозно (в их общинном сектантстве), у каждого были «связи с заграницей». Скажем, Натан из Газы носил имя Ашкенази, поскольку его родители попали в Палестину из Польши. Сам он поселился в Газе, потому что там его «профессорские» занятия Каббалой спонсировал его тесть, родом из Дамаска (это была отчасти компенсация зятю, поскольку дочь была крива на один глаз). Идея, распространявшаяся почти мгновенно, захватывала массы психопатически, в глобальных масштабах, как в наше время массовые протесты, спровоцированные соцсетями.
Следует, в свою очередь, спросить: а откуда эта склонность к вере в апокалиптические пророчества, эта одержимость мессианством? Историки ищут причины этой веры в крупномасштабных катастрофических событиях эпохи — в погромах, великих пожарах, эпидемиях чумы или землетрясениях. Мне всегда казалось, что дело не во внешних катаклизмах, а в инфляции идей, заставляющих человека преодолевать катастрофическую реальность, несмотря ни на что; исчерпав себя, идея создает вакуум, и именно этот вакуум порождает апокалиптические настроения. Советская власть, при всей убогости и никчемности ежедневного быта, создавала ощущение стабильности именно своей рутинной неизменностью на пути к фиктивному светлому будущему. Этот плакат с лозунгом о светлом будущем убрали с глаз, и, как под конец игры в жмурки, человек ослеп от света. А когда глаза привыкли к новому освещению, выяснилось, что квартиру грабят кому не лень. Даже пианино вынесли через окно — музыки больше не будет. В любой момент у тебя могут отобрать всё! Ощущение конца света стало ежедневной рутиной. Кто спасет? Сталин-вождь? Царь-батюшка? Путин-герой?
Для иудея приход Мессии, как для христианина — второе пришествие, это — второе рождение, освобождение от пут закона, наступление вечного рая на земле с возрождением мертвых. Но наивно полагать, что массы были одержимы апокалиптическими видениями и мессианскими ожиданиями лишь в периоды религиозного фанатизма прошлых веков. Массовая истерия о конце нашей Вселенной, загубленной грешными деяниями сильных мира сего, охватывает и вполне просвещенные круги наших времен. Разве что современные апокалиптические настроения формулируются научным (или псевдонаучным) языком политологов, социологов или палеонтологов (из тех, кто пришел на смену талмудистам и теологам). Достаточно вспомнить, насколько интенсивно переживалась ядерная угроза (то есть конец света) в эпоху холодной войны. Или, например, заметили ли вы, что с концом холодной войны практически сразу же началась борьба с глобальным потеплением? Если не хватает апокалиптических сюжетов с политической подоплекой, обратитесь к научно-фантастическим фильмам. Мы ждем освобождения от нашего бренного существования, как ждет человек, страдающий от острой беспрерывной боли, физической или любовной муки, патологического страха или религиозного отчаяния.
В 1666 году — в год пожаров, эпидемий и погромов — массам еврейства стало очевидно, что спасет их лишь Мессия, и первым кандидатом на этот пост оказался Шабтай Цви. Шабтай был своего рода предтечей сионизма: дело дошло до того, что евреи от Стамбула до Лондона стали продавать свое имущество — приход Мессии ознаменовал тысячелетнее царство иудеев на Сионе. Турецкий султан Мехмет IV был этим крайне обеспокоен. Если бы мессианские пророчества оправдались и евреи стали переселяться из Стамбула в Иерусалим, процедура взимания налогов крайне бы усложнилась. Шабтай Цви был арестован в 1666 апокалиптическом году и препровожден в тогдашнюю столицу Османской империи — Эдирне. Он был арестован султаном как еретик и богохульник по доносу ортодоксальных евреев. В ходе разбирательства его дела и султанского суда над ним (в присутствии раввина, имама и врача-психиатра) Шабтай Цви неожиданно принял мусульманство. Этот акт вероотступничества подтвердил самые мрачные прогнозы о нем ортодоксального еврейства, но его рьяные последователи восприняли этот шаг как некий каббалистический прыжок: через тьму и бездну — к звездам. Мы не можем принять факт неоправдавшейся надежды, и во всяком конце нам видится начало. Еврейский Мессия, принявший ислам, произвел впечатление на султана. Шабтай получил зеленую чалму и почетную символическую должность начальника царских врат (или что-то вроде этого). За Шабтаем Цви в мусульманство перешли сотни, если не тысячи его последователей: они восприняли это обращение в ислам как некий мессианский мистический акт перерождения. Так в исламе возникла секта мусульман-евреев. В Турции до сих пор называют саббатианцев словом donmeh — дёнме, что означает и новообращенца, и перевертыша: саббатианцам не доверяли ни мусульмане, ни ортодоксальные иудеи.
В Салониках есть, естественно, этнографический музей, как всегда со своими этническими и историческими предвзятостями. Но как ни манипулируй фотографиями и документами, картина возникает вполне четкая: имперская администрация в Салониках, как и в других частях Османской империи, совершенно не вникала в то или иное верование своих подданных, если они регулярно платили налоги. Вне Турции, особенно в России, распространен миф о том, как беспощадно расправлялась турецкая бюрократия и янычары султанов с инакомыслием и независимостью. Не буду спорить насчет борьбы за политическую независимость этнических меньшинств в нашу эпоху: геноцид армян, подавление национальных амбиций курдов, антигреческий погром, учиненный мусульманами Стамбула в пятидесятые годы — эпоху конфликта на Кипре, как и нынешние исламистские тенденции правительства Эрдогана, — все это, казалось бы, подтверждает подобную точку зрения. Но эти эксцессы политической автократии не должны затемнять несомненного факта: султаны — от эпохи испанского Халифата вплоть до образования турецкой республики Ататюрка — если и не поощряли, то, во всяком случае, относились совершенно нейтрально к религиозному и культурному многообразию своих подданных. Османская империя была в этом смысле образцом того, что сейчас называется мультикультурализмом.
Еврейский квартал сгорел во время великого пожара в Салониках в год революции в России — в августе 1917-го, и еврейский характер города нивелировался с развалом империи. Еврейство Салоник было искоренено раз и навсегда с пришествием нацистов. Пришествие это вовсе не напоминало «аки тать в ночи»: евреев избивали и депортировали при свете дня — при полном попустительстве и безразличии со стороны греческого населения города. Однако для дёнме изгнание из Салоник произошло на два десятка лет раньше.
3
Мы плохо знаем европейскую историю. В двадцатых годах, после Первой мировой и Балканских войн, произошли первые в истории двадцатого столетия «этнические чистки». Такое впечатление, что именно эта часть мира стала лабораторией и испытательной площадкой всех ужасов двадцатого столетия — от актов политического террора (в первую очередь в конфликте между болгарами и греками, как это ни странно) до изгнания целых народностей со своей территории. Поразительно, с какой систематичностью каждое новообразованное национальное государство начинает выдумывать собственное великое прошлое, приписывая себе чужую историю. Искусственно возрожденный и переиначенный для нужд современности язык Эллады имеет такое же отношение к происхождению нынешних греков, какое язык Библии, ставший ивритом в сионистском государстве, имеет отношение к выходцам из Пинска и Минска, ставших израильтянами. В ту же эпоху был создан и новый турецкий язык республики Ататюрка, с новым реформированным словарем, где арабский алфавит сменила латиница (его разработал, кстати сказать, раввин из Салоник, Моше Коен, он же Мунис Текиналп). У националистов-романтиков, как у авторов мелодраматических повестей, тенденция присваивать себе чужое прошлое, переиначивать его, перекраивать и перелицовывать на свой лад. Трудно без улыбки наблюдать в крупноблочных кварталах израильских городов сибирских крестьян-субботников в телогрейках, чье христианство включает в себя суровый ритуал иудаизма и возвращение на Сион. А в викторианской Англии существовало движение израилитов, считавших британцев истинными иудеями и библейскими избранниками, поскольку слово British составлено из двух слов древнееврейского: Brit — союз и Ish — человек. Однако это переписывание чужого прошлого не всегда невинно: оно заканчивается переселением народов на чужие территории. В результате так называемого «обмена населением» после развала Османской империи между двумя новообразованными государствами — Турецкой республикой Ататюрка и Грецией — дёнме были изгнаны греками из Салоник вместе с остальными мусульманами.
Национальное лицо нынешней Греции было воссоздано, как в пластической операции, среди населения в стране, где античные греки давно растворились среди македонцев и албанцев. Так на греческих территориях начался процесс систематической эллинизации прошлого. Пока Греция не стала членом Европейского союза — с его требованиями охраны памятников и монументов прошлого, — пятьсот лет турецкого присутствия в Салониках или намеренно игнорировались, зарастали, так сказать, дикой гречихой, или же целенаправленно уничтожались. Мечети (перестроенные из бывших церквей) перестраивались, естественно, обратно в церкви, на территории старинного еврейского кладбища был построен университетский кампус.
Гуляя по улицам Салоник, ты видишь, как прошлое переписывалось физически, с помощью бульдозеров, у тебя на глазах. И никто, казалось бы, ничего не помнил. Архитектурный памятник легче уничтожить, чем память о национальной катастрофе. Памятник уничтожается тогда, когда с падением ненавистного режима обнажается чудовищность прошлого и твоего соучастия в нем. Мы пытаемся стереть эти метины прошлого с лица земли. Но именно разрушенная архитектура — в виде руин или скрытого орнамента — становится негласным (хотя часто случайным) свидетелем уничтоженного прошлого. В Салониках уцелел уникальный монумент саббатианства — молельный дом последователей Шабтая Цви.
Место это в городе мало кому знакомо. Я, со своим упорством и занудством на этот счет, выписал адрес из книги Мазовера и взял такси. Таксист не был знаком ни с адресом, ни с районом вне центра, где находилась бывшая мечеть саббатианцев. Он долго крутил среди кварталов крупноблочных домов — такое можно увидеть и в пригороде Тель-Авива, и даже в хрущевской Москве — и наконец остановился у скромной решетки и ворот узорчатого чугуна. Зажатый жилыми зданиями по соседству, за воротами во дворе возвышался странный обветшалый дом — пустующее помещение, похожее на итальянское палаццо или виллу. Не совсем, впрочем, палаццо, и не очень итальянское, хотя Yeni Сami, то есть Новая мечеть, и была построена в 1902 году местным итальянцем Виталлиано Позелли.
Саббатианцы были мусульманами. С уклоном, как сообщают монографии, в суфизм. И тем не менее по разным мотивам (мы еще поговорим об этом) саббатеи строили свои мечети отдельно — не для общего пользования, для всех мусульман; часто это были не столько мечети, сколько домашние молельни. По своему внешнему виду эти мечети не похожи на традиционные мусульманские. Мечеть Yeni Cami в Салониках — это гимн эклектическому ориентализму, где art-nouveau и австро-венгерское барокко сочетается с арками и колоннадой мавританской Испании. Это намеренно эклектический синтез Востока и Запада, европейского просвещения с османской роскошью.
Сохранилась эта мечеть, может быть, потому, что это пустующее помещение было отдано в административное распоряжение археологическому музею Салоник. Искусство сохранило то, чему противилось новоявленное государство — храм тех, кого и турки, и греки считали двурушниками и приспособленцами, а евреи отвернулись как от вероотступников, достойных лишь проклятия. Идея биеннале современного искусства возникла из-за прибившихся к гавани в Салониках, как после кораблекрушения, диссидентов советской власти — полуподпольных авангардистов. А материализовалась эта идея как некое международное мероприятие, потому что здесь, в Салониках, в государственном музее разместилась основная часть уникальной коллекции русского авангарда еще одного отщепенца своего народа — Георгия Дионисовича Костаки. Он завещал свою коллекцию городу Салоники. Он скончался в 1990 году.
Костаки, даже в шестидесятые-семидесятые годы, был такой же легендарной фигурой для нас в Москве, как коллекционер Саачи — «Багдадский вор» (из семьи багдадских евреев) — для бездомных художников-авангардистов из лондонских трущоб восьмидесятых годов. Я столкнулся с этим легендарным полуподпольным коллекционером лишь однажды в Москве, на концептуальном мероприятии моих близких друзей — Комара и Меламида. Мы знали лишь, что у Костаки греческое подданство, хотя его родители — обрусевшие греки; до войны он работал шофером в греческом посольстве, потом в английском, а после войны — завхозом в посольстве Канады. Ясно было, что у этого человека мощные контакты с советской властью на всех уровнях. Поэтому его появление на подпольных неофициальных выставках было мистическим. Он посетил самую невероятную выставку семидесятых годов — одну из первых инсталляций в России — комнату под названием «Рай». Друг моей юности Алекс Меламид и его соратник по соц-арту той эпохи Виталий Комар соорудили в квартире-мастерской в обычном советском крупноблочном доме концептуальное нагромождение всей идейной и идеологической неразберихи, которая происходила в умах советских людей той эпохи, — некий набор массовых увлечений, газетных и муляжных идолов.
И вот в этот самый «Рай» вступил Костаки. Поглядеть и прицениться. Был страшно смущен, что ему ничего не предлагают купить. Он сказал, что «Рай» не имеет коммерческой стоимости. Тогда никому в голову не приходило, что инсталляции можно разбирать и собирать, перевозить их в другую географию. Этот «Рай», как и коллекция Костаки, существовал только в России, поскольку был невывозим, и поскольку невывозим, потому и бесценен. Мы тогда не знали, что это были жуткие годы для самого Костаки. До советских органов дошло наконец, что коллекция бывшего шофера греческого посольства — уникальна. КГБ пытался эту коллекцию прикарманить разными способами. Как сейчас выясняется из разных мемуаров, из его квартиры, под предлогом заурядного грабежа, выносили ценные работы — явно по совету специалистов-искусствоведов. Выясняется удивительная картина близости совершенно разных кругов советского общества — сверху донизу — друг к другу. Костаки удалось уехать (большую часть коллекции он отдал советским органам) благодаря своим личным связям с одним из крупных министров советского правительства. «А вам я с отъездом постараюсь помочь, — сказал он Костаки, — благо, мы с Андроповым росли вместе, во дворе футбол гоняли». Так оставшаяся часть коллекции Костаки досталась в конце концов Государственному музею современного искусства в Салониках. Сам Костаки поселился в Греции и рисовал мрачноватые пейзажи. Когда его спрашивали, почему у него на картинах сплошные кладбища, он отвечал: «Это моя тема — кладбище русского авангарда. Что же я еще могу писать? Вот эта могила, с черным камнем, посвящена Малевичу, с крестом в облаках — Шагалу»[2].
«Рай» Комара и Меламида тоже был своего рода усыпальницей авангарда. В мемориальном монументе саббатианства — мечети Yeni Cami, превращенной в музей, — можно разглядеть все эклектические элементы этого мессианского рая. Не сразу бросается в глаза орнамент балюстрады на балконах вокруг главной залы (как для женщин в синагоге). Там повторяется мотив Звезды Давида. Формально говоря, дёнме чуть ли не со второго поколения перестали считать себя евреями. Но таковыми их продолжали считать окружающие. И действительно, у каждого ребенка в семье саббатианцев было два имени: одно мусульманское, для турецкого общества, а другое — еврейское, семейное, его нашептывали ребенку перед сном (недаром у меня в британском паспорте двойная фамилия: Глузберг-Зиник; Зиник — имя, фигурировавшее из поколения в поколение в моей семье). Может быть, поэтому во дворе саббатианской мечети Yeni Cami свалены хаотично надгробия, уцелевшие после нацистского разгрома еврейского кладбища в Салониках. Прогуливаясь и разглядывая полустертые имена на иврите, я увидел греющуюся на солнце гигантскую черепаху. Она заметила меня, высунула свою небольшую голову с семитским выдающимся носом и стала уползать в сторону. В ее «многовековой» внешности, в ее любопытствующей головке из-под панциря я увидел сходство со своей еврейской бабушкой.
4
Три поколения ассимиляции привели к тому, что я в детстве не слышал ни слова на идиш, никогда не бывал в синагоге и не видел Библии. Может быть, поэтому я всегда ощущал неосознанный религиозный голод и любопытство к религиозным отщепенцам? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен позволить себе небольшое автобиографическое отступление.
Лучшие годы своего детства (до пионерских лагерей) я провел с бабушкой и дедушкой. Родители моей матери, Надежды Глезеровой, долгие годы работали сельскими врачами, и к ним на лето «в ссылку» меня отправляли родители. Родители все время ругались, дело доходило до драк. У меня не было ощущения близости с отцом, и родственное общение прекратилось чуть ли с момента взросления; лет с шестнадцати я практически не ночевал дома, вел кочевую жизнь по квартирам друзей. Я вернулся к отцу лишь пять десятков лет спустя, когда открылись советские границы, уже с британским паспортом: только тогда я стал угадывать некое биологическое сходство между нами и испытывать сочувствие к этому простому, наивному ветерану войны, прожившему — с его точки зрения — вполне счастливую жизнь. Но в юности я естественно тянулся к тем, кто (в отличие от моего отца) мог создать вокруг себя магию авторитетного знания жизни, кто обладал секретом угадывания жизненного пути. Я до сих пор считаю себя воспитанником Александра Асаркана — театрального человека шестидесятых годов, бродячего философа, изготовителя домашних почтовых открыток-коллажей, где он отчитывался друзьям в ежедневной хронике своей жизни. После освобождения — в эпоху хрущевской оттепели — из Ленинградской тюремной психиатрической больницы (где он встретил будущих друзей своей московской жизни — Павла Улитина и Юрия Айхенвальда) он жил впроголодь в комнатушке коммунальной квартиры размером со стенной шкаф, заваленной старыми итальянскими газетами, ходил он бог знает в чем и выживал благодаря друзьям и гениальному дару рассказчика, завораживающего собеседников. Неудивительно, что я в конце концов был заинтригован историей пророчествующих наставников, отцов-пустынников, религиозных менторов, культовых фигур, гуру и лжемессий.
В захламленной каморке Асаркана обитала другая огромная жизнь — иное бытие, за границами того, что было родным для меня с детства, — советского быта с горячими бубликами и манной кашей с малиновым вареньем. Постепенно до меня стало доходить, что у некоторых советских людей было иное прошлое и иное ежедневное меню — пайка хлеба и лагерная баланда. Я попал и в дом его бывшего сокамерника по Ленинградской тюремной психбольнице, поэта Юрия Айхенвальда, и его жены Вавы Герлин. Там собиралась огромная компания людей: среди них сын сталинского генерала Ионы Якира — Петр Якир; там пел под гитару сын дочери Якира — Юлий Ким; там объяснял логику конституционного неповиновения следователю Александр Есенин-Вольпин и планировались демонстрации на Пушкинской площади. Это была элита инакомыслия эпохи шестидесятых — та самая легендарная диссидентская кухня. Для них вся страна была огромным лагерем, где разные зоны жизни отличались лишь по степени строгости режима. Но администрация была все та же, тюремная, под названием ЦК КПСС. Я сблизился с Павлом Улитиным, чья проза была пародией на деятельность КГБ: он записывал разговоры друзей, разрезал эти «стенограммы» и склеивал заново, подставляя другие имена и впутывая туда цитаты из иностранной литературы так, что получался загадочный абсурдистский текст — хроника полного личного выпадения из коллективного мышления.
Когда и как это началось: ощущение того, что ты уже не часть невидимого огромного райского целого, чья суть — это то самое «всё», вне которого нет ничего? Когда началось отторжение — выпадение — подростка Адама из советского рая? Из этого майского запаха клейких листочков на родной улице с хрустом тополиных сережек под школьными каблуками, с запахом горячего, из-под материнского утюга, пионерского галстука? Воскресные семейные завтраки с горячей картошкой, селедкой и чаем с горячими бубликами и вареньем? Папа, мама, бабушка? Двор, школа, пионерский лагерь, друзья, первая сигарета, подростковое пьянство? Когда кончилось детство, юность, отсутствие вопросов и готовность принять любой ответ как окончательную истину? Когда возникло ощущение, что этот рай разгромлен милицией, как концептуальная инсталляция? Я знал, что есть на свете советская граница (и она хорошо охраняется нашими пограничниками), но от кого — я никогда не спрашивал. За границей этой обезьяньей планеты никого и ничего не было. Там была тьма и пропасть капитализма. Тебя охраняли от этого «ничто и ничего», и ты чувствовал себя в полной безопасности. Советская власть и была вся земная жизнь, другого мира на свете не было.
Марксисты и фрейдисты навязывают нам предсказуемость нашей судьбы в зависимости от обстоятельств нашего семейного прошлого, расписанного по классовым или сексуально-генетическим категориям. Я вырос в двенадцатиметровой комнате, где в некоторый период жизни проживали мои родители, моя сводная сестра и мой дедушка. Это была жизнь на раскладушках, с раскладным столом и складными ширмами. Но я тем не менее не чувствовал никакого убожества этой жизни. Апельсин, доставшийся после двухчасовой очереди, или первый огурец в конце мая казались райскими плодами. Это и был рай. Мое сексуальное грехопадение произошло в тринадцать лет с моей соседкой — восемнадцатилетней Аней в той же коммунальной квартире. Она работала на кондитерской фабрике, чему я завидовал. Ее любимым продуктом был соленый огурец, что неудивительно для работницы шоколадной фабрики (шоколадная фабрика — иллюзия рая для ребенка). Мое знакомство с эротическими аспектами жизни (позже и с первыми бисексуальными экспериментами втроем — с Аней при участии моего однокашника) требует, естественно, отдельного сочинения. Но здесь я хочу лишь заметить, что мое падение из рая девственности не привело к фрейдистским травмам, как того бы ни хотели современные психологи.
До определенного — ключевого — момента в жизни я не просто верил, я был твердо уверен в своем бессмертии. Я был уверен, что никогда не умру. Умирают другие — например, мой дедушка Эммануил «Муся» Глезеров. Это была первая смерть на моих глазах: он долго болел, кричал от боли в мочевом пузыре, а потом была гробовая тишина. А потом вместе с толпой родственников я стоял перед гробом, где лежал мой любимый дедушка, совершенно непохожий на себя. Не потому, что его мертвое лицо было, скорее всего, грубо загримировано под живое, а потому что этот живой для меня человек не шевелился. Жизнь — это движение. Я впервые видел совершенно неподвижного человека. Мне сказали, что он умер. Я воспринял смерть как неподвижность.
Я прыгал, бегал, танцевал, пил и говорил, я крутился на месте во времени и пространстве юности (крутящиеся дервиши останавливают время), не сознавая, что у каждого шага есть свои последствия. С моего лица никогда не сходила улыбка. Я не понимал, что у жизни есть сюжет, то есть — время. Время не двигалось, как не двигался дедушка, потерявший жизнь. У меня было безупречное тело, безупречная внешность, и еще многие годы тело не менялось. И я не верил, что оно может состариться, что плоть мертвеет. Мы начинаем умирать, поверив в смерть. И вот однажды я ощутил в себе загадочную способность мыслью создавать физические эффекты — с собственным телом. Особой концентрацией эмоций я ощущал некоторые части своего тела как бы отдельно, до них не дотрагиваясь. В один прекрасный день я смог добиться силой воли возникновения у меня на щеках с обеих сторон двух равнобедренных треугольников алой, как знамя, кожи, геометрически безупречных. Один из знакомых моих родителей, человек явно образованный, взглянул на эти два треугольника у меня на лице, спросил меня, как они возникли, и сказал: «Стигматы!» Я пропустил это слово мимо ушей. Я пользовался этой способностью, как и умением двигать ушами, лишь для охмурения девиц.
Я потерял этот дар лишь в двадцать лет во время учебных военных лагерей. Служба в армии была, конечно же, еще одним свидетельством апокалиптических настроений той эпохи, но этот апокалипсис мы воспринимали как нечто к нам лично не имеющее отношения. В школе, как и в университете, нам постоянно напоминали об угрозе атомной войны и ядерной катастрофы. Нас тренировали на случай ядерной атаки: надо было, как острили шутники тех лет, завернуться в белую простыню и ползти медленно на кладбище. То же самое происходило и в Европе. Мои европейские современники — поколение, родившееся в тени ракетной установки. (Мартин Эмис говорил о цинизме поколения, верившего, что ядерная катастрофа неминуема, и поэтому завтрашнего дня для них не существовало.) Перед получением своего университетского диплома по топологии я в родных местах пацифиста Толстого около Тулы изучал левой ногой механику ракетных установок. Ракеты хранились в шахтах-колодцах. (Я снова увидел такие пещерные колодцы в турецкой Каппадокии, но они использовались религиозными сектантами-пещерниками не для ядерных ракет, а для вентиляции.) В жару это было единственное прохладное место. Поэтому там солдаты хранили бутылки водки. Если бы дело действительно дошло до нажатия роковой фатальной Красной кнопки, на Белый дом и американского президента посыпались бы не ядерные ракеты, а так называемые «белоголовки» — бутылки водки тех лет, запечатанные вместо пробки белым сургучом. Жара стояла несусветная в то лето. Простаивая на перекличках и линейках, я страшно обгорел на солнце, моя нежная кожа на лице стала облезать, и вместе с ней исчезла способность производить стигматы на лице в знак тайного и неосознанного сочувствия христовым мукам. Но я тогда не воспринимал этот феномен, стигмат, религиозно. Я и слова такого — стигматы — не знал. Я менял кожу, как пресмыкающиеся меняют шкуру. Я вел жизнь пресмыкающегося, не отдавая себе в этом отчета.
Мы ничего не знали ни про стигматы, ни про Христа, ни про Моисея. Я никогда до университетских лет не держал в руках Библии, я не знал, что такое синагога, гора Синай или Голгофа. Но зато мы довольно хорошо знали легенды и мифы Древней Греции. Лишь много лет спустя Асаркан посвятил меня в тайну: Сталин, оказывается, был одержим древнегреческими мифами, и его настольной книгой было популярное изложение древнегреческих мифов под названием «Что говорили древние греки о своих богах и героях». Я полагаю, что мое сознание в те годы ничем не отличалось от мироощущения язычника, уверенного, что он не умрет, если того не пожелают его боги. Греки знали много о смерти, и они создали два мифа о бессмертии. Один — про Тифона, в которого влюбилась богиня зари Эос (Аврора). Она выпросила у Зевса бессмертие для своего любовника, но забыла попросить заодно для него дар долголетия. Тифон постепенно превращается у нее на глазах в беспомощного старика, но не может умереть. Боги смилостивились над ним и превратили его в цикаду. Другая легенда — об Эндимионе. Этот, наоборот, не умирает, оставаясь вечно молодым. Но он погружен в вечный сон. Ощущение бессмертия — это сон.
Как ни странно, мое первое ощущение собственной смертности, когда райское ощущение беспечности и душевного комфорта вдруг подорвано сомнением, произошло не со знакомством с людьми вроде Асаркана, Улитина и Айхенвальда, кто прошел тюремные психбольницы, лагеря и тюрьмы. Простую мысль о том, что я не буду жить вечно и когда-нибудь умру, я узнал от приятеля по математическому кружку при университете Льва Меламида, двоюродного брата Александра Меламида. Я учился в художественной школе Краснопресненского района — нечто вроде техникума для преподавателей живописи в младших классах (в той же школе учился Виталий Комар, на пару лет старше меня). В один прекрасный день один мой товарищ продемонстрировал мне с куском бумаги в руках ленту Мёбиуса — перекрученную и склеенную навыверт бумажную полоску — одностороннюю поверхность. По обеим сторонам можно было путешествовать, не пересекая границы — края ленты (идеал будущего эмигранта). С этого момента я стал игнорировать обнаженную модель по классу рисунка. И решил изучать топологию в университетском кружке. Там я и сблизился со Львом Меламидом.
Страшно милый и обаятельный (я его до сих пор ощущаю как близкого родственника), он обладал невероятным упорством в достижении заранее поставленных целей, главным образом идиотского характера. Одной из таких целей — наименее серьезной — была идея самоубийства. Он давно решил, что жизнь бессмысленна и самое простое — это наглотаться снотворного. (Как мы знаем из мифа об Эндимионе, сон — это обратная сторона бессмертия.) Никаким другим способом он не собирался кончать самоубийством. Но снотворное достать в нужных количествах было достаточно сложно в шестнадцать лет. Лев надеялся, что ему поможет наш общий приятель Витя Каменский. Каменский жил и воспитывался с двумя бабушками (с отцовский и материнской стороны). А советские бабушки, естественно, не могли жить без снотворного, поскольку еврейские бабушки, пережившие сталинские годы, довольно часто просто не способны были заснуть. И вот Каменский наворовал у бабушек достаточно много таблеток снотворного и вручил их Льву. Лев дождался подходящего вечера, когда был в доме один, без родителей, и выпил. Все таблетки.
Оказалось, что вместо снотворного благородный приятель подсунул Льву — сознательно или нет — пурген, то есть слабительное. Мощное действие лекарства продолжалось чуть ли не неделю. Это изменило мировоззрение Льва. После этого Лев стал задаваться вопросом не о благородстве смерти, а о бессмысленности не только жизни, но и смерти. Именно это он и втолковывал мне, когда мы однажды выпили три бутылки портвейна на двоих. Перед тем как погрузиться в тяжелый долгий сон, Лев сообщил мне, что смысла нет ни в чем на свете. Даже в портвейне. Я пытался ему возразить: смысл есть в доказательстве того, что лента Мёбиуса — односторонняя поверхность, кардинально отличающаяся от двухсторонней поверхности, скажем, ремня от моих брюк. Но зачем это доказывать, спрашивается? Какой в этом смысл? Все эти вопросы изменили мое представление о мире, где я живу. Оказывается, есть люди, которые несчастны не потому, что у них меньше конфет, апельсинов и бутылок с портвейном, чем у других, а потому, что их жизнь, как и смерть, вообще не имеет смысла, одностороннего или двухстороннего. И вообще сами они не имеют смысла. И смысл тоже не имеет смысла. Все вокруг закончится ужасной бессмысленной ядерной катастрофой. Что же делать? «Надо выпить», — сказал Лев. И мы полезли в сервант, где родители хранили бутылку с коньяком.
Все для меня изменилось после этого разговора. Небо больше не было голубым, даже в хороший летний день. Снег больше не падал — даже в тихий вечер Нового года — огромными пушистыми хлопьями. Я больше не внюхивался в пронзительный аромат липовых листочков в мае. Не умилялся над белым грибом под золотеющим дубом ранней осенью. Все вокруг перекрасилось в серый промозглый цвет вечной слякоти. Потеря невинности в юности — вовсе не в сексуальном смысле — это потеря ощущения собственной бессмертности, точнее — потеря ощущения того, что твоя жизнь будет продолжаться — не то чтобы бесконечно, но без видимого конца. Знание о собственной смертности — это выпадение из рая — начало мысли. Смерть — это изнанка жизни, то есть осмысление происходящего.
Общение с Асарканом и его кругом друзей привело к тому, что город открыл свою изнанку: пока мы бродили по Москве, Асаркан открывал нам секреты домов за их фасадами. Это был уже иной город с иной историей. И сама серость советской жизни получила свое объяснение: это была лагерная, тюремная действительность, это были промозглые серые колера бюрократической тягомотины, партийной пропаганды, до зубной боли; лжи, от которой у всех кривились губы. Я понял, что здание моего Московского университета поделено на зоны, потому что строили его заключенные под надзором лагерной охраны. Я понял, что я смертен, но почему-то не хочу умирать. Вполне возможно, что мы рождаемся бессмертными, но потом отказываемся от этой вечности ментально, своими пагубными мыслями. Поэтому мы обречены всю жизнь трудиться. Труд и смерть — это одно и то же.
Мне, казалось бы, ничто не угрожало — во всяком случае, ничто не предвещало мне тюремно-лагерного будущего. За несколько лет до моей встречи с Асарканом мы под руководством Александра Меламида, будущего соц-артиста, создали свое пародийно-тайное сообщество — Конгрегацию ситуайенов с Советом Вечных, с загадочными заседаниями, протоколами и вымышленными святыми. Это была первая попытка создать религиозный орден вне каких-либо советских идей. Моя одержимость личностью Асаркана воспринималась Меламидом как предательство нашего юношеского союза — возвращение в круг старших, одержимых идеологией и политикой. Мы же считали себя стоящими над схваткой. Мы были из другой эпохи, лишенные позвоночного страха перед сталинскими органами. Сейчас, впрочем, мне мои товарищи указывают, что меня выгнали с работы за то, что я подписал письмо протеста против увольнения с работы одного из активистов диссидентского движения (кто-то, скорей всего, подписал, в свою очередь, письмо протеста против моего увольнения и тоже был уволен с работы), но я тут же нашел новую работу; в мою коммунальную квартиру наведывались из КГБ — спрашивали у соседей, кто ходит ко мне в гости и часто ли, но никаких официальных угроз на мой счет не последовало; и, наконец, меня пытались забрать в армию, чтобы припугнуть и изолировать меня от вредного влияния врагов народа, и я месяц находился в бегах, пьянствовал и танцевал на тайных квартирах, но в конце концов представил медицинскую справку, оправдывающую мою армейскую неявку хронической болезнью моего позвоночника. Во время вызовов в КГБ моих знакомых некоторых из них спрашивали, а почему Зиник не уезжает?
Вполне возможно, что из-за своей несдержанности я бы договорился до психушки. Но когда я решил эмигрировать, я не считал, что мне угрожает арест. Я уходил из жизни, которая казалась мне тупиковой. В действительности же я был частью массового психоза — необъяснимого, как массовое перемещение каких-нибудь насекомых, движения народов. Никаких логических объяснений своему решению покинуть Россию я дать сейчас не могу. В эпоху Шабтая Цви ощущение конца света подстегивалось фатальными катастрофами: погромами евреев бандами Хмельницкого на Украине, Великим пожаром в Лондоне, очередной эпидемией чумы, чего только катастрофического не случилось в тот роковой 1666 год, когда Шабтай решил сменить ермолку на тюрбан. Человек, принимающий решение покинуть родную страну, когда его жизни не угрожает смертельная опасность, не руководствуется рациональными соображениями: он — эмоциональный заряд той массовой истерии, которая вполне сравнима с апокалиптическими видениями тех, кто верил в приход Мессии. Почему люди, не имевшие никакого отношения к иудаизму и еврейству, начинают воображать себя библейскими иудеями? Откуда такое неверие в собственное «земное» — там, где ты родился и вырос, — будущее? Советская власть была своего рода религией, и поэтому переходом в другую религию следует считать и эмиграцию из Советского Союза.
Сам уход из родных мест не подразумевает революционных перемен. Надо совершить еще один ментальный скачок, принять кардинальное решение, перейти рубеж, обратиться в другую религию — стать другим. Я хотел летать, я хотел улететь из этой клетки. Я должен был оказаться в Земле обетованной. Я должен был собрать чемодан и уйти из Ура Халдейского. Перестать строить пирамиды и бежать из Египта. Я бы мог и закончить свою жизнь, бродя сорок лет по пустыне. Может быть, по этой символической пустыне я и брожу последние сорок лет. Но эта пустыня называется Лондон, и тут скопилось крайне много бродяг в поисках истины, денег или любви.
Для меня отъезд был не поиском свободы, благосостояния, безопасности или этических принципов; это был переход в другую веру, обещавшую новую жизнь; то есть это был суррогат бессмертия. Переезд через границу был поиском жизни после смерти (конца московской жизни). Это и есть личная революция. Со мной эта революция стала происходить почти против собственной воли. В Лондоне не было, кроме двух-трех ближайших друзей, никого, кто был связан с московским прошлым, никакого подобия России в ее эмигрантской версии — как в Тель-Авиве, в Нью-Йорке или Париже. И поэтому общение происходило практически все время на английском с британскими друзьями. Это была трансформация — в другую жизнь. С рудиментами прошлой культуры (языка) и ритуалов (водка, селедка, борщ и слезы) — в той же степени, в какой саббатианцы сохранили элементы своего иудейства в рамках мусульманства.
5
Мне стало совершенно ясно, что моим главным попутчиком в путешествии по следам Шабтая Цви в Турции должен стать Александр Меламид. Не только потому, что мы знаем друг друга лет с шестнадцати и он разделял те же эмоции, связанные с отъездом из России, что и я. Уговорить этого московского создателя соц-арта и американского концептуалиста было не слишком сложно. Я догадывался, что Меламид соблазнится поездкой. Трудно не соблазниться всем антуражем этой истории: Османская империя, султан, пророк, Мессия, религиозное отречение. И главное, к этому моменту Меламид больше не мог вынести атмосферу мира искусств в Америке: псевдолиберальная элита, хорошо охраняющая свои завоевания на музейно-галерейном фронте, с одними и теми же массовыми «элитарными» замашками и привычками в одежде, еде и в искусстве — одни и те же белые стены музеев и галерей и одетые во все черное кураторы; с диктатурой одного и того же типа работ, где сложным образом зашифрованы крайне элементарные идеи марксистского толка об обществе массового потребления. Не случайно в те годы у Меламида возникла пародийная идея разоблачить мистицизм, окружавший школу абстрактного экспрессионизма: Меламид придумал школу живописи для безработных слонов Таиланда (слонов, которые работали на лесповале в джунглях, заменили машинами). Слон под руководством своего наставника-тренера махута с удовольствием брал хоботом кисть и создавал на холсте, подставленном ему под нос (хобот), абстрактный шедевр. Меламида тянуло разрушить храм американского искусства. Ну, конечно же, фигура псевдомессии, идея пророчества и разрушения прежней религиозной доктрины была уже давно у Меламида на уме. Его всегда интриговала одержимость людей определенной утопической идеологией — верой в светлое будущее или высшее существо в той или иной форме. Люди, разуверившись в традиционной религии, стали ходить в музей, как в церковь. У этой церкви современного искусства, согласно интерпретации Меламида, — все атрибуты фанатичной религиозности со священниками-кураторами музеев и святыми и мучениками (вроде Ван Гога). Вместе с легким отвращением к этой тотальной идеологии в искусстве его тянуло к этнически малым культурам, и прежде всего в кулинарии. Алекс и его жена Катя стали настоящими кулинарами и гурманами — знатоками изысков не только Таиланда, но и таких экзотических мест, как, скажем, рестораны португальского или чилийского гетто в пригородах Джерси-сити. С таким отношением к западной цивилизации трудно устоять перед идеей поездки в бывшую Османскую империю, в мир ориентализма, пророков и лжемессий.
Символы, знаки и вехи истории расставлены в Турции так же густо, как рестораны на мосту через Золотой Рог: Османская империя и христианская Европа, Византия и Рим, античные Афины и Троя, хетты и Вавилон, стоит только копнуть — в прямом и переносном смысле, — и налицо столкновение цивилизаций и религий. Я разработал наш маршрут от Стамбула (Константинополя) в бывшую столицу Эдирне (Адрианополь), где султан судил Шабтая Цви, новоявленного Мессию, и где тот перешел в мусульманство; я планировал заглянуть в Абидос (недалеко от Трои), где Шабтай сидел в тюрьме; и через Измир (Смирну), где он родился, мы должны были попасть в Эфес с его коллекцией греческих древностей и добраться до Каппадокии: пещеры-катакомбы христиан в Каппадокии были визуальной метафорой подпольного мышления. Наш маршрут был сменой религий или культур за шесть тысяч библейских лет бытования на этой территории разных племен и народов в судьбе одного человека по имени Шабтай Цви.
Одни только описания маршрутов Шабтая Цви и вообще евреев той эпохи, путешествующих часто и много — из Варшавы в Амстердам, оттуда в Ливорно, из Ливорно в Стамбул, из Измира в Иерусалим, из Иерусалима в Каир, из Каира в Рим, — могли бы составить еще одну книгу. И хотя все это на перекладных, на верблюдах и лошадях, передвигались они довольно быстро и не задумывались о расстояниях. Паспортного контроля не существовало. Весь мир был для них родным домом еще и потому, что останавливались они всегда друг у друга, в домах своих соплеменников по религии, как у родственников. Собственно, точно так же в первые годы вне России, получив иностранные паспорта, мы разъезжали по странам и континентам, от Парижа до Нью-Йорка, останавливаясь в квартирах друзей, как у себя дома. Но с годами путешествия превратились в некое самостоятельное домашнее задание.
Я был не впервые в Стамбуле и выбрал отель со знанием дела, в двух шагах от стамбульской Пятой авеню — Истикляль. Отель был слегка старорежимный, что нас тоже устраивало. Модернизированный, он тем не менее носил отпечаток эстетики бывшего султаната, ковровой и балдахинной культуры. Перед стойкой регистратуры отеля — черные плюшевые кресла, огромные и глубокие: как сядешь — не встанешь. Куда ни взгляни — видишь свое отражение в разных ракурсах: по всем стенам — зеркала. Зеркал тут хватает, хотя, казалось бы, согласно всем урокам по истории мифологии, Восток чуждается зеркал. Твое отражение — душу — могут украсть злые духи. Ну и пусть крадут: всякий раз, когда я вижу себя в профиль, я вздрагиваю, себя не узнавая, ведь мы знаем свое лицо лишь в анфас, когда смотримся в зеркало. Впрочем, Турция, а тем более Стамбул — не совсем Восток. И не совсем Запад. Эта промежуточность всегда меня притягивала, и в первую очередь как всякого человека с российским прошлым. В Стамбуле каждый открывает свое прошлое, но не уверен, что видит в этом зеркале себя, потому что зеркало этого прошлого — несколько наискосок, и видишь себя не в анфас.
Все было обаятельно и мило. Но комната, которую нам с моей женой Ниной дали вначале, смотрела на стену. Я пожаловался. Номер нам поменяли. Он был светлый и глядел на шумную улицу внизу. Я не сразу заметил, что в номере нет ни одного стула, ни кресла — сплошные элегантные пуфики, на которых не расслабишься, что для моего больного позвоночника (я его серьезно повредил еще в юности) довольно тяжело. Все бары, кафе, рестораны и отели я сужу по удобству в них стульев, кресел и диванов. Но снова требовать обмена у администрации отеля я не решился. И тут же стал жалеть о перемещении в другой номер. Всякая эмиграция на первом этапе связана с разочарованием: не туда повернул в жизни, не то будущее выбрал, не то прошлое оставил после себя.
Несмотря на дикие расстояния и океаны между Нью-Йорком и Стамбулом, Меламид со своей женой Катей появились точно в назначенный час. Я всякий раз при встрече обнимаюсь с Меламидом так, как обнимаются с собственным прошлым — в надежде на будущее. И вот мы вчетвером уже заворачиваем за угол, мы вдыхаем стамбульский воздух (запах морской воды, специй, мокрого асфальта и бензина) и ощущаем, что этот город, эта страна подскажет в нашем прошлом нечто такое, о чем мы никогда не подозревали. Иностранец в другой стране воспринимает все — любую экзотическую деталь, любое, даже случайное, бытовое неудобство — как нечто многозначительное, символизирующее чуть ли не религиозные основы жизни этой нации. Стамбул, в его торгово-ресторанной части, в районе Бейоглу, вниз к Босфору от площади Таксим, с центральной авеню Истикляль, кажется всякому встречному приезжему в этом городе старым другом-приятелем, потому что в нем есть все, что есть во всех городах на свете, если только ты склонен узнавать только то, что знакомо именно тебе.
Это не только бывший Константинополь. Это еще и город всех тех, кто из своих родных городов бежал или оставил их добровольно, чтобы восстановить чемоданную, раскладывающуюся на ходу версию своей родины в виде ресторанов, продуктовых лавок, языка, специфики лицевой поросли (бород, усов, проборов) и манеры одеваться. И запах воды, морских водорослей, крик чаек, как во всяком большом порту; и легкий аромат специй, базарная толкучка — все это знакомо каждому, кто бывал на Ближнем Востоке, скажем в Иерусалиме; и гигантские анфилады темно-серых многоэтажек с подворотнями, где пахнет кошками и мочой; и бесконечные отели, где или бар, или ресторан чуть ли не на каждом этаже — от подвала до крыши — вместе с бельем на веревке балконов: гипертрофированная версия лондонского Сохо, как бы поставленного на попа — от площади Таксим до моста через Золотой Рог. Это Манхэттен, каким он мог быть четыре столетия назад. Это несостоявшийся Париж. Это древнее современного Рима. Тут за углом Арбат. И арба с ослом.
Смешение эпох налицо. Мимо может проехать скрипящая телега, нагруженная мешками с цементом, а может проплыть «Роллс-ройс»; торговец коврами несет свою рыночную собственность в виде гигантского многослойного свитка ковров на голове, вроде еврейской торы, а мимо снуют стамбульские мальчики и девочки в американских джинсах с вездесущей пластиковой бутылкой «Эвиана»; седая тетка, вся в черном, сидит в дверном проеме в кресле с порванной обивкой и лузгает семечки; в соседней с ней витриной продают мобильные телефоны стамбульским денди. Высокая технология и ментальная дикость, эмоциональное варварство и социальный прогресс никогда не мешали друг другу в своем параллельном соседстве. Оказавшись в подземном переходе (почерневший бетон), набитом до отказа торговыми точками и мусором, понимаешь, что переместился на машине времени — с механизмом топографии — в перестроечную Москву. В разные эпохи попадаешь, пересекая улицу или зайдя за угол — в соседний квартал. Топография, напоминающая тебе одну из многочисленных версий прошлого, перемещает тебя во времени. Ты понимаешь, что оказался в предыстории всех имперских столичных городов. Отсюда пошло все. Сердце твое ликует от открытия — все твои идеи о жизни большого города были лишь повтором, заново изобретенным стамбульским велосипедом.
6
Стамбул — это не город для велосипедистов. Страшно опасный для меня город: там то и дело попадаются под ноги непредсказуемые препятствия. В буквальном смысле. Нет на свете такого города, где на тротуаре было бы столько ступенек и выемок, турникетов и люков, столбов из литого чугуна не только по кромке тротуара (чтобы на тротуар не въезжали автомобили), но и прямо в центре пешеходной зоны; там на каждом шагу ступеньки, отделяющие два уровня тротуара, приступки, бетонные блямбы, водосточные трубы, какие-то перегородки, отделяющие одну городскую топографию от другой, где проход вбок отделен штангой, решеткой, барьером; поворот в переулок маркирован ступенькой вверх или, наоборот, пограничным желобом. Добавьте к этому то, что профессионалы-урбанисты называют уличной фурнитурой, или, говоря по-русски, гарнитуром бесконечных уличных указателей, предупреждений, досок с запретами или инструкциями, не считая светофоров и телефонных будок. Я имею привычку ходить, глазея по сторонам или, как всякий идеалист, задумчиво заглядываясь на крыши и облака в небе над ними. Сколько раз в жизни я налетал на столб — с искрами из глаз, с разбитыми очками и шишкой на лбу.
Препятствия, остановки, замедления существуют для того, чтобы нарушить механическую логику собственной отлаженной жизни, смазанной изрядной долей безумия. Надо любым способом остановиться, чтобы оглядеться и задуматься, «чтобы не сумел загордиться человек», — как говорил Венечка Ерофеев. Но главное при этом — когда оглядываешься по сторонам — не налететь на столб. Это город не для ротозеев. При этом твое внимание все время отвлекают, пытаются заманить тебя в еще один магазин, лавку, ресторан. В этих перегородках, в этих входах, где лишь одна часть дверей открыта, а другая на замке, я вижу сходство с Россией: кого впускать, кого не выпускать. Неудивительно, что в один прекрасный момент я споткнулся в Стамбуле об одну из этих бесконечных маркировок необъявленных уличных границ. И полетел.
Я до сих пор летаю во сне (я всегда готов поделиться с теми, у кого тот же опыт, своей летательной техникой), и прелесть этих сновиденческих левитаций в их полной безопасности, я бы даже сказал — в ощущении безнаказанности. Что это мы за племя за такое — те, кто летает во сне? Мы явно не ангелы. У ангелов — крылья. Крылья — для тех, кто сам не умеет летать, используя собственное мускульное усилие. Подобный талант к левитации был заложен в нас явно от рождения. Значит, мы — некая особая порода, кто в прошлом, на предыдущей ступени эволюции или в предыдущей инкарнации, был птицей? Или же, наоборот, мы наделены этим даром к полетам ради и во имя будущих свершений? Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц! Может быть, человечество готовится к великому перелету и мы — его тайный авангард? Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
В детстве я мечтал стать летчиком. В ожидании осуществления этой мечты я тренировался: пытался летать в домашних, так сказать, условиях. Первые попытки состоялись еще в младенчестве. Я пытался взлететь, систематически подпрыгивая в своей детской кроватке. В один прекрасный день я умудрился подпрыгнуть так высоко, что перелетел через решетчатую, тюремного типа, загородку кровати и приземлился на пол, разбив губу. Но тут, споткнувшись о какой-то поребрик или бордюр, я летел с таким мощным импульсом (я, видимо, шел довольно быстро), по такой длинной траектории, что успел подумать: вот впереди меня чугунный столб (заградительный, естественно), и если я преодолею в полете это расстояние между собой и столбом, то заведомо раскрою себе череп об этот чугун. И на всю жизнь стану инвалидом.
Это удивительное ощущение, когда падаешь, но еще не приземлился. Ты знаешь, что все это плохо закончится. Еще несколько мгновений, и треснет черепная коробка. Внутри прервутся связи. Сердце от сотрясения выскочит из сердечной сумки. Череп расколется как орех, и все увидят, что внутри — пусто. Твои лысые родственники будут рвать на себе волосы от горя. А может, и не будут. Я следил за собственной траекторией как бы со стороны. Мое тело приземлилось на пузо, проехало боком и локтями по асфальту и затормозило в дюйме от чугунной тумбы. Через мгновение я осознал, что пациент будет жить. Мои мозги не размозжились. Я уцелел.
Может быть, я сознательно пытался привлечь к себе внимание этой симуляцией самоубийства. Нечто подобное есть и в тех, кто объявляет себя спасителем, мессией, пророком. С ними всегда происходит нечто катастрофическое: они тонут, попадают в огонь, левитируют, взмывая к небесам, и совершают грехопадение. Есть ли разница между ангелом падшим и ангелом споткнувшимся? Левитация — отрыв от земли, от родной почвы — еще один из признаков одержимости бесами в реестре экзорцистов. Способность перелетать через кордон, через границу, железный занавес — любимый фольклорный мотив русской литературы от Гоголя до наших дней. В Советской России легче было отправиться в космос (достаточно выучиться на космонавта), чем получить заграничную командировку. Упор на развитие космических исследований в СССР не объясняется лишь гонкой вооружений: это скрытая, сублимированная мечта российских странников, страсть вырваться за границу земного бытия, советского режима. Достаточно сказать, что первый пророк космических полетов Циолковский был верным учеником Федорова, проповедовавшего воскрешение трупов путем общих «коммунистических» волевых усилий; а один из авторов первого варианта ракетного двигателя Николай Кибальчич занимался изготовлением бомб для террористической организации «Народная воля». Левитация — это вульгарный способ выбраться за границу самого себя, самопреодоление. Не выдержав существования в собственной шкуре, человек, страшащийся перемен в собственном мышлении и верованиях, предпринимает попытку изменения внешних обстоятельств жизни — улетает, левитирует за границу, в антисоветский антимир. Еще один шаг, подошва цепляется за выступ тротуарной плиты, и мы увидим в этом ерундовом спотыкании столкновение Востока и Запада, христианской цивилизации и ислама.
Я приземлился, разодрав локоть о брусчатку в сантиметре от дорожного столба, этого чугунного стража. Стамбул меня пожалел. Я встал с ободранными до крови локтями — я проехал на локтях пару метров по тротуару. Моя жена Нина предлагала мне сделать прививку от столбняка. Я отказался: почва Стамбула смешалась с моей кровью. Мы породнились со Стамбулом.
7
Я впервые попал в Стамбул как турист. Лет двадцать назад в Лондоне плавильный котел из разных этических меньшинств, смешение культур и эклектика, и в первую очередь африканцев или мусульман индийского субконтинента, был у всех на уме (и на языке) и казался идеалом. В трущобных (в прошлом) районах вроде Шордич в Ист-Энде или в Кеннингоне на южной стороне Темзы (до того, как там открылись самые лихие гей-клубы) выстраивались очереди в перуанские или эритрейские рестораны, да и вообще заведения с любой этнической требухой. Вавилонское столпотворение культур и языков — это всегда период утопических надежд и апокалиптических предчувствий. Я не знаю, зачем я отправился в Стамбул. Со мной это уже было однажды: состояние, когда склонен совершать бессмысленные немотивированные действия. Такое доведение собственной жизни до полного абсурда, до тупика, откуда, возможно, начинается хоть какое-то подобие разума и логики. Вывертываешь себя наизнанку, чтобы обнаружить — а можно ли вообще добраться до собственной подкладки, есть ли она?
Тогда и начались у меня поиски нового дома и другой крыши над головой: когда собственная крыша несколько поехала, сдвинулась. Идея куда-нибудь переехать. Охота не столько к перемене мест, сколько к перемене стен. Стремление к такому месту на земле, где меня никто не знает, но при этом примет меня без всякой предубежденности, как равного, как брата. Об этом писала Рахель Левин (светская львица из скромной еврейской семьи — из книги Ханны Арендт) в Берлине конца девятнадцатого века: стать самим собой можно только за границей. Потому что у себя на родине ты носишь тяжелую родовую маску своего происхождения, воспитания, статуса.
Мой внутренний взор все чаще стал обращаться к берегам бывшей Османской империи, к тому городу, который, не отрекаясь от пророка, правду древнего Востока соединил с лукавым Западом. Все мне нравилось в моей собственной легенде о Турции: и тот факт, что они — мусульмане, но при этом своего ислама никому не навязывают, отвыкли от пота битвы и пьют вино в часы молитвы. Кроме того, они спасали евреев на протяжении чуть ли не пятисот лет — от испанской инквизиции до украинских погромов и нацистских газовых камер. Мне нравилось и то, что традиционно Турция в глазах некоторых интеллектуалов представляла собой воплощение грязного Востока, бессмысленной бюрократии и жесточайшей тирании. Но именно в этом турецком списке — все ужасы плебейской России: и тогда, и сейчас. Все то, чего эти мыслители еще недавно боялись, когда речь шла о Турции, в полном и окончательном виде уже давно воплотилось как раз в России, как бы кривом зеркале Турции Из Турции эти российские деятели взяли все дурное. Все хорошее было украдено с Запада. Однако попытка кражи была не слишком удачной. Вобрав все дурное из Турции, Россия вернула ей этот долг сполна: Турция, с ее нынешней авторитарной грязнотцой в идеях, тягой к патриархальности и дисциплинарности, подражает сейчас именно российской государственности, сменившей бездарную партийность на тупоголовую церковность.
Традиционное неприятие турок и турецкой цивилизации в России (задолго до российско-турецких войн) — крайний пример подобного символистского «произвола» в интерпретации увиденного. Еще пару десятков лет назад, как и за двести лет до этого, российскому слушателю (или читателю) инстинктивно навязывалась одна и та же мысль: история Стамбула — бывшего Константинополя — это история деградации и падения Римской империи с ее апологетикой личной свободы и гражданских прав — сначала в восточную бюрократическую вязь Византии, а затем в османскую восточную дикость и тиранию с полным презрением к идее индивидуальности[3]. Какой бы дикой и отсталой Россия ни была, мол, но она все-таки — какая-никакая, а Европа. А Турция — чистая Азия. Азия достойна в глазах таких визитеров презрения, снисходительного — в лучшем случае. Этот путь обличения ненавистного Востока в глазах поэта-туриста вымощен в заметках Иосифа Бродского наслоением — нагромождением — символов и метафор, где объекты этой трансформации (метафора по-гречески означает транспортировку) и сама их интерпретация совершенно произвольны. Минареты становятся похожи на лагерные вышки, арабский алфавит в орнаменте мечетей приравнивает человеческий дух к узору на ковре, который топчет нога Пророка, все отвратительно в турецком городе — даже сероватый камень свидетельствует о серости духа. Но главное — пыль. Это символ распыления человеческой уникальности в мириады крупинок песка в пустыне. Доказательство тут же следует: огромное количество чистильщиков сапог. Забывается при этом, что в нашем отечестве — скажем, в советской столице, в городе Москве (где я родился и вырос, хорошо помню), чистильщики тоже были на каждом углу, хотя Москва была городом непыльным. В Риме советских улиц на тротуарах действительно не было ни соринки, но все было покрытом толстым слоем неразличимой для прохожих грязи, где на грязных подоконниках можно было выписывать вавилонские пророчества о конце советской власти. А чистильщиков этих можно встретить на уличных углах всех столиц мира — и в Москве, и в Нью-Йорке, и в Стамбуле. Эти чистильщики были, кстати, всегда из нацменьшинств (в Москве это были айсоры, то есть ассирийцы, они же халдеи, со своей религией и арамейским языком; их вырезали десятками тысяч и персы, и мусульмане, и никто не говорит ни об их геноциде, ни о потерянной родине). Но Иосиф Бродский в ужасе от всего, что тем или иным боком — в анфас или в профиль — напоминает ему советскую родину. Это как увидеть в Лондоне очередь на автобусной остановке или влезть в толкучку перед стойкой бара (британцы очень дисциплинировано ведут себя в таких случаях и никогда не лезут без очереди) и начать разглагольствовать о том, что замашки британских граждан не отличаются, по сути, от советского плебейства. Но очередь очереди рознь.
Тут верность советской легенде о вымышленном Западе (Рим) порождает инстинктивную нелюбовь к вымышленному Востоку (Турция). В его перегруженном символикой разоблачении османской восточной дикости и тирании достается не только чистильщикам сапог на улицах Стамбула, но и турецкому языку, из которого многие слова перекочевали в русский со смысловым сдвигом: «бардак» — это стакан, турецкий «дурак» — это наша остановка. (Дойдя до этого места в чтении стамбульских записок Бродского, я начал подозревать, почему поэт стал таким противником всего турецкого: первый сборник Бродского назывался «Остановка в пустыне».) Пришелец углядывает в новой реальности то, что знакомо ему из собственного прошлого. С дотошностью Шерлока Холмса Бродский отыскивает в странном и чуждом лишь крупицы того, что напоминает ему о привычных ужасах. Это образ грязного турка, целующего лбом стопу Пророка, выставляя зад к небу, в промежутке между лузганьем семечек и свистом нагайки янычара по спинам неверных. Есть такая манера у просвещенных российских путешественников: сравнивать безликую массу недоумков из низших классов чужой страны с либеральной интеллектуальной элитой своей родины. Его Стамбул полон отвращения к плебейской немытой России как к некоей выдуманной Турции.
Я всегда был заворожен образом города, чей облик опровергает стереотип, сложившийся у нас в уме. Есть города, похожие на их собственный открыточный рекламно-туристский вид. Париж не обманывает тех, кто видел открытки с фотографиями букинистов на набережной Сены. Манхэттен равняется ростом в наших глазах с репродукцией легендарных высоток. Я, может быть, влюбился в Лондон именно потому, что он не соответствовал тому, что я о нем воображал, читая Диккенса. Реальный Лондон — это непрерывное переиначивание ожидаемого, он непредсказуем, и, открывая еще один неведомый Лондон, открываешь необычное в себе. Я увидел Лондон как конгломерат хуторов, где у каждой деревни своя главная улица и свой центр. Лондон не один, их много, и каждый по отдельности, и поэтому ты не можешь этот город присвоить себе как свой родной, один-единственный.
Точно такое же ощущение у меня было от Стамбула. Стоит ступить на мостовые такого города, как Стамбул, вдохнуть этот замес воздуха, где узнаются и Иерусалим, и Афины, и Александрия, а в запутанной топографии города затерялось столько цивилизаций и народов, ты понимаешь: это бесконечный лабиринт собственного прошлого — прошлых жизней — для тех, кто не знает, из какого прошлого он возник. А кто-нибудь вообще знает? Я в чужом городе пытался открыть неизвестного мне себя. В Стамбуле можно вспомнить — или открыть в себе самом — то, о существовании чего ты или напрочь забыл, или никогда не подозревал. Это своего рода переход в другую религию, когда цель вероотступничества — открыть для себя веру твоих духовных предков, от которых ты до этого открещивался.
В Стамбуле была прелесть чуждости, но в этой чуждости не было агрессивной враждебности. Это была экзотика без показухи, уверенный в себе другой образ жизни, куда тебя приглашают заглянуть: заходите, присядьте, попробуйте вот такой вот взгляд на жизнь — не нравится? — не отчаивайтесь, у нас есть еще несколько вариантов экзистенциального меню в запасе. Мы все периодически стремимся уйти от рутины собственной жизни — недаром мы путешествуем как туристы: чтобы отвлечься, забыться. Но в Стамбуле, в Турции, есть нечто другое: приглашение к общению, к переходу в другую религию города и, возможно, вообще в другую религию. Как во всяком имперском городе — будь то Нью-Йорк, Лондон или даже Москва (при всей закрытости лиц прохожих на улицах Москвы), — в Стамбуле ты испытываешь соблазн возможности: а не поселиться ли тут? Начать новую жизнь на совсем других основаниях, но при этом не забывая о том, кем ты был; чтобы твое прошлое и сам ты смогли преобразиться в нечто иное, чего твой ум никогда бы не вообразил, если бы оставался в прежних обстоятельствах твоей жизни. Потому что в этом чужом городе рассеяны приметы твоего прошлого, предыдущих провинций твоего опыта.
8
Откуда в старой части Стамбула у меня ощущение явно знакомого города? В переулках, в резких подъемах улочек и в угловых башнях, в самой грубоватой неотесанности серого камня с желтоватым отливом и в булыжнике мостовых я узнаю первый город, увиденный мной вне России, когда я покинул родину в семидесятых годах. Я имею в виду Иерусалим. Конечно, в Иерусалиме можно найти и финикийские крепости, и византийские храмы, и римские акведуки. Но старый Иерусалим как город, каким его знал путешественник новых времен, был построен (и достраивался вплоть до XIX века) турками. Турки отстроили, в частности, и стены Старого города с башней Давида, какими мы их сейчас видим. Когда в топографии города встречается имя Соломона, то, скорее всего, имеется в виду турецкий султан Сулейман Великолепный. Турками создана и старая центральная часть Иерусалима вне стен Старого города — там, где рынок и бухарские кварталы. Лишь побывав в Стамбуле, видишь поразительное сходство в уличной застройке этих двух городов. Те же аркады и арки с железными воротами гаражей, городские лестницы и задние дворы с дикими кошками и лавочкой посреди, базары и пустыри. Та же белая плитка каменоломен и камень-известняк.
Этот «турецкий» Иерусалим лежит в подоплеке всех городских мифов и легенд. Не слишком грамотные туристы, да и многие израильтяне, уверены, что расхаживают среди библейских стен Вечного города. Иерусалим в действительности это второй Стамбул.
Мой близкий друг, поэт Леонид Иоффе, убедил себя в том, что другой язык — язык воображаемых библейских предков — сможет дать ему ощущение силы тяжести в его состоянии литературной невесомости. В какой-то момент он просто прекратил общение по-русски: русская поэзия вернулась к нему по-настоящему, лишь когда он укрепился в Иерусалиме. Такого рода двойственность, точнее — раздвоенность в юношеском выборе пути (образа) жизни, и заинтриговала меня в перипетиях судьбы Шабтая Цви, запутавшегося в себе человека, искренне поверившего в свое мессианство. Неудивительно, что его имя фигурирует и в книге Гершома Шолема о мессианских тенденциях в иудейской истории. Но эта книга попала мне в руки уже в Лондоне, когда я был параллельно одержим совсем иными идеями — отношениями Гершома Шолема с его другом Вальтером Беньямином в Берлине двадцатых годов.
Выбор книг (во всяком случае, у меня) всегда так или иначе подсказан событиями нашей жизни. Я заинтересовался сочинениями Шолема, когда прочел его воспоминания о Вальтере Беньямине и их идеологических спорах. В ту эпоху Гершом еще называл себя своим немецким именем Герхард, и споры с его другом Вальтером крутились вокруг вечного (и крайне острого для предвоенной Германии) вопроса о том, в какой степени еврейское происхождение (что бы генетически или культурологически под этим ни подразумевалось) обязывает ответственно мыслящего человека увязывать свою судьбу с библейским иудейством и возвращением на Сион. Как мы знаем, Герхард Шолем переименовал себя в Гершома, стал сионистом и закончил свои дни как профессор Иерусалимского университета, уважаемый автор классических трудов по истории мессианства и каббалистике. Вальтер Беньямин, несмотря на свое серьезное увлечение древнееврейским языком, стал склоняться к марксистской философии и эстетике и бежал из Германии лишь в последний момент. (Он покончил жизнь самоубийством, когда из-за бюрократической путаницы ему отказали во въездной визе в Испанию на пропускном пункте на границе с Францией.) Перечитывая «Московский дневник» Беньямина, я стал увязывать интеллектуальный (и экзистенциальный) спор между ним и Шолемом с «отъездными» спорами об эмиграции в Москве семидесятых годов (когда возможность возвращения в Россию исключалась).
9
В Лондоне начала двухтысячных годов шли разговоры об уникальности города на Босфоре, о дешевизне стамбульской жизни и невероятных апартаментах, сохранивших шарм позднего декаданса Османской империи. Говорили про архитектурное барокко и комфорт, о богемной атмосфере и возможностях литературной активности: лекции, чтения, встречи и публикации. Меня убедили, что надо спешить — до вступления Турции в Европейский Союз, когда цены сравняются и все станет таким же недоступным, как в Лондоне и Париже. Во всем этом особенно убеждал меня мой приятель-турок, владелец кебабной на моей улице в Хэмпстеде.
До этого вместо кебабной тут чуть ли не полвека существовало заведение под названием «Фалафель». Владельцами этого ресторанчика была супружеская пара, лондонские евреи, и меню у них соответствовало их представлениям об Израиле: этот самый фалафель, хумус, естественно, как и у всякой средиземноморской нации, ну и шашлык, конечно же, то есть все тот же турецкий кебаб, но в его израильском варианте. Все это, вместе с хумусом и фалафелем, было в оригинале арабского происхождения, но для лондонских космополитов ассоциировалось с кибуцами и шабатом. Была, впрочем, еще и маринованная селедка рольмопс, завезенная евреями из Польши. Собственно, вся история кулинарии — это история заимствований и плагиата. Фалафель был как бы размороженный (возможно, не «как бы», а именно размороженный), а хумус жидкий, разведенный, но ходили сюда не из-за еды, а потому что сюда ходили все (вокруг что ни дом — звезда кино, театра, литературы или поп-музыки). Сейчас, особенно среди левонастроенной британской интеллигенции, у Израиля репутация чуть ли не полуфашистского империалистического хищника, хлещущего бичом колонизатора невинных палестинцев. Но было время, когда для тех же интеллектуальных кругов Израиль был светочем всех прогрессивных социалистических идей — с его кибуцами и элитарностью политиков с распахнутыми воротниками рубашек без галстука. Израиль был умницей Давидом в поединке с Голиафом тупого арабского фанатизма и реваншизма. Видимо, из-за этих симпатий и возникла мода на это заведение в шестидесятые годы и по инерции продолжалась вплоть до моей эпохи. Я застал, впрочем, это заведение уже в состоянии деградации. Супружеская пара ушла на пенсию, а заведение скупил турок Мехмет (то есть Магомет). Как только он, познакомившись со мной, узнал о моих будущих маршрутах, он тут же взял на себя роль моего главного консультанта по покупке недвижимости в Стамбуле.
Его партнершей (во всех смыслах) была Тамара — россиянка из Батуми, выпускница университета Тбилиси. В Лондон она приехала учиться на пару лет, а потом задержалась в Англии нелегально. Батуми — столица грузинской Аджарии с близостью к исламу среди заметной части населения и с общей границей с Турцией, куда аджарцам можно ездить без визы. Видимо, в трудный для нее час Тамару и спас в Лондоне турок Мехмет. Открытие кебабной было праздником на нашей улице. У Тамары, как выяснилось, была масса друзей-иммигрантов в Лондоне, поэтому церемония открытия продолжалась чуть ли не месяц. Затем, после перерыва в несколько недель, визиты старых друзей Тамары возобновились с прежней интенсивностью дружеского застолья при бесплатных кебабах и водке. Для Мехмета я был ценным клиентом, потому что был старожилом этого района, и воспринимал он меня как англичанина, хотя и странного, потому что я чудом мог изъясняться на родном языке его подруги жизни — по-русски. Друзья подруги были для меня новым племенем иммигрантов из России: их словарь и словесные обороты, песни, которые они распевали, и идеи, которые они проповедовали (зоологические по своей непримиримости), завораживали меня неким ностальгическим ужасом — эхом моего советского прошлого. Тамара надеялась на брак с Мехметом и переезд в Стамбул. Но у Мехмета уже была (и, возможно, не одна) супруга в Стамбуле, с которой он вот-вот должен был развестись; развод, однако, по разным причинам постоянно откладывался. Постоянно откладывался и нормальный трудовой режим кебабной, поскольку каждый вечер друзья приходили заново поздравить Тамару и Мехмета с открытием заведения и долго не уходили. Для меня же Мехмет был олицетворением той идеалистической Турции, мусульманской страны, где ислам никому не навязывается, где нашли политическое убежище предки Шабтая Цви, и где под тюрбаном можно было обнаружить еврейскую ермолку.
В этой моей завороженности Турцией и Османской империей было, конечно же, нечто от «стокгольмского синдрома». Это была борьба с собственной предвзятостью, как в общении евреев военного поколения с немцами. У меня в уме сложился четкий план покупки квартиры в этом городе городов, где я буду преподавать часть года литературу в Стамбульском университете, а часть года проводить в Лондоне, рассуждая о смысле жизни за столиком в кебабной Мехмета. Мехмету и Тамаре этот план очень понравился. Мы выпили и закусили шашлыком. Мехмет взял с меня торжественное обещание не покупать никакой недвижимости в Стамбуле без консультаций с его стамбульским кузеном, иначе, сказал Мехмет, меня обчистят как липку стамбульские жулики. Кузена звали тоже Мехмет.
Я предполагаю, что турецкие кузены лондонского Мехмета были разбросаны по всем странам мира. По прибытии в Стамбул я тут же позвонил Мехмету Второму. Мы с моей женой остановились в отеле «античного» Стамбула, то есть там, где и расположены все главные храмы, мечети и султанские дворцы. Кузен назначил встречу в кафе на задах храма Айя-София. Я ожидал увидеть стамбульскую ресторанную элегантность агента по недвижимости — эксцентрика из колониальных романов Лоренса Даррелла или Агаты Кристи — весь в шелку и цветастой блузе, в широкополой шляпе и с сигарой. Но стамбульский Мехмет оказался молодым человеком в клетчатой рубашке с короткими рукавами, в джинсах и кроссовках, с короткой стрижкой, подтянутый и мускулистый.
Официант принес на подносе турецкий чай — его подают в чашечках из прозрачного стекла, похожих на большие водочные рюмки. Хотя по цвету этот чай напоминает портвейн, действует он не хуже водки; впрочем, это был чай, поданный Мехмету, а не заезжему туристу вроде меня. Стамбульский Мехмет вежливо поинтересовался, чем он может быть полезен. Чай шибал в голову. Я стал бесстыдно льстить его родине. Я произнес панегирик толерантности современного турецкого государства и прозорливости его основателя, Ататюрка. Турция продемонстрировала всему миру, что существует Ислам-с-человеческим лицом (на лице у Мехмета промелькнуло настороженное удивление, но тут же спряталось под сдержанной улыбкой) и что со времен османских султанов турки либерально относились ко всем религиозным меньшинствам (снова короткая тень удивления), пророкам и мессиям любого вероисповедания. Наиболее впечатляет судьба Шабтая Цви, проповедовавшего конец мира и отмену Моисеева закона для иудеев (вопросительный знак в виде нахмуренных бровей у моего собеседника). Для меня его переход в ислам, сказал я, и есть окончательное, с моей точки зрения, выражение двойственности психики эмигранта в изгнании, живущего меж двух миров, что крайне близко и мне, эмигранту из Советского Союза, живущему в Англии и мыслящему на двух языках. Недаром, сказал я Мехмету Второму (игнорируя гримасу недоумения на его лице), я прочел целый курс в одном из самых влиятельных университетов Соединенных Штатов под названием «Эмиграция как литературный прием». Я четко и с энтузиазмом изложил Мехмету Второму свои конкретные планы: я бы хотел предложить одному из дюжины университетов в Стамбуле аналогичный курс лекций о двойственности человеческой религиозности под названием «Вероотступничество как литературный прием», основанный на жизни, деятельности и идеях Шабтая Цви и его последователей-саббатианцев, что даст мне возможность проводить часть года в Лондоне, а часть в Стамбуле. Я выложил все это на одном дыхании и готов был тараторить и дальше в том же духе (главным образом, от смущения и турецкого чая чифиря), если бы не заметил, как выражение недоумения на лице стамбульского Мехмета сменилось скукой, упакованной в четко сомкнутые челюсти. Челюсти наконец разжались в вежливую улыбку, и он поинтересовался, не собираюсь ли я случайно переходить в ислам? Я уклонился от прямого ответа на вопрос о переходе в мусульманство. Я сказал, что в моем университетском курсе религиозное обращение не подразумевает религию в буквальном смысле. Советская власть была в своем роде теологическим феноменом, сказал я Мехмету, где религией был ложно понятный марксизм. Турция дала, скажем, политическое убежище Льву Троцкому. (Брови у Мехмета нахмурились.)
Троцкий тоже, между прочим, сыграл свою роль в моей идее поселиться в Стамбуле, поскольку Троцкий тоже был своего рода мессией — наследником традиции мессианства Шабтая Цви. Но я сдержался от изложения Мехмету подробностей этой эзотерической связи. Троцкий был мессией перманентной революции и первого пролетарского государства на земле. Этот тайный саббатианец тоже перешел в другую религию: из иудаизма — в марксизм. Его прощание с советской родиной и турецкая ссылка в 1929 году была своего рода возвращением — обратно в границы хазарского царства своих иудейских предков. Пророк перманентной революции оказался в изгнании в той же Турции, в Стамбуле, куда, изгнанные им, устремлялись белые эмигранты — от Вертинского до автора «Романа с кокаином» Михаила Агеева (настоящее имя — Марк Ле́ви). Что значит топография местности? Это не только геодезические карты. Как нас учили в советских школах, есть география и историческая, и политическая. Европейские эссеисты придумали термин психогеография. Что, скажем, встает перед вашим взором, когда произносятся названия таких классических курортов, как Ялта или Ницца, Женевское озеро или Лазурный Берег, такая туристская экзотика, как Стамбул или Касабланка? Пальмы и пляжи, променады и коктейли, рынки и верблюды, шашлыки и вино? Ошибаетесь. Все эти места связаны с русской эмиграцией. Скажем, воспоминания Набокова о детстве переполнены описаниями семейных выездов на курорт — этой репетиции перед эмиграцией из России. В курортном месте был шанс сесть на пароход и отплыть из России. Курорт — это доступность дешевых средств перемещения из России и обратно. И так было всегда. Месяц в деревне (или на курорте), одиннадцать месяцев за границей. Любопытно, однако, что Набоков, вспоминая морскую прогулку по Босфору на пути в вечное изгнание в своих мемуарах, с гордостью диссидента в лагере русских националистов упоминает, что его предком был татарский принц в Московии XIV века — Набок Мурза. Так что этот момент эмиграции был отчасти и его заездом на родину тюркских предков.
Тюркских предков у меня в роду вроде бы не было, но с Троцким, вне зависимости от общих еврейских прародителей, нас связывала советская держава, которая была обязана ему своим возникновением. Нет пророка в своем отечестве, потому что пророка обычно изгоняют из собственной страны. В кровавом большевизме и в сталинских чистках можно увидеть и саббатианское завершение хода истории перед наступлением коммунистического рая. Никто не хотел принимать этого лжемессию пролетарской революции — все боялись его как чумы. Лишь страна пресловутой османской автократии, родина Шабтая Цви, готова была дать политическое убежище Троцкому — этому врагу старого мира, несмотря на то что турки-националисты прямо сравнивали роль дёнме в развале Османской империи с ролью евреев-большевиков в русской революции. Мустафа Кемаль Паша (Ататюрк) не побоялся дать убежище еврею-большевику. Это говорит о парадоксальной природе великого политического деятеля турецкой республики, носителя идеалов демократии и либерализма. Я нагло льстил и играл на патриотизме своего собеседника, намекая на то, что тех же благородных идеалов придерживается и он, представитель молодого поколения Турции.
«Так чем я вам могу помочь?» — наконец спросил Мехмет Второй. Я сообщил ему мнение его кузена, лондонского Мехмета Первого, считающего, что в Стамбуле выгоднее купить, чем снимать квартиру. Мехмет Второй подтвердил, что в поисках и покупке недвижимости он действительно сможет мне помочь. Но не на острове Бююкада в Мраморном море, где был дом Троцкого. Выражение лица у стамбульского Мехмета меня обеспокоило: было ясно, что он не является большим сторонником перманентной революции. Если он вообще слышал о Троцком. Я понимал, что говорю слишком много и заведомо много лишнего. Никакого отношения к задаче непосредственного поиска квартиры в Стамбуле Троцкий не имел. Бывший дом Троцкого, сообщил Мехмет, сгорел в тридцатые годы, и там давно пытаются устроить отель. Дом выставлен на продажу за пять миллионов долларов. Я спросил, в каком агентстве по недвижимости он работает. Он сказал: «Я старший следователь отдела уголовного розыска стамбульской полиции».
Совершенно оторопев, я машинально выслушал его инструкции насчет того, что Стамбул кишмя кишит карманными ворами и мелкими жуликами; следует держаться подальше от людных торговых точек и уличных прилавков, где продают отраву и дешевые подделки; он советует не вступать в контакт со случайными прохожими, всякими набоковыми и троцкими, пытающимися обмишурить незадачливых туристов. Он спросил, в каком отеле я остановился, и сказал, что заберет меня завтра с утра, чтобы осмотреть возможные варианты дешевых квартир.
10
Точно в назначенный час к дверям моего отеля подкатил джип с неясными опознавательными знаками на боку. За рулем был сам стамбульский Мехмет. Но когда я влез на сиденье рядом с ним, я понял, что в машине на заднем сиденье еще и два приятеля Мехмета. Возможно, агенты по недвижимости, риелторы. Не успел я захлопнуть дверь, как машина рванулась с места и понеслась по людным улицам и переулкам, полностью игнорируя дорожные знаки и светофоры. Завывала полицейская сирена. Два агента сзади давали четкие короткие инструкции Мехмету за рулем. Когда мы выскочили на проспект с трамвайной линией и стали мчаться прямо по рельсам, как будто ставили своей задачей столкнуться с трамваем, я стал догадываться, что главная цель нашей прогулки на бешеной скорости по городу — вовсе не поиски дешевых квартир. Все разъяснилось на очередном перекрестке: машина резко затормозила и два приятеля Мехмета выпрыгнули на тротуар, пересекли короткими перебежками площадь и скрылись за поворотом. «Мы преследуем двух карманных воришек, — сказал Мехмет. — Подростки на велосипедах». Они, как выяснилось, скрылись на боковой улице, но его, Мехмета, ловкие напарники перекрыли им все пути. «Они будут пойманы», — заверил меня Мехмет. Это была обнадеживающая новость. С этого момента погоня за карманными ворами закончилась. И начались наши поиски квартир на продажу.
Джип рванулся вперед. Скорость нашего передвижения несколько замедлилась, но расстояние от центра города росло на глазах. Вместо уютного нагромождения баров, ресторанов и кафе замелькали крупноблочные районы, и, поскольку их обветшалый бетонный модернизм напоминал советские пригороды, это было перемещение еще и во времени, в мое российское прошлое. Однако жизнь в этих бетонных джунглях стамбульского пригорода меньше всего напоминала Россию. Это были четырех-пятиэтажные квартирные блоки в духе советских хрущоб, но на крышах и балконах шла жизнь столь же энергичная, что и внизу на тротуарах — среди уличных прилавков, киосков и магазинчиков. Мехмет сообщил мне, что мы едем к агенту по недвижимости, у которого огромный выбор дешевых квартир на продажу. Это кузен Мехмета. И зовут его тоже Мехмет. Кузен моего стамбульского Мехмета управлял своим офисом по продаже недвижимости, сидя на открытой террасе нижнего этажа, на уровне тротуара, как будто это были подмостки, окруженные толпой уличных торговцев, бродячими собаками, ангелоподобными кудрявыми детьми и их матерями, бабушками в черных платках и кузенами. Мехмет-риелтор непрерывно говорил по своему мобильнику, но при этом улыбался и дружелюбно нам подмигивал. По-английски он практически не говорил (переводом занимался Мехмет-полицейский), он лишь периодически повторял, разливая по чашкам жгучий напиток: «Чай? Чай?»
Мы снова выпили турецкого чифиря из крошечных стеклянных чашек-рюмок — в голове у меня начало шуметь. Наконец Мехмет-риелтор произвел на свет, отпечатал и выдал стамбульскому Мехмету список возможных квартир на продажу. Мы допили чай, сели в джип и стали крутиться по разным соседним кварталам. Это было ностальгическое путешествие в советское прошлое. Пыльноватые дворы с акациями, с детской площадкой посредине, в песке возились дети под присмотром бабушек в черном. В списке Мехмета было около десятка квартир. Все они были в квартирных многоэтажках семидесятых годов, где, согласно мусульманскому обычаю, как в мечети, на лестничных площадках перед каждой дверью стояла обувь — всего семейства на этой площадке, от мала до велика. По лестницам летал мусор, с заляпанных стен домов осыпалась штукатурка. В одной из квартир мы увидели группу уборщиц в фартуках и в платках, похожих на русских деревенских теток, они распивали чай, сгрудившись вокруг аппарата, неотличимого от русского самовара — труба была выведена наружу через форточку. Я уже не удивлялся сходству с Россией — достаточно прочесть «Дым» Тургенева (роман, который Достоевский предлагал «сжечь рукою палача»), чтобы узнать, что даже русские лапти были придуманы скандинавами, а самовар — иранцами. Я подымался на четвертые (и выше) этажи без лифта, задыхаясь все больше и больше со своими астматическими легкими, и всякий раз по моему грозному молчанию Мехмет-следователь понимал, что надежда на очередную сделку с кузенами провалилась. Мы вернулись на террасу к Мехмету-риелтору.
Оба Мехмета искренне не могли понять, чем не угодили мне дешевые квартиры в их районе. Зачем, зачем мне центральный Стамбул, этот даунтаун, гнездо разврата, рассадник преступлений и болезней? Зачем платить в десять раз дороже, чтобы жить среди пыли, бензина и шума? Я должен поселиться именно здесь, рядом с ними, меня тут все будут любить и принимать, как родного брата. Оба чувствовали загадочную связь между мной и местным многоквартирным населением. Терраса Мехмета постепенно заполнялась кузенами и кузинами, братьями, сестрами, племянниками и внуками их друзей (кузенов и кузин) с детьми и бродячими собаками. Все это было похоже на семейный праздник — было шумно, весело и тепло от этого неостановимого общения всех со всеми. Все они были красивы и дружелюбны. Все улыбались и говорили «сэлям, сэлям». Количество рюмок с чифирем росло. Они все смотрели на меня, не отрываясь, и в этих темных мерцающих глазах можно было, казалось, утонуть. В мой смятенный и смущенный турецким чаем ум закрадывалась мысль: а не перейти ли мне в ислам? Впрочем, откуда перейти, из какой религии я должен обратиться в мусульманство? Из религии советского коммунизма — ведь другой я не принадлежал? Вот именно: если бы не Троцкий и не русская революция, я бы не оказался здесь, в Стамбуле, и не занимался бы поисками недвижимости как литературным приемом.
В голове застряло слово: недвижимость. «Зачем ехать дальше?» — удивлялся моему беспокойному уму один из Мехметов. Я сказал, что истина познается на пути из бездны (городской клоаки) к звездам. «Но у тебя в жизни уже есть одна клоака и бездна — Лондон», — сказали два Мехмета. «Стамбул, — сказал я, — это нечто иное, нечто для меня чуждое». Мы запутались в самих себе, в саморефлексии, нам нужно уйти от себя в другой язык: мы способны понять себя только через другого, через другое — нам незнакомое, через нечто чуждое нам. «Только в чуждости, как в зеркале, можно по-настоящему увидеть самого себя», — сказал я, несколько удивляясь звуку собственного голоса, как будто эхом отдающегося у меня в ушах. Это был явно эффект чифирного чая. Но Стамбул в конце концов тоже перестанет быть чуждым, если жить в нем достаточно долго, точно так же, как перестал быть чуждым мне Лондон, где я прожил сорок лет. Ну да. И поэтому я часть года буду проводить в Лондоне, чтобы, возвратившись в Стамбул, увидеть его как бы новыми глазами. Надо постоянно передвигаться. Спасение не в перманентной революции Троцкого, а в перманентном передвижении. С места на место. Такая машина географии — география переносит тебя в другую историю. Потому что само движение — это и есть мысль. Это сказал не я, это сказал Магомет. Для Магомета изгнание — это религиозный прием. Именно с изгнания начал свой жизненный библейский предок магометан Измаил, когда Авраам изгнал Агарь в пустыню. И маршрут изгнания еще не закончен. При слове «Магомет» оба Мехмета переглянулись. «Бог — это красота и покой», — сказал Мехмет. «К этому покою мы и движемся вместе с Магометом», — сказал я. На джипе нашей мысли. Я оговорился. Я хотел сказать «джине» нашей мысли, а сказал «на джипе» — на полицейском джипе нашей мысли.
Это была не просто оговорка. Смысл слов стал сдвигаться. Был ли это просто чифирь или в турецкий чай было еще что-то подмешано? Я слушал, что мне говорят, я кивал головой и даже отвечал, но я сам находился в другом измерении, и в голове мерещилась совсем другая жизнь. Зачем тебе мечеть, синагога, университет? Ты уже в молельном доме. Мы покажем тебе, как танцуют дервиши и как кружится мысль тех, кто верит в перманентное движение как религиозный прием. Над крупноблочными домами нависало закатывающееся багровое солнце, и последний луч, преломившись крышами домов, пробившись сквозь ветки рододендрона, отразившись от чайной чашки, бил мне в левый глаз. Я отдавал себе отчет, что я в пригороде Стамбула с картиной светлого вечера перед моими глазами. Свет фонарей уже соревновался с тонущим на горизонте солнечным шаром, что создавало ощущение уличного праздника. Я помню такое же заходящее солнце над другими крышами, но не мог уточнить в памяти, была ли это Москва моего детства или Иерусалим моей юности. Свет перемещался по террасе, и я перемещался вместе со светом по моему прошлому. Я двигался со скоростью света заходящего солнца в загадочном направлении моей памяти. С заходящим солнцем в дом к Мехмету заходило все больше и больше народу. Их тюркские (а может быть, семитские) лица больше напоминали российские, чем такого же рода дефилирующая толпа в Англии. Соседи наполняли террасу и присаживались у стола. Они явно пользовались любым предлогом, чтобы поглазеть на меня. Стали появляться супружеские пары, одетые как будто для торжественной оказии, с несколько южной средиземноморской парадностью. Жены проходили в соседние комнаты, потом снова появлялись в платьях с декольте, обнаженными плечами и в шалях, как будто с фотографий прошлого века, но уже под руку с другим спутником — с другим мужчиной, не с тем, с кем они первоначально возникли на террасе. Они кружили по комнате, заглядывали друг другу в глаза с загадочной улыбкой и, как бы сочувствуя моему замешательству, улыбались и мне. Все, включая меня, оказались перед накрытым столом. Как будто от лучей заходящего солнца, на разных концах стола зажглись свечи без всякого, казалось бы, порядка, разрозненно; но, повернувшись к одному из Мехметов за столом и взглянув на всю картину в несколько ином ракурсе, я увидел, что свечи, стоявшие, казалось бы, раздельно, соединились в семь свечей — это был семисвечник.
На столе появились бокалы, явно с коктейлем, где каждая коктейльная соломинка увенчивалась старомодным бумажным колпачком-зонтиком как украшением. Бумажные зонтики в бокалах с коктейлями и в тарелках с закусками стали вырастать у меня на глазах и превратились в конусообразные туники дервишей. Они отделились от бокалов, проплыли у меня перед глазами и стали медленно кружиться на месте. В отсветах фонарей снаружи и свечей внутри стекольные рамы веранды соединились в одной перспективе с ветвями обнаженного дерева на улице, с его семью ветвями. Я помню острый запах жареной баранины, корицы, и вина, и горячего воска свечей. Гости менялись местами за столом, подсаживались ко мне и говорили со мной долго, нежно и убедительно, как родители с ребенком. Я пытался вникнуть в смысл того, что говорилось, но мой взгляд был обращен вовнутрь, меня ментально уже не было в этой комнате. Постепенно я начинал различать лица женщин, столпившихся вокруг меня. Это были женщины моей жизни, моего круга. Дорогие, милые лица. Они уже были не в вечерних платьях, а кто в чем, а кое-кто и вообще без всего; джинсы, свитера, майки, кожаные юбки, цветастые блузки и даже пончо. Они окружали меня, клали мне руки на плечи и обнимали меня со спины, усаживались мне на колени, что-то нашептывали, о чем-то болтали, смеялись и целовались небрежно. Я отдавал себе отчет в том, что в них была вся моя жизнь и вся жизнь моих друзей. Может, оттого мы так похожи друг на друга, как похожи супруги, прожившие долгие годы вместе? Общие любовницы делали похожими друг на друга их любовников. Так отличают людей одного племени от другого: по женщинам этого клана.
Я стал объяснять двум Мехметам, что все мы в России с самых малых детских лет ранены женской долей, и поэтому сейчас мне хотелось сойти на нет в революционной воле. Уходит с Запада душа — ей нечего там делать. И я пытаюсь переехать в Стамбул, а не в Константинополь. Ошеломительные мысли, сопоставления и цитаты из классики кружились у меня в голове, но постепенно во всем этом кружении я стал различать в дальнем углу одинокую фигуру: у нее были смелые глаза и сильный подбородок с ямочкой, она стояла с закушенной губой, как будто рассердившись на меня; она ждала, когда я поднимусь и подойду к ней, возьму ее за руку и уведу к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но я не мог подняться и приблизиться к ней, потому что находился в совершенно ином параллельном мире. Она тем не менее продолжала вглядываться в меня, и под этим взглядом стена, разделявшая нас, поддалась, и я упал, опрокинувшись спиной на диван. Он был покрыт белой простыней. Я приподнял простыню и увидел ее. Она протянула ко мне свои пустые ладони, предлагая некий неясный для меня дар. Мы стали долго целоваться, и я подцепил с ее губ одно страшно важное слово, которое тут же забыл. Я попытался вспомнить это слово, но мне это никак не удавалось, хотя я перебирал все слова, связанные у меня в памяти с ее губами. Я знал, что мне надо проснуться и тогда я вспомню это слово. Я потерял человека, которого любил. Я любил совершенно иного человека. И я эту любовь потерял. Или любовь потеряла меня, потому что это был не тот человек, которого я на самом деле любил, убежденный, что люблю другого. Вокруг крутился хоровод друзей и их жен, и несколько жен смотрели на меня так, как, мне казалось, не должны смотреть чужие жены. А может быть, это были не жены, а невесты пророка? Они звали меня в свой хоровод, но я знал, что не могу окончательно расстаться с собственным прошлым — и так далее, сами знаете: это было бы еще одной эмиграцией. Я же не Гейне и не Боб Дилан — переходить из еврейства в христианство и обратно каждые десять лет.
Я слышал, как некий голос звал меня, я вставал и шел к Меламиду — или это был Асаркан — и говорил: «Вот я, ты звал меня?» Но Меламид пожимал плечами и отрицал, что он меня звал. Возможно, меня звал призрак Асаркана? Или вовсе не Меламид и не Асаркан звали меня, а совершенно иной голос, призывающий меня к ответу? (Это был, конечно же, сон пророка Самуила, спутавшего голос Бога с голосом священника Илии, своего господина.) И этот голос я слишком долго игнорировал, поклонялся идолу дружбы, и в результате смотри, куда я завел себя в поисках квартиры. Стамбул гяуры нынче славят. Ко мне приблизились два ангела, или это были два раввина в меховых шапках с пейсами и в шелковых кафтанах? Нет, это были два султанских янычара в шальварах. У одного в руках был тюрбан. У другого — ермолка. Он надел на мою макушку ермолку и отошел на шаг, как это делают художники, чтобы увидеть, как эта ермолка сидит у меня на голове. В этот момент ко мне подошел другой раввин-янычар и надел поверх этой ермолки тюрбан. Оба стояли в утренней полутьме.
Я открыл глаза. Я увидел лица двух Мехметов. Они оба склонились над огромным книжным томом в полутемной опустевшей комнате, где высвечивался лишь экран компьютера. Их губы нашептывали одно, неясное для меня слово, звучащее как «машина» — machine, но воспринималось оно у меня в уме почему-то по-библейски. Я явно проспал на диване несколько часов, заботливо прикрытый пледом. Мне, естественно, послышалось ивритское «машиах» — мессия. Мехмет отвез меня в отель. Стамбул был погружен в предрассветную тьму, но свет уже начинал пробиваться намеками неясно откуда, как будто из щелей ночных железных жалюзи маленьких магазинов и баров. Над мечетью Айя-София кружили чайки. Почему над куполом мечети — чайки? Может быть, чайки путают мечеть с гигантским кораблем? Я вернулся к себе в отель часа в четыре утра. Раздеваясь и машинально роясь в карманах брюк, я обнаружил завалявшийся там случайно миниатюрный коктейльный зонтик. Повертев этот бумажный обрывок в руках, я различил на внутренней стороне отпечатанные буквы, похожие на марку фирмы-производителя: AMIRAH.
11
Я помню, что на следующий день я с похмелья едва мог поднять голову с подушки. Мои планы отыскать остров в Мраморном море, где Троцкий провел самые счастливые годы своего изгнания, в тот раз провалились. Я отдал дань памяти этому лжемессии марксизма лишь несколько лет спустя, во время визита в Стамбул с Меламидом. Поездка к дому Троцкого входила в список мероприятий нашего путешествия по Турции по следам Шабтая Цви. У каждого народа — свой мессия. Мы, конечно же, хотели увидеть этот дом пророка нашей коммунистической юности, нашей советской религии. Полицейскому Мехмету я на этот раз позвонить не решился. Я был смущен опытом предыдущей встречи. Но зато я столкнулся с его стамбульскими подопечными из криминального мира. Произошло это во время наших поисков: но не дешевых квартир на продажу, а дома Троцкого.
Исаак Дойчер в своей классической биографии Троцкого описывает его изгнание из сталинской России — на старом огромном пароходе «Ильич» по волнам Черного моря из Одессы в Стамбул — так, как будто на борту корабля с единственным пассажиром в сопровождении двух агентов ГПУ был не Троцкий, а Гамлет. Параллели тут прямые, потому что первые месяцы в Турции Троцкий находился под опекой российского посольства в Стамбуле. Сталин явно вместе с охранниками передал послу свои инструкции — как «нейтрализовать» Троцкого. Ведь официально Троцкий отправился за границу якобы «для поправки здоровья». Пока Троцкий не разобрался толком, в чем дело, он считал, что Сталин засылает его в ловушку — на растерзание «белой» эмиграции в Стамбуле. Не исключено, что Троцкий сумел выкрасть, как Гамлет, письмо с инструкциями Сталина и подменить его своей собственной версией сталинской эпистолы, и, таким образом, от его гэпэушников (как от Розенкранца с Гильденстерном) тут же избавились по прибытии в Стамбул. А сам Троцкий поселился в одном из самых прелестных уголков Турции. Не в Стамбуле, где было слишком много жертв его пророческих идей о перманентной революции, а на острове Бююкада в Мраморном море (час езды на пароме от Стамбула), где фешенебельные виллы окружены тенистыми рощами и дорогими рыбными ресторанами. Было нечто ироничное в том, что Троцкому предложили поселиться на острове, куда ссылали неугодных султану родственников-принцев. Здесь, в изгнании, скончался и князь Голицын, а до пятидесятых годов — то есть до эпохи стамбульских погромов — здесь жило много греков, армян и евреев (там есть даже синагога — прочел я в путеводителе).
На маршрутном пароходике из Стамбула к Принцевым островам в Мраморном море я задремал, и крики чаек, сопровождавших нас всю дорогу, мерещились мне реинкарнацией гэпэушников Троцкого еще и потому, что вокруг во сне звучала русская речь. Когда я открывал глаза, чайка стояла перед моим взором, как бы подвешенная в воздухе. Это оттого, что она двигалась практически с той же скоростью, что пароход-паром, застывая в полете, как будто на тормозах. Чайкам бросали куски хлеба какие-то российские туристы в майках, где было много английских слов из четырех букв — то есть ругательств. На английском их крайне ограниченное количество, но они бесконечно повторялись на этих российских майках с разными местоимениями. Рядом постоянно бубнил голос на английском с тяжелым восточным выговором. Это агент ресторанов с острова Бююкада раздавал свои визитки и уговаривал отобедать в его прибрежном заведении «Али-Баба». «My friend, don’t forget to visit Ali-Baba», — обращался он ко всем и к каждому. Человек честно отрабатывал свои деньги, потому что ресторан «Али-Баба» оказался действительно неплохим.
На небольшом отрезке набережной под полотняными навесами рыбных ресторанов за столиками с белыми скатертями сидели люди в белых костюмах и соломенных шляпах, потягивая белое вино, а едва тронутая вилкой белая рыба на блюдах стыдливо обнажала свой скелет. Мы нашли столик под тентом в тени прямо у моря, и, пока Меламиды и Нина увлекались сухим вином, я чудесно опохмелился араком и с удовольствием заел его рыбой дорадо — рыба оказалась суховатой, но вполне съедобной. Именно это отметили наши соседи за соседним столиком. Это была пакистанская супружеская пара из Лондона. Их тоже несколько разочаровал салат — слишком мелко, по-средиземноморски (или по-турецки) нашинкованный. Они тут же узнали во мне и Нине лондонцев, несмотря на наш акцент. (То есть географическое происхождение — из одной страны — сильней связывает, чем этническая разница.) Они вообще были в некотором дистрессе — накануне подростки на велосипедах вырвали у дамы сумку и укатили. Вполне возможно, это были те самые подростки, которые подросли с тех пор, как мы гнались за ними в полицейском джипе по трамвайным путям с кузеном Мехметом.
Было уже часа четыре, и поэтому спала жара. Сразу за поворотом от ресторана, на главной площади, стоял ностальгический запах конюшни — сена, овса, лошадиного навоза. Всю площадь занимала вереница повозок. Это были брички, прицепленные к кобылам. За каждой бричкой с навесом над головой сидел возница — такой гоголевский Селифан. Паром был допотопной, но крайне эффективной машиной времени: из шумного и нелепого мегаполиса индустриального туризма и сетевого шопинга современного Стамбула ты оказывался через час в прошлом веке. Тут не было автомобилей. Буквально. Тут можно было передвигаться только на лошадях или ослах. Мы сели в такую вот таратайку, запряженную парой хорошо откормленных лошадей. Медленно и плавно, в ритме вальса Штрауса, наша бричка с балдахином стала подниматься вверх по холму под размеренный цокот копыт мимо огромных особняков, спрятанных за старыми олеандрами и каштанами. Я знал адрес из путеводителя Lonely Planet по Турции: вилла Izzet Pasa Kosku, 55 Cankaya Caddesi.
Исаак Дойчер описывает гигантский дом этого диссидента довольно подробно. Один из просвещенных либералов той эпохи, излагая свои впечатления о визите к Троцкому, говорит о том, что за пару сотен долларов этот дом с садом можно было превратить в комфортабельную виллу. Но в отличие от эстета Шабтая Цви (тот превратил угрюмую тюрьму в Абидосе в шикарный дворец) Троцкий с семейством были пролетариями во всем, что касалось комфорта. Было пианино и, наверное, библиотека. Но анфилады комнат были превращены в отдельные офисы без всякой меблировки, весь дом стал похож на казарму или бюрократическое учреждение. Сад был заброшен и зарос сорняками. В бассейне стали разводить раков. Полы были покрашены такой дешевой краской, что спустя полгода к ним прилипали подошвы. В этом бытовом убожестве и наплевательстве на комфорт, в этой грязнотце вперемешку со стоицизмом было нечто от предков большевизма — российских нигилистов. Причем в деньгах недостатка не было. (За одну лишь сериализацию его «Истории русской революции» в американской прессе Троцкий получил сорок пять тысяч долларов — немыслимые деньги в 1932 году.) Все внимание и все средства шли на дело мировой революции и борьбу со Сталиным.
Извозчик сказал свое турецкое «тпру» кобылам, и наша карета на рессорах приостановилась. Большая часть возниц этих самых фиакров не имели никакого отношения к муниципалитету города, а тем более не были гидами по историческим вехам российской революции. Куда он нас привез, трудно сказать. Номера действительно соответствовали адресу в путеводителе. Были дома номер 54 и номер 56, а вот дома под номером 55, где жил Троцкий, в наличии не имелось. Ни на этой стороне улицы, ни на той. Был забор, гигантские акации, рододендроны, эвкалипты и фикусы, но дома Троцкого не было. В стране, где население склонно верить каким угодно конспиративным теориям, легко поверить слуху о том, что правительство скрыло этот дом от взора визитеров, чтобы не превратить его в место паломничества троцкистов, анархистов и всякой другой революционной нечисти. Дома Троцкого мы не обнаружили. Может быть, он в очередной раз сгорел?
Я решил, что мы должны на всякий случай сфотографироваться и рядом с домом номер 54, и с номером 56, и напротив тоже: чтобы по приезде в Лондон проконсультироваться со знатоками Стамбула и Троцкого. Этой фотографии не сохранилось. Потому что исчез фотоаппарат с этими кадрами. В двух шагах от нас стояли два подростка с велосипедами. Они усердно и добросовестно делали вид, что лижут мороженое. На самом деле было очевидно, что они разглядывают нас, как редких заморских птиц. Заметив в руках у меня дигитальный фотоаппарат (не слишком дешевый, но простой), один из них подкатил ко мне и предложил нас всех сфотографировать. Я, как идиот, передал ему фотоаппарат, и мы встали в торжественную позу для коллективного снимка перед потенциально возможным домом Троцкого — без Троцкого и, возможно, без его дома. И, как мне тут же стало ясно, без моего фотоаппарата. Фотоаппарат укатил вместе с подростками на велосипеде. Теперь я не сомневался, что это и были те самые подростки, за которыми гнались напарники стамбульского Мехмета: у меня было ощущение, что они ждали моего возвращения в Стамбул, не забыв, что я был одним из тех, кто гнался за ними несколько лет назад в полицейском джипе. Если только они не были уже новым поколением стамбульских похитителей на велосипедах.
Сразу стоит сообщить, что к тому времени лондонский Мехмет обанкротился. На жизнь в Лондоне средств не было, и ему пришлось переселиться (вместо меня) обратно в Стамбул. Ему удалось продать свою кебабную, расплатиться с долгами и еще урвать себе деньги на обратный билет к стамбульской супруге, с которой он так и не развелся. Его партнерша Тамара из Тбилиси была арестована и выслана из Англии как нелегальный иммигрант. Кто на нее донес, сказать трудно: скорей всего, бесконечные российские друзья, которых они бесплатно развлекали шашлыками. Но самое поразительное, что на месте бывшей кебабной Мехмета возникло заведение, где стали продавать fish-‛n’-chips, то есть (если выражаться на старорежимном русском) рыбу в панировке с картофелем-фри. Еще лет двадцать назад этот британский деликатес продавали в кульке из газеты. Самой популярной оберткой была газета Sun — не потому, что это самая реакционная, вульгарная, по-хамски запанибратская газета безо всякой политкорректности (на третьей странице — голая грудастая девица), — любимое чтиво полуграмотного населения. Нет, дело вовсе не в идеологии. Дело в том, что либеральная пресса вроде газеты Guardian — она страшно пачкалась, типографская краска смазывалась, а вот на страницах газеты Sun краска держалась. В наше время, впрочем, новое заведение с fish-‛n’-chips выдавало порции на вынос в элегантных коробках из легкого картона модных салатовых колеров. Никакой тебе идеологии, рассуждений о мужском шовинизме и расизме. Если не считать одного любопытного аспекта этого заведения — вполне революционного по своему кулинарному жанру: тут можно купить рыбу в панировке из мацы. Это заведение оказалось проеврейским, восстановив традицию израильского фалафеля — после временного режима турецкого шашлыка.
12
До встречи с Меламидами в Стамбуле я заехал в Батуми (где я по случаю был членом жюри на кинофестивале экспериментального кино). На пограничном контроле с Турцией в очереди стояли толпы с огромными чемоданами — безвизовый режим между Турцией и Грузией создавал идеальные условия для мелких торговцев и мешочников. В этом была своеобразная традиция. В Турцию через мусульманскую часть Грузии, Аджарию, двигались беженцы и после Второй мировой войны — те, кто, как «коллаборационисты», опасались репрессий со стороны советской власти. Среди них были и крымские татары.
Во время моих прогулок по Стамбулу, спускаясь от Башни Галата по одному из крутых переулков к набережной, я увидел вывеску с названием ресторана Galata House. Вывеска красовалась перед входом в обычный квартирный подъезд. Рядом, как полагается в ресторанах, было вывешено меню, где указывалось, что кухня эта — русско-татарская, что в Стамбуле меня, естественно, заинтересовало. Я долго жал кнопку звонка, и дверь наконец открыли. Перед входом меня встретила пожилая пара. Ресторан был совершенно пуст. Более того, помещение было похоже на частную квартиру. Точнее, на отдельный квартирный дом в три этажа. Был и дворик. Там любезные владельцы этого помещения указали мне на надпись на крышке канализационного люка. Это была явно лондонская фирма. Пожилая пара не могла больше скрывать от меня свой семейный секрет. Выяснилось, что этот дом — помещение бывшей британской тюрьмы прошлого века при британском консульстве. Султан даровал британской короне право сажать в кутузку британских подданных, нарушивших закон в Стамбуле: это была своего рода исламская шаария (самоуправление) в стамбульском варианте для британцев. Тюрьма давно закрылась, и сообразительный стамбульский архитектор Мете вовремя купил это помещение, а выйдя на пенсию, вместе со своей супругой Назирой превратил бывшую тюрьму в домашний ресторан-клуб. Здесь любят собираться стамбульские архитекторы. Мне дали рюмку водки, а Назира уселась за обшарпанное пианино. Разложила старые ноты, не по возрасту лихо вдарила по клавишам и вдруг запела: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». То есть звучало это не так четко, но фонетически близко.
Назира, оказывается, транскрибировала русские слова, которые ей напевала ее мать. Мать Назиры услышала эту песню по советскому радио. Родители Назиры — татары из Крыма. Отец был врачом и оставался на своем посту во время оккупации. Когда гитлеровцы отступали, он разумно решил, что и ему надо держаться подальше от ГПУ. Так он в конечном счете и оказался в Стамбуле, где Назира и родилась. Любовь к России и ностальгические мотивы достались ей, так сказать, по наследству. Как и меню в ее ресторане. Тут у меня с Назирой и возник пельменный конфликт. Я заглянул в меню и попросил к водке пельмени. Пельмени принесли. Они оказались с творогом. Я сказал, что пельменей с творогом не бывает. Если с творогом, то это не русские пельмени, а украинские вареники. Или итальянские равиоли (в районе Галата селились и итальянцы). Видимо, родители Назиры, учившие ее кулинарному наследию России, спутали свою тюркскую традицию (манты) с украинским влиянием в Крыму (вареники). Однако Назира, несмотря на убедительность моей аргументации, осталась при своем мнении. Неизменным, я не сомневаюсь, осталось и ее меню с творожными пельменями. В Стамбуле, как и в этих творожных пельменях, узнаешь Россию с другой начинкой.
Конечно же, говоря о Турции, неизбежно возвращаешься в Россию (и к началу моего рассказа), к свидетельствам влияния Турции на Россию: и в двойственном отношении к Европе, и в традициях администрирования, и даже в одежде, в головных уборах. Российские кокошники и царские высоченные шапки с оторочкой — это, конечно же, вариант тюрбана с примесью татарщины. А если взглянуть на турецких теток в платках на завалинке в турецкой глуши, как тут не узнать наших деревенских бабусь? Мы валяемся на оттоманке, пьем напиток, чье китайское название мы делим с турками — чай, и плюем в потолок косточками вишни — тоже турецкое слово; и даже тюльпаны впервые стали выращивать в Турции (а не в Голландии), тюльпан — это национальный турецкий символ, откуда и пошла форма (и лингвистические корни) тюрбана. Даже железобетонный облик городских улиц пятидесятых-шестидесятых годов, подземных переходов и гигантских площадей Стамбула напоминает советскую застройку Москвы (Турция до сих пор главный экспортер цемента в мире).
Все это так. Но есть и другой Стамбул, избегающий всяких историографических параллелей, уходящий к самому себе по кривой, петляя, и возвращаясь, и снова петляя. Через лабиринт улочек я спустился от ресторана с творожными пельменями к набережной, в рабочий район со складами, лавками и магазинчиками, где продавались строительные материалы, инструменты и краска. Пахло масляной краской, как в годы моей учебы в художественной школе на Красной Пресне. Фасады красильных лавок были выкрашены собственной продукцией на продажу и выглядели как гигантские полотна американских абстрактных экспрессионистов. На набережной было простое кафе, где давали, конечно же, турецкий чай в маленьких стаканчиках, багрового цвета и портвейной крепости. Тут никто не спрашивал меня, кто мои предки и откуда я. В этот теплый октябрьский день после первых осенних дождей от земли и от травы под ногами исходил запах весны. По Золотому Рогу к Босфору, как белые облака в перевернутом небе, скользили парусники и пароходики — они выходили в Средиземное море, в другие страны, за границу.
13
Крайне соблазнительно предположить, несколько спекулятивно, что Ататюрк предоставил политическое убежище Троцкому не только по каким-то глобальным политическим соображениям (не мне об этом судить). Вполне вероятно, Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк) симпатизировал революционному деятелю, который, как и сам Ататюрк, расправился с самодержавием и церковностью. Кроме того, Троцкий по рождению был все-таки Бронштейн, а у Ататюрка были любопытные отношения с еврейством, и в первую очередь с саббатианцами. Они были активными участниками движения младотурок с начала двадцатого столетия и вместе с Ататюрком добились свержения происламски настроенного султана Абдулхамида, сражались в военных действиях в процессе образования Турецкой республики Ататюрка и вошли в правительство вновь созданного государства.
Репутация дёнме как идеологических подпольщиков хотя и не оправдана фактами, но вполне предугадывается. Поскольку пафос учения Шабтая Цви — в разрыве с талмудическим иудаизмом, с ритуально-бюрократическим аппаратом религии, против диктатуры раввината — за возвращение к мистическим откровениям Библии без посредников (в том смысле, в каком протестанты боролись с папством), дёнме демонстративно нарушали религиозные табу — скажем, законы кошерности в пище, ритуальные установки в брачных отношениях, в праздновании священных дат и в духовной субординации. Поскольку учение этих последователей Шабтая Цви включало и Каббалу, и одновременно суфизм, они молились в своих (зачастую домашних) мечетях. На протяжении столетий дёнме заключали браки главным образом лишь между собой. Тот, кто держится в стороне (и одевается во все европейское), вызывает подозрение. На подозрении и у ортодоксальных евреев, и у правоверных мусульман, саббатианцы стали, вполне естественно, первыми в Османской империи, кто принял с энтузиазмом эпоху Просвещения. Люди с международными связями, саббатианцы были европейцами-космополитами в одежде, манерах и образовании, оставаясь при этом мистиками-мусульманами. В конце XIX века они заложили основание целой сети школ (секулярного, нерелигиозного характера), где дети получали систематическое европейское образование. Одну из этих школ в Салониках заканчивал Мустафа Кемаль-паша — будущий Ататюрк. Поскольку дёнме видели в будущей турецкой республике Ататюрка расширение связей с Европой, они приняли активное участие в движении младотурок. Отсюда — неизбежные для турецких националистов параноидальные теории о том, что государство Ататюрка с его антиисламскими тенденциями было еврейским заговором. До сих пор ходят слухи о том, что и сам Ататюрк — родом из Салоник — был саббатианцем.
Прототипом же всех лжемессий, пытающихся захватить политическую власть, был в христианском мире, конечно же, Симон Волхв — Simon magus (из книги «Деяний святых апостолов»): он пытался за деньги перекупить апостольский статус у Петра. Его считают родоначальником гностицизма, в ходе своих скитаний он объявил себя Богом в трех христианских ипостасях — на разных этапах своей жизни. Этот самый Саймон Магус — Симон Волхв — стал героем фильма англичанина Бена Хопкинса — моего консультанта по Стамбулу и Шабтаю Цви в Турции. С Беном я знаком через свою дочь (они учились в одном колледже в Оксфорде), и меня поразило, насколько актуальна фигура, подобная Саймону Магусу, для человека поколения Бена. Не только потому, что, скажем, евангелическая литература — от США до России — переполнена апокалиптическими видениями. Бена, по его словам, всегда занимали неуверенные в себе пророки, раскаивающиеся в собственных пророчествах. Что же пророческого мог бы сообщить нам Мессия в наш скептический век? Кто бы слушал его, повторяющего с пеной на губах банальности о конце света, о глобальном потеплении и угрозе ядерной катастрофы? Но может быть, в природе истинных мессий — их непредсказуемость: и в словах, и во внешности, и в образе жизни. Их речь нам недоступна (непереводима), потому что они вещают о мире, нам пока совершенно неведомом. Мессией, как известно из Библии, может оказаться кто угодно. Поэтому, согласно талмудическим интерпретациям, мессию вообще могут не заметить. Своего Саймона Магуса Бен Хопкинс перенес на кинокрыльях из Иерусалима в хасидскую Польшу восемнадцатого столетия, хотя снимался фильм в Уэльсе. Этот историографический и религиозный эклектизм — как бы в природе характера самого Бена. Лондонец Бен закончил Оксфорд по германской литературе, но осел в Стамбуле, приехав сюда на кинофестиваль. За четыре года он выучил турецкий как родной (его новая жена — турчанка), хотя поселиться в конечном счете собирается все-таки в Берлине, где у него тоже квартира. Идея «нормальной» жизни в родной стране (Великобритании) вызывает у него инстинктивный ужас.
Я этого страха не разделяю. Я не знаю, откуда у пушкинского Онегина возникла «охота к перемене мест». Я точно знаю, что во мне все еще живет давно укоренившийся страх перед переменами — географическими, душевными, литературными. (Самого Пушкина дальше Турции, кстати, и не пустили: вступив на турецкую почву, он уже радовался, считая, что сделал шаг в свободный мир.) Может быть, мой отъезд из России в семидесятые годы прошлого века (тогда казалось, без возврата) этот страх в конечном счете лишь усилил. Это страх перед пересечением границ, перед проверкой паспортов — и не только гражданского подданства, но и своей душевной прописки. Это страх, внушенный с детства в стране, где понимание цельности — это постоянство и однозначность: этнографическая, партийная или — в наши дни — религиозная лояльность тому или иному племени людей.
Мы с Меламидом и всей компанией встретились с Беном в его любимом ресторане Babilon, где отпробовали легендарное стамбульское блюдо из потрохов. Жена Бена Хопкинса, Чейлан (Ceylan Ünal), не смогла к нам присоединиться — была занята на съемках. В стамбульской телестудии, где она сотрудничает, в этом году снимался телесериал, где фигурирует зловещая секта оборотней, угрожающая турецкой нации. Нетрудно догадаться, что под этими лицемерами, агентами враждебных сил, нужно подразумевать секту дёнме. Бен считает, что атмосфера паранойи всегда торжествовала в Турции. Миф о подпольной психологии, подрывной философии и скрытности дёнме — вполне в духе разговоров о заговорах в стране и за границей. Националисты не сомневаются в планах Америки и Великобритании по развалу Турции. Правые уверены, что страна инфильтрирована бывшими коммунистами и агентами КГБ из России. Левые видят в правительстве нынешнего премьер-министра Эрдогана заговор фашиствующих исламистов. В то время как сам Эрдоган видит в армейских офицерах (армия была элитой при Ататюрке и, парадоксально, защитником гражданских свобод, настаивая на отделении религии от государства) антиправительственных заговорщиков. Тюрбан турецкие мусульмане давно не носят. И даже феска в публичных местах была поставлена вне закона Ататюрком точно так же, как никаб (то есть паранджа, закрывающая все лицо, кроме глаз) в наши дни французским правительством. Но мусульманский платок снова входит в моду на улицах Стамбула. И саббатианцев снова записывают в злодеев турецкой истории, поскольку этнический национализм в современной Турции вытесняет то, что считалось либерализмом — или безразличием к происхождению подданных — у султанов Османской империи.
И как только у турецкого правительства начинается конфликт с Израилем, турки снова вспоминают козни и интриги двурушников-саббатианцев. Современная версия сионизма, собственно, и зародилась в Турции с Шабтаем Цви. Победное возвращение иудеев на Сион — лозунг в арсенале всех мессиански настроенных пророков, от библейских текстов до воззваний Теодора Герцля. Мы забываем, что без турецкой визы, так сказать, возвращение на Сион для Теодора Герцля было бы немыслимо. Он несколько раз приезжал в Стамбул на аудиенцию с султаном Абдулхамидом — последним в истории Османской империи — и предлагал султану расплатиться с его долгами взамен на сионистский проект. Откуда он собирался достать на это деньги, трудно сказать. Сама же идея современного сионизма — политизация библейской идеи о возвращении иудеев в Землю обетованную — коренится, конечно же, в апокалиптических мессианских видениях Шабтая Цви, подхваченных впоследствии и польскими хасидами, и, в наше время, Любавическим ребе. Шабтай Цви обвинялся султаном в первую очередь в том, что он вел пропаганду по отпадению территорий Палестины от Османской империи, когда на Сион вернутся иудеи. Именно это крайне не нравилось султану.
Не нравился этот сионизм и османским евреям. Но обращение Шабтая Цви в мусульманство раскололо еврейский мир раз и навсегда, и открытая вражда длилась с 1666 года не меньше трех столетий — чуть ли не до вольных свингующих шестидесятых двадцатого века. Лучшее свидетельство тому — экспозиция еврейского музея в Стамбуле.
Судя по карте, музей располагался в путанице переулков в стороне от моста Галата — через Золотой Рог, то есть в самом коммерческом сердце Стамбула. Но найти его не так-то просто, не столько из-за географической путаницы, а из-за того, что у тупика, в конце которого и находится вход в музей, вообще нет названия. Да и у самого музея нет толковой вывески. Прежде всего видишь будку охранника. Этого охранника, по-моему, вместе с довольно угрожающей стальной аркой проверки багажа (мощнее, чем в аэропорту), где тебя просвечивают всеми возможными лучами, и следовало бы сделать главными экспонатами музея. Внутри, кроме репродукций старых фотографий и фотокопий газетных вырезок, ну еще и пары манекенов в еврейских нарядах, смотреть не на что. Сама история пребывания евреев в Турции довольно скучновата своими счастливыми концовками. Кроме, пожалуй, тяжелых налогов (ну а кто эту мзду не платил? все платили!), евреям не в чем упрекнуть турок. Наоборот, турки спасали евреев в самые критические моменты еврейской истории. Именно в Турцию двинулись евреи из-за преследования испанской инквизиции. Именно в Турцию бежали они от погромов Богдана Хмельницкого, пока запорожские казаки сочиняли свой похабный ответ турецкому султану. Во время Второй мировой войны Турция соблюдала нейтралитет (сводя счеты с британской короной), но зато принимала беженцев-евреев из Германии (среди них около сотни крупных имен в науке). Да и вообще, если верить Артуру Кестлеру (а нет никаких оснований ему не верить), все восточноевропейское еврейство пошло не от библейских иудеев, а от хазар, чья аристократия приняла иудаизм как религию своего Хазарского каганата между Черным и Каспийским морями. Хазары же этнически были, как известно, тюрками. Но евреи появились в этой части света еще до всяких хазар — вместе с римлянами. Все эти упоминания можно разыскать на стендах еврейского музея в помещении бывшей синагоги.
Единственный период, который совершенно не упоминается в этой музейной хронике, — с 1626 по 1676 год. Этих лет как будто не было в истории турецких евреев. Это — годы жизни Шабтая Цви. Полный пробел. Ортодоксальное еврейство воспринимало (и до сих пор воспринимает) историю с Шабтаем Цви как позорное пятно. Еврейство относилось к евреям-мусульманам с такой же подозрительностью, с какой к ним относились турки-националисты: те считали, что дёнме скрывают ермолку под тюрбаном. Но для ортодоксальных евреев саббатианцы были не только богохульниками иудаизма, но еще и тайными (или неосознанными) проповедниками христианской ереси.
14
В первую очередь, однако, именно ортодоксальные раввины сами следовали (сознательно или нет) христианскому мифу: Шабтай Цви был арестован по доносу стамбульских иудеев за богохульство (султан заботился об уважении к религии своих подданных) и посажен в крепость на полуострове Галлиполи. Крепость в Абидосе упоминается у Овида, и от Абидоса час езды до мифической Трои. Среди развалин и монументов Галлиполи руины Трои играют лишь символическую роль в истории о Шабтае Цви: его считали троянским конем, пытавшимся изнутри подорвать ислам. Троянским конем еврейского происхождения. Сейчас Троя — это несколько холмиков, аккуратно пронумерованных табличками для туристов. Но место безлюдное, с камнем и песком, с колючками и репейником. Берег каменист и негостеприимен. История — это в своем роде география кладбищ. Завоеватели очередного куска земного шара уничтожают монументы и кладбища своих побежденных предшественников, населявших эти места. Наше путешествие с Меламидом было отчасти передвижением с одного кладбища на другое. Именно по этой причине я не большой любитель путешествий в поисках корней, предков и исторических вех: постоянно наталкиваешься на кладбищенские руины, которые надо созерцать с постным лицом, наморщенным от раздумья.
Здесь в Первую мировую в результате безумных амбиций и загадочной военной стратегии Черчилля погибли тысячи британских солдат. Как будто психогеография Трои с древнегреческой мифологией массового членовредительства и мясорубкой сражений из-за обладания мистической Еленой вызвала затмение умов премьер-министров и начальников генерального штаба в современную эпоху. В нашу эпоху иронического рационализма Запада мы забываем, какую важную роль играла религия в европейской политике еще полтора века назад. Бойне, которую спланировал кабинет Черчилля, предшествовала Крымская война (1853–1856), которая началась, по сути дела, из-за спора о том, кто будет контролировать христианские святыни и общины греко-православной церкви в Османской империи. Это был век патриотизма, идеализма и религиозности, но кровь за эти идеалы проливалась не теми, кто идеалы проповедовал.
Раненых британских солдат, истекающих кровью, безногих, безруких, в лихорадке и бреду, свозили по морю на баржах без коек и носилок с поля боя в Балаклаве в госпитальные армейские бараки в Скутари, под Стамбулом — на азиатской стороне Босфора (Турция была союзницей британцев в войне против России). Их сваливали там, как объедки пушечного мяса: в зловонных душных бараках не было ни света, ни горячей воды, сточные канавы и ямы вместо уборных, считаное число санитаров с одним военным доктором на тысячу раненых, не хватало ни бинтов, ни простыней. Умирал буквально каждый второй.
Каждая катастрофа порождает готовность к самопожертвованию. Флоренс Найтингейл не выходила на площадь с антивоенными плакатами. Она сама отправилась в Скутари. С детства она была одержима двумя теологическими идеями. Первая — ахматовская, так сказать: «Мне голос был», и вторая мысль — цветаевская: «А я живу — и это страшный грех». Она, правда, не знала, какое божественное задание ей предназначено осуществить, как и не могла понять, в чем, собственно, страшный грех земного существования. Эти две загадки были разрешены, когда она прибыла в Скутари. Через два года она превратила эти зловонные военные бараки в Скутари в образцовую больницу со светлыми окнами, канализацией, горячей водой и трехразовым питанием. Смертность снизилась до двух процентов.
На нее молились. В Гайд-парке до нее старались тайно дотронуться дамы — как до святой. Ее знаменитая лондонская статуя со светильником (она обходила раненых в Скутари с лампой во время ночных дежурств) — это иконография британской истории. Ирония (или, если хотите, трагедия) жизни Флоренс Найтингейл в том, что после подвигов в Скутари она прожила еще пять десятков лет. Из них большую часть времени она не вставала с постели — это была жизнь инвалида. Она, с ее одержимостью в заботах о больных и немощных, постепенно превращалась в самопародию.
15
Трудно сказать, мог ли Шабтай Цви предвидеть, что место его тюремного заключения станет площадкой для актов самопожертвования в духе мессианского христианства. Но он явно обладал даром превращать все места своего пребывания в нечто уникальное. Тюрьма в Абидосе, на берегу Дарданелл, куда он был привезен после ареста по доносу ортодоксальных раввинов, это довольно мрачная крепость с коренастыми византийскими башнями. Но через несколько дней это неказистое угрюмое здание стало местом паломничества его последователей, обожателей и фанатов с дарами и яствами; они верили, что во время встречи Мессии с султаном божественная длань Шабтая Цви примет из рук Мехмета IV жезл земной власти. (Мусульманский тюрбан все-таки не жезл, хотя и сулил земную власть.) Крепостная тюрьма была превращена во дворец благодаря щедрым пожертвованиям визитеров со всех концов мира — от Ближнего Востока до Европы. Местная администрация и стража были подкуплены верноподданными новоявленного Мессии. Место это стало обрастать слухами. И в первую очередь, как всегда, про девиц вольного и невольного поведения. Бородатые раввины-мудрецы приводили сюда своих дочерей, чтобы Шабтай лишил их девственности. (Впрочем, Шабтай хвастался, что разработал магическую технику совокупления, не лишая дев их невинности.) Пиршества не прекращались. Танцы переходили, естественно, в оргии. Соседи жаловались на слишком громкую музыку после полуночи. Во дворец султану стали поступать доносы.
Трудно поверить, что оргии среди саббатианцев — это чистые вымыслы их врагов и клеветников. Вполне кропотливые исследователи саббатианства, от Гершома Шолема до современного историка Ченгиза Сисмана (Cengiz Sisman), подтверждают подлинность свидетельств об оргиастических ритуалах среди некоторых групп этого мессианского движения. Среди них упоминается дата 22 адара (то есть в середине марта), когда супружеские пары собираются на важнейший праздник саббатианцев, так называемый «Праздник Агнца». Во время торжественного ужина главное блюдо — ягненок (за день до этого запрещается есть баранину). Ужин сопровождается песнопениями и возлияниями. Вкушение мяса ягненка — это своего рода евхаристия, причастие через облатку к телу Шабтая Цви. Сексуальное единение всех присутствующих становится в этом смысле слиянием в единое тело с Мессией. Под конец ужина гасятся свечи и пары начинают обмениваться женами. Дети, зачатые в эту ночь, считаются ритуально освященными как потенциальные мессии в будущем (отсюда следует, что мессия — вовсе не обязательно единственный на всю историю). Один из самых радикальных последователей Шабтая Цви в восемнадцатом веке, лидер одной из сект дёнме, Дервиш Эфенди (Derwish Efendi), ввел концепцию коллективного брака, согласно которой жены должны быть общими. Он практиковал и сексуальное гостеприимство: гость в его доме мог спать и с его женой, и с его дочерями.
Конечно, тут играла роль замкнутость, закрытость некоторых саббатианских кругов от враждебного вульгарного внешнего мира: со своими надежнее, так сказать. Но оргия как ритуал — в той или иной форме — чуть ли не обязательный аспект всякого сектантства, поскольку сама идея секты связана с той или иной концепцией коллективизма, растворения индивидуального «я» в общинной телесности, будь то саббатеи или большевики, для которых, согласно Ленину, акт совокупления — как выпить стакан воды. Тут речь шла не об эротике — во всяком случае, не о сексуальной эротике. Советская элита — особенно элита партийная — обменивалась женами, как будто это был коллективный обмен душами, кусками собственной жизни, генетического и духовного опыта. Бывшие жены, несомненно, рассказывали о своих бывших мужьях новым спутникам жизни. И таким образом возникла некая общинность, племенное сродство вне зависимости от социального статуса: Бабель спал с супругой палача Ежова, а Маяковский — с женой Брика, официального информатора НКВД.
Нам хорошо знакома эта общинная, душноватая, почти насильственная близость среди «наших». Те, для кого самое главное — быть среди своих, не могли остановиться в своем преодолении границ интимности одними лишь разговорами и молитвами. История личных отношений среди экспатриантов, иммигрантских общин, всех этих кланов и религиозных сект — это история внебрачных связей, обмена женами, любовницами, почти открытого инцеста и классических романов детей с друзьями родительского дома. Конечно, среди российских эмигрантов не менее интенсивны были разногласия идеологические, но история двух «Натали» в жизни Герцена говорит о многом. Его близость, почти гомосексуальная, с Гервегом и была стимулом для его жены Натали открыть для себя благодаря Гервегу тайные радости слияния души и тела в сексе; не успел Герцен оправиться от предательства друга, измены жены и ее трагической кончины, как он — естественно, по воле свыше — увел у своего друга Огарева его любвеобильную жену Натали. Та, судя по признаниям Герцена, не способна была испытывать никаких эмоций, кроме как через сексуальные эскапады. Эта история повторяется во всех дружеских кланах, кружках и конгрегациях во всех странах мира и в любую эпоху — от лондонского круга Блумсбери до хорошо знакомых мне диссидентских кругов Москвы шестидесятых годов. Тут знали одних и тех же женщин. Я совершенно не собираюсь употребить слово «делили». Тут любили одних и тех же женщин, потому что любили друг друга, а не внешний мир.
То есть этот душевный и телесный инцест подстегивается — чуть ли не как необходимым элементом — враждебностью внешнего мира. Скучивание невозможно без присутствия реального или выдуманного внешнего врага «всех нас». В истории саббатианства таким врагом стал Богдан Хмельницкий. Судьбы Шабтая Цви и его мессианства оказались завязанными в польской истории не только через апокалиптические настроения, связанные с погромами в Украине и Польше, но и через его первую жену Сару. В хрониках этой эпохи осталось несколько противоречивых, мягко говоря, версий о характере и амбициях этой женщины. Сходятся все эти версии на том, что она осталась сиротой во время погромов Хмельницкого.
16
Я не собираюсь преуменьшать катастрофичность для еврейства погромов Хмельницкого. Но мотивировки этих страшных событий, ключевых для той эпохи, парадоксальным образом завязаны в чисто личных склоках и любовных интригах местного характера. Во-первых, сама личность Зиновия Хмельницкого (Богдан — это скорее прозвище; имя «богом данный», полученное им уже позже, в знак признания его роли в истории Украины). Он был человеком образованным; кроме родного языка знал латынь, польский, французский, а позже и турецкий; прекрасно владел ораторским искусством и риторикой. Конфликт между Украиной и Польшей, как утверждают некоторые свидетельства современников, начался из-за того, что Хмельницкий увел у своего приятеля, поляка Чаплинского (местного старосты), любовницу, православную (по другим сведениям, она и раньше жила у Хмельницкого в качестве няньки при детях). Чаплинский сумел разными интригами отобрать у Хмельницкого коня, а потом попытался прибрать к рукам и всю усадьбу Хмельницкого. Не найдя защиты в местном уряде, Хмельницкий отправился в Варшаву и получил от короля привилегию на потомственное владение поместьем в качестве шляхтича. Не обращая внимания на королевскую привилегию, Чаплинский решил расправиться самосудом: напал на поместье, занял там пасеку и гумно, зажег мельницу и захватил любовницу Хмельницкого, с которою и обвенчался, по-видимому, с ее согласия, обратив ее предварительно в католическую веру. Хмельницкий снова отправился в Варшаву жаловаться на Чаплинского сейму, но ничего не добился, тем более что Чаплинский предъявил иск по обвинению Хмельницкого в государственной измене. Эти обвинения, по сути дела несостоятельные, были отчасти подтверждены доносом на Хмельницкого со стороны его сослуживца. Хмельницкому наносили визиты послы от крымского хана, турецкого султана, молдавского господаря, семиградского князя и даже от московского царя Алексея Михайловича с предложением дружбы.
Я не буду ручаться за достоверность этих хроник и личных свидетельств о жизни и деятельности Хмельницкого. Ясно лишь одно: если в личном конфликте с польскими властями сам Хмельницкий многие месяцы вел себя дипломатом, составителем официальных жалоб, то украинское население, возбужденное его бунтом, устроило жесточайшую и невероятную по своим масштабам резню панов и вообще католиков; большинство отрядов и шаек действовало при этом на свой страх и риск, по собственной инициативе, лишь прикрываясь именем Хмельницкого. Так или иначе, то, что на первом этапе выглядело как личная ссора двух друзей в любовном треугольнике, закончилось дикой расправой, грабежом и массовым убийством евреев, которых бунтовщики считали союзниками поляков.
В этих погромах погибли родители Сары. Сироту удочерил польский дворянин и крестил ее в католичество, но она (и тут версии разнятся) не хотела выходить замуж за сына своего благодетеля или же за его друга, польского аристократа. По еще одной версии, ее отсылали в монастырь. В ночь накануне этого рокового события (замужество или монастырь) она молилась у могилы своего отца, и ангел закутал ее в священный пергамент с каббалистическими знаками (вроде бы в таком пергаментном одеянии расхаживали в Эдемском саду Адам и Ева) и перенес ее в Амстердам. Или же, согласно другой версии, к ней явился призрак отца, поднял ее к небу и опустил ее на землю в Европе. Она якобы демонстрировала своим любовникам следы от отцовских ногтей у себя на плече. Так или иначе, она попала из Польши в Амстердам. Именно там, скорее всего, она и услышала о Шабтае Цви: слухи о новоявленном Мессии докатились даже до Спинозы.
К тому моменту сам Спиноза, как и Шабтай Цви, был предан остракизму, анафеме, отлучен от еврейской общины амстердамским раввинатом. Документ этого отлучения звучит жутковато. Преданный анафеме Спиноза «проклят днем и проклят ночью; проклят, когда он ложится, и проклят, когда встает; проклят, когда входит в дом, и проклят, когда выходит из дома… Никому не разрешено общаться с ним устно или письменно, отдавать ему какие-либо знаки уважения, находиться с ним под одной крышей или на расстоянии ближе чем четыре шага, читать что-либо сочиненное или написанное им…» Неудивительно, что Спиноза в конце концов перебрался в Гаагу, где ему и был посмертно установлен памятник. Этот квартал — один из двух районов красных фонарей в Гааге. В другом районе Комар и Меламид установили свой памятник: но не Спинозе, а Сталину. Мы вместе (не со Спинозой и Сталиным, а с Комаром и Меламидом) выпивали в тот год в Гааге можжевеловку «янивер», закусывая, как это полагается, голландской селедкой свежего засола.
Я заехал к ним, моим старым друзьям, из Амстердама, куда я попал в связи с публикацией на голландском моей короткой повести «Эдипов Сталин». Инсталляция Комара и Меламида представляла собой телефонную будку прямо напротив домов с окнами без занавесок: в каждом окне прихорашивалась в ожидании клиента очередная девица на продажу; изнутри телефонной будки на нее смотрел бюст Сталина. Алик (Меламид) и Виталик (Комар) объяснили мне, что Красная площадь — это все тот же район красных фонарей в виде алых кремлевских звезд, освещающих подходы к блядям из «Националя» неподалеку. Если вспомнить при этом ночные звонки Сталина по телефону, сразу станет ясно, что бюсту Сталина без телефонной будки не обойтись в районе красных фонарей. В этом мире эротического сталинизма, где всегда играли на низких человеческих инстинктах, телефонная будка напоминает еще и гроб со стеклянной крышкой, поставленный на попа. А голландскую селедку Сталину поставляли даже во время войны.
Сталина давно нет, телефонная будка Комара и Меламида переместилась в музей, но самая древняя профессия до сих пор процветает и в Гааге, и в Амстердаме. С Амстердама началось бродяжничество будущей супруги Шабтая по Европе. Она обитала в подозрительных приютах, где обслуживала постояльцев, занималась, по слухам, проституцией в Ливорно и там заявила во всеуслышание, что станет женой еврейского Мессии. Можно себе представить, какую репутацию она создала себе в глазах правоверных ортодоксальных евреев. Говорят, она была невероятно хороша собой, не блистала интеллектом, но могла соблазнить кого угодно. Так она оказалась в Каире, где в тот момент находился Шабтай Цви. После многих дней и ночей, проведенных в общении с Шабтаем Цви, Натан из Газы объявил Шабтая Мессией. С тех пор Натан с Шабтаем не разлучались, и Шабтай оставался его сильнейшей привязанностью всю жизнь. Не разлучались они и с Сарой до конца дней, что породило массу интригующих слухов об этой троице. Но больше ничто не смущало Шабтая в его состояниях пророческого озарения.
17
В ритуалах общения среди саббатианцев, как и в других религиозных диссидентских сектах, был еще и аспект сознательной трансгрессии. Натан из Газы, глашатай саббатианства, провозгласил в своих первых каббалистических трактатах о Шабтае Цви, что «все запретное для него разрешено». Это было целенаправленное разрушение талмудического ритуального иудаизма и полный пересмотр законов Моисея. Как бы ни поступал Шабтай, все подтверждало теории Натана о мессианской сущности этого раввина из Измира и его «озарений». Это была некая версия каббалистического дионисизма. Тут не место излагать основы Каббалы, но согласно той из ее версий, которой придерживался Натан из Газы, Бог — это бесконечный свет, предстающий в созданной им Вселенной как серия ментальных сфер — градаций сознания. Материальный мир, представленный низшими сферами сознания, вбирается, абсорбируется в высшие сферы мессианскими усилиями иудейских мудрецов. В этом процессе искры божьи иногда не улавливаются и падают в бездну, их нужно извлечь из тьмы и снова вернуть в высшие эшелоны сознания. Сделать это может только Мессия, способный пасть как угодно низко во имя спасения этих потерявшихся духовных искр — из бездны, так сказать, к звездам, чтобы приблизить день торжества Господня.
Совершенно ясно, что в этом понимании святости, какой бы низкий поступок ни совершил Шабтай Цви с точки зрения общепринятой морали, он делал это во имя блага всего человечества (еврейства в первую очередь). В парадоксальности и противоречивости постулатов и ритуалов саббатианцев, как и в самой поэтике отношений между Шабтаем Цви и Натаном из Газы, ощущается влияние суфизма, сыгравшего в исламе ту же роль оппозиции к церковности и клерикализму, какую сыграли лютеранство в христианском мире или хасидизм в иудаизме. Саббатианцы были связаны со школой дервишей-суфи из школы Мевлеви. В секулярном, отделенном от религии государстве Ататюрка, в Турецкой республике, крутящиеся, вертящиеся дервиши превратились в конце концов в туристское развлечение. Неподалеку от башни Галата в Стамбуле я посетил одно из таких туристских мест, где периодически выступают вертящиеся дервиши — с таким же успехом тут могли бы выступать танцующие хасиды из Подолии (в свое время завоеванной турками), явно перенявшие эту традицию у дёнме. Я воображал, что увижу нечто приближающееся к диониссийскому экстазу — исламской версии хасидских плясок под водку, с нарастающим ритмом, до исступления.
То, что я увидел, напоминало скорее некое коллективное балетное действо. Это было действительно кружение, и ритм тут нарастал, но от этого не увеличивалось ощущение анархического освобождения, как у хасидов — как бы вытанцовывание всего темного, накопившегося у тебя в душе, избавление от ярма повседневности в исступленном танце. Танец дервишей — это балетное кружение, элегантное и строгое, концентрирующееся вокруг невидимого центра. У тебя начинает кружиться голова от этой карусели, когда белые халаты дервишей поднимаются и раскрываются в этом кружении, как зонтики, и на этих зонтиках кружащиеся дервиши как будто преодолевают силу тяготения и подымаются в воздух. Но эффект ослаблялся, естественно, музейностью сценической площадки этого действа — когда-то в прошлом реальной суфийской обители (завия), где располагалась школа суфистов-дервишей. И все же поразительно, как сохраняется характер района, улиц, домов в зависимости от изначальной древней традиции, связанной с этим местом. Эта суфийская школа крутящихся дервишей трансформировалась в наше время в виде серии современных магазинов музыкальных инструментов — электронных фортепиано и гитар — на той же улице Стамбула. Такое ощущение, что ты бродишь среди огромного оркестра перед концертом, когда музыканты настраивают свои инструменты.
Школа Мевлеви была основана персом, легендарным поэтом Руми (XIII век). Этот поэт в свое время заинтриговал меня своей апологетикой душевной раздвоенности, я бы сказал — мультирасщепленности; он видел в этом залог созидательности, творческого начала во Вселенной. В нем жила и саббатианская идея мистической неудачи, отказа от достигнутого, провала как залога победы. В центре всей поэзии Руми — эмоциональная диалектика и метафизика его отношений со своим вторым «я» — дервишем по имени Шамс. Когда они стали любовниками, Шамс был злодейски убит ревнителями традиционных семейных традиций (то есть, как их назвали бы в наше время, гомофобами). Шабтай Цви, несомненно, знал судьбу поэта, и характер его связи с Натаном из Газы не вызывает сомнений.
В саббатианском движении, при всей их склонности не афишировать среди мусульман некоторую странность своих религиозных ритуалов, было нечто театральное. Сам Шабтай в состоянии «озарения» обожал бродить от синагоги к синагоге, из города в город, обсуждая каббалистические доктрины и распевая псалмы. Судя по хроникам той эпохи, его пение завораживало. Он был красавцем и бродячим певцом — роль, не слишком отличающаяся от современных поп-звезд с политическими амбициями. Но и в политике Шабтай Цви не был подпольщиком: то, что считалось раввинами богохульственными выходками, всегда происходило в открытую, на публике, и ставило своей целью не эпатаж общественной морали, а провозглашение истины вне талмудических законов, вне рамок интерпретации Библии ортодоксальным иудаизмом, через голову раввината, так сказать. Следуя пророческим указаниям о приходе Мессии, Шабтай Цви переиначивал памятные даты. Траурная дата разрушения Храма стала для саббатианцев праздником, отчасти и потому, что в этот день родился сам Шабтай (опять же, в соответствии с иудейскими пророчествами). Он ввел в свои ритуальные интерпретации иудаизма то, что русский филолог Бахтин мог бы назвать «карнавальной амбивалентностью верха и низа». (Замечу в скобках, что сам Бахтин страдал полиомиелитом, то есть разделение между верхом и низом для него было еще и физиологическим.)
Одна из современных толкователей Шабтая Цви, артист и фотограф, лондонская израильтянка Орит Ашери, вообще воспринимает Шабтая Цви как первого концептуалиста нашей цивилизации, а его деятельность — как перформанс. Он был изгнан из Измира, когда явился в синагогу с детской люлькой, где лежала рыба, завернутая в свиток Торы. У этого жеста — масса мистических и каббалистических интерпретаций. Орит Ашери повторила этот акт на арт-фестивале в прибрежном модном городке Уитстейбл, в Кенте, с переодеванием в Шабтая Цви — раввина с накладной бородой. Во время перформанса она обнажала грудь, чтобы подчеркнуть трансгендерность Шабтая Цви. Как и многие знатоки саббатианства (включая непререкаемого Гершома Шолема), Орит считает, что Шабтай Цви скрывал свой гомосексуализм, но при этом был одним из первых в истории иудаизма, кто отстаивал права женщин на сексуальную свободу. Слухи о его оргиях и лишении девственности дочерей Израиля явно преувеличены. Первые два брака Шабтая Цви закончились разводом на том основании, что Шабтай не выполнял своих супружеских обязанностей. Его третьей — и любимой — женой и стала Сара, с репутацией кочующей из страны в страну блудницы.
18
Отношения с Сарой явно устраивали Натана, пророчествующего о мессианской природе Шабтая Цви. Брак с Сарой-блудницей был осенен цитатой из книги библейского пророка Осии. Бог приказал Осии выбрать в жены проститутку, потому что Израиль в своих отношениях с Богом стал вести себя, поклоняясь идолам, как продажная женщина. Осия спас душу своей жены-блудницы, и точно так же Бог обещал восстановить свои брачные узы через завет с Израилем. Мотив блудницы, спасающей Израиль, проходит через всю Библию. Самый известный эпизод — с проституткой Рахав, которая спасла соглядатаев израильтян в Иерихоне и обеспечила победу Израилю, а самой себе — замужество за Бен-Нуном. В этих библейских эпизодах — эхо вавилонских традиций и, в частности, храмовых блудниц.
Комментаторы цитируют на этот счет классиков. Геродот утверждает, что в Вавилоне каждая женщина была обязана один раз в жизни явиться в храм богини плодородия Мелитты и отдаться первому же чужестранцу, который ее выберет, бросив ей в подол горсть монет. Это касалось вавилонянок всех сословий — от рабынь до цариц. Красавицы не проводили в храме и нескольких дней, их выбирали сразу и отпускали домой. Некрасивым женщинам иногда приходилось жить при храме годами, ожидая своей участи. Не исполнив своего долга, женщина не имела права (согласно Геродоту) вернуться к домашнему очагу. В храмах египетской богини Изиды собирались одновременно сотни тысяч паломников, которые предавались там самому грубому разврату. Мужчины и женщины отправлялись на лодках вниз по Нилу, играя на музыкальных инструментах и распевая песни, после чего женщины поднимали платья и оголяли грудь, приглашая мужчин к совокуплению. Финикийские женщины усаживались вдоль дорог прямо на землю в тростниковых венках на головах. Они могли быть выбранными любым прохожим, чтобы потом вернуться домой уже без венка. Кроме этого, у финикийцев существовал своеобразный культ чужестранцев, отцы должны были отдавать им на растление своих юных незамужних дочерей. Очень часто девушки, живущие при храмах, были из очень знатных семей. В храм они приходили, потому что чувствовали неспособность служить одному мужчине, и поэтому обрекали себя на супружество с целым народом. Интересно, что совокупление с храмовыми блудницами ритуально обставлялось и освящалось двумя священниками (подобно тому, как современные браки совершаются в присутствии двух свидетелей) и потому не считалось пороком, не оскверняло ни блудницу, ни приходившего к ней, как не марает никого современный брак, осененный двумя представителями райсовета.
Для последователей Шабтая Цви семейные оргии рядились в обряд слияния с телом Мессии, как вкушение облатки — единение с телом Христовым. Век спустя Яков Франк стал устраивать эти телесные единения с апокалиптическим ражем не только для саббатианцев, но и для всех, так сказать, желающих (включая и его дочь Еву), сочиняя при этом кровавые наветы на своих бывших собратьев-евреев. Якуб Лейбович (Jakub Lejbowicz) родился в 1726 году в Подолии, воспитывался в Черновцах, тогдашней Австро-Венгерской империи, но после визита в Стамбул сменил фамилию и вошел в историю как Яков Франк. Он утверждал, что он — инкарнация Шабтая Цви. Как и все саббатианцы, он был антиталмудистом. В отличие от своего измирского предтечи Яков Франк был истинный шарлатан и исполнял все установления саббатианства буквально: там были и оргии, и инцест, и надругательство над Священным Писанием, скандальные акции в синагогах (скажем, обнажив зад, он усаживался публично на свитки Торы). В эту оргиастическую культуру были вовлечены даже члены королевской семьи австро-венгерской империи. Сблизившись с польским королевским двором, Яков Франк перешел в католичество. В конце концов Яков Франк был арестован в Варшаве по обвинению в еретических проповедях. Он отсидел в крепости Ченстохова тринадцать лет, был освобожден из заключения русской армией и отправился оттуда в Вену, где обворожил Марию Терезию, эрцгерцогиню Австрии (и мать, между прочим, Марии-Антуанетты), которая даровала ему титул барона и обеспечила ему беззаботное финансовое существование; он в конце концов обосновался в Оффенбахе, в Германии, где, как утверждали злые языки из ортодоксальных еврейских кругов, продолжал до смерти заниматься развратом. Его дело продолжила его дочь. Но в действительности, если обратиться к немногим сохранившимся документам с записью его высказываний и идей, можно увидеть в нем предтечу хасидизма и энтузиаста эпохи Просвещения (франкисты активно участвовали в Великой французской революции).
Все это крайне занимательно. Все эти факты можно найти в монографиях о саббатианстве. Мало кому в России известны, однако, семейные связи с сектой евреев-франкистов гения польской поэзии Адама Мицкевича. За что Пушкин так обиделся на Мицкевича? За то, что он оскорбил Россию, его родину. Мы его, мол, любили, принимали как брата, выпивали вместе, а он уехал за границу и стал клеветать. Мицкевич оправдывается: я не клевещу на Россию, я обличаю российское правительство. Мицкевич писал в ответ Пушкину: «А если кто из вас станет упрекать меня, то его упрек покажется мне лаем пса, который так привык к терпеливо и долго носимой цепи, что кусает руку, ее разрывающую». Звучит дерзко и точно, но для Пушкина той эпохи царь российский — это не просто правительство, а символ нации, и если царь поддерживает действия правительства (а в данном случае правительство скорее сдерживало тиранические действия царя), то, обличая царизм, ты обличаешь и Россию, а Пушкин в эти свои моменты патриотического озарения считал себя голосом нации.
Российские обличители Мицкевича не добрались, однако, до истинной, глубинной сущности его русофобских — с точки зрения Пушкина — тенденций. Я не историк и не литературовед, но когда читаешь о Мицкевиче и о конфликте с Пушкиным, в уме начинает крутиться целый калейдоскоп занимательных фактов. Обратите внимание, что в «Пане Тадеуше» есть положительный персонаж, идеализированный еврей Янкель, и именно он — чуть ли не главный польский патриот. В своих парижских лекциях Мицкевич обращался к теме страданий еврейского народа в рассеянии и о чаяниях вернуться в Святую Землю. В «Дзядах» он сравнивает судьбу Польши с древним Израилем и еврейской диаспорой. И в разгар Крымской войны в 1852 году (вспомним Скутари) Мицкевич отправился в Стамбул, чтобы организовать создание польского войска для войны против России, куда должен был войти созданный им еврейский легион. С той же целью он посетил Аджарию. Что это все значит? То, что Турция была с семнадцатого века замешана в делах Польши — исторический факт. Султаны управляли Подолией чуть ли не четверть века (1672–1699), с ее замесом скифов и сарматов, Золотой Ордой и княжеством Литовским, запорожскими казаками и Богданом Хмельницким.
Для нас в этой истории важен тот факт, что мать Адама Мицкевича — Барбара Маевска — была из семьи евреев- франкистов. Как бы расширяя паутину этого еврейского заговора, в супруги Адам Мицкевич выбрал Селину Шимановскую (Celina Szymanowska) — тоже из семьи евреев- франкистов. Неудивительно, что в Стамбуле и в Салониках, центре саббатианства, Мицкевич чувствовал себя как дома. В отличие от Пушкина, у которого турецкий Арзрум вызывал лишь скуку или омерзение: ему там местное население, встречаясь на улице, показывало язык, принимая его за доктора. В этом смысле Пушкин солидаризовался с Байроном, предпочитавшим Грецию Турции (гораздо романтичнее быть на стороне революционных баррикад с борцами за национальную независимость малых народов и так далее). И Бродский был в том же лагере — вместе с Байроном и Пушкиным. Против Мицкевича.
Я с Мицкевичем. Славил ли Мицкевич когда-нибудь в присутствии Пушкина свой шумный и свободный, пестрый и космополитический Стамбул, где много лет спустя он будет собирать добровольческую армию с еврейским легионом для войны с русским царем? Известно ли ему было то, что утверждают некоторые пушкиноведы: прапрадед Пушкина, чернокожий Ганнибал, «усыновленный» Петром Первым, был из эфиопских евреев — среди личных вещей Пушкина сохранилось, как утверждают, кольцо с камнем, где высечена ивритская буква, символизирующая имя Бога. В то время как миф о «чернокожем русском гении» был подхвачен чуть ли не «Черными пантерами» в Америке, в прямые родственники негра-еврея Пушкина записался мой приятель по московской юности, воспитанник нашего общего гуру Александра Асаркана. Это был Вейланд Родд-младший. Его отец, Вейланд Родд, чернокожий американский актер, попал в Советский Союз в сталинские 30-е и справедливо угадал, что советскому кино нужен свой негр. Он женился на еврейской пианистке-аккомпаниаторше из Нью-Йорка (ее еврейские родители так и не узнали, что она замужем за негром). Вейланд-младший родился в Москве, в Камергерском переулке, по-английски не говорил ни слова, но в конце концов добился, чтобы у него в паспорте в графе национальность стояло «негр-еврей». В армию его в результате не взяли, и в конце концов он стал эстрадным певцом, распевающим черный фольклор с советской эстрады (слова он заучивал наизусть).
19
Загадочное стихотворение о Стамбуле, который «гяуры нынче славят», было написано Пушкиным в тридцатые годы в Болдино, когда Мицкевич уже был в Париже и сочинял своего «Пана Тадеуша», где фигурирует этот самый еврейский патриот Янкель. «Гяур» — это неверный, кафир, иноверец. Слово «гиюр» в еврейской Библии означает обращение в другую религию (в частности, нееврейской жены в иудаизм). Знал ли — или подозревал ли — Пушкин о франкистских еврейских корнях Мицкевича? «Стамбул отрекся от пророка; // В нем правду древнего Востока // Лукавый Запад омрачил…» — провозглашает Пушкин. Это тлетворное влияние Запада еще не достигло Арзрума, куда он добрался с русской армией: «…Но не таков Арзрум нагорный, //Многодорожный наш Арзрум…» Арзрум омерзителен в смысле ежедневного в нем пребывания, там местные жители показывают язык пришельцам с европейской внешностью. Но зато тут нет места западничеству неверных гяуров вроде Мицкевича, который, как писал Пушкин в те же годы, что и его стамбульские экзерсисы, «…между нами жил // Средь племени ему чужого //…Мы жадно слушали поэта. Он // Ушел на запад — и благословеньем // Его мы проводили. Но теперь // Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом // Стихи свои, в угоду черни буйной, // Он напояет…» Напояет. Иногда Пушкина обманывал слух — такое впечатление, что он не вслушивался в собственный стих с голоса, читал лишь глазами. (Один из самых анекдотичных примеров этой глухоты — строки о Евгении Онегине, который, как мы знаем, был пародийной русской версией байроновского Чайльд-Гарольда: «Прямым Онегин Чильд Гарольдом… // со сна садится в ванну со льдом…» Теперь перечитайте эти строки вслух, и у вас получится, что какая- то сосна садится в ванну сольдом. Можно сесть раком, а можно сольдом. Чильд Гарольд, или сосна, садится сольдом. В ванну.)
Настоящий Чайльд Гарольд — Байрон — страшно гордился, что переплыл Дарданеллы (Геллеспонт) — с европейского берега на азиатский, из Абидоса, где сидел в тюрьме Шабтай Цви, в Сестос. Для Байрона этот заплыв — аллюзия на древнегреческий миф о том, как Леандр переплывал Геллеспонт в том же, что и Байрон, направлении на встречу со своей возлюбленной Геро. Геро зажигала огонь маяка, на свет которого плыл Леандр. Но однажды огонь погас, и Леандр утонул. Байрон подытоживает в «Чайльд-Гарольде»: «Пришлось обоим нам несладко, // И гнев богов нас поразил; // Он — утонул, я — лихорадку // В воде холодной захватил». Байрон своим заплывом через Дарданеллы пародировал древний миф. Но этот пародийный жест мог закончиться смертью: Байрон мог бы и утонуть — расстояние от берега до берега несколько километров. Лучший друг Байрона — Шелли, утонувший десятилетие спустя, отбрасывает странную тень из будущего на этот акт пересечения Геллеспонта. Пушкин в своей пародии на обожаемого Байрона превратил Геллеспонт в ванну, куда Чайльд Гарольд «садится со льдом».
Для Байрона это был заплыв с азиатского берега обратно в Европу: Байрон, как и Пушкин с Бродским, терпеть не мог Турцию, поскольку был как революционер, естественно, на стороне Греции в ее освободительной борьбе против Османской империи. В тридцатые годы двадцатого столетия Байрон заведомо отправился бы сражаться в Испанию. В шестидесятые годы — пошел бы на демонстрацию против войны во Вьетнаме. В наше время это была бы, возможно, Палестина.
Вряд ли Байрону было известно, что в крепости Абидоса содержался в заключении перед султанским судом Шабтай Цви. Вряд ли Шабтай Цви был знаком с древнегреческой легендой о Леандре, утонувшем из-за любви к Геро. Однако в жизни Шабтая Цви был эпизод, когда он сам чуть не утонул, и этот эпизод стал одним из ключевых в мифе саббатианцев. Случилось это во время купания в Эгейском море, когда он попал в водоворот вблизи берега. Саббатианцы интерпретировали это происшествие (у Шабтая при этом украли с пляжа его одежду — мотив, опять же, голизны, душевной обнаженности) как символическое воспарение мессианской души из бездны к свету. Для дёнме эта дата совпала с празднованием еврейского Пурима — когда, согласно библейской Книге Есфири (Эстер), иудеи персидской империи Артаксеркса были спасены благодаря тому, что еврейка Эстер, супруга Артаксеркса, ложно обвинила злодея Амана в попытке изнасилования.
Мифы затягивают нас в некий полуподводный мир сознания, где всё связано ассоциациями, как мертвое тело водорослями. Всякий, кто тонул и кого спасли в последний момент, пережил это состояние возвращения из потустороннего мира — второе рождение. Я до последнего времени наивно полагал, что лейтмотив моей жизни и творчества — пушкинская цитата про упоение в бою у бездны темной на краю, из «Пира во время чумы». И действительно: главный герой всех моих ранних романов — эмигрант, изгнанник, человек, выпрыгнувший из чумной телеги российского пира семидесятых годов в бездну западной свободы. Такой герой — постоянно «на краю»: зажатый меж двух миров, закомплексованный меж двух языков. Чтобы прорваться обратно к самому себе сквозь железный занавес прошлого, этот герой постоянно прибегает к крайностям, совершает байроновские жесты, рискует собственной жизнью и жизнью своих близких. А поскольку в природе гениальных романистов (всякий романист считает себя гением) подтверждать поступками истинность выдуманных слов, я сам уже давно стал загонять себя в обстоятельства, провоцирующие на жесты, достойные лишь моих героев.
В первую очередь это выражается в тяге к ситуациям, сулящим катастрофы, к байронической игре со смертью. Эта вредная привычка обнаружилась, собственно, задолго до эмиграции, еще в детстве, во время болезни: я, лежа в постели, от нечего делать подбрасывал в воздух и ловил на лету блестящий металлический шарик из подшипника (подарок друга). В очередной раз шарик пролетел сквозь пальцы. Прямо в лоб. Оказалось, что не больно, просто вытекло много крови, но можно себе представить, что творилось с мамой. Теперь у меня на лбу каинова отметина, а в мозгах, видимо, что-то сдвинулось. Как бы закрепляя этот детский опыт, я, уже в эмиграции, однажды на пароме поскользнулся, сбегая по трапу с верхней палубы, и раскроил себе череп уже с затылка. О моем здоровье справлялся сам капитан. Приехав однажды с очередным визитом в Москву, я слег с инфекционным воспалением легких и чуть не умер; споры о том, как меня лечить, привели к нескольким разводам в семьях моих друзей. Я бы мог еще долго пересказывать аналогичные эпизоды моей творческой деятельности. За недостатком места (опять не хватает места под солнцем) ограничусь самым последним.
На какой бы курорт я ни попал, там непременно начинается буря. На Корсике, когда ни с того ни с сего задул страшный ветер с моря, меня захлестнуло волной, перехватило дыхание — ни вдохнуть, ни выдохнуть, — я потерял сознание и пошел ко дну. Так погиб друг Байрона — поэт Шелли. Но я не Шелли, я другой. Моя последняя мысль была: «Вот она, бездонная бездна западной свободы: испортил жене отпуск!» Вытаскивали меня спасатели с канатом. Очнулся я уже на берегу, весь белый, с синими ногтями. Меня возвращали в чувство в местной клинике со всеми больничными причиндалами: с капельницей и кислородной подушкой. Жуть.
Казалось бы, все эти встречи со смертью лицом к лицу должны были решительно изменить мою судьбу, заставить меня по-новому взглянуть на собственное прошлое. Но выясняется, что обещания, данные под угрозой расстрела, забываются так же быстро, как зубная боль. Я помню, как на грани смерти от воспаления легких давал себе клятвы раз и навсегда порвать со всем ничтожным и недостойным в моей жизни и отдать всего себя лишь высокому, великому, чистому. Но стоило мне чуть поправиться и вернуться в Лондон, как я тут же предался все той же вульгарной светской суете, недостойной истинного гения. Я помню, как на Корсике я очнулся на берегу от собственных жутких криков: в этих воплях я, очевидно, снова пытался «выкричать» из себя, как мне кажется, все низкое и ничтожное во мне.
Стоило мне, однако, прийти в себя и вернуться в отель, как я тут же впал в истерику: пропала моя любимая шариковая авторучка — она явно выпала из кармана, когда подбирали мои джинсы с пляжа. У меня особые отношения с собственным почерком, и потеря авторучки была для меня не меньшей травмой, чем отсутствие соломинки у утопающего. Мне срочно надо было зафиксировать на бумаге то, что со мной произошло. Но ведь лишь за час до этого я был уже на том свете, где не имеет значения, какой авторучкой я запишу, как и почему я туда попал. Какой смысл вообще записывать то, что не появилось бы на бумаге, если бы я не выжил?
Я хочу сказать, что если бы я умер, все, что я записываю сейчас, не существовало бы. И мир от этого ничуть бы не пострадал. Этих слов могло бы и не быть. А если их могло бы и не быть, если в них нет насущной необходимости, зачем их записывать? Все происходило бы точно так же, как если бы этих слов не было. Я могу засвидетельствовать это, потому что я остался жив. Получается, что в моей смерти нет насущной необходимости. Моя возможная смерть никому не помогла жить. И слова об этой гипотетической кончине — тоже: поскольку их могло бы и не быть.
Эти мои теперешние слова принадлежат, однако, не тому, кто тонул, а тому, кто выжил. Все эти личные амбиции, совестливые метания, все эти великие обеты и заветы кажутся чужими, как только возвращаешься к жизни: погибал один человек, а выжил другой. И этот другой смотрит на то, что произошло, как на симуляцию самоубийства себя в прошлом в связи со случайно представившейся возможностью. Это как патологические изменения в поведении алкоголика после первой же рюмки водки: себя другого он уже не помнит. Или же этот буян пытается привлечь внимание к тому тихоне внутри себя, кто утонул в первой же рюмке водки?
20
В крепости Абидос произошла встреча Шабтая с одним из его фанатических поклонников. Встреча эта оказалась роковой для еврейского мессии. Нехемия (Неемия), родом из Польши, явился в Абидос для выяснения некоторой неясности в мессианском статусе Шабтая Цви. Дело в том, что Мессия, чье явление означает освобождение еврейства от ярма земного существования, ритуального долга и тягостного обета, должен быть потомком Давида. Его явлению перед народом, согласно всем талмудическим источникам, должен предшествовать приход Мессии из потомков Иосифа. Согласно этой талмудической концепции, Мессия от Иосифа подготавливает почву для прихода главного Мессии, сына Давидова, в том же смысле, в каком Иоанн Креститель предшествовал явлению Иисуса Христа. Натан из Газы, провозгласивший Шабтая Мессией, и был его Иоанном Крестителем. Параллель с христианскими мотивами оказалась еще четче, когда Нехемия из Польши сыграл в судьбе Шабтая Цви роль Иуды. Он явился к нему в заточение в крепость в Абидосе и стал доказывать Шабтаю собственную мессианскую роль в этой истории. Они провели всю ночь в теологических спорах, где Нехемия, гораздо более сведущий в Каббале, чем Шабтай Цви, пытался убедить Шабтая в том, что он, Нехемия, и есть Мессия от Иосифа. Когда Шабтай отказался санкционировать назначение Нехемии на этот мессианский пост, тот, отвергнутый саббатианцами, объявил, что, поскольку Мессия из рода Иосифа еще не явился на свет, Шабтай, заявляющий, что он — Мессия из рода Давида, просто самозванец, опасный шарлатан, бунтовщик и провокатор, которого надо предать суду. Свое авторитетное мнение он ясно сформулировал в своем доносе турецкому султану. Он не закончил жизнь в петле, как Иуда, но, учитывая законы кланового, родового общежития в ту эпоху, конец его в амстердамской клоаке грязным бродягой в отрепьях, отвергнутым и евреями, и саббатианцами, можно вполне приравнять к самоубийству.
Конечно же, история Шабтая Цви, мифология его жизни, мессианские пророчества и теологические ухищрения его толкователей невозможно отделить от апокалиптических настроений всей христианской Европы в 1666 году. Вся хроника взлета и падения Шабтая повторяет апокрифические легенды о христианских пророках и мучениках — от Рима до катакомб турецкой Каппадокии. Это был единый мир с мифами, соседствующими друг с другом; чужим религиозным опытом можно было обмениваться, как в натуральном хозяйстве. Меламид высказал в наших с ним разговорах идею о том, что само еврейство, каким мы его знаем в наше время, от польских хасидов до израильтян с их обычаями и иерархией общин, с талмудическими ритуалами и табу, возникло как реакция раввинов на укоренение христианства во всем мире, и, в частности, в мире еврейском. Напуганные распространением христианской ереси, раввины взялись за систематизацию источников и составных частей иудаизма: именно тогда, в первые века христианства, была канонизирована окончательная версия Библии с комментариями, как и основные тома Талмуда.
Меламид в тот год интенсивно занимался происхождением различных религиозных верований, поскольку сам заявил о себе на весь Нью-Йорк как о создателе новой «протестантской» религии в искусстве: он низвергает идолопоклонников — кураторов, галерейщиков, арт-дилеров. Эти клерикалы от искусства превратили музеи в мистические храмы, где они священнодействуют, используя произведения искусства как своего рода папские индульгенции для зрителей. Меламид пророчествует о возвращении к религиозным первоосновам искусства, без аппарата искусствоведов и кураторов, этих шарлатанствующих клерикалов. То есть он — против церкви, как Лев Толстой. (Как и все мы.)
Вместо этой прогнившей церковности Меламид предлагает новую теологию и религиозность. «Я — есть Бог», — утверждает Александр Меламид, глава нового религиозного культа. С главным святым, пострадавшим за искусство, — Ван Гогом. Меламид утверждает, что его новая религия может даже излечивать разные недуги, но не наложением рук святых новой церкви, а путем проецирования на тело больного разных живописных шедевров великих мастеров: от заболеваний печени вам поможет, оказывается, Рубенс. А тот же Ван Гог — от воспаления, скорее всего, среднего уха. Но если вы не верите в этого бога? Меламида это не смущает. Есть религии, в чьих богов мы не верим. Евреи не верят в Иисуса Христа, но это не мешает им каждую субботу славить иудейского Бога. То же можно сказать о мусульманах в отношении буддистов или о квакерах в отношении Церкви сайентологии, где причащаются голливудские звезды. Оказывается, для того, чтобы государство Соединенных Штатов признало статус твоего верования как религии и новой церкви (а не секты), надо подтвердить, что твое религиозное учение исповедуют не менее полумиллиона человек. В таком случае твою секту считают новой религией, ты становишься ее богом-родоначальником, а твоя церковь получает статус благотворительной организации, то есть освобождается от налогов. Этот закон возник в связи с тяжбой Церкви сайентологии, считавшейся сектой. Именно на это и надеется Меламид. Он верит, что соберет пятьсот тысяч верующих, и тогда американское правительство (и мы тоже) поверит, что Меламид действительно Бог.
Есть ли Бог? Тех, кто отвечает, что да, Бог существует, называют верующими, а тех, кто не верит, атеистами. Но сами атеисты в большинстве своем утверждают, что этот вопрос — есть ли Он или нет? — их вообще не волнует: они борются против веры в религиозные доктрины вроде загробной жизни, рая и ада. Кроме верующих и атеистов в последние годы возникла еще одна школа. Они называют себя Possibilians — от слова possibility, то есть возможность, вероятность. Эти «вероятностники» не отвергают никакой гипотезы, если ее невозможно ни доказать, ни опровергнуть фактами[4]. Это занимательные гипотезы о том, что такое наша жизнь с точки зрения Бога (если бы Он существовал) и как Он мог бы одну и ту же человеческую жизнь разыграть совершенно по-разному. Мне больше всего понравилась история о том, как мы в разном возрасте — разные люди, но сосуществуем с божественной вневременной точки зрения параллельно, не узнавая друг друга. И естественно, одно из наших «я» — атеист, другое — страстный верующий, но друг с другом они не общаются, не пересекаются. В самой первой из этих историй высказывается гипотеза о том, что Бог, прекрасно существующий вне зависимости от того, что мы о нем думаем, вовсе не подозревает о нашем существовании, о природе человека. Дело в том, что Бог — это микроб, и мы для него — не более, чем питательная среда. Философски говоря, мы всегда знаем, что мы существуем (Cogito Ergo Sum), — это другие не подозревают о нашем существовании, как не были уверены в реальности нашей жизни в эпоху железного занавеса те, кто остался для нас, эмигрантов, по другую сторону. Они могли лишь гадать, что с нами происходит за границей.
21
Все эти идеи Меламид проповедовал — в свойственной ему убедительной ораторской манере артиста-концептуалиста — Селиму, нашему гиду по Каппадокии, где причудливые формы обветренных скал из туфа похожи на гигантские грибы вроде поганок или сморчков, то есть наркотического грибного снадобья. Это наркотическое состояние ощущалось физически во время наших визитов в страну катакомбного христианства — в Каппадокию. Пещерное бытие Каппадокии — это подполье религиозного сознания, от хеттов до христиан. Семион Столпник был из этих мест. Он, наоборот, чуждался пещерности и всю жизнь простоял на столбе, напоминая милиционера на своем посту.
Наш гид по Каппадокии Селим, парень в ковбойке и джинсах, выслушивал соображения Меламида о диалектике взаимоотношений Бога и церкви не без любопытства, но в целом с открытой толерантной улыбкой. Верующий мусульманин, он молится по пятницам в мечети, но твердо знает, что это — лишь его, мусульманский, путь к Богу, а у других — другой путь; например, у его подруги и любовницы — израильтянки. Из поп-звезд музыки он, как и многие турки, обожает Кэта Стивенса. Кэт Стивенс — из греческой семьи в лондонском Камдене — обратился в мусульманство, как и Шабтай Цви: поп-звезда и Мессия — это, так сказать, близкие профессии. Однако мир не разделяет мусульманского интернационализма Селима. Он сообщил нам, что Кэта Стивенса не пустили в США. Почему? Потому что он был с бородой и в мусульманском хитоне. «А почему он был с бородой?» — спросил Меламид. Потому что это такой обычай у мусульман — носить бороду. «Но у Селима нет бороды», — заметили мы. Селим не традиционный мусульманин. А Кэт Стивенс хотел носить бороду, как Магомет. «Кто сказал, что Магомет носил бороду?» — спросил Меламид. Действительно, откуда это известно? Римляне брились. Магомет возник в седьмом веке. К тому моменту можно и научиться брить бороду. «Откуда известно, что все римляне брили бороду?» — в свою очередь спросил Селим. Никаким источникам верить нельзя, даже безбородым римским скульптурам: вполне возможно, что бороды на этих скульптурах пририсовывались. История Тацита не существует в оригинале: какой-то монах потерял единственный экземпляр. Иосиф Флавий существует лишь в копиях.
Этот релятивизм в отношениях Магомета и ислама ничуть не смущал Селима. У каждого свой путь — с бородой или без. Селим сожалеет о пути, выбранном Ататюрком. Ататюрк не только запретил — вместе с тюрбаном и чадрой — общественно-публичное отправление религиозных обрядов (то есть везде, кроме мечетей, синагог и церквей), но и закрыл религиозные семинарии медресе, суфийские монастыри, каббалистические школы. В результате на первый план выступило этнически турецкое происхождение граждан его республики. Если ты не турок, ты — гражданин второго сорта. Селиму не нравится Эрдоган — нынешний премьер-министр Турции. На первый взгляд Эрдоган потакает исламистам-почвенникам. Он снял запрет на хиджаб в общественных местах, но одновременно пытается бороться и с распитием алкоголя в уличных кафе за столиками под открытым небом — последнее крайне настораживает Селима. С другой стороны, тот же Эрдоган разрешил грекам и армянам восстановить заброшенные церкви; в ряде случаев он добился возвращения собственности грекам, бежавшим из Турции во время антигреческих погромов в Стамбуле в связи с конфликтом на Кипре в пятидесятые годы. То есть Эрдоган — за религиозную и этническую толерантность, терпимость. В этих парадоксах амбициозного политического деятеля (он пытается завоевать лидирующую позицию для Турции и на Ближнем Востоке, и в странах Африки, не забывая при этом о Европе) просматривается одна сюжетная линия: ностальгия по Османской империи. Селим — за мультикультурализм Османской империи, где ты можешь быть кем угодно — лишь плати вовремя налоги. В Каппадокии, в скальных церквях, я видел византийские фрески, обезображенные надписями, скажем, позапрошлого века. Наш гид, Селим, как, наверное, все турецкие гиды, спешил продемонстрировать, что эти христианские фрески были обезображены в основном надписями на английском и греческом — вовсе не мусульманами: имперские турки ценили эклектику и многоголосицу, это было и политически рационально, и финансово выгодно.
Послушав Селима, Меламид предложил ему выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Начать свою политическую деятельность надо, конечно, с его деревни (под Измиром, откуда родом Шабтай Цви). На следующем этапе следует объявить себя Богом — если брать пример с самого Меламида, объявившего себя Богом новой религии в искусстве. Селим лишь благожелательно посмеивался.
Оказалось, что легендарные монастыри Каппадокии, вырубленные, как подземелья, среди марсианского пейзажа из скал вулканического туфа, с кельями, молельнями, столовыми и спальнями, не так уж скрыты от постороннего глаза, как этого хотелось бы историкам христианства. Эти пещерные города, отстроенные загадочными хеттами четыре тысячи лет назад, стали убежищем для христиан — сначала от римлян, потом от мусульман. Никто не может объяснить, зачем хетты строили подземные города, все эти подземные коридоры, залы и камеры, ниши и колодцы, уходящие на несколько этажей вниз и соединенные сетью туннелей. Кроме того, существовали и римские катакомбы с культом бога Митра (персидского происхождения), загнавшего в пещеры мистического быка; этот культ процветал среди римской аристократии и в армии — как демонстративный уход в язычество в первые столетия популярности христианства среди плебса в Риме. Трудно поверить, что такие подземные сооружения оставались незамеченными для местного населения. Демонстративное варварство быта в этих катакомбах христианского периода смотрится как некое намеренное самоистязание вроде отшельничества в иудейской пустыне на диете из сухих кузнечиков. Обитатели этих пещер были не диссидентами, скрывающимися от преследования, а скорее отшельниками, анахоретами. То есть эта пещерная жизнь была своего рода исправительно-трудовой колонией, моральным перевоспитанием.
Катакомбы Каппадокии произвели на меня такое же дикое и страшное впечатление, как и в свое время Аджимушкайские каменоломни под Керчью в Крыму, где сейчас музей эпохи Второй мировой войны. Туда советские органы загнали на несколько лет практически все население города — вместе с женщинами и детьми — перед немецкой оккупацией Крыма. И держал их там страх, но не перед Господом Богом или римскими легионерами, а перед КГБ: органы безопасности во время войны с немцами отдали приказ не сдаваться, а перебраться в катакомбы — в каменоломни. Солдаты там жили вместе с женами и детьми. Как там можно было продержаться несколько месяцев, представить себе трудно.
Даже в дикую жару там минусовая температура. Воды не было, ее просто слизывали с влажных стен пещеры. От отравляющего газа скрывались в нишах, закрывшись мокрыми одеялами. В кромешной тьме перестукивались, предупреждая друг друга, кто и где находится. Командному составу в темноте, наверное, мерещились пещерные медведи. Видимо, кое-кто пытался вырваться наружу, и таких отлавливали гебисты и смершники. С каждым месяцем росло количество бунтовщиков — они пытались выбраться на поверхность, их расстреливали на месте. В конце концов там начались моральная деградация и разброд. В буквальном смысле. Судя по описаниям, были установлены пропускные пункты, все «свои» знали пароль, остальных убивали.
Все это до сих пор выдается за часть героической истории сопротивления нацистским оккупантам. Но когда тусклый фонарик местного гида выхватывает во тьме под бугорчатыми пещерными сводами швейную машинку или сломанную детскую игрушку, начинаешь понимать, что означает быть заложником чужого образа жизни, что означает верность героическому прошлому — под приказом.
В этом стремлении залезть в пещеру, как с головой под одеяло, есть нечто первобытное, даже генетическое, как наша тяга к побережью, если верить Дарвину, свидетельствует о нашей связи с моллюсками. Одна из самых крупных и глубоких пещер в предгорьях немецкого Гарца (Einhornhohle, Herzberg am Harz) знаменита тем, что там на протяжении столетий находили кости загадочного происхождения. Для энтузиастов — любителей палеонтологии — это истинный клад. Единорога никто никогда в жизни на свете не видел. Это — мифическое существо, плод фантазии древних. Но если никто не знает, как он выглядел и происхождение пещерных костей никто объяснить не мог, почему бы не посчитать их за останки этого самого единорога? Считалось, что порошок из этих костей обладает мощными целебными свойствами (в смысле эрекции, конечно). Вокруг пещеры возникла небольшая, но вполне солидная туристская индустрия. Это место посетил даже Гёте. В результате серьезные ученые занялись этой пещерой и в один прекрасный день доказали, что кости эти — останки вовсе не мистического существа, а заурядного первобытного пещерного медведя. Кроме того, в этой пещере жили сотни тысяч лет назад неандертальцы.
Любопытно было увидеть, как жили наши предки. Поглядев на своды, заросшие складками сталактитов, с соляными буграми в виде монстров с готических соборов, я понял, откуда происходит христианский храм. Это, конечно же, не греческий храм, а пещера. Но у этой храмовой пещеры и, соответственно, у христианского храма есть невероятное сходство с еще одним классическим образом — из человеческой анатомии. (Не следует забывать о фаллической символике единорога.) Если взглянуть на своды этой пещеры, уходящие вдаль, вглубь и ввысь, с алтарным проемом в перспективе, становится ясно, на что пещера похожа: на утробу, вагину. И мы — маленькие визитеры — внутри. Неандертальцы жили в гигантском женском половом органе. Они разводили в этой вагине костры. Из этой вагины шел дым. Столетиями позже эту пещеру навещали и другие представители рода человеческого. Оставляли надписи на стене. Представляете, между ног любимой женщины написано: «Здесь был И. В. Гёте» — и выставлена дата. (Яков Франк, не сомневаюсь, там тоже побывал.)
Как выживали в этой кромешной тьме пещерные медведи, я еще могу понять. Но жизнь неандертальца представляется мне крайне незавидной. Ужас, однако, в том, что вопреки всему это место выглядело как родной дом для этих пещерных обитателей. С какой-то роковой преданностью домашнему крову мы лезем обратно в уютную клетку за железным занавесом памяти о нашей маленькой советской России, в пещерную утробу нашего прошлого. В эту смерть нас неотвратимо тянет. В конце концов твои останки — скелет неандертальца нашей эпохи — смешаются в представлении современников с костями пещерных медведей и будут распроданы как кости некоего мифического единорога. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
Глядя на руины пещерных храмов в Каппадокии и на чудовищный быт христианских отшельников, ты понимаешь, что Рим загубили не варвары, а христиане с их единобожием, единорожием и конспиративным мышлением профессиональных подпольщиков и пещерных медведей, то есть в конечном счете те же иудеи-сектанты, породившие христианство с его религиозной непримиримостью и отрицанием комфорта римской цивилизации.
22
В критический период отношений с Шабтаем Цви в связи с его переходом в магометанство его пророк Натан Ашкенази (из Газы) обрился наголо, надел на себя нищенские одежды и отправился в Рим, где провел несколько недель, сидя перед башней замка Св. Ангела (Sant Angelo). Место это он, очевидно, выбрал потому, что тут были папская резиденция, мавзолей Адриана (у евреев с этим римским императором были непростые отношения), папская тюрьма и дворец, где Чезаре Борджиа занимался кровосмесительным развратом. Паломничество в Рим связано, конечно же, с мистическими интерпретациями явления Мессии. Мессия может прийти в мир и уйти неузнанным, поскольку, поглядев на земное существование, он может решить, что для конца света и всеобщего воскресения время еще не наступило. Кто, скажем, может узнать Мессию в уличном нищем в отрепьях и струпьях, сидящим у ворот Рима? Именно в этой роли — нищего у ворот Рима — видит Мессию Талмуд. Это отрицание государственной власти, земной славы, триумфа силы. Натан из Газы отсиживал положенные недели у ворот Рима как заместитель своего Мессии, Шабтая Цви.
Именно к мосту через Тибр, ведущему к воротам замка Святого Ангела — Сант-Анджело, подвел меня Асаркан во время наших прогулок по Риму. Я решился на встречу в Риме с моим ментором и гуру, несмотря на его грозные открытки-эпистолы: его, мягко говоря, не устраивала моя точка зрения на его возможные маршруты после эмиграции из Советского Союза. Это было в восьмидесятом году: и Рим был иным, и я был другой. И наши отношения изменились. Любопытно, однако, что люди могут менять идеологию, географию своего пребывания, одежду и ежедневное меню, но они никогда не расстаются с маленькими ритуалами своего ежедневного быта — с привычками, зазубренными с малого возраста. Асаркан в Риме восстановил свой московский ежедневный быт, но как бы с другой бутафорией. То есть вместо его опекунов в коммуналке появился сосед-тиран, бывший советский полковник, с которым у Асаркана возник конфликт по поводу пользования коллективной кастрюлей на кухне: Асаркан варил в ней чай, а полковник варил в ней суп. Запах в комнате стоял точно такой же, как и в комнатушке Подколокольного переулка. Видимо, так пахнут и бульонные кубики во всем мире, если они окружены пачками пыльных итальянских газет, пересыпанных сигаретным пеплом и чайной заваркой. Видимо, трех месяцев достаточно для засола. Асаркан охранял этот железный беспорядок — видимость хаоса — своего быта с таким же рвением, как и в Москве. В римских маршрутах появилась та же целенаправленность, что и в московских, с бритьем в парикмахерской или визитом на почту. Сейчас мне кажется символичным тот факт, что именно на мосту Сант-Анджело этот антимессия пересказывал мне содержание своего последнего письма в советские органы, где он доказывал с шизофренической откровенностью, как дважды два четыре, совершенную бесполезность и даже определенную вредность для государства его нелояльной гражданской пассивности, наносимую многолетним просиживанием собственного дивана. «Я им так и написал, что нет никакой разницы, где я умру, продавливая собственный диван, — тут или там». В конце концов иммиграционные власти не дали ему разрешения на проживание в любимом Риме и отправили по стандартному маршруту иммигрантов в Соединенные Штаты. Его поселили в Чикаго.
Меламида уже давно тянуло в Рим с теми же, очевидно, мессианскими амбициями — точнее, пародией на них. По прибытии из Советского Союза в Иерусалим Меламид с Комаром первым делом воздвигли храм (алюминиевая конструкция с пятиконечной звездой), где они сожгли свои советские чемоданы. Камень из фундамента храма был привезен в Рим и поставлен у подножия арки Тита (того самого, что разрушил в 70 году н. э. иерусалимский храм): это был намек на то, что храм в Иерусалиме будет восстановлен. Камень иерусалимского храма был употреблен на строительство Колизея. Когда наступит час восстановления храма в Сионе, надо будет, как я понимаю, разобрать по кирпичикам Колизей и импортировать эти строительные материалы обратно в Иерусалим.
Разоблачая абсурд, ментальную деградацию и коррупцию церковников от искусства, Меламид отправился в Рим, где сблизился — через сложную цепочку знакомств — с несколькими ватиканскими священниками и сделал целую серию портретов кардиналов. Но Рим — это не только город, не только храмы и монументы. Рим — это стиль жизни. Это еще и ностальгия по классицизму, по стабильности и изяществу всего грандиозного в городских проектах. Замок Сант-Анджело считался когда-то самым высоким зданием в Риме, своего рода римским небоскребом. Манхэттен для американцев — это своего рода Третий Рим. Достаточно взглянуть на неоклассицизм правительственных и административных зданий или банков на главных улицах американских городов. Высунувшись из окна своей квартиры в даунтауне, Меламид указывал мне на орнаменты капителей на двадцать втором этаже: их невозможно увидеть снизу, с тротуара; кое-что можно углядеть из окон противоположного крыла высотного здания. Но в принципе эта резьба по камню — ностальгия итальянских каменщиков, строивших этот небоскреб, по своей римской родине.
В античном храме Аполлона в Дидиме больше всего поражают личные печати каменотесов — с их инициалами на необработанной величиной с ладонь ребенка части отшлифованного мрамора. Выяснилось, что эти печати убирались (стирались, зашлифовывались) строителями, когда с каменотесами расплачивались за проделанную работу. То, что эти печати до сих пор в наличии, означало, что каменотесы объявили забастовку в связи с неуплатой и покинули стройку, не закончив работу. Спящая на древнегреческой колонне храма Афин кошка лишь подтверждает аутентичность этого святилища. Такое же ощущение реальности возвращается к тебе при виде общественных уборных древних римлян в Эфесе: через проложенный под полом желоб шла горячая вода (уличные сортиры в древнем Риме отапливались, как указал нам еще один наш гид Фейсула). Такого комфорта в христианских катакомбах не было.
Фейсула — наш второй гид — сопровождал нас по римским и древнегреческим развалинам. Несмотря на турецко-исламское звучание своего имени, Фейсула в отличие от Селима и к божественным вопросам, и к истории Османской империи относился совершенно нейтрально — как профессиональный гид. Такого знатока древностей (на его местном уровне) можно встретить в любой точке земного шара, но не ожидаешь встретить в Турции. Его трудно было назвать космополитом, но когда он упоминал историю своей родины, его глаза не затуманивались поволокой — патриотической штукатуркой, смесью крови и почвы. И он отлично знал свою археологическую площадку. Это от него я услышал фразу: «В античных руинах нас поражают человеческие слабости и прихоти прошедших веков». Когда он провел нас к поразительно сохранившемуся зданию древнеримской публичной библиотеки в Эфесе, Меламид тут же пустился снова рассуждать о фиктивности нашего знания истории, поскольку ни Тацит, ни Иосиф Флавий не сохранились в подлиннике. Мы это уже слышали. Наш гид внимательно выслушал этот экскурс в исторический релятивизм и сообщил, что книг из римской библиотеки в Эфесе не сохранилось и действительно трудно сказать, были ли они вообще. Дело в том, что в зале библиотеки находилась дверь, откуда шел подземный переход в бордель, и не очень ясно, что имел в виду супруг, когда сообщал древнеримской жене, что он идет в публичную библиотеку. Нашему гиду было все равно, упоминался ли Парфенон в древних источниках или нет (Меламид утверждает, что Парфенон нигде не упоминается), но зато Фейсула сообщил нам массу подробностей о деталях конструирования колонн по частям — мраморным дискам: как они соединялись друг с другом согласно заранее сделанным ложбинкам. Так поступали древние греки. Римляне требовали, чтобы колонна вырубалась из мрамора целиком — как нация имперская они могли это себе позволить. Не знал я и того, что античный мир нуждался в колоннах не столько для красоты, сколько для создания тени во внутреннем дворике и в галереях вокруг здания.
Я довольно долго не понимал, что заставляет толпу в Манхэттене простаивать часами перед котлованом на месте бывших башен Всемирного торгового центра. На что они, собственно, пялятся? Чего они там высматривают? Лишь в Риме, городе руин, до меня дошла простая мысль, что движимы эти люди теми же чувствами, что и туристы, созерцающие, скажем, осколки античной плиты с именем римского сенатора или обрубок колонны, заросший диким виноградом на римском Форуме. Это вовсе не желание приобщиться к красотам древности. Тут, скорее, налицо садомазохистские чувства. Нас к этим развалинам притягивает страшное любопытство к хаосу, бездне на краю, к насилию и разрушению. Идея того, что Рим — это Манхэттен две тысячи лет назад, крайне привлекательна. Наш современник, стоящий перед античными руинами, внутренне ахает: «Это ж надо, какой был дворец, какая площадь перед дворцом, какая стена вокруг площади, какая власть была у человека, и вот, на тебе, что мы вместо этого имеем? Груда камней, обрубки колонн, рухнувшая аркада». Было и нет. И чего тогда вообще стараться? Развалины успокаивают народное сознание: они уравнивают все амбиции и таланты. С другой стороны, руины придают глубину и солидность нашему эфемерному настоящему: если есть руины, значит, было и великое прошлое. Руины, как всякое общее несчастье в прошлом, сближают нас.
Я помню, когда я испытал обостренное ощущение близости с античностью. Мой отец, потерявший ногу на фронте Второй мировой, всю жизнь проходил на протезе. Его голая нога, обрубленная у колена, на железяке протеза, прочно запечатлелась у меня в уме. Именно про нее я вспомнил, когда, еще мальчиком, оказался с отцом в Пушкинском музее перед Афродитой из коллекции Хвощинского: эротика ее левого бедра обрывается у колена, и дальше вместо голени торчит металлический прут. Как отцовский протез. Мой отец в моих глазах стал древнегреческим героем с отбитыми конечностями. Но точно такую же безногую Афродиту я увидел в одной из коллекций римских храмов в Турции. Что еще раз подтвердило мою интуитивную мысль, что Древний Рим, со школьной скамьи ставший для людей моего поколения частью нашего личного сознания (взамен турусов и колес советской жизни), это руины не просто города, но и внутренность некоего разрушенного мозга цивилизации. Нашего собственного прошлого, возникающего в разных географиях. Именно в состоянии промежуточности, перехода, миграции из одной жизни в другую нас тянет к руинам прошлого. Такое же ощущение было у меня от Иудейской пустыни: там холмы повторяют формы мертвого женского тела. Но мне не приходило в голову, что это не контуры самого окаменевшего тела, а лишь следы, оставшиеся от пребывания мифического женского тела на этой земле. И в этом смысле Рим — это отпечаток нашего сознания. У каждого народа своя трущоба. Каждый народ заслуживает свои руины.
Наш третий гид Мехмет, представитель поднявшейся с колен Турции Эрдогана, восхищался не резьбой по мрамору, а тем фактом, что Турция — главный в мире поставщик цемента. И еще тюльпанов. И яблок. Меламид тут же заметил не без иронической издевки, что яблоко — фрукт непростой: в древнегреческой мифологии — причина раздора на Олимпе, а в библейской — это дьявольский соблазн и причина изгнания из рая. Каждую невольную гримасу скептицизма гид Мехмет воспринимал как личное оскорбление. При этом вербовал нас эмоционально. Он пытался завоевывать наше доверие апелляцией к нашему этническому происхождению. На месте очередного древнеримского храма он указал нам руины средневековой синагоги и стал утверждать, что евреи — самый главный народ в мире. Почему? Потому что Америка контролирует весь остальной мир. А кто контролирует Америку? Евреи! И тут был выдан весь список параноидальных идей о дёнме: Шабтай Цви породил Якова Франка, Яков Франк породил Ротшильда; они заразили гоев идеями коммунизма; они были за кулисами французской революции и большевистского переворота в России; это они стоят за массовым убийством армян, свалив вину на турок; это они разрушили Османскую империю, создав движение младотурок во главе с их ставленником, тайным саббатианцем Кемалем — пашой Ататюрком. Все это повторялось в разных вариантах на каждом повороте, среди римских развалин храмов безупречных пропорций, где прекрасные амфитеатры уже не были защищены от палящего солнца мраморной колоннадой. Они были превращены в прекрасные руины новой религией патриотов вроде нашего гида Мехмета, воздвигших свои храмы, своих идолов, свои бензоколонки и высотки. Выясняется, что религии тоже недолговечны: боги тоже смертны.
23
Руины султанского дворца — своеобразный остров в огромном пересохшем водоеме на окраинах города Эдирне. Доносы стамбульских раввинов о развратном поведении и актах богохульства Шабтая Цви в крепости Абидос заставили султанскую администрацию начать расследование истинной природы его мессианских заявок. Он был перевезен под стражей в султанский дворец, где в сентябре 1666 года и состоялся суд над Шабтаем Цви в присутствии самого султана Мехмета IV. Мы решили отправиться в бывшую резиденцию султанов в Эдирне прямо из Стамбула, минуя развалины Абидоса.
Сюда, в бывший Адрианополь, не заглядывают туристы, хотя даже в путеводителях написано об уникальности этого города сотен мечетей и фонтанов. Добираться туда довольно просто — часа три на автобусе, но довольно муторно и занудно. Все автобусные линии на дальние расстояния поделены между разными автобусными компаниями. У каждой компании — свой представитель в Стамбуле, со своей конторой. Это бюро путешествий надо найти. Когда оказываешься в незнакомом месте без карты (электронных гидов с картами на мобильниках тогда еще не было), ты обращаешься за помощью к местному населению. И тут выясняется, что география местности, топография города — это не объективная реальность, увековеченная картографами в миниатюре, а некое индивидуальное видение мира — в глазах того, к кому ты обратился за справкой. Сами указания звучали в российском духе — с упоминанием булочной, забора напротив городской уборной, слева от памятника, мимо «Макдональдса», через бульвар к газетному киоску. Под проливным дождем мы потратили минут сорок, блуждая по гигантской площади Таксим в поисках географической точки, находившейся, как потом выяснилось, в четырех минутах ходьбы от нашего отеля. Трудно жить в безадресном городе, где ни одного указателя по-английски, но много лотков, переходов, проходов и перекрестков, где надо ориентироваться, как глухонемой, все считывая с пальцев и жестов. (Я не завидовал иностранцам без знания русского в России.)
Не буду подробно описывать базарную толкотню и неразбериху на автобусной станции (такое было и в Тель-Авиве). Центральная автобусная станция для междугородных маршрутов в пригороде Стамбула — это одна из тех топографических зон, где границы сдвигаются и ты возвращаешься к российским горизонтам советской эпохи: с вокзальной толкучкой; с детьми, ползущими между ног в зале ожидания; бабы, лузгающие семечки; дядьки с мешками и чемоданами, грязь в туалетах, очередь в билетную кассу. И бесконечные автоматы с шоколадками, кока-колой и чипсами в пестрых, как турецкие платки, пакетах. Вдоль тротуара были водружены штанги с номерами автобусов, но какой из них направлялся в нужном нам направлении, понять из надписей на турецком мы не смогли. (В уборной на автобусной станции я выучил еще одно турецкое слово «баян» — «женщина» и понял смысл русской пословицы, где задается вопрос, зачем нужен козе баян.) Оставалось повторять, как попугай: «Эдирне? Эдирне?» И нас усадили в автобус.
Автобус был, нужно сказать, высшего класса, с мини-телевизорами в сиденьях и с кондиционером. Во время трехчасового прогона мимо индустриального новостроечного ландшафта между Стамбулом и Эдирне в комфортабельной кондиционированной скуке автобуса я большую часть времени потратил не на треп с Меламидом о связях римских руин с мотивами мессианства, а на выяснение механизмов автобусного бытия — как отклоняется кресло, зачем круглое отверстие в полочке у подлокотника (оказалось: для твоего пластикового стакана), для чего такое мистическое количество кнопок на миниэкране — надо ли на них нажимать или только касаться пальцем? Как справиться в тесном автобусе с зонтиком, курткой и бутылкой минералки? И т. д., и т. п. Альтернативность материального мира я воспринимаю с такой же катастрофичностью, как и загроможденность разными препятствиями тротуаров Стамбула. Никто нас не предупреждал, надолго ли остановился автобус у придорожного кафе-стекляшки: есть ли время только сходить облегчиться или же можно заказать бутерброд с кофе? Мистическая страна Турция. Там даже кухарки говорят по-турецки. Но не все водители автобусов изъясняются по-английски.
Когда мы три часа спустя прибыли в Эдирне, выяснилось, что наш подробный путеводитель по бывшей имперской столице с описаниями всех достопримечательностей не указывал, однако, как добраться до этого самого дворца Эдирне-Сарая, где происходил многочасовой допрос Шабтая Цви. Ни единый человек не говорил по-английски. Нас спас родной русский язык. Наши метания заметил таксист на автобусной станции и, тут же разгадав наше происхождение, обратился к нам на некоем волапюке, составленном из русско-турецких слов. Он оказался из соседней с Турцией знакомой нам Аджарии; он переехал на постоянное место- жительство в Эдирне лет двадцать назад. Советские школьные годы оставили в его словарном запасе неизгладимый след, где путалась брежневская эпоха с османским капитализмом. И тем не менее он соединил наши невразумительные упоминания географических названий в членораздельный маршрут. И привез нас во дворец султана Мехмета IV.
Место действия эпохального события было похоже на строительную площадку с огромным щитом, извещающим, что здесь идут реставрационные работы. Но кроме пыльных развалин и канав с сорняками, осматривать было нечего. Трудно было поверить, что три с половиной столетия назад проезд Шабтая Цви по улицам Эдирне на допрос к султану превратился в церемониальную процессию с коврами и гирляндами цветов в толпе обожателей. Происходившее в султанском дворце описано в нескольких вполне достоверных источниках. Один из них — отчет о событиях в Османской империи той эпохи в записях сэра Пола Райкота (Paul Rycaut), личного секретаря британского посла в Стамбуле. Комиссия по расследованию антисултанской деятельности Шабтая Цви — диван — заседала несколько часов, если не дней. В расследовании приняли участие раввин, имам, визирь и личный врач султана. Врач-мусульманин был из турецких евреев, и поэтому он смог быть переводчиком для Шабтая Цви: оказалось, что мессия не может достаточно хорошо изъясняться на языке страны, где он родился, — турецком. Фанаты Шабтая Цви ждали, что на Мессию перед султаном снизойдет священное облако шехина, что Мессия будет метать громы и молнии и что вылетит из дворца на волшебном ковре или верхом на белом коне и перенесет всех иудеев прямо на Сион. Согласно отчету Райкота, Шабтай находился в состоянии смущения и замешательства. Он отрицал, что сам лично когда-либо провозглашал себя Мессией. Он утверждал, что все его странные действия объясняются состояниями невменяемости. Сам султан Мехмет IV сидел за решетчатой перегородкой: он мог наблюдать за происходящим, оставаясь при этом невидимым. Многочасовые диспуты об истинной сущности новоявленного мессии из Измира, видимо, так ни к чему не привели. Султану все это в конце концов надоело. Он вообще мало чем интересовался в жизни, кроме охоты и военных сражений. Он призвал стражу и сказал Шабтаю Цви: «Вот лучник, вот его лук, вот стрела; если твое тело отразит стрелу, как броня, значит, ты истинный Мессия; если нет — не обессудь». После многочасовой консультации с визирем, раввином и с врачом-психиатром Шабтай Цви заявил, что он обращается в магометанство.
Султан принял его с распростертыми объятиями в качестве своего придворного. Ему был выдан зеленый тюрбан (цвет райского будущего) и пожалована символическая должность главы охраны дворцовых врат, что обеспечивало довольно солидную пенсию. Однако этот сомнительный триумф продолжался недолго. Я уже упоминал, что Шабтай Цви признался на комиссии по расследованию его мессианской деятельности в том, что было уже известно его близким: что «акты мессианского пророчества» совершались им в состоянии затмения ума. Именно эти состояния поклонники Мессии называли illuminations — буквально иллюминациями — то есть озарениями. Эти периоды ментального возбуждения, с песнопениями, весельем, пророчествами и богохульством, когда Шабтай называл себя вслух тайным именем неназываемого бога, эти иллюминации сменялись состоянием депрессии: он становился на многие недели затворником, переставал есть и даже молиться, пытался просить прощения у всех, кого он оскорбил. Налицо, короче, все симптомы жертвы маниакально-депрессивного психоза, или, как называют это психическое заболевание в наши дни, — биполярности. Недаром во время расследования дела Шабтая Цви в султанском дворце присутствовал врач.
В пяти минутах езды от развалин султанского дворца в Эдирне находится одна из самых древних психиатрических больниц в мире эпохи Шабтая Цви. В ее реставрированном музейном виде она напоминает здание монастыря — с колоннадой, арками, лужайками, просторными залами для консультаций и лечебных процедур. Процедуры эти поражают своими современными идеями. Тут, скажем, были сессии лечения психически больных умиротворяющими беседами и музыкой (в экспозиции музея все это проиллюстрировано старинными кабинетами восковых фигур, не менее совершенных, чем у мадам Тюссо). А гравюры XV–XVI веков — это медицинские инструкции, включающие и процедуры, связанные с женскими недугами и гинекологией. Я не уверен, что Шабтай Цви был пациентом этого гошпиталя, а мог бы. Но в этой больнице содержались пациенты и более высокого ранга, чем лжемессии.
С XVII века, вместе с приходом к власти Ахмета I (это он выстроил в Стамбуле квартал Султанахмет и Голубую мечеть), закончилась зловещая практика восхождения наследника на престол. Со смертью очередного султана наследник убивал всех братьев — претендентов на трон. Султан Ахмет вместо этого подверг всех своих родственников-соперников пожизненной изоляции в апартаментах дворца Топкапи в Стамбуле. Наложницы этих сановных узников стерилизовались, а у их стражников, евнухов и прислуги прокалывались барабанные перепонки и перерезались языки, что делало их глухонемыми. Естественно, подобный режим не сказывался положительно на психическом здоровье будущих наследников. Годы изоляции приводили к полной неспособности править государством. Некоторые умирали преждевременно, не оставив наследников. Другие буквально сходили с ума. Султан Мехмет IV, приветствовавший переход Шабтая Цви в магометанство, не желал заниматься государственными делами и увлекался главным образом охотой, пока его не сместил с престола его же визирь. Его брат Сулейман отказывался выходить из дворцовых покоев, где он провел в заключении четыре десятка лет. Он был уверен, что его уговаривали занять престол только для того, чтобы тут же убить. Неудивительно, что психиатрическая больница в Эдирне выполняла крайне важную роль в истории Османской империи, перенаселенной узурпаторами, пророками и псевдомессиями.
Вернувшись в город из руин и психдиспансеров, мы успели осмотреть главную мечеть Эдирне — Селимие — с самым высоким в мире минаретом (кроме Мекки), с 999 окнами и куполом, как утверждают, больше, чем Айя-София. Здесь я нашел просторную нишу, отделенную от общей залы колоннадой. Там стояли застекленные шкафы с томами Корана, древними молитвенниками и четками под стеклом. Я воображал себе, как новообращенный Шабтай Цви советовался здесь с главным имамом Эдирне о том, как понимать ту или иную суру в Коране. Я подошел к еще одному стенному шкафу, где по-английски туристов просили не прикасаться к содержимому за стеклом. Ряды миниатюрных объектов загадочной формы и назначения, больше всего похожих на амулеты, явно играли особую роль в мистических религиозных ритуалах. Что могли символизировать эти загадочные предметы?
Дело шло к вечеру, стало темнеть, к шкафам приблизился служка, открыл стеклянные двери и стал поворачивать один за другим эти ритуальные объекты. И возник свет. В разных углах мечети стали загораться лампочки. Конец света не наступил. Наступал теплый турецкий вечер. Я понял, что за стеклом находился просто-напросто стенд с рядами электрических выключателей.
24
Начитавшись монографий о Шабтае Цви, о его адептах и ниспровергателях, я не надеялся, что когда-либо встречу хоть одного из его последователей. В 1666 году они исчислялись тысячами. Сейчас саббатианцев можно пересчитать по пальцам, и они, как утверждали специалисты, уже давно не воспринимают себя как часть религиозной секты. По ходу чтения я делал свои открытия о потомках Шабтая и Якова Франка — от Мицкевича до Луи Брэндайса (Louis Dembitz Brandeis), первого верховного судьи США из евреев, семьи франкистов. Никто из них вроде бы не скрывал своей семейной истории, но в моем воображении их родословная и их идеология казались мне окруженными облаком секретности, тайны и мистики. По слухам, даже потомки саббатианцев опасаются говорить о своем семейном прошлом и своей якобы двусмысленной ситуации в настоящем. В книге Ченгиза Сисмана один из саббатианцев, наш современник, говорил об атмосфере скрытности в истории его семьи чуть ли не как о фрейдистском табу: «Суть дела заключалась в том, что в семейной истории существует нечто, что хорошо известно среди своих и о чем, в принципе, ты можешь спросить у близких. Но чем меньше ты об этом знаешь, тем лучше. Да, мы неким образом отличаемся от всех остальных на свете, и это отличие невозможно сформулировать. Было ясно, что это отличие существует, но об этом отличии нельзя никому говорить — и мне об этом отличии тоже не сообщалось. Я до сих пор не знаю, в чем состоит это мое отличие от всего остального мира. Мне известно, что отличие есть, хотя в чем оно состоит, я не знаю. И в этом секрет. Но это значит в конечном счете, что я ничего не знаю об этом отличии, хотя мне хорошо известно, что это отличие существует».
Именно такого рода соображения подсказывали мне, что не следует особенно копаться в происхождении тех, чьи предки могли бы быть, по моим соображениям, саббатианцами. Один из яростных разоблачителей дёнме в рядах идеологов революционного движения младотурок сравнивал саббатианцев с рыбой сазаном: как будто в зеркальной чешуе этой рыбы, где каждый может разглядеть свое лицо, наивные турки видят в секте дёнме то, что выгодно лишь самим дёнме. Использование рыбы как политической метафоры неудивительно для нации, где кулинарные рецепты в семье выдают твое этническое происхождение. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Точнее, откуда ты. Пища — часть приобщения к телу религии, материальный залог общности со своими предками. Чужое прошлое через еду становится твоим телом — вроде связи чечевичной похлебки с мотивом избранности и первородства в Библии, когда Иаков выкрал у своего брата Исава право на отцовское благословение, сумев отвлечь внимание голодного Исава похлебкой. (Это была, заметьте, красная чечевица — под цвет волос рыжего Исава.) Вино и хлеб (просфора) в ритуале евхаристии — единение с телом и кровью Христа. Новое блюдо, новая кухня — приобщение к истории людей, с которыми ты сталкиваешься. Так, опробовав какую-нибудь нафаршированную куриную шейку в лондонском ресторане, обедающий как бы приобщался к неведомому для него прошлому еврейских местечек, давно исчезнувших с лица земли.
Я узнал о книге Эсин Эден (Salonika: Family Cookbook) из монографий о саббатианцах еще в Лондоне. Я заказал эту книгу по Интернету, и оказалось, что это история Салоник 1900-х годов через рассказ о домашних кулинарных рецептах, которые Эсин узнала в детстве от своей матери и тетушек в традиционной семье саббатианцев. Это крайне любопытное руководство по кулинарии саббатианцев обрамлено двумя эссе — экскурсами ее соавтора Никоса Ставрулакиса в историю дёнме с эпохи Шабтая Цви до наших дней и картинами жизни в Салониках как семейной истории самой Эсин Эден. Кто бы мог подумать, что Эсин Эден живет и здравствует в Стамбуле, разъезжает по всему миру и, более того, она хорошая приятельница стамбульского эссеиста и издателя Османа Денизтекина.
Мы познакомились с Османом несколько лет назад на литературной конференции Eurozine в Румынии. Осман — редактор одного из самых влиятельных литературно-публицистических журналов Турции. Название журнала (он издается в Стамбуле с 30-х годов прошлого века) Varlik означает «Существование» — так, как это слово понимали экзистенциалисты, и, если судить по сборнику эссе из этого журнала в английском переводе, его авторы занимаются проблематикой Востока и Запада в жизни Турции с интеллектуальной одержимостью, знакомой мне лишь по России. Конференция происходила в Сибиу — бывшем немецком средневековом городке Геманштадт, связанном с именем Эмиля Чорана. Он, как известно, перебравшись в Париж, отбросил фашистские убеждения своей юности и стал главным врагом абстрактных истин. Мы провели несколько часов с Османом в разговорах о феномене эмиграции в литературе. Я, пижоня своим знанием Стамбула, заговорил, естественно, о саббатианцах, о том, что переход в другую религию и есть окончательная метафора двойственности эмигрантского сознания. Тогда я и описал символику саббатианцев как «ермолку под тюрбаном». Он улыбнулся и сообщил, что его жена Фелиция — из семьи саббатианцев и хорошо знакома с Эсин Эден (я с энтузиазмом обсуждал книгу Эден в нашем разговоре с Османом). Через год, во время нашего визита в Стамбул с Меламидом, Осман позвонил мне в отель и сообщил, что Эсин готова провести с нами вечер.
Я нервничал в ожидании этой встречи с реальным персонажем мифа, о котором столько читал и думал. Событие обставлялось с некоторой торжественностью. Для встречи нашими общими друзьями был выбран старинный ресторан «Хачи Абдулла» (по имени его основателя) в десяти минутах ходьбы от моего отеля — за углом от площади Таксим и центральной торгово-ресторанной улицы Истикляль. В этой столичной сутолоке турецкого метрополиса трудно без проводника открыть для себя какую-либо Турцию. Ресторан «Хачи Абдулла» существует с конца девятнадцатого столетия. С его плюшевым интерьером, расписными потолками и дружелюбными, но крайне сдержанными официантами в алых сюртуках, этот ресторан мог бы служить театральными декорациями и бутафорией в спектакле об Османской империи. Но с выбором в сто пятьдесят блюд ежедневно (а в кулинарном реестре ресторана пять сотен наименований), с рецептами султанских времен, начинаешь задумываться, какие бы из этих бесконечных вариаций тушеной, пареной и жареной баранины в комбинации со свежими овощами и травами, с экзотическим десертом предпочел новоявленный Мессия столетия назад?
Нашим гидом по мессианской диете и стала Эсин Эден. Эсин Эден опровергла и своим темпераментом, и разговорами все зловещие слухи, которые распускают о скрытности и подозрительности последователей Шабтая Цви. Эсин изучала театр в США, до сих пор руководит одним из муниципальных театральных ансамблей Стамбула, и ее часто можно увидеть в мыльных операх по турецкому телевидению — про семью и свободную любовь, само собой разумеется. Когда по ходу вечера я процитировал слухи о гомосексуальных связях Шабтая Цви, выяснилось, что для нее этот факт никогда не был табу. «Это как у котов, — сказала она. — Они всегда вначале занимаются сексом друг с другом, перед тем как перейти на кошек». Мы встретили женщину, готовую весело спорить на самые неожиданные темы с опытом (и внешностью) завсегдатая салонов — от лондонского Сохо и парижского Монмартра, Берлина или Барселоны.
Отец Эсин Эден увез семью в двадцатые годы из Салоник не в мусульманский Стамбул, а к себе в Мюнхен, но в 1928 году они перебрались в Брюссель, где и прошла юность Эсин. Поразительно, как свободно путешествовали люди по Европе — со времен Шабтая Цви — вплоть до эпохи нацизма и введения визового режима по всему миру. Путешествие с пересадками с лошадей на верблюдов, с паланкина в карету и оттуда на корабль по скорости не слишком отличалось от современных перекладных на крыльях. Разве что транспорт функционировал по более налаженному расписанию, если судить по интенсивности путешествий с одного конца Османской империи до другого в эпоху Шабтая Цви. (В нашем путешествии по Турции мы так и не добрались до Измира — точнее, не успели посетить родной город нашего Мессии, поскольку наш самолет из Каппадокии в Измир задерживался часов на пять. Выяснилось, что у самолета отвалилась дверь багажного отделения. Пока дверь приставляли обратно, мы бродили по аэропорту, читали, говорили, выпивали, снова ожидали объявлений о посадке, снова проходили детекторы на пути к самолету и снова возвращались в зал ожидания. Это крайне обострило мое представление об апокалиптических пророчествах в ожидании Мессии.) После Второй мировой войны Салоники были запретной зоной для мусульман, и поэтому семья поселилась в Стамбуле.
Никто в наши дни не поразился бы разрушению государства Израиль. История Святой Земли — это история войн, разрушения храмов и изгнания евреев. Настоящей трагедией стало бы изгнание евреев из Америки. Именно такой трагедией стало изгнание инквизицией евреев из Испании. Так же остро ощущали свое изгнание из Салоник саббатианцы во время трагического «обмена населением» между Грецией и Турцией в двадцатые годы. Дёнме старались удержаться в святом для них городе, пытаясь выдать себя за евреев (греки изгоняли лишь мусульман), но еврейская община не пожелала признать в этих вероотступниках своих собратьев. Последователи Шабтая Цви перебрались с разными злоключениями в Стамбул, в Эдирне, в Измир. Еврейство Салоник было уничтожено. Потомки сектантов-саббатианцев до сих пор процветают в Турции, поскольку их предки были изгнаны из Салоник, а турки защищали евреев на своей территории. В этом саббатианцы усматривали божественное провидение — еще одно доказательство мессианской истинности Шабтая Цви. Иудаизм — это религия, пытающаяся понять катастрофу в прошлом в большей степени, чем мессианские прогнозы на будущее.
Деды Эсин Эден в Салониках занимали руководящие посты: в управлении городом, в полиции, в органах юстиции, в торговле и финансах. Они жили в лучших квартах города, где родился и вырос будущий Ататюрк (сейчас в этом доме — турецкое консульство). Школьный учитель матери Эсин учил и самого Ататюрка. Революция Ататюрка боролась с политически закостеневшим режимом Османской империи во имя идеалов европейского Просвещения. Но при всем своем ретроградстве, коррупции и автократии султаны были совершенно либеральны, как уже не раз отмечалось нами, в отношении религиозных взглядов своих подданных. Младотурки же выступали за обновленную турецкую нацию, единую этнически, территориально и религиозно. Тут-то и возник интерес среди националистически настроенных младотурок к этническому происхождению дёнме — к их еврейским предкам. Саббатианцы оказались белыми воронами (или черными чайками).
В нашей беседе за шикарным ужином Эсин утверждала, что ее книга не имеет никакого отношения к тому, как в современной Турции воспринимают ее предков-саббатианцев. Она писала книгу семейных воспоминаний, ностальгическую книгу о семейных ужинах в вишневом саду и с небом в алмазах. Все это есть, конечно, в ее книге. Но Эсин признает, что от политики никуда не денешься даже в кулинарии. Каждое блюдо в ее рецептах связано с тем или иным религиозным праздником — точнее, ритуалом празднования определенных дат в исламе так, как их понимали дёнме. Как пишет в предисловии к книге Эсин Эден еврейский историк и эссеист Никос Ставрулакис, из-за синкретичности учения саббатианцев посторонним трудно указать, каково ритуальное значение того или иного рецепта в книге и по каким праздничным датам это блюдо готовилось. Скажем, еврейское происхождение предков Эсин проявляется в ингредиентах семейных рецептов, мусульманских по своей традиции. Бессознательно соблюдая принцип кошерности, никогда не жарили мясо на сливочном масле — лишь на оливковом; а вместо коровьего молока в десерте всегда использовали соевое или миндальное. Что неудивительно, как отмечает все тот же Ставрулакис, поскольку родственники Эсин вышли из испанской культуры (с ее кулинарией), как евреи, принявшие мусульманство и ставшие турками в своем ежедневном быту.
В такого рода духовной эклектике нет ничего уникального. Собственно говоря, в том же духе говорил о себе Владимир Набоков: «Я — американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце — по-русски и мое ухо — по-французски». Интересно, какого культурного происхождения была его печень? (Набоков любил шотландский виски.) Эсин не нужно было долго объяснять запутанность моих собственных этнических и религиозных корней. Я действительно долгие годы в детстве не подозревал о своем еврействе. И тем не менее моя бабушка готовила отличную рыбу-фиш из костлявой щуки и периодически соблазняла меня кулинарным изыском с загадочным названием цимес — то есть, насколько я помню, из сильно подслащенной тушеной моркови (с тех пор я недолюбливаю кисло-сладкие блюда). Ее еврейство выдавало себя у кухонной плиты. Однако напрямую связывать этническое происхождение с кулинарными предпочтениями довольно рискованное занятие. И в Соединенных Штатах, и в Великобритании все считают и бублики (bagels), и селедку, и соленые огурцы еврейской едой. Произошло это потому, что эти пищевые продукты славян завезли из России на Запад евреи-иммигранты. Впрочем, следует ли считать истинно русским меню селедку с картошкой под рюмку водки? В действительности все это — традиционная еда простых голландцев. Возвратившись из Голландии, Петр Великий приучил к этому меню своих подданных. Заключая нашу беседу с Эсин Эден, я хотел поднять тост за обманчивость кулинарных корней в этническом супе. Однако в этом османском ресторане алкоголь не полагался. Впрочем, айран и турецкий чай возбуждали не хуже водки. Слово «чай», напомню, и в турецком, и в русском языках — китайского происхождения; китайского происхождения, кстати, и сибирские пельмени.
25
Мы уже не подозреваем человека с двойным гражданством в двурушничестве. Мы живем ментально в нескольких мирах одновременно, не испытывая отчаяния от своей раздвоенности или растроенности. И не только в отношении компьютерной виртуальной реальности, но и в нашей ежедневной «гражданской», так сказать, жизни. Однако до сих пор того, кто сменил свое религиозное исповедание, подозревают в том, что он страдает от своего рода теологической шизофрении — расщепления личности.
Можно лишь фантазировать о муках совестливого сознания евангельского Савла после того, как он стал Павлом. Джон Генри Ньюман (1801–1890) был английским теологом, властителем умов оксфордской элиты, всех тех, кто в благополучную Викторианскую эпоху поставил под сомнение постулаты англиканской церкви, то есть английский образ жизни. С тех пор как Альбион откололся от Ватикана, когда папа римский отказал Генриху VIII в праве на развод, Ватикан постепенно превращался в глазах англичан чуть ли не в резиденцию самого Сатаны. Католики, мол, это интриганы, манипулирующие чувством вины и больной совести, они — стяжатели и думают лишь о наживе, обжоры и греховодники в апостольских одеяниях. Образ — прямо из советских учебников по антирелигиозной пропаганде. Для британских патриотов-почвенников католики еще и участники пороховых и всяких других заговоров по свержению тех законных престолонаследников британской нации, кто отказался от католичества.
Королева Елизавета просто-напросто четвертовала на площади всякого, кто подозревался в связях с иезуитами, вроде, скажем, родственников поэта Джона Донна. Мы забываем, как покалечено было сознание поэта, когда он стал свидетелем публичной казни своего кузена — с вырыванием кишок и четвертованием. Джон Донн, недолго думая, перешел в англиканство, отчасти потому, что ему претила идея мученичества — он считал ее некой формой эскапизма, попыткой хитроумно уклониться от долгого и страдальческого пути Спасителя. Вся поэзия Донна — это попытка совместить несовместимое: любовь к близким — к своей католической семье — и собственное обращение в англиканство. Мы забываем, как дрожал по ночам Александр Поуп, когда его друзья, вовлеченные в католический заговор, бежали за границу. Забываем, какому остракизму в английском обществе был предан кардинал Ньюман — блестящий ум англиканской церкви, перешедший в католичество. Каждый по-своему справляется со своим предательством, отступничеством, если хотите — духовным перерождением. Тот же Джон Донн прославлял в своей поэзии эротику адюльтера как метафору перехода в другую религию, стал воспевать измену — и мужчине, и женщине, и родине, и богу во имя Бога с большой буквы — как творческое начало. Идея двойственности души и ее диалектических противоречий, отрыв от семейной традиции католичества и переход в англиканство были для него своего рода литературным приемом.
А вот Джон Генри Ньюман до конца жизни не уставал оправдываться перед прежними друзьями и соратниками. Ньюман начинал с реформаторских, точнее, антиреформаторских идей по освобождению английского христианства от теологически ошибочных концепций и вульгаризмов. Постепенно он пришел к выводу, что истинное, с его точки зрения, христианство ничем не отличается от римско-католической доктрины. А значит: или же англиканская церковь должна вернуться в лоно католицизма, или же сам Ньюман должен стать католиком. Англиканская церковь советам Ньюмана не последовала. Поэтому Ньюману ничего не оставалось, как перейти дорогу и из англиканского священника стать католическим, за что он в конце концов и удостоился титула кардинала. Англиканские священики обвинили его в предательском вероотступничестве. В сущности, небезызвестный нам Шигалев из «Бесов» Достоевского именно так и мыслил: начал с идеи абсолютной свободы, а закончил абсолютной тиранией, ни на секунду не поступившись ни логикой, ни совестью.
Книга-исповедь Ньюмана Apologia Pro Vita Sua стала настольной для всех тех, кто постепенно оказался в рядах врага не как сознательный предатель, а как человек, постепенно меняющий свои убеждения. Его обвиняли в том, что он, давно, мол, зная о своем католичестве, продолжал в должности англиканского священника смущать умы и совращать в римско-католическую веру свою паству. Он же утверждал, что до того, как он осознал свои взгляды как римско-католические, он считал, что просто-напросто принимает участие в реформации своей англиканской веры.
Он соглашается со своими противниками, что действительно на каком-то этапе он начал подозревать, что его теологические изыскания заводят его в стан католиков. Но он не был уверен в собственных окончательных выводах и поэтому не мог объявить во всеуслышание о своих тайных и явных догадках, которые были неясны еще ему самому. На каком-то этапе он не говорил всю правду, потому что не был уверен, в какой степени «полная» правда не окажется ложью. «Полной» правды просто не было. По своим взглядам он действительно уже был католиком, но свой католицизм он не считал римско-католическим, скорей — проангликанским, но антипротестантским. Да, действительно, ретроспективно, когда он уже стал католиком, он смог провести нити, связывающие его с католицизмом чуть ли ни с самого детства. Но вся эта картина закономерной логики религиозной трансформации возникла лишь постфактум. Короче говоря, человек, ставший другим, не может отвечать за того, кем он был и кем быть перестал, считая, однако, что при этом он бессознательно был католиком с рождения — как это бывает с гомосексуальными мальчиками, с детства ощущающими свое женское начало. Он отвергал, однако, обвинения в том, что он был якобы с самого начала «двойным агентом» Ватикана. Это был творческий момент раздвоенности, а не двурушничества.
Легенды об этой шизофренической расщепленности сознания вероотступника — заблуждение. Великие религии мира — пример инстинктивной целостности человеческого сознания. Даже традиционные религии — это конгломерат противоречивых доктрин, заимствованных из различных культов и мифов предыдущих эпох, несовместимых, казалось бы, друг с другом исторических или идеологических догматов. Того, кто верит в Святую Троицу, не следует, однако, автоматически подозревать в том, что у него шизофренически троится в глазах. Точно так же ортодоксальные евреи наших дней не испытывают особых духовных мучений, следуя принципу постоянного невозвращения, вечной нестабильности, поскольку их лозунг — ежегодная молитва «В будущем году — в Иерусалиме!», но при этом они остаются в диаспоре без всякого намерения вернуться в этот Иерусалим физически, буквально. Потому что у каждого из нас свое понимание Иерусалима и концепции возвращения.
Дети иммигрантов не задумываются о своей двуязычности. В том же смысле последователи Шабтая Цви, евреи-мусульмане, не испытывали никакого расщепления личности и ощущали себя вполне цельно, исповедуя ислам с примесью суфизма, не забывая при этом иудейской Каббалы, скрывая ту самую идеологическую ермолку под мусульманским тюрбаном. Их вера при всей ее сложности совершенно не мешала им быть сознательными гражданами Турции, активно участвовать в политике, финансах, науке и системе образования, работать ради благосостояния других и для самих себя. Исходя из собственных побуждений и веры. Вопрос о лояльности возникает лишь тогда, когда появляются люди, ставящие под сомнение твою лояльность по отношению именно к ним, когда тебя пытаются занести в определенную графу анкетных данных. Когда в Ирландии кто-нибудь объявлял себя атеистом, его тут же спрашивали: «А в какого Бога вы не верите — в католического или протестантского?»
Что же касается обвинений в двурушничестве, то следует сказать следующее: правда правде — рознь и не всегда тождественна истине. Если к тебе на улице подходит бандит и спрашивает: «Деньги есть?», а ты, формально говоря, поклялся себе говорить только правду и деньги у тебя в кармане, ты не должен, казалось бы, отрицать этого факта. Но вопрос в том, для кого эти деньги. Для бандита, задающего вопрос, эти деньги не предназначены. Поэтому если ты отвечаешь, что денег у тебя нет, когда они у тебя в кармане, это не значит, что ты соврал. Ты отвечаешь, что у тебя нет денег для него — для бандита. Для таких, как он, у тебя денег нет и не будет. И в этом твоя правда. Истинность твоего ответа зависит от того, кто задает вопрос. Это не значит, что эта ложь — во спасение. Бандит, выслушав отрицательный ответ, все равно залезет к тебе в карман и отберет твои деньги. Вопросы о двойной лояльности и двурушничестве обычно заканчиваются погромом.
Мы живем в мире двойного гражданства, виртуальных компьютерных реальностей, где у людей несколько «личин» одновременно. В отличие от материальных объектов мы способны стать чуждыми собственной природе. Однако при всем плюрализме, полиамуризме и мультикультурализме люди в наше время все больше и больше замыкаются в себе, становятся все менее терпимы к пришельцам, посторонним, к тем, кто не принадлежит их роду и племени. Это ощущение племенного единства и гармонии поразительным образом ничем не нарушено, уникальное чувство клановой принадлежности ничуть не подорвано плюрализмом, царящим во внешнем мире.
Вживание в чужой быт, в чужую национальную или религиозную идею не проходит даром. В описаниях судеб каждого из легендарных вероотступников постоянно проскальзывают мотивы разочарования, тоски и одиночества. Естественно, все это зависит от интерпретации их слов и жестов. Мы слишком привязаны к рутине жизни, привычка — замена счастья, и когда не можешь найти очки, которые у тебя на носу, начинаешь впадать в истерику. Но факт остается фактом: выбитость из колеи привычного всегда ощущается болезненно. Кардинал Ньюман чувствовал себя неуютно в Риме, хотя Ватикан был для него Иерусалимом его религиозных чаяний и теологических устремлений. Кому нужен был этот английский интеллектуал с его теологическими ухищрениями по примирению английского трона с папским престолом? В родной же Англии Джон Ньюман стал чужим среди своих. Это — проблема промежуточности. От нас требуют полной определенности. От нас требуют окончательного выбора и ответов на анкетные вопросы. А он настаивал на своей промежуточности как принципе мышления. И возвел эту неопределенность в некую философию права на ошибку. Великий поэт Англии Джерард Мэнли Хопкинс, обращенный в католичество Ньюманом, вел меланхолическую жизнь чужака в католическом Дублине (он к тому же был непьющим, а главные разговоры в Дублине происходят в пабах).
Конечно, все зависит от темперамента. Наш соотечественник Владимир Печерин (1807–1885), над которым издевался в «Бесах» Достоевский, склонен был инстинктивно противоречить всем авторитетам. Остро ощущая любое проявление несправедливости и дискриминации, он в конце концов переругался со всеми — от анархистов до иезуитов — и разочаровался в христианстве. В Дублине этот русский эмигрант и монах ордена Редемптористов (Искупителей) провел последние годы своей жизни как капеллан больницы The Mater Misericordiae. Ученый-классицист, знаток Древней Греции и Рима, оставшийся в Европе вопреки настоятельным уговорам друзей и правительственных эмиссаров, Печерин перепробовал вроде бы все возможные роли в своей жизни. Но в его переменчивости была своя метода, свое постоянство. Мы знаем этот темперамент: сначала безумно увлекаться, а потом бездумно оплевывать. Его восторги после первой встречи с европейской цивилизацией продолжались до тех пор, пока хозяйка пансиона не намекнула ему: мол, если у тебя есть деньги, чтобы просиживать днями и ночами в кафе, изволь регулярно платить за квартиру. После этого вся европейская цивилизация была проклята как ничтожный мелкобуржуазный мир сантимников. Печерин подался в стан социалистов и анархистов. Пока один из анархистов не взял у него в долг последние деньги, присланные из России, и не исчез без следа, что привело Печерина, тут же разочаровавшегося в политике, в стан иезуитов. Но после нескольких месяцев изучения догматов в толковании этого ордена Печерин решил, что он окружен архилицемерами. Даже тот факт, что он в конце концов все-таки перешел в католичество, объясняется, видимо, его стремлением полностью порвать с российским (то есть православным) прошлым.
Его ужас перед возвращением в Россию почти советский. Когда его, по простоте душевной, навестил представитель российского консульства, Печерин обвинил этого добродушного чиновника в том, что тот — агент царской охранки. Печерин попал в Англию в качестве монаха, но тут же дал завлечь себя еще в одну интригу и скандал со своим собратом по ордену, в результате чего удалился в Ирландию. Как и следовало ожидать, он стал героем республиканцев, и не совсем случайно: в костер, где сжигались еретические брошюры, какой-то провокатор подбросил протестантскую Библию, что, естественно, было неправильно воспринято английскими (то есть антикатолическими) властями: Печерин (Father Pecherine) угодил в тюрьму, и про него даже распевались уличные куплеты. Видимо, при всей его строптивости, негативизме и доктринерской одержимости в нем жила инстинктивная внутренняя доброта. Его явно любили. Но конец его грустен: он разочаровался во всем — и в социализме, и в христианстве («этом бреде из Назарета»). Он продолжал регулярно писать письма своему единственному другу в России. «Отзовись, старый мой товарищ, кроме тебя, нет у меня никого на свете», — повторял он в письмах, не получая ответа. Старого друга-товарища давно не было в живых, а письма все шли.
Не слишком весело было и Гейне: последние восемь лет своей жизни в Париже он провел в лежачем положении из-за страшных болей в позвоночнике — я ощущаю с ним близость не только духовную, но и физическую (у меня с годами развился серьезный сколиоз из-за поврежденного в юности позвоночника), — как будто челночное блуждание между христианством и иудаизмом привело не только к душевной кривизне, но и отразилось на позвоночнике. Однако подобный печальный поворот в душевной жизни религиозного обращенца вовсе не обязателен. Джон Донн ушел из католицизма, потому что считал склонность к мученичеству — одной из самых греховных тенденций человеческой природы. Воспринимали католичество как чуть ли не интеллектуальную игру писатели Ивлин Во и Грэм Грин: их обращение в другую религию воспринималось как эксцентризм — вроде увлечения коммунизмом, бисексуальности или дружбы с евреями в тридцатые годы. Но в наши дни обращение в католичество бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра ничуть не изменило ни его образа жизни, ни круг его знакомств. Челночная религиозность Боба Дилана разворачивалась у нас на глазах, но его игра в молчанку на публике вовсе не обязательно свидетельствует о несчастливой личной жизни нобелевского лауреата. В наше время, переходя в другую религию, ты не меняешь своего ежедневного быта. Но именно смена общинного быта и была в первую очередь следствием вероотступничества во времена Шабтая Цви.
Религия была прежде всего образом жизни, семейной привычкой, домашними обычаями. По религиозным обрядам можно было, очевидно, ностальгировать столь же остро, что и по родной земле. Шабтай Цви с его анархизмом и склонностью к беспорядочному общению проходил в фаворитах и фиктивных начальниках султана недолго: он стал захаживать в стамбульские синагоги, флиртовать с чужими женами евреев и петь в нетрезвом состоянии еврейские псалмы. В то время как Натан из Газы видел в его переходе в мусульманство некую каббалистическую жертву по спасению заблудших душ, роковой шаг к звездам через бездну, его враги из ортодоксальных раввинов в течение последующих лет продолжали сочинять доносы. Они утверждали, не без основания, что Шабтай Цви под своим новым мусульманским именем Азиз Мехмет Эффенди продолжает не только оскорблять иудейские законы, но и впадает в ересь (с исламской точки зрения) в своих речах, периодически посещая синагоги и распевая еврейские гимны. Для религиозных евреев этот раввин из Измира Османской империи, бисексуальный красавец каббалист, шизофреник с озарениями, возомнивший себя Мессией, был самой, пожалуй, скандальной фигурой в истории иудаизма — богохульником, лжепророком и вероотступником. Для его последователей Шабтай Цви — Спаситель, пророчествующий о конце света. В конце концов, чтобы устранить кривотолки и восстановить порядок среди нацменьшинств, Шабтай Цви был отправлен в пожизненную ссылку. По доносу всех тех же правоверных евреев его снова арестовали, и султан выслал его в крепость на границе с Албанией, где он и скончался через десять лет после обращения в ислам.
26
Я никогда не думал, что попаду в это мистическое место на задворках бывшей Османской империи, где-то на границе Албании с Черногорией. Я держал этот город в уме как конечный пункт моих турецких странствий. Я с трудом разыскал это место на карте в атласе мира. У города было турецкое название Улькун — и масса других, менее произносимых эквивалентов на других языках. Я не верил, что туда можно добраться цивилизованным образом, средствами современного транспорта, а не на перекладных. Однако я довольно часто упоминал историю Шабтая Цви в трепотне с совершенно разными персонажами из моего лондонского круга общения. В одном из частных клубов Лондона, в ходе очередного разговора о лжемессиях с одной знакомой албанкой из Сохо, я заполучил телефонный номер ее приятеля из некоего бюро путешествий, которое специализировалось на необычных маршрутах по Балканам.
Общение с этим бюро путешествий и ее агентом лишь усилило атмосферу мистики, связанную с этой точкой земного шара: агентство оказалось невидимым. Лица своего агента я так и не увидел. Это был агент-невидимка. Агентство функционировало исключительно заочно. Оказалось, что это новый тип бюро путешествий: агент общался и держал связь лишь по телефону и по электронной почте. Офиса у них тоже не было: было лишь известно, что размещался агент в городе Уоррингтон (Warrington). Этот йоркширский город знаменит своей водкой «Владивар»(Vladivar). Ценить эту водку мы стали не за качество, а за ее рекламу восьмидесятых годов — в разгар холодной войны, на ее последнем этапе. В одном из рекламных роликов мы видим здание КГБ на Лубянке, затем крупный план — один из кабинетов операционного отдела с картой мира, где полковник КГБ пытается понять, где находится этот самый Уоррингтон с секретной фабрикой производства водки «Владивар». Этой же магической водкой согревали себя по секрету на еще одной рекламе (с использованием документальных кадров парада на Красной площади) члены Политбюро, заиндевевшие в страшный мороз на трибунах Мавзолея. Эти рекламные ролики (их показывали перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах) вызвали официальный протест советского посольства в Лондоне, и рекламу сняли с проката.
Все это крутилось у меня в голове, когда я обсуждал по телефону с агентом из Уоррингтона свой маршрут. Он выслушал всю доступную мне информацию о загадочном конечном пункте моего «мессианского» назначения. Агент ничего не обещал и был немногословен. Через два дня он позвонил мне и сообщил, что устроено всё — и полет, и отель на выбор: в старой части города — на скале или в Новом городе — на берегу, внизу. Наверху — крепость (где проживал свои последние годы Шабтай), внизу — пляж и все услуги. Я выбрал старые стены и крепость, хотя с моими астматическими легкими взбираться туда было явно нелегко. Все это за очень умеренную сумму — настолько умеренную, что я ожидал увидеть отель, где из крана капает бурая вода, туалет в конце коридора, бегают тараканы, а крыша протекает. Но я решил, что за визит в мистический город, где закончил свои дни Мессия, стоит заплатить отсутствием бытового комфорта.
Полет был ранним утром, в аэропорту надо быть часа за два, поэтому за окном была полная тьма. Эти полеты в часы утренней мглы вызывают у меня инстинктивное чувство страха, тоски и необъяснимой паники. Именно в такой предутренний час я отбывал из дома в аэропорт старого Шереметьева, когда эмигрировал сорок лет назад из России (оставляя жену Нину и дочь Маргариту в Москве — они должны были присоединиться ко мне позже). Я, со своей политической дальновидностью, был уверен, что никогда не смогу снова увидеть своих друзей и свой город. В аэропорту Шереметьево, перед отлетом в Вену в 1975 году, меня задержали на таможне — в кармане обнаружили случайно забытые тридцать три рубля (советскую валюту вывозить запрещалось), и я чуть не опоздал на самолет. Я был уверен, что не улечу. (В конце концов к самолету меня — в единственном числе — подвезли отдельно на аэропортовском автобусе.) Неудивительно, что у таких паникеров, как я, отъездная паника продолжается и сейчас, пока не сядешь в самолет. (Уже во время перелета из Вены в Тель-Авив в израильском самолете я вполне ожил, и стюардесса попросила меня перевести на русский для пассажиров-иммигрантов инструкции при взлете и посадке. Меня пригласили к микрофону в кабине пилота, откуда я в роли транзитного Моисея вещал о прибытии в Святую Землю.) На самолет в Черногорию я бы все равно не опоздал, потому что в тот холодный сентябрьский день над Англией стоял плотный туман и полет задерживался как минимум на час.
В маленьком аэропорту Подгорицы нас терпеливо ждал таксист, и через минуту его машина бесшумно скользила по шоссе между черногорских зеленых холмов, озер и крепостных стен. Я полагал, что к середине сентября (в неделю смерти Шабтая Цви), когда я с женой приземлился в Черногории, все вокруг будет выжжено, как и полагается в стране Средиземноморья к концу летнего сезона. Но поля и леса орошаются тут круглый год горными ручьями; деревья зеленели, трава нежно вибрировала под порывами прохладного ветерка. Таксист комментировал топографию и политическую ситуацию района, сообщил, что при всей красоте ландшафта коррупция на местах ложится позорным пятном на жизнь страны — он знает изнанку черногорской жизни, поскольку работал многие годы полицейским. «Крайне плохо с уборкой мусора», — сообщил он. Но зато (отчасти благодаря коррупции) здесь мирно уживаются православные, католики и мусульмане.
«А вы какого вероисповедания?» — спросил он. И я не решился сказать: «Иудейского». Не потому, что боялся встретить инстинктивную враждебность; скорее, чтобы не провоцировать собеседника на кучу вопросов о твоем происхождении — о предках и эмиграции, Иерусалиме и Москве. Может быть, в этом и заключается еврейское происхождение: ты подозреваешь, что тебе будут задавать вопросы, ставящие под сомнение твое происхождение, сомнительное и с твоей собственной точки зрения потенциального супостата, отступника и отщепенца, симпатизирующего и тому, кто перешел из иудаизма в католичество; и тому, кто перешел из католичества в англиканство; и тому, кто перешел из англиканства в иудаизм; и тому, кто оказался в жутком промежутке и никуда ниоткуда не переходил. Короче, я смолчал. Я думаю, мое молчание подтвердило его собственные догадки о моем происхождении.
И вот, выгрузившись у входа в отель, мы стоим перед городской крепостью на высокой скалистой горе — и все вокруг именно так, как я себе представлял в идеале, вроде театральных декораций: желтый камень стен, зеленые горы, голубое небо. Снятый нами номер в отеле — в обновленной и перестроенной части этой средневековой крепости — оказался не просто двухкомнатным: это был отдельный дом в три этажа с гостиной и кухней со всеми причиндалами старины — черепичная крыша, балки потолка, дубовые панели по стенам, две ванные комнаты по последнему слову техники — хром, полированный дуб и кафель. С террасы, где были расставлены ресторанные столики, как будто из театральной ложи над скалистым обрывом, открывался вид на изрезанное побережье на границе с Албанией и на острова Адриатического моря. Неплохое место для Мессии на пенсии.
27
«Похоже на Феодосию», — услышал я мужской голос, говорящий по-русски, и щелканье фотоаппарата. Супружеская пара средних лет, из тех, кто не может позволить себе холидей на Лазурном Берегу или во Флориде. Вооруженные фотоаппаратами с дальним прицелом и оптическим объективом, с мобильником в одной руке и с пластиковым пакетом в другой, в кроссовках и бейсбольных кепках, странная пародия на пролетарскую Америку (ту самую Америку, которую они презирают за бескультурье). Супруга, обтянутая платьем, как перекормленная индюшка на Рождество — пластиковой оберткой, послушно наводит свой айфон на море и горы внизу. Муж с животиком и решительными манерами всегда впереди, с пробежкой по утрам и с гантелями после бассейна, с поучениями насчет йогурта и йоги и распоряжениями — с путеводителем в руках — насчет того, что они опаздывают осмотреть ту или иную достопримечательность. Его располневшая супруга за ним не поспевает и боится огрызнуться на его понукания. Оба при этом ведут себя скромно, стараясь не слишком выделяться на общем фоне. Они подходят к краю крепостной террасы, чтобы полюбоваться видом на Албанию. Похоже на Феодосию. Я не был в Феодосии, но в Гурзуфе был. Главное — открыть сходство с чем-то уже знакомым, отфамильярить чуждое тебе, его принижая до дальнего родственника. Мы принимаем только то, что похоже на то, что мы уже знаем, даже если на горизонте какая-нибудь Саудовская Аравия.
За отелем возвышалась крепостная башня, где жил и умер Шабтай Цви. Там теперь, естественно, краеведческий музей. Экскурсовод, он же кассир, он же администратор этнографического музея-крепости показал нам комнату, где обитал Шабтай Цви. Мы разговорились. Экскурсовод Антон — не местный. Несколько смущаясь, он неохотно сообщает, что сам из Албании (кому охота называться албанцем), и спешит добавить, что окончил университет Тираны, специалист по Средневековью. Он обращает внимание всех посетителей музея на орнамент в стене по бокам окна в комнате Шабтая Цви. Это — высеченная в известковой стене шестиконечная звезда в круге. Такие звезды я видел на балконе уникальной мечети саббатианцев в Салониках — городе, где в девятнадцатом веке большинство населения было еврейским. Однако Антон-экскурсовод утверждает, что шестиконечные звезды — традиционный декоративный мотив Османской империи.
Я купил у экскурсовода небольшую брошюру об истории этих мест. Древние греки называли эту территорию Иллирией. Тут правили и римляне, и византийцы. В монографиях о Шабтае Цви сообщается, что крепость на скале, где он прожил последние четыре года своей жизни, не смогли завоевать монголы, но лет двести умудрились удерживать в руках венецианские купцы, пока их не вытеснили турки. Происхождение жителей этих мест так же запутанно, как сюжет и сексуальная ориентация героев комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» — с местом действия в этой самой Иллирии. Я, к своему стыду, толком не знал, как произносится название этого города-крепости Ulcinj. Выяснилось, что его называют Ульцин по-сербохорватски, а по-итальянски — Дульциньо. Говорят, этот город посещал Сервантес в эпоху испанских завоеваний — так у Дон Кихота возникла его Дульцинея.
Эти донкихотские и комедийно-шекспировские ассоциации придавали некую пародийность всей истории о мессианских претензиях Шабтая, как будто его деятельность была неким домашним спектаклем. Все обращают внимание на шестиконечную звезду на стене у окна в крепостном жилье Шабтая Цви. Но как будто не замечают самый поразительный объект в этой древней зале. В одно из окон вставлена гигантская труба из рифленой (гармошкой) резины. Это — самодельный кондиционер. Такую трубу ставят временно в строящемся помещении для вытяжки строительной пыли. Она мне напомнила трубу самовара, выведенную через форточку в случайной квартире, куда я когда-то попал с риелтором в поисках недвижимости в Стамбуле. Тут эта индустриальная труба казалась частью средневекового антуража с загадочной геральдикой и эмблематикой: она выглядела чуть ли не как Эдемский Змий, соблазнивший Адама и Еву, или как некая концептуальная инсталляция вроде той, что использовал Меламид, когда предлагал безработным художникам сменить кисть на гаечный ключ водопроводчика и в качестве упражнения соединить писсуар Дюшана с трубой канализации, чтобы сделать эту дюшановскую фикцию полезной в быту. Нечто доморощенное было и в перформансе Шабтая Цви, в его любительском мистицизме и юродстве. Его богохульство было отчасти клоунадой. Его появление в синагоге в Смирне с детской люлькой, где лежала рыбина, завернутая в свиток Торы: примитивный христианский символизм этой бутафории! Его кликушество и называние неназываемого — еврейского Бога по имени. Переиначивание всех траурных религиозных дат в праздничные. Публичные скандалы авангардиста от религии. Самого Шабтая Цви в Ульцине мучил, я не сомневаюсь, все тот же вопрос: почему к этим комическим жестам отнеслись с трагической серьезностью? Что такое носилось в воздухе, что заставило сотни тысяч людей считать его Мессией?
28
Он явно сходил с ума от скуки и тоски в этой известковой башне на скале — наедине с бывшей женой: к нему вернулась его старая, когда-то разведенная с ним супруга Сара. Это изгнание было своего рода возвращением домой, к домашнему быту, в собственное прошлое. Здесь, спустя четыре года, 17 сентября 1676 года (то есть в тот же день, когда он перешел в мусульманство за десять лет до этого) Шабтай Цви и скончался. Место захоронения Шабтая Цви точно неизвестно. «По слухам, — сказал экскурсовод Антон, — его гробница — или turbe — находится в новом, нижнем городе под горой, на одном из семейных кладбищ». Он сообщил это, почти извиняясь за отсутствие более точных сведений: каждый турист, нанося визит в город с легендарной историей, считает своим долгом навестить могилы всех великих людей этих мест.
Я не отношусь к этой категории замогильных визитеров. В иудеохристианской традиции у визитов на кладбище есть не только сентиментальный аспект. В этой традиции никогда не умирает окончательно надежда на воскрешение мертвых во плоти. Мы приходим на могилу еще и на тот случай, если придет Мессия: мертвая плоть нашего родственника восстанет из могилы — а тут и мы как раз — сидим, ждем. Мы будем первыми, кто сможет вновь обняться со своими покойными родителями, дядюшками и племянниками. Это, конечно же, в чистом виде идолопоклонство. Останки, реликвии, святые мощи. Мы все слышали про череп Гоголя в юности и в зрелом возрасте, про торговлю исчезнувшей отрубленной головой Кромвеля, знаем, что произошло с мумией Ленина. Прах Иммануила Канта переносился раза четыре (поскольку он, как атеист, изначально был похоронен за оградой кладбища), а его саркофаг вскрывался и нацистами, и советскими завоевателями Кенигсберга, так что неясно, что покоится сейчас в саркофаге — не останки ли ноги моего отца, попавшего под артиллерийский обстрел на подходах к Кенигсбергу?
Особенно запутана история останков великих вероотступников: тех, кто сменил религию, меняет и похоронное бюро, с этой церковью связанное. Из-за ссоры Печерина с его монашеским орденом в Дублине, где он провел последние годы жизни, его тело было захоронено не на монастырском кладбище его ордена, а рядом с легендарными ирландскими революционерами, поэтами и террористами — я думаю, это соседство его вполне устраивало. Это кладбище Гласнэвин описано в романе «Улисс» Джеймса Джойса. В шестидесятые годы социалисты горсовета Дублина, мало осведомленные о литературной истории города, снесли дом Леопольда Блума — героя романа Джойса (в этом доме жила будущая жена Джойса, Нора Барнакл): на месте этого исторического здания выстроили новое крыло больницы, где когда-то служил капелланом Печерин. Я помню, с каким упорством я (вместе с моей подругой Кэйт Брэйтуэйт, дочерью британского посла в Москве) пытался разыскать на кладбище Гласнэвин его могилу. Могила исчезла. На входе на кладбище мы сверились со списком имен и картой кладбища, с закрепленной за каждой могилой цифрой. В ходе поисков нужной цифры на могильных плитах больше всего поразил довольно большой огороженный участок с безымянными захоронениями: это младенцы, родившиеся мертвыми. Ирландская церковь не давала мертворожденным имени, поскольку имя должно даваться вместе с крещением — не крещен, значит, безымянный. Мы нашли место, где должна была быть могила Печерина, но между одной цифрой и другой зияла пустота. Оказалось, в наше время религиозной и общественной толерантности монашеский орден Редемптористов посмертно простил своего скандального собрата Печерина и избавил его от соседства с ирландскими террористами и националистами на легендарном кладбище в Дублине: прах его был перенесен куда-то в провинциальные пенаты, на кладбище монашеского ордена. Может быть, это было последним посмертным изгнанием Печерина — в наказание за ущерб памяти Джеймса Джойса, невольно нанесенный больницей его ордена.
Судьба Печерина — пример того, что чувство неприкаянности, отчужденности, связанное с мифом изгнания из рая, можно объяснять с разных позиций: библейских, фрейдистских, марксистских. Однако любая из этих интерпретаций подразумевает: мы на этой земле — изгнанники и покоя не будет даже в собственной могиле. Кардинал Ньюман завещал похоронить его рядом с его интимным другом и любовью его жизни, собратом по религиозному ордену Амброзием Сэнт-Джоном. Пару лет назад, в связи с предстоящей канонизацией Ньюмана, Ватикан предложил перенести останки кардинала из его Бирмингемской семинарии в какое-нибудь более подходящее место — для святыни с его костьми. Но мало кому было известно, что он завещал добавить в свою могилу во время захоронения гашеную известь. Он и его друг растворились в земле без остатка (нашли лишь кольца от гроба) и, таким образом, воссоединились и слились друг с другом навечно, устранив все домыслы, слухи и сплетни о характере их дружбы. Не это ли и есть торжество духовного над земным? Но бывает, что исчезают не отдельные части тела покойного, а он сам. Самый известный в современной истории случай связан, конечно же, с Иисусом Христом.
29
Местонахождение гробницы Шабтая Цви стало частью местных мифов Ульцина, что выяснилось в первом же ресторане, куда мы попали на ланч. Древний, то, что называется Старый, город на высоченной скале (подниматься надо минут двадцать), с узкими улочками, обрывающимися у моря внизу, оправдывает свой романтический образ. Тут есть несколько заведений с террасами, откуда открывается головокружительный вид на Адриатику. При выходе из ворот крепостного здания, где был наш отель, попадаешь в лабиринт улочек с ресторанами. Первые два ресторана — дверь в дверь — избежать невозможно, и два владельца, как во всяком туристском месте, чуть ли не подхватывали нас под локти, заманивая каждый в свое заведение. Каждый из них косился, подозревая, что мы зайдем не к нему, а к его соседу. Отчасти из чувства протеста, а отчасти из-за глубокой убежденности с советского детства, что все хорошее — не рекламируется, а если рекламируется слишком навязчиво, значит, тут что-то не то, мы уклонялись от обоих. Ресторанов в этом старом городе на скале, в тупиках и закоулках мощеных улиц оказалось не меньше десятка. Мы заглянули в несколько, выпили ракию (нечто среднее между граппой и шнапсом, без привкуса аниса — в отличие от турецкой раки или греческого узо) и опробовали местное красное с какой-то рыбной мелочью в виде закуски. Продолжили нашу прогулку по лабиринту улиц и, незаметно для себя, совершили полный круг, придя к тому же месту, откуда начали: у ворот в стене с двумя ресторанными входами нас поджидали два знакомых цербера. В конце концов, подумал я, они что — убивать или травить меня приглашают, почему бы не зайти?
На террасе при свете заходящего солнца над Адриатикой белели крахмальные скатерти столиков, салфетки, завернутые с изощренной ловкостью в форме гигантских ракушек, а в меню — только что отловленная местная рыба (басс или дорадо), кальмары на гриле и, конечно же, ракия — ее здесь подавали в бокалах, вздутых в середине, похожих на колбы средневековых алхимиков. По всему периметру барной стойки стояли модели кораблей. Выяснилось, что владелец — бывший капитан торгового флота и дальнего плавания, плавал везде, от Босфора до скал Дувра. Но смерть родителей заставила его вернуться в родные места. Раздел наследства привел к серьезной ссоре с братом. Доставшиеся ему деньги он вложил в ресторан, но конкуренция жестокая, особенно после финансового кризиса в Европе.
Пока мы ужинали, хозяин ресторана вставал на табурет и заглядывал через забор к соседу-конкуренту: смотрел, сколько у того посетителей. Делал он это незаметно и деликатно, скрывшись под навесом между двумя дворами. И периодически возвращался к нашему разговору у столика, убеждая нас, что Черногория — это страна компромиссов. (Отделение от Сербии произошло практически без кровопролития. Границы с Албанией не существует в смысле паспортного контроля.) С террасы открывался не только вид на море, но и на нижний город — с гигантским плоским пляжем с зонтиками, с отелями и барами вдоль берега, и среди них, как сложенные дождевые зонтики, несколько минаретов, по несколько раз в день живьем цитирующие суры Корана о величии Аллаха. Местные мусульмане в Ульцине не замыкаются в своем этническом гетто (как это происходит с выходцами из Бангладеш или Пакистана в Лондоне или с алжирцами в Париже). И мусульманин-албанец мирно соседствует здесь с православными и католиками.
«И с евреями-мусульманами — дёнме», — услышали мы магическое слово. За спиной у хозяина ресторана маячил его главный официант. В этом официанте я узнал дежурного из отеля. Тут, как во всяком маленьком городке, все работают по совместительству в разных ипостасях. Он сообщил нам, что в Ульцин приезжал сам президент Черногории: предлагал открыть гробницу Шабтая Цви для широкой публики. Поскольку Шабтай был мусульманином, резонно было предполагать, что сюда потянутся мусульмане со всего света. А поскольку он оставался при этом евреем, то приедут и евреи из Нью-Йорка и Тель-Авива. Двойная выгода — и от мусульман, и от евреев. Туристское столпотворение. И в первую очередь выгодно ресторанному бизнесу (президент Черногории отужинал, естественно, именно в том ресторане, где мы в тот момент сидели). Но семейство Манич ему отказало.
«Кто-кто?»
«Семейство Манич», — повторил официант. Этот молодой человек, как оказалось, хорошо знаком с семейством Манич. Это одно из старинных семейств Ульцина, владельцы целого квартала в нижнем городе. Он подтвердил, что поколение за поколением семейство Манич следит за усыпальницей Шабтая Цви. Но посторонние не допускаются. Сам он — ближайший друг одного из сыновей этого семейства. Они знают друг друга с детства. Как друг семейства он, конечно же, знает о гробнице Шабтая Цви. Но даже ему не удалось проникнуть в это святилище и увидеть усыпальницу с саркофагом. Это значит, решил я, что семья Манич — из тех самых саббатианцев. Официант стал объяснять мне, как найти этот квартал в нижнем городе. «Тюрбе» (то есть гробница или усыпальница) должна быть в одном из дворов группы домов, за магазинчиком товаров из пластика, рядом с лавкой скобяных товаров, через дверь от лавки штор и занавесок. Все эти магазины тоже принадлежат семейству Манич, в Новом городе, на площади рядом с кафе «Пирамида». (В Остию к Асаркану нужно было ехать от метро «Пирамида».) Он даже нарисовал небольшой план района на обрывке ресторанного счета и сказал, что он с детства помнит красную калитку входа в таинственный дом с усыпальницей.
История эта звучала крайне убедительно, но из талмудов о Шабтае Цви, изученных мной, я понял, что никто толком не знает, в каком из городов он похоронен — в Ульцине или албанском Берате (Арнауте). Одна из гипотез — плагиат, опять же с христианского мифа о смерти и воскрешении Спасителя. Тело умершего Шабтая было оставлено в одной из прибрежных пещер рядом с крепостью. Через три дня, когда пещеру посетили его верные ученики, тело Шабтая исчезло. Или вознеслось на небо, или воскресло, чтобы тайно продолжать благородное мессианское дело по спасению человечества в новом обличии. Собственно, в том же духе интерпретировали и переход Шабтая в мусульманство: как каббалистический уход во тьму неизведанного — спасение через мистическую бездну к звездам. Или это была клиническая смерть?
Вокруг Ульцина, похожего своими отрогами на побережье Гурзуфа (или все-таки Феодосии?), есть пара бухт с пещерами. Тот же официант, раскрывший нам секрет усыпальницы Шабтая в нижнем городе, подсказал нам местоположение одной из этих бухт. Городской пляж для плебса, а там, в отдаленной бухте, купаются только знатоки этих мест. (Моя жена любит плавать. Я плавать избегаю — с тех пор как чуть не утонул, попав в подводное течение на пляже в Корсике.) Короче, нам было что разведать на следующий день.
30
Веру во второе пришествие Шабтая Цви можно понимать в саббатианском духе, следуя каббалисту Натану из Газы, как временное «устранение» из земной сферы бытия. Но в конечном счете это была вера в бессмертие Спасителя. Вера в собственное бессмертие не излечивалась атеизмом, о чем свидетельствуют бесконечные попытки пережить и преодолеть состояние смерти якобы научными методами. Естествоиспытателями считали себя даже энтузиасты спиритуализма в викторианской Англии, как и теософы из школы мадам Блаватской, и те, кто верил в воскрешение предков, как мистический коммунист Николай Федоров; или последователи идей заморозки на многие столетия или перемещения человеческой психики-души как электронной программы в виртуальной реальности. К середине девятнадцатого столетия мистика стала наукой — ей занимались все: от Дизраэли и Дарвина до Конан Дойля и поэта Йетса, Герберта Уэлса и Максима Горького. В книге знакомого мне эссеиста и историка Джона Грэя «Бессмертная комиссия»[5] описана, в частности, и теория евгеники — то есть отбора самой совершенной человеческой породы путем создания условий для рождения спасителя, мессии. Джеральд Бальфур, брат Артура Бальфура — бывшего премьер-министра Великобритании (чья Декларация привела к созданию государства Израиль — сам Артур Бальфур был президентом общества спиритуалистов), верил в рождение дитя-мессии. Его круг соратников был убежден, что мессия уже появился на свет: это был ребенок Джеральда Бальфура и знаменитой валлийской феминистки-суфражистки, которая занималась сеансами автоматической диктовки (через посредство потусторонних сил). Ребенок этот вырос, изучал философию в Кембридже, вошел в мир политики и работал в разведке вместе с Кимом Филби. В один прекрасный момент он неожиданно подал в отставку и стал католическим монахом. Каковым и оставался до конца жизни. Своего рода верой в бессмертие продиктованы и социальные утопии, в частности коммунизм. Недаром Герберт Уэллс направил свои стопы в обитель великого мечтателя, Ленина, в Кремль.
Эти европейские идеи, где научное мышление путалось с оккультизмом, повлияли и на «богостроителей» России — Горький и Луначарский, Федоров и Красин были одержимы научными методами по обретению бессмертия. В книге Джона Грэя процитирован диалог между Горьким и Блоком, где Горький утверждал, что в будущем человеку не нужно будет тело, он станет неким вихрем энергии. (Идея не слишком далекая от квантовой механики.) Блоку эта идея показалась смехотворной. Горький занимался телепатией и верил в теории Федорова, где православие соединяется с мессианской верой в воскрешение во плоти, собранной по крупицам, рассеянным по Вселенной. Согласно Федорову, этот каббалистический акт возможен через коллективное душевное усилие людей. То есть роль Бога передана людям, человечеству. Но в концепции богостроителей воскреснут не все, а только лучшие представители человеческого рода, то есть в первую очередь большевики.
Именно в это верил Красин — один из инициаторов «комиссии по бессмертию», то есть комиссии по захоронению Ленина. Сохранились стенограммы его речи, где он прямо утверждает, что наши революционные деятели не умрут — они будут жить в будущих поколениях. Идея ленинского Мавзолея не ограничивалась просто символикой бессмертия. Красин верил в то, что если продержать тело Ленина в более или менее рабочем состоянии достаточно долго, то ученые смогут вернуть его к жизни. Идея эта не выдержала испытания временем, но вполне серьезно воспринималась тогда, когда принималось решение о бальзамировании тела Ленина. Это была эпоха, когда федоровцы, включая Циолковского, выпустили манифест, где один из лозунгов был: «Мертвые всех стран — объединяйтесь!»
Пока я перед сном со стаканом виски в руках изучал эти занимательные истории из книги «Бессмертная комиссия», в соседний с нами номер-квартиру при крепости въехала супружеская пара из России. За стеной гремели кастрюли, шипели сковороды: готовился ужин, чтобы не тратиться на рестораны. На ночь они выставили на улице за дверью своего номера-квартиры раскладную сушилку с выстиранным нижним бельем, чтобы об нее спотыкались прохожие. «Эти албанцы бардак тут развели!» — буркнул проходящий мимо нашего отеля еще один российский турист. Порядок важней закона не только в России. Порой нарушают закон, чтобы поддержать порядок. Иногда вопреки сложившемуся порядку нарушают закон. В России всегда пытаются навести порядок, игнорируя закон, но в результате не добиваются ни порядка, ни соблюдения закона. Утром за завтраком («шведский стол» в огромном ресторанном зале отеля) за столиком рядом эта супружеская пара из России, наши соседи по отелю, пыталась разрешить экзистенциальную дилемму иного рода. Супруг (не тот ли самый, что сравнивал вид из крепости Улькун с Феодосией?) никак не мог решить, пить ли ему с утра кофе или чай.
«Ты сегодня как: кофе или чай?» — консультировался он со своей супругой.
«Кофе. Да, я за кофе».
«А я, пожалуй, чай. Так ты, значит, кофе…»
«Да, кофе, кофе».
«Может, я тоже кофе? Или все-таки чай? Ты как думаешь?»
«Чай. Тебе для желудка лучше чай».
«Ну да, правильно. Ты права. Но сегодня я, может, все-таки кофе?»
Я его очень хорошо понимаю. Мужчины никогда ничего не могут решить. С одной стороны, с другой стороны. Кофе или чай? Восток или Запад? Только православие, но без народности? Или народность без самодержавия? И как дальше поступать с Мавзолеем Ленина? Этот вопрос возвращает нас к проблеме бессмертия и долгожительства. То есть здоровой диеты. В конце концов супруг взял не кофе и не чай, а стакан апельсинового сока. И тарелку, куда заодно поместились все тридцать три блюда «шведского стола».
31
Так и не решив, проверить ли сначала эти самые пещеры в легендарной бухте (и заодно искупаться) или прямиком отправиться на поиски усыпальницы Шабтая Цви в нижнем городе, мы стали спускаться к морю. Петляющая мощеная дорожка ведет из реставрированного лабиринта улочек Старого города к набережной с асфальтированной парковкой внизу, у берега, где виден гигантский городской пляж с игроками в домино, нарды и шеш-беш. Тут пьют ракию, потягивают винцо под шашлык. Залив не застроен многоэтажными отелями; это скорее битком набитая туристская коммуналка из Сербии и Боснии с крикливой рекламой, дешевыми заведениями, полутемными барами и дикой музыкой. Я все время употребляю слово «туристский». Но этот город был всегда в своем роде туристский — для греков и римлян, византийцев и венецианцев и, наконец, для турок. И это «туристское» отношение к разным религиозным общинам возвращает нас в эпоху Шабтая Цви: Османская империя была царством мультикультурализма.
В нижнем городе было шумно, пыльно и жарко. Прошествовав мимо церквей, баров, мечетей и супермаркетов, мы взяли такси, чтобы поддержать экономику этого мультикультурного курорта. По периметру прямоугольной пыльноватой площади с кафе «Пирамида» в центре, как описал нам наш информатор из ресторана, толпились лавки и магазинчики. Так выглядят все небольшие площади Средиземноморья к востоку от Греции. В кафе, на террасе, сидела толпа серьезных мужчин с лицами патриархальной небритости, дымила сигаретами и молча потягивала густой восточный кофе. Но обслуживала этих мужиков расторопная официантка в обтягивающей черной майке с надписью FCUK. Отвечая на мой вопрос о доме семейства Манич, она указала на цепочку мелких магазинчиков на другой стороне площади и объяснила, что этому семейству принадлежит чуть ли не вся улица от дальнего угла. Все соответствовало описанию ресторанного дежурного из отеля. За лавкой изделий из пластика был небольшой переулок. Мы прошлись по нему туда и обратно, пытаясь понять, какой же из домов располагается непосредственно за лавкой изделий из пластмассы.
Улица была пустынной. Но на террасах, на крышах домов — и тут, и там — сидели группами мужчины, причем в таких количествах, что похоже это было не на посиделки, а на некое сборище, митинг. Я, во всяком случае, отводил взгляд, чтобы не привлекать внимания, хотя меня так и тянуло запечатлеть их на фото как некое тайное заседание последователей Шабтая Цви. Может быть, я не так уже был не прав. Я перехватывал их взгляды, что было неудивительно: я выглядел белой вороной в поисках неясно чего. Наконец на задах одного из домов я заметил заросшую травой площадку. В траве, как старые грибы, были разбросаны полуразрушенные надгробные памятники. Я вернулся на угол площади и понял, что этот дом с надгробиями на заднем дворе находится как раз на задах той самой лавки с изделиями из пластика. Я вернулся к этому двору, двигаясь вдоль каменного забора, пока не наткнулся на калитку. Это была красная калитка — железная дверь, выкрашенная под кирпич. Судя по всему, об этих воротах и говорил официант, он же дежурный из отеля. Калитка была открыта. Вниз, во двор, спускалась каменная лестница. Возможно, если я окажусь во дворе этого дома, меня не смогут выгнать по законам восточного гостеприимства? Но кто я такой, чтобы вторгаться на мессианскую территорию? Сюда не допустили даже президента Черногории. Повторяя все это в уме, я с опаской сделал несколько нерешительных шагов по ступеням, и почти тут же из дверей дома внизу вышла крупная высокая женщина в просторном салопе и в монашеском платке.
«Тюрбе?» — спросил я, замерев. Женщина ничего не ответила. Она смерила меня с головы до ног. Мне показалось, что в этом взгляде на меня, стоящего на ступенях при входе, был момент узнавания. Как, каким образом мы узнаем своих, родственников? Каковы они, эти тайные знаки, отметины, как клеймо у овец? Скорей всего, она, как и все на Балканах или на Ближнем Востоке, тут же различила мое происхождение — племенные признаки еврея из клана Ашкеназ. Размеры носа, кривизна губ, уши или форма затылка, как будто заранее скроенного для еврейской ермолки? Соответствовал ли истине стереотип «жида» в карикатурах нацистской пропаганды? Может быть, мы подделываемся — поколение за поколением — под этот выдуманный стереотип и в конце концов становимся похожими на тех, кого ожидают увидеть в нас те, кто нас не хочет видеть? Но уместно ли это местоимение «мы» — не навязана ли эта общность с начала и до конца теми, кто не способен воспринимать каждого человека индивидуально; кто, как дикий вепрь в поисках трюфелей, постоянно разрывает корни деревьев, отчего они часто и умирают, как умирает человек, узнавший слишком много о собственном прошлом, выставленном на всеобщее обозрение. Я был готов поверить, что эта служительница культа при гробнице увидела во мне знаки принадлежности к мессианскому движению саббатианцев. Был ли я внутренним саббатианцем?
Она поманила меня пальцем. Мы стали послушно спускаться с лестницы туда, где был сад внутреннего двора. Мы прошли вдоль асфальтовой дорожки к строению на задах дома. Это был одноэтажный сарай с бетонными стенами. Так выглядят самодельные гаражи. Женщина вынула из-под складок салопа связку огромных ключей и открыла ржавый замок замызганной железной двери. За дверью я увидел помещение, которое на первый взгляд действительно напоминало заброшенный гараж. Но, вглядевшись в полутьму, я различил контуры зеленоватого надгробия на земляном полу. Пол был прикрыт восточными коврами. Тут было влажно и душно, как в бане, и зеленоватые скаты надгробного камня были явно покрыты плесенью. Это, возможно, ложное, банное впечатление укрепилось, когда заметил в ногах саркофага таз с водой. А по стенам и вокруг надгробия везде висели полотенца всех видов, расцветок, украшений и размеров. Шайки и полотенца.
Я попытался узнать, почему этот склеп увешан полотенцами. Может быть, тут обмывают ноги у священного саркофага правоверные саббатианцы по обычаю мусульман? Слово «тюрбе» — в латинской транскрипции turbe — заведомо связано с тюрбаном, что естественно, потому что гробница — это монумент с высоким камнем у изголовья вроде каменного тюрбана. Здесь этот камень у изголовья выглядел как стойка с краном в бане. А может быть, это вообще и есть ритуальные бани? Может быть, нас пригласили совершить омовение, перед тем как мы предстанем перед тюрбе Мессии? Внятного ответа у женщины в салопе добиться, однако, было невозможно: она не говорила ни на одном из знакомых мне языков. Может быть, все, кто совершает здесь ритуальное омовение, оставляют тут свое полотенце на память в подарок Мессии? Зачем? Так или иначе, моя жена со своим единственным купальным полотенцем расставаться не собиралась. Женщина в салопе проводила нас до калитки с той же загадочной молчаливой невозмутимостью, с какой встретила меня несколько минут назад.
Иностранцу иногда показывают такое, что местному человеку и не снилось: мокрое полотенце Мессии. Дорога в бухту с пещерой, где воскрес из гроба Шабтай Цви, начиналась по другую сторону от ворот Старого города. Через дорогу — православный храм, а слева — православное кладбище. Для многих кладбище — это некий другой мир, параллельная вселенная, где каждый монумент — своеобразный дом, дворец и храм души покойного; его надо убирать, ремонтировать, украшать цветами и подарками. Поэтому надгробия и могилы так похожи на стиль жизни тех, кто их воздвигает в память об умершем. Там, где жизнь не слишком ценится, процветает — с мертвыми цветами — культ надгробий. В Ульцине на православном кладбище господствует натуральная школа и классический соцреализм недавней советской жизни — замогильный китч.
32
Бухта с пещерой, где должно было посмертно покоиться тело Шабтая Цви до его мистического воспарения, оказалась действительно живописной, как и вообще все черногорские ландшафты этих мест. Однако кроме полоски каменистого пляжа почти всю бухту занимал бетонный барак с надписью «Кафе». Кафе было закрыто: окна были замурованы рифленым железом. Этот бетонный ящик возвышался на цементной платформе — было в этом нечто мавзолейное, вроде египетской пирамиды. Перед ржавой дверью на замке стоял одинокий пластиковый столик на кривой металлической ноге и с лужей в центре, похожей на немытую тарелку. Из-под столика выскочила дружелюбная бездомная собака. Она подбежала, приветствуя нас, и сразу стало понятно, что пес хромает, как столик, под которым она обитала. Одна нога была поджата, повисала в воздухе, как будто подбитая камнем. Или, возможно, она поранила лапу, бродя среди мусора и разбитого стекла. Пляж был завален старыми пластиковыми пакетами, обертками, фантиками, старыми газетами и банками, разбитыми бутылками. Есть какая-то мистическая связь между коррупцией в умах (то есть в обществе) и количеством мусора на улицах. Видимо, об этом и говорил наш таксист — бывший полицейский — по дороге из аэропорта. Как только начинается бардак в головах у населения, мусор разбрасывается бесконтрольно и никогда не убирается. Мы уже заметили по дороге к бухте: кучи мусора лепились на каждом шагу. Как будто каждый сгребал мусор на своей территории и засовывал эту помойку куда-нибудь за угол, под забором у соседа, за ближайшей скалой, у фонарного столба. Может быть, не расчищая мусор у себя под боком, население было движимо инстинктом уважения к истории? Поглядите, с каким рвением археологи раскапывают мусорные кучи Иерусалима, Афин или Древнего Рима и с каким энтузиазмом туристы рассматривают развалины и разбитую посуду античности. Что еще может так откровенно рассказать о ежедневном быте пару тысяч лет назад? Выпил ли Шабтай Цви перед кончиной кока-колу или пепси?
Посреди этого поп-арта из мусора и музейного археологического сора стояли лежаки — комфортные топчаны современного дизайна на деревянном помосте, своего рода подиуме, который возвышался над остальной частью замусоренной территории. На топчанах возлежали курортники. У каждого было махровое полотенце. Но они не купались. Они дискутировали. Никто не обращал внимания на горы помойки, никто не жаловался, никому не приходило в голову начать собирать мусор самим. У них не было времени: они были увлечены разговором. Разговор шел по-русски. Это я давно заметил, что состояние гигиены на улице и в личном быту заметно ухудшается, когда люди начинают слишком много и долго говорить о внутренней свободе или о мистической духовности нации.
Подслушанный нами разговор был про путинское вторжение на восток Украины и про засилье комаров в Черногории. (Комары маленькие, но злые и въедливые. А главное, из той породы, что не предупреждает тебя о своем приближении писком.) У меня насчет комаров своя теория. Поскольку комары пьют кровь у всего населения, в них — как бы кровь всей нации, и в рое комаров как бы веет дух народа. Так что там, где существуют комары, непременно присутствуют националистические настроения. Например, в Англии вообще нет комаров. А в Шотландии комаров много. Но в Черногории, на Балканах, как я понял, разные рои комаров — каждый комариный рой со своим национальным уклоном именно потому, что тут каждой твари по паре: боснийцы и албанцы, черногорцы и сербы. И обходятся без братоубийственных войн в отличие от других стран Балканского полуострова. Четверо отдыхающих — удвоенная копия супружеской пары за завтраком в нашем отеле плюс мать-одиночка с молчаливым ребенком — дискутировали о комариной напасти:
«У нас в доме душно. Потому что окна приходится закрывать. От комаров. Ребенка всего искусали — весь распух».
«А к нам комары не залетают. Вообще».
«Может, вы не чувствуете?»
«Как это — не чувствуем? Толстокожие, вы хотите сказать?»
«Да нет, что вы! Одних больше кусают, других меньше».
«К нам просто не залетают. У нас окна все закрыты. Но не от комаров, а от музыки — из диско в нижнем городе. Тут звук распространяется по воде. Гремит, как будто у тебя под окном. Так что окна держим закрытыми».
«Глупо как-то: купить дом в курортном месте и жить с закрытыми окнами».
«Ну заодно и от комаров. Хотя я вообще плохо сплю, даже без комаров или музыки. Нервы, нервы».
«Да я вообще не сплю. Мысли, мысли».
«Совершенно не выспалась. Давление, наверное».
«Только подумайте, что в мире происходит!»
«Такой сабантуй был у соседей. Всю ночь куролесили».
«Интересные разговоры были. Война на Украине, Крым, и всё такое».
«В Украине, а не на Украине».
«Вот-вот. И об этом тоже поспорили. Знаешь, как начнут: слово за слово…»
«Славик, сними ботиночки. Водичка теплая?»
«Слышали, что Путин сказал: „Если бы это была война, Киев давно был бы наш“».
«То есть он угрожает до Киева дойти?»
«Это не угроза. Он сказал, если бы это действительно была война — настоящая война. А сейчас, значит, не война, а так — пиф-паф».
«Славик, смотри, какой красивый жук. Вон, взял и улетел: мол, надоело мне тут с вами!»
«Но звучит как угроза, зачем угрожать, украинцы могут прореагировать».
«Ничего они не прореагируют. У них сорок тысяч американских советников».
«Откуда ты взял, что у них сорок тысяч советников? От Хлестакова услышал, что ли?»
«Я только одного не понимаю: ну как американцам удалось заставить Путина взять Крым и напасть на Украину? Как? Ну ведь всем было понятно, что это ловушка. Неужели рядом с Путиным не было никого, кто это видит? Да он сам бывший разведчик. Видимо, отупел от денег. Или сам на них работает против России?»
«Да нет, там все наши были на дне рождения: Лунгины, Успенские. Зря вы не пришли. Всю ночь куролесили».
«Я глаз не сомкнул всю ночь».
«А меня и не приглашали. Пойдем, Славик, выпьем кофейку за еврик».
До меня постепенно стало доходить, что город Ульцин — не только место ссылки османских пророков и мессий, но еще и новых полудобровольных изгнанников из России. Все свои. Тут покупают виллы те, кто не может позволить себе Антиб или Куршевель. Так, на всякий случай: если что вдруг произойдет в России. Просто так и вдруг в России ничего не происходит. Но может постепенно произойти нечто вроде конца света, скажем. Зависит от того, как вы интерпретируете апокалиптические пророчества Шабтая Цви в свете нынешней повальной эмиграции образованных классов из России. Из России пошел не только мессианский большевизм, но и израильский сионизм немыслим без российских радикалов. Не говоря уже про узбекский халифат. И русскому человеку здесь тоже все понятно: православные кругом, еда знакомая и даже язык довольно близок — нас тут понимают без всякого английского. С чего начинается родина, никто не знает. Но всем прекрасно известно, где она кончается. Она кончается на границе. Как бы ни был бездарен ландшафт, возникший за тюремными воротами, он все равно отраден. Вспомним Пушкина, чуть ли не прыгающего от восторга и ощущения свободы, когда ему удалось шагнуть через российскую границу на Кавказе. Это была Турция, не самый свободный из всех режимов той эпохи. И все равно — хоть бы Турция, лишь бы не Россия. Конечно, няня, куст рябины, покосившаяся церквуха, васильки во ржи, наличники и дачные рукомойники. Но вся эта образность замаячит в уме гораздо позже. Сейчас же главное ощущение: переступил — ты за порогом!
Почему происходит массовая миграция? Из-за разрушения сложившегося порядка — поиска фиктивных родственников? Передел географических границ в связи с перемещением народов? В наши дни мы не верим, что цивилизация обрушится, разверзнутся хляби земные и небесные, протрубит труба и наступит Царство Божье на земле. Мы больше не верим в конец света, от которого нас надо спасать. Но тем не менее и нас не покидает чувство тотального беспокойства. С концом холодной войны началось глобальное потепление. Мы верим в вечное продолжение кошмара. Верим, что у нас все отберут и будущего не будет. Мы верим в конец света в другой упаковке: ядерной катастрофы, возрождения фашизма, фатальных эпидемий, всемирного банковского кризиса, патологического несварения желудка. Коллективное безумие. Коллективность всякого безумия. Эти страхи заставляют нас менять профессию, страну проживания, религию. Переменив и место, и образ жизни, мы успокаиваемся. Но лишь на время. Потому что страх перед приближающейся катастрофой никуда не девается, он лишь обретает новый словарь, новое обличье, форму выражения. Надежда на спасение от этого вечного повтора, кармы или реинкарнации и есть, может быть, ожидание Мессии и Второго пришествия. В конце концов, и эмиграция — это тоже своего рода ощущение конца света, если под всем светом понимать свою собственную родину.
Моя жена тем временем сделала заплыв. Она углядела пещеру справа от бухты. В эту пещеру можно было попасть лишь со стороны моря. Однако вход в эту пещеру был недоступен. Пещера была плотно забита помойными мешками. Трудно сказать, скрывалась ли за этой помойкой усыпальница Шабтая Цви. Ведь один из легендарных образов еврейского Мессии — это нищий у ворот Рима. А там, где нищий, — там и мусор. Все пророческие секты связаны с нищенством и трущобностью: грязь и лохмотья Индии, чудовищные клоаки хасидских деревень, монастырская немытость. Мы поняли, что нам пора отсюда отваливать.
33
Когда мы добрались до своего отеля в верхнем городе на скале, стало необычно быстро темнеть. Это закатывалось не солнце: это вечернее солнце затемняли черные тучи — надвигалась гроза. Уклоняясь от первых тяжелых капель и наших российских соседей, мы нырнули под арку в первый же открытый ресторан. Владелец ресторана — конкурент бывшего капитана — усадил нас за столик, ничем не отличавшийся своей элегантностью и шикарным видом на Адриатику от своего двойника за забором. И меню было практически неотличимо от соседского. Более того, ресторатору помогал обслуживать клиентов все тот же расторопный молодой человек — дежурный из отеля. Он явно работал попеременно на двоих.
Услышав про наши приключения в усыпальнице Шабтая Цви, наш информатор был совершенно потрясен тем, что я был допущен в эту святыню. Усыпальница, возможно, фикция. Но тот факт, что я в эту фикцию был допущен, был важней, чем реальность самой могилы. Мистика с полотенцами при гробнице объяснялась довольно просто. По традиции в таких святилищах оставляют для покойного ритуальный жбан с водой и полотенце. Согласно легенде, такое вот полотенце в гробнице Шабтая Цви каждое утро находили влажным: это значит, что он вставал из гроба для омовения. С тех пор каждый молящийся в этой гробнице приносил Шабтаю Цви свое полотенце в дар. Моя жена отказалась принести в дар пророку свое пляжное полотенце и тем самым, возможно, задержала наступление конца света, который предсказывал Шабтай Цви. Не из-за этой ли нашей мелочности грянул гром невероятной мощи, молния — несколько молний сразу прорезали небо над Адриатикой, над крышами, куполами церквей и минаретами. Омовение в гигантских масштабах. Как только поддаешься идее сакральной связи между событиями, тут же гром, ливень, мокрые полотенца и усыпальница мессии начинают складываться в единый сюжет. И белье у наших российских соседей по отелю, выставленное на тротуар, хорошенько вымокло — отметил я в уме с неясным для себя самого чувством глубокого удовлетворения. И тут же устыдился собственного злорадства.
Это был канун (я сверился с календарем дат Би-би-си) еврейского Дня Всепрощения — Йом Кипур. Я не уверен, как интерпретировал эту священную для ортодоксального еврейства дату Шабтай Цви.
Наш ресторатор тем временем стоял на табуретке и заглядывал через забор: сколько клиентов у его конкурента, бывшего капитана дальнего плавания? Прощаясь, я попросил у него визитную карточку на память. Фамилия показалась мне знакомой. Я сравнил эту карточку с той, которую получил от его конкурента: у владельцев была одинаковая фамилия. «Они — родные братья», — шепнул нам наш конфидент-официант.
Примечания
1
Mark Mazower, SALONICA: City of Ghosts.
(обратно)2
Юрий Зверев. Из цикла рассказов «Памятные встречи»: «Георгий Костаки — хранитель русского авангарда».
-art.narod.ru/ras/53.htm
(обратно)3
См., например: Иосиф Бродский. Путешествие в Стамбул (1985).
(обратно)4
Среди них американский нейробиолог Дэвид Иглмэн (David Eagleman).
(обратно)5
John Gray. The Immortalization Commission: Science and the Strange Quest to Cheat Death.
(обратно)


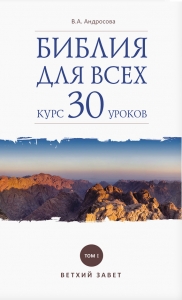
Комментарии к книге «Ермолка под тюрбаном», Зиновий Зиник
Всего 0 комментариев