Рыцарский эпос
Один из наиболее значительных памятников средневекового рыцарского эпоса – «Песнь о Роланде». В основу сюжета поэмы (датируется XII в.) положена история легендарного похода франков под предводительством короля Карла Великого в мавританскую Испанию.
Главное в образе Карла в поэме – это мудрость, подчёркнутая возрастом. Королю «за двести лет», хотя на самом деле Карлу Великому на момент описываемых в ней событий едва исполнилось тридцать пять. А в поэме ему «за двести». Но, несмотря на столь древний возраст, он всё ещё способен сражаться. В финале «Песни о Роланде» описывается поединок короля франков с сарацинским эмиром Балиганом, в котором Карл одерживает победу. Старость не делает его немощным. Кроме того, король никогда не оставляет вассала в беде и не принимает единоличных решений. Карл представлен как некий идеал властителя. Однако главный герой поэмы – Роланд, идеальный рыцарь.
Франки ведут продолжительную войну с маврами, стремящимися создать в испанских землях мусульманскую державу:
Державный Карл, наш славный император,
Семь долгих лет в Испании сражался,
И до моря вся горная страна
В его руках; сдалися Карлу замки,
Разбиты башни, грады покорились
И стены их рассыпались во прах.
Лишь не взял Карл Великий Сарагосы,
Что на горе стояла… (1)
Единственный город, который войску франков не удалось побороть – это Сарагоса, где правит царь Марсилий.
Мавры пытаются хитростью добиться перемирия с Карлом. Они сулят франкам великие дары, клянутся в дружбе, а Марсилий даже заявляет о своей готовности принять крещение, надеясь этой ложью заставить противника отступить. Рыцарь Роланд призывает короля не верить обещаниям Марсилия и как можно скорее отправиться с оружием к стенам непокорной Сарагосы. Но Карл решает всё же отправить в Испанию послов. Это очень сложная и опасная миссия. Карл обращается к своим вассалам с вопросом:
«Кого послать? Скажите мне, сеньоры»…(2)
Роланд, не раздумывая, восклицает, что готов исполнить поручение.
Но Карл не хочет рисковать жизнью молодого бретонского графа Роланда – своего племянника, одного из двенадцати пэров, которые считались равными самому королю. Доблестному рыцарю Роланду французское войско обязано многими победами. И тогда Роланд предлагает поручить столь ответственную миссию графу Гвенелону. Это имя по-разному произносится – Гвенелон, Ганелон, но это не столь существенно. Гораздо важнее, что Гвенелон – отчим Роланда. И между ними идёт давняя вражда:
… «Пусть едет Гвенелон,
(Он вотчим мой) – пригоднее барона
Нельзя найти». И молвили французы:
«Он лучше всех исполнит порученье!» (3)
Гвенелон убеждён, что Роландом движет лишь личная неприязнь.
Прекрасен был могучий Гвенелон:
Широкобёдр и статен, – ярким светом
Его глаза лучистые горели,
И весь гроза, величествен и горд
Стоял он там, и взоров восхищённых
С него свести бароны не могли.
Воскликнул он: «За что, Роланд безумный,
Пылаешь ты ко мне такою злобой?..» (4)
Гвенелон жаждет отомстить Роланду. И он совершает предательство: убеждает Марсилия в том, что Карл согласен положить конец войне и вернуться в родные пределы. Но король не может оставить уход французского войска без прикрытия. Гвенелон обещает маврам уговорить Карла направить в пограничное Ронсевальское ущелье небольшой арьергард во главе с рыцарем Роландом, и если Марсилий разобьёт этот отряд, сумеет сразить лучшего воина короля, то франки будут ему уже не страшны.
Всё происходит именно так, как задумал Гвенелон. Он возвращается в стан французов с ключами от Сарагосы. Роланд собирает друзей, которые должны спуститься вместе с ним в ущелье, когда Карл будет уводить полки: доблестного Готье, Ожье-датчанина, архиепископа Турпина, славного Оливьера.
Роланд предчувствует нечто недоброе, но как истинный рыцарь не может не принять брошенный ему вызов:
… «Спасибо, Гвенелон.
Поставлен я тобою здесь на страже,
И славный Карл, французов повелитель,
Пока я здесь, ни мулов, ни коней,
Ни скакунов ретивых не лишится:
За каждого из вьючных мулов Карла
Мой меч врагов заставит заплатить!» (5)
Гвенелон надеется, что Роланд дрогнет. Но Роланд бесстрашен. Покидая Испанию, король предлагал Роланду оставить с ним половину своих дружин. Но рыцарь ответил отказом:
Себя и род свой я не посрамлю!
При мне оставь лишь двадцать тысяч войска.
Иди спокойно; если жив я буду –
Никто тебя, король, не потревожит!» (6)
Воины Роланда долго провожают взглядом уходящих на родину франков. Но когда те почти скрываются из виду, Оливьер замечает, что к ущелью движутся несметные полчища сарацин. Отряду Роланда с ними явно не совладать. Оливьер призывает Роланда трубить в рог, пока Карл ещё может услышать его призыв:
«Товарищ мой! – воскликнул он
к Роланду. –
Встаёт гроза из-за испанских гор!
О, сколько белых панцирей, как пламя,
Сверкают шлемы, – плохо нам придётся,
И это знал коварный Гвенелон, –
Он дал совет на страже нас оставить!»
Роланд в ответ: «Замолкни, Оливьер…» (7)
Оливьер пытается убедить Роланда:
… «Испанцев много тысяч, –
Немного нас!..»
Он всё время повторяет:
«Трубите в рог, Роланд, товарищ милый,
Услышит Карл, на помощь к нам, не медля,
Примчится он со всей своей дружиной». (8)
Гордый Роланд отказывается это сделать.
Почему он не стал трубить в рог? Ведь это обернулось гибелью лучших воинов Карла. Ни один человек не спасся. Автор поэмы замечает: «Мудр Оливьер, а граф Роланд бесстрашен» (9). И действительно, прав был Оливьер: надо было звать на помощь, но Роланд не послушался и погубил весь отряд. Тем не менее, он – герой этой поэмы. Это «Песнь о Роланде», а не об Оливьере.
В Роланде воплощены главные качества рыцаря. Прежде всего – абсолютная преданность королю. Роланд готов погибнуть ради Карла:
«…Обязан каждый рыцарь за сеньора
Терпеть и зной, и холод, и лишенья.
Жалеть не должен кровь свою и тело!..» (10)
Кроме того, рыцарь должен быть храбр. А вот мудрым ему быть не обязательно. Вообще, можем ли мы сказать – рассудительная храбрость? Нет. Другое дело – храбрость безрассудная. Так вот: Оливьер – мудр, Роланд – храбр, а храбрость всегда немного безрассудна.
Но есть и ещё нечто очень важное, что мешает Роланду протрубить в рог. Это – честь. В ответ на слова Оливьера, который призывает товарища: «Трубите в рог!», Роланд восклицает:
… «Безумцем буду я,
Покроюсь я во Франции позором!..
Не в рог трубить, – мечом стальным я должен
Врагов разить, и кровию багряной
Покроется мой добрый Дюрандаль…» (11)
Роланду кажется, что это даст повод заподозрить его в трусости:
… «Избави Бог, чтоб я
Всех родичей своих покрыл позором
И Францию родную осрамил!
Мой добрый меч работать славно будет,
В багряный цвет окрасится булат,
Испанским маврам плохо здесь придётся:
Погибнут все, я в том клянусь, друзья!» (12)
Честь не позволяет ему звать на помощь. Он не осрамит «милую Францию» и своих сородичей, которые могут подумать, что он дрогнул перед маврами. Рыцарь не знает страха. Он лучше погибнет, но честь свою не уронит. Роланд отказывается трубить в рог, и ни один из сражавшихся рядом с ним франков не уцелел в этой битве, следовательно, сама эта песнь – о поражении.
Обычно люди не хотят помнить о своих поражениях. Помнятся победы. И народы тоже не любят вспоминать поражения. Все национальные эпосы всегда о победах. Ахейцы одержали верх над троянцами; в России до сих пор чтят победу в Отечественной войне 1812-го года…
Но дело в том, что «Песнь о Роланде» – это христианский эпос. Важна не реальная победа, а знаковая. Замечу, знаменитый памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» тоже описывает неудачный поход русских князей на половцев во главе с Новгород-Северским князем Игорем Святославичем, который в итоге гибнет. Да и Иисус Христос, можно сказать, потерпел поражение: его распяли. Но он одержал истинную победу – духовную. Важен знак, а не фактическая сторона событий…
Кстати, здесь заключено важное отличие христианского эпоса от античного, в котором знак и предмет неотделимы друг от друга. Конечно, полученная в дар Хризеида для героя «Илиады» Агамемнона – некий знак. Он был вынужден вернуть пленницу её отцу, жрецу Хризу… Но взамен предводителю ахейского войска нужна столь же достойная награда, какой была Хризеида. Любая его не устраивает. А в «Слове о полку Игореве» русские воины, захватив добычу, тут же её уничтожают. Почему? Их не интересует материальное…
В знаковом смысле Роланд торжествует в этой битве. Как сказано в поэме, он «погиб, но победил».
Но в «Песне о Роланде» все предметы обретают некий иной, символический смысл. Символизм вообще – отличительная черта мышления человека Средневековья. Конечно, вещи имеют для него и реальное, бытовое значение, но главное в них всё-таки не практическая, материальная, а символическая составляющая. Начну с двух главных предметов, присутствующих в поэме: это меч Роланда Дюрандаль и рог – Олифант. Это нечто очень важное для рыцаря: меч и рог. Но Роланд отказывается трубить в рог, считает, что должен сражаться, а не трубить. Это недостойно рыцаря. Он все-таки берёт в руки рог, но лишь в тот момент, когда его положение становится безнадёжно. Это не мольба о помощи, которая его отряду больше не нужна, а призыв к мести. Роланд призывает Карла вернуться в ущелье и продолжить сражаться с маврами, с которыми до последнего бился сам.
Замечу, это требует от Роланда колоссальных усилий. Ему чрезвычайно трудно трубить в рог, он тяжело ранен:
Кровавой пеной рот покрыт Роланда,
И жилы все раскрыты на висках,
С большим трудом, с невыносимой болью
Трубит Роланд, – услышали французы… (13)
Но что происходит с рогом Роланда? В конце концов рыцарь использует его как оружие: ударяет им врага, и рог раскалывается. Роланд использует рог как меч. А вот свой меч Дюрандаль он готов был сломать, потому что понял, что гибнет. Меч не должен достаться противнику. Но Роланд не может его уничтожить. Меч не ломается, и это тоже очень важный символ.
Схожую роль играет в поэме и цвет. Главные цвета в «Песне о Роланде» – это белый и чёрный. В начале поэмы дается описание мавров, которые восседают на чёрном мраморе, в то время как
Баронов Карла – всех пятнадцать тысяч.
Сидят на белых шёлковых коврах,
Играют в кости…
<…>
Неоднократно подчеркивается деталь – белые руки франков. Или вот как описывается в поэме сам Карл:
Волной седые кудри ниспадают,
А борода его белее снега. (14)
Седина короля здесь тоже не только выражение его почтенного возраста, но и символический атрибут франков. Белый цвет всё время их сопровождает.
Гибелью Роланда песнь не заканчивается. Воины Карла устремляются вслед за сарацинскими ратями. Роланд гибнет, но главная цель похода франков – обращение мавританской Испании в христианскую веру (для этого, собственно, и велись сражения) – достигнута. Правда, добились они этого силой…
…Занял город Карл.
Он дал приказ: и тысяча баронов
Обходят все мечети, синагоги,
И молотом и ломом сокрушают
Все идолы святилищ Мухаммеда.
Всё колдовство, все чары навсегда
В том городе король наш уничтожил.
Он хочет Богу службу сослужить:
Епископы там воду освятили
И повели креститься сарацин.
Кто не хотел креститься, – тех, не медля,
Французы жгли, и вешали, и били…
Сто тысяч мавров были крещены, –
Все добрыми сынами церкви стали. (15)
Но как могли, так и сделали. Пришли с мечом, и, если кто не желал покориться, тех «жгли, и вешали, и били». Единственная настоящая победа Карла в этом смысле – жена Марсилия королева Брамимонда. Её никто не принуждал. Она добровольно приняла крещение.
Ещё один важный образ поэмы – Гвенелон. Дело в том, что Гвенелон не считает себя предателем. Он всячески подчёркивает, что не предал, а отомстил Роланду. Он убежден, что вершит законное право рыцаря на междоусобицу: это не он Карла предал, а Роланд совершил предательство, предложив отправить своего отчима Гвенелона в столь рискованное посольство. Нам кажется очевидным, что Гвенелон виновен, но Карлу это видится иначе. И чтобы разрешить возникшее противоречие, Карл прибегает к помощи Божьего суда. А что это значит? Сторонники Гвенелона и сторонники Роланда должны сойтись в поединке. Кто победит – за того и Господь. Карл не берётся сам признать вину Гвенелона. Гвенелон, конечно, мог мстить Роланду, но при этом он мешал Роланду выполнить свой долг перед Карлом, а потому Гвенелон изменил не только Роланду, но и Карлу – так считают сторонники короля. Но сам Карл колеблется…
Поэма имеет, казалось бы, благополучную развязку. Всё вроде бы хорошо, и даже Брамимонда обращена в христианскую веру. Но вот Карлу является архангел Гавриил с таким посланием:
«Зови, король, скорей свои дружины, –
Так молвил он, – велит тебе Господь,
Чтоб в Бирскую страну ты шёл, не медля,
Спеши туда на помощь Вивиану.
Его столицу Иф в осаде держат
Несметные дружины сарацин.
Тебя зовут напрасно христиане!»
Не хочет Карл идти и молвит он:
«О Боже, жизнь моя полна мучений!» -
Рыдает Карл, рвёт бороду седую… (16)
Песнь всё-таки завершается плачем, как и должно быть, ибо это песнь о гибели Роланда, песнь о поражении. И дело не в том или не только в том, что здесь изображён подвиг во имя веры, хотя, конечно же, этот мотив присутствует. В поэме не случайно столь важную роль играет образ епископа Турпина, наделённого не только доблестью, но и обладающего бесспорным моральным авторитетом. Но всё-таки это рыцарская поэма, а не религиозная. Кроме того, это явление христианского эпоса. Здесь отражено духовное, а не действительное торжество. И, наконец, в основе её лежит реальный исторический факт. Народный эпос всегда основывается на мифологическом сюжете, и это всегда некое особое эпическое время. А в «Песне о Роланде» изображены реальные исторические события, конкретная дата – 778 год, и за образами главных героев тоже угадываются некие реальные исторические прототипы.
Рыцарская поэзия -
следующий этап развития средневековой европейской литературы, связанный с важнейшим событием эпохи – Крестовыми походами (1096—1270). Давая историческую оценку Крестовым походам, не надо впадать в крайности. Это была прежде всего борьба христианского Запада с мусульманским Востоком. Главная её цель изначально провозглашалась как попытка отвоевать Иерусалим, Гроб Господень и другие религиозные святыни, находившиеся в ту пору под властью мусульман. И потому это были не национальные, а интернациональные войны; в походах участвовали представители разных западноевропейских держав, объединенные общей идеей, единым религиозным порывом. Это религиозное воодушевление играло, несомненно, существенную роль, и без него Крестовые походы были бы невозможны. Однако не следует забывать о другом: рыцари грабили земли, в которые вступали, и порой эта разрушительная, корыстная сторона заслоняла собой идеалы. Достаточно вспомнить, к примеру, какому страшному опустошению подвергся Константинополь. Поэтому не надо недооценивать или преувеличивать какую-либо из этих двух составляющих – обе они существенны.
Но какими бы ни были цели, Крестовые походы привели к резкому изменению облика всей средневековой Европы. Оживились торговые связи между Востоком и Западом. Иным стал сам уклад жизни по сравнению с тем, что было свойственно роландовой эпохе. Начался подъём крупного европейского феодализма. На смену суровому величию и простоте жизни раннего Средневековья приходит стремление к роскошному убранству, интерес к диковинным заморским товарам. Но в то же время часть рыцарства разоряется, и возникает тип безземельного рыцаря, которого не знало раннее Средневековье. Он знатен, но у него уже нет ничего, и он вынужден пополнять собою челядь более удачливых феодалов.
Однако следует отметить: богатство здесь всё ещё сохраняет знаковый характер. Его нужно тратить: содержать огромное количество придворных, устраивать роскошные пиры, турниры… Но ни в коем случае не копить, Кстати, название известного пушкинского произведения «Скупой рыцарь» – это оксюморон. Рыцарь не может быть скупым! Ему положено быть мотом, транжирой, проявлять чудеса расточительности; разорившийся рыцарь – это пожалуйста, но скупых рыцарей не бывает.
XI-XII вв. – это время расцвета куртуазной литературы – поэзии и прозы. Рыцарская лирика возникла на юге Франции, в Провансе. Провансальские поэты-лирики стали именоваться трубадурами, северо-французские придворные поэты-певцы – труверами, а германские – миннезингерами, от старого немецкого слова миннэ, поэтическая любовь.
У рыцарской лирики были свои социальные и религиозные корни. Социальные связаны с тем, что поэты изображали любовь к даме, как правило, более знатной, чем рыцарь. Она – жена знатного сеньора, он – вассал. Рыцарь присягает даме на верность, дама дарит своему поклоннику кольцо, ленту, «вписывает его в свою хартию»… Тема феодального служения входит в сам язык такой лирики.
Но это поклонение женщине, отношение «снизу – вверх» диктовалось и религиозными представлениями. Вообще, в католичестве изначально был очень силен культ Девы Марии. Конечно, и в православии он присутствует. Но в православной традиции подчеркивается материнская ипостась: Деву Марию принято именовать Богородицей. В католичестве же акцентировалось другое. Дева Мария, вообще женское начало, воспринимались как некое земное воплощение божественного. Не случайно любовь к женщине в рыцарской лирике носит, как правило, идеальный характер: женщина поднята на необыкновенную духовную высоту…
Для рыцарской лирики характерны твёрдые жанры. Вообще, жанр в ней даже более значим, чем индивидуальность поэта. Это связано с тем, что сама средневековая жизнь была в высшей степени ритуализирована. Взять, к примеру, «Песнь о Роланде». Как в поэме выражается горе? Люди рвут на себе волосы: и Карл Великий, и жена Марсилия Брамимонда… Что это такое? А то, что именно так человеку Средневековья полагалось демонстрировать скорбь и отчаяние. Это не означает, что герои поэмы неискренни в своих чувствах. Король Карл глубоко переживает гибель Роланда, Брамимонда скорбит о кончине мужа. Но выражаются эти чувства в общепринятой, единой для всех, готовой форме. Так и в поэзии. Существовали определённые правила проявления любовного чувства.
Канцона (от итал. canzona, буквально – песня) – универсальный поэтический жанр, наиболее сложное по строению поэтическое произведение, сочетающее в себе различные стихотворные размеры. Что касается содержания, канцона – это всегда изображение возвышенной любви. Как правило, канцона посвящена любви рыцаря к некой нездешней прекрасной женщине, любовь издалека. Рыцарь находится вдали от своей дамы по горизонтали, в пространстве. Но в то же время дама всегда значительно отстоит от него и по вертикали – своему положению в обществе. Вот, к примеру, одна из таких канцон. Она принадлежит знаменитому провансальскому трубадуру Джауфре Рюделю (сер. XII в.):
Мне в пору долгих майских дней
Мил щебет птиц издалека,
Зато и мучает сильней
Моя любовь издалека.
И вот уже отрады нет,
И дикой розы белый цвет,
Как стужа зимняя, не мил.
Мне счастье, верю, царь царей
Пошлёт в любви издалека,
Но тем моей душе больней
В мечтах о ней – издалека!
Ах, пилигримам бы вослед,
Чтоб посох страннических лет
Прекрасною замечен был!
Что счастья этого полней —
Помчаться к ней издалека,
Усесться рядом, потесней.
Чтоб тут же, не издалека,
Я в сладкой близости бесед —
И друг далекий, и сосед —
Прекрасный голос жадно пил!
Надежду в горести моей
Дарит любовь издалека,
Но грёзу, сердце, не лелей —
К ней поспешить издалека.
Длинна дорога – целый свет,
Не предсказать удач иль бед,
Но будь, как бог определил!
Всей жизни счастье – только с ней,
С любимою издалека.
Прекраснее найти сумей
Вблизи или издалека!
Я бы, огнём любви согрет,
В отрепья нищего одет,
По царству сарацин бродил.
Молю, о тот, по воле чьей
Живёт любовь издалека,
Пошли мне утолить скорей
Мою любовь издалека!
О, как мне мил мой сладкий бред:
Светлицы, сада больше нет —
Все замок Донны заменил!
Слывёт сильнейшей из страстей
Моя любовь издалека,
Да, наслаждений нет хмельней,
Чем от любви издалека!
Одно молчанье – мне в ответ,
Святой мой строг, он дал завет,
Чтоб безответно я любил.
<…>
Одно молчанье – мне в ответ.
Будь проклят он за свой завет.
Чтоб безответно я любил!
(Пер. В. Дынник) (17)
«Издалека» носит в канцоне пространственный характер. Но это «любовь издалека» ещё и потому, что возлюбленная выше рыцаря по своему социальному статусу…
Мы привыкли к тому, что биография поэта многое объясняет в его стихах, а здесь – наоборот: она создаётся на их основе. Вот, к примеру, биография Джауфре Рюделя: «Джауфре Рюдель де Блая был очень знатный человек – князь Блаи. Он полюбил графиню Триполитанскую, не видав её никогда, за её великую добродетель и благородство, про которые он слышал от паломников, приходивших из Антиохии, и он сложил о ней много прекрасных стихов с прекрасной мелодией и простыми словами. Желая увидеть графиню, он отправился в крестовый поход и поплыл по морю». На корабле знатный трубадур заболел, и его умирающего привезли в Триполи. «Дали знать графине, и она пришла к его ложу и приняла его в свои объятия. Джауфре же узнал, что это графиня, и опять пришёл в сознание. Тогда он восхвалил бога и возблагодарил его за то, что бог сохранил ему жизнь до тех пор, пока он не увидел графиню. И таким образом, на руках у графини, он скончался. Графиня приказала его с почётом похоронить в соборе триполитанского ордена тамплиеров, а сама в тот же день постриглась в монахини от скорби и тоски по нём и из-за его смерти» (перевод М. Сергиевского). (18)
Вряд ли подобное жизнеописание поэта имеет какое-либо отношение к реальной действительности, но оно создано на основе его стихов. Это очень важный момент.
К наиболее типичным формам рыцарской лирики относится серенада, вечерняя песня, которую рыцарь исполнял, стоя под окном или балконом возлюбленной. Кстати, принцип вертикали в этом случае тоже очевиден.
Альба – несколько контрастная форма средневековой лирики. Это «песня зари», утренняя песня. Любовь рыцаря и дамы носит здесь уже более чувственный характер. Как правило, это описание тайного свидания, и наступление утра означает здесь расставание. Оставленный у дверей спальни страж или слуга сообщают влюбленным о том, что близок час рассвета, а значит, настала пора прощаться. Приведу пример, в котором, пожалуй, наиболее очевидно выступает символика альбы. Автор стихотворения – Гираут де Борнейль:
«О царь лучей, бог праведный и вечный,
Свет истинный, единый, бесконечный,
Молю тебя за друга моего.
Уж с вечера не видел я его,
И близок час денницы!
Предшественница утренних лучей
Давно горит во всей красе своей,
Товарищ мой, усталые ресницы
Откройте вы, – как утро молода,
Вдали горит восточная Звезда,
И близок час денницы!
О милый друг, услышьте песнь мою:
Приветствуя пурпурную зарю,
Уже давно в лесу щебечут птицы,
О горе вам, настал ваш смертный час!
Соперник ваш сейчас застанет вас, —
Уж брезжит луч денницы!
Забылись вы – и плач напрасен мой.
Внемлите мне, товарищ дорогой,
И сонные свои откройте очи:
На небесах бледнеют звезды ночи,
И брезжит луч денницы!
Прекрасный друг, товарищ милый, где вы?
Расстались мы, и сына Приснодевы
За вас всю ночь я пламенно молил
И, на коленях стоя, слёзы лил, —
Уж блещет луч денницы!
Вас сторожить просили вы вчера,
И простоял я с ночи до утра;
Напрасно все: и плач мой, и моленье!
Соперник ваш своё готовит мщенье, —
Зарделся свет денницы!»
«Мой верный друг, могу ли вам внимать я,
Когда подруги жаркие объятья
Заставили меня забыть весь свет,
И до того мне вовсе дела нет,
Что рдеет луч денницы!»
(Пер. Ф. де Ла Барта.)
Конечно, это уже вполне «любовь вблизи»: мы видим героя в объятиях госпожи. Но всё равно любовные переживания здесь ещё сохраняют знаковый характер. Я поясню: для женщины близость является наивысшим выражением её любви. Важно не столько само чувственное наслаждение, сколько знак. Дама может подарить рыцарю нечто на память, наградить его поцелуем или каким-то иным образом выразить симпатию, но подлинность чувств для неё – именно в этом. Кстати, Елену никто не спрашивает, любит ли она Париса – это совершенно никого не интересует. Её похищают, ведут из-за неё сражения. А здесь такое невозможно. Необходимы чувства. Женщина здесь – субъект. Она никогда не является объектом.
Кроме того, это утренняя песнь. Здесь существенна символика дня и ночи. Недаром каждая строфа завершается словами: «И близок час денницы». Эта звучащая рефреном фраза воспринимается со всё более нарастающей тревогой: приближается рассвет, а значит, и разлука. Утренняя песня – песня расставания. Так, к примеру, написана известная сцена прощания Ромео и Джульетты в одноименной трагедии Шекспира…
Но есть здесь ещё одна символическая составляющая, всем хорошо известная: день – пробуждение жизни, ночь – замирание. Однако в альбе они меняются местами.
В стихотворении звучит: «Приветствуя пурпурную зарю, // Уже давно в лесу щебечут птицы». Но – «горе вам!». Человек в этой песне уже не часть природы. В мире природы наступление утра означает пробуждение всего живого, а для героев альбы это – момент расставания, равносильный смерти. Кстати, это подчеркивает внеприродный характер таких отношений. Любовь здесь – не следование естественным законам природы, а нечто иное. Вообще, очень важная тема, характерная для альбы – цена любви. И цена эта – жизнь.
Ещё один существенный мотив. Дело в том, что мы не можем сказать, что создатели альбы сначала любят, а потом сочиняют об этом стихи. Нет. Чувства и стихи здесь – одно и то же. Нет другого языка для выражения любви, кроме языка поэзии. Не случайно возник даже специальный жанр, своего рода литературный спор о том, как следует передавать в слове любовные переживания.
Приведу некоторые примеры:
Коль не от сердца песнь идёт,
Она не стоит ни гроша.
А сердце песни не споёт,
Любви не зная совершенно.
Мои канцоны вдохновенны-
Любовью у меня горят
И сердце, и уста, и взгляд. (19)
(Бернарт де Вентадорн. Пер. В. Дынник.)
В моей любви – поэзии исток,
Чтоб песни петь, любовь важнее знанья… (20)
(Аймерик де Пегильян. Пер. В. Дынник.)
Стала близка мне и слов красота,
Песню Любовь мне вложила в уста. (21)
(Аймерик де Пегильян. Пер. В. Дынник.)
На лёгкий, приятный напев
Слова подобрав и сложив,
Буду я их шлифовать,
Чтоб они правдой сияли.
В этом любовь мне поможет… (22)
(Арнаут Даниель. Пер. В. Дынник.)
Необходимо, чтобы вы поняли: любовь рождает поэтическое вдохновение. Не любишь – не пишешь стихов. Стихи может создавать только тот, кто любит. Но нет другого языка для выражения любовного чувства, кроме языка поэзии. В прозе оно не выражается. Обычными словами любовь не выскажешь. Единственный её язык – это стихи. Поэтому нельзя сказать, что возникает раньше, а что позже. Только поэты любят, и только любящие сочиняют стихи…
Такая любовь, конечно, носит несколько условный, игровой характер. Кстати, рыцарь, объявляя себя влюбленным в некую даму, непременно менял имя, как и женщина, к которой было обращено его чувство. В этой любви рыцарь и дама как бы становились другими, не теми людьми, что были в реальной, обыденной жизни. Возникшее между ними чувство создавало какую-то иную, новую реальность, мир, в котором они и сами преображались.
Кроме того, это всегда была любовь именно к замужней женщине. Любовь к девушке средневековой поэзии абсолютно неизвестна. Дело в том, что брак в Средние века никогда не основывался на любви. Там действовали иные – родовые, династические соображения. Если рыцарь испытывал чувства к более знатной даме и строил планы жениться, его можно было заподозрить в корысти. Рыцарь ничего не ждал от женщины, кроме чувств.
Любовь и игра образовывали некое неразрывное целое… А что требует подобная игра? И почему это – игра? Только не подумайте, что рыцарь и его дама притворялись. Нет, ни в коем случае. Но, во-первых, никакого желания изменить свою жизнь или построить отношения с любимой женщиной у рыцаря не было. Ничего подобного! Он мог любить замужнюю даму, но у него и в мыслях не было расстроить её брак. Это – совершенно исключённый вариант. Цель игры – в самой игре. Второе: игра имеет твёрдые правила, и в рыцарской любви они тоже присутствовали: свои предписания, требования – этические, жанровые, и проч. Достаточно вспомнить «Кодекс любви», действовавший при дворе самой знаменитой красавицы Средневековья Элеоноры Аквитанской, включавший в себя 31 пункт. Было необходимо соблюдать определённый ритуал, следовать правилам, как и во всякой игре. Игры без правил не бывает. И третий момент, очень важный для понимания, – это была одновременно и вера, и притворство. Наверное, в детстве все играли в куличики, пекли их из песка. Тогда ответьте себе на такой вопрос: они были настоящие или нет? Ведь если не верить, что куличи настоящие, какая ж это игра? Но в то же время, и есть такие куличи тоже не следовало. Вот так и здесь: рыцарь был искренне увлечён своими чувствами, поклонялся красоте дамы, посвящал ей стихи. Но воспринималось это всеми как некая иная – идеальная, вымышленная, воображаемая жизнь, своего рода искусство.
Рыцарский роман –
важнейший жанр куртуазной литературы. Он имел два основных источника: эпос и рыцарскую лирику. В центре рыцарского романа стояла, как правило, героическая фигура рыцаря. Главная особенность рыцарского эпоса, той же «Песни о Роланде», заключалась в том, что его основу составляло некое важное историческое событие. Такова основа всех эпических сказаний. В рыцарском эпосе изображался подвиг, в частности, героический подвиг рыцаря Роланда, совершённый им во имя Франции… Здесь же в центре – личность, образ самого героя. И подвиг совершается им ради собственной славы или же во имя дамы, но никак не во имя общих целей. Кроме того, сюжеты эпоса – национальны, а в рыцарском романе они интернациональны.
Сюжеты рыцарского романа условно можно разделить на три основных цикла. Первый – античный, включавший в себя мотивы, заимствованные из античной литературы, прежде всего из поэмы Вергилия «Энеида». Допустим, история любви Энея и Лавинии, его сражение с Турном. Однако в рыцарском романе этот сюжет существенно пересматривается: главной целью героя становится завоевание любви царевны, а вовсе не поиск новой родины, как было в поэме Вергилия. Второй, так называемый, восточно-византийский цикл, составили романы об Александре Македонском. Это сюжеты, заимствованные из литературы Востока и Византии, с которыми средневековые рыцари познакомились во времена Крестовых походов. И, наконец, бретонский цикл, основу которого составили кельтские народные предания. Ещё одним существенным источником таких сюжетов стала знаменитая хроника кельтского монаха Гальфрида Монмутского «История королей Британии». Это описание древней Британии, одним из центральных героев которой был легендарный король Артур. Бретонский цикл включает в себя три основных раздела. Это – сюжет о рыцарях короля Артура, сюжет о Тристане и Изольде и сюжет о Парцифале. Бретонский цикл – наиболее значительный в рыцарской литературе.
Итак, сюжеты рыцарского романа основываются на легендах. Кроме того, рыцарский роман имеет автора. Эпос не знал авторства, а в рыцарском романе обозначено присутствие автора. Он здесь не создаёт свой собственный сюжет, а обращается к уже известному, но по-своему его трактует. В рыцарском романе автора интересует герой, а не подвиг. Подвиг – скорее некое средство. Чем больше подвигов, тем больше славы. И, наконец, важнейшая тема рыцарского романа – это любовь.
В этой связи хочу вернуться к «Песне о Роланде». У героя поэмы Роланда была невеста по имени Альда, сестра его друга Оливьера. Возвратившись из Испании в Ахен, столицу своей державы, король Карл встретился с Альдой и сообщил ей о героической гибели рыцаря Роланда. Как Альда приняла эту весть? Умерла, конечно. А как иначе? Роланд погиб – Альда, «внезапно побледнев, …к ногам владыки франков пала и умерла». (23) Хорошая, верная невеста. А как Роланд ведёт себя по отношению к ней? Он ведь очень долго умирает. В поэме описано, как Роланд прощается с жизнью: ложится под сенью ели, поворачивается лицом к маврам, чтобы не посчитали трусом, размышляет… Но, интересно, о чём он думает в эти последние свои минуты? «О землях, им добытых», о милой Франции, о короле Карле, «своём кормильце»… А вот об Альде он так и не вспомнил. Как это понимать? Конечно, вполне вероятно, что эпизод с Альдой – более поздняя вставка. Но можно дать этому и другое объяснение: в систему ценностей Роланда любовь к женщине просто не входила. Роланд вспоминает перед смертью о самом главном, а для него это его король и Франция.
Для героя же рыцарского романа всё обстояло иначе. Во имя любви он и совершал подвиги. Однако не следует думать, что герой рыцарского романа погружён исключительно в мир узких, сугубо частных интересов и любовь для него важнее, чем доблесть…
На примере романа Кретьена де Труа «Ивэйн, или Рыцарь со львом» (текст сохранился в семи рукописях, датируемых XIII или нач. XIVв.) можно судить о тех чертах, которые характерны для куртуазного романа в целом.
Главный герой романа – Ивэйн, один из рыцарей короля Артура. И первое, на что следует обратить здесь внимание: он ищет приключений. С этого всё начинается. Вообще, в романах, скажем, времён античности все приключения совершались, события случались с героем. А здесь герой сам отправляется на их поиски. Он – рыцарь, и ему нужны «авантюры»:
«…Ты кто таков?»
«Я рыцарь, – говорю мужлану, —
Искать весь век я не устану
Того, чего найти нельзя.
Вот какова моя стезя».
«Ответь без лишних поучений
Чего ты хочешь?» – «Приключений!
Я показать хочу в бою
Отвагу бранную свою.
Прошу, молю, скажи мне честно.
Не скрой, когда тебе известно,
Где приключение найти?» (24)
(Пер. В. Микушевича)
Это очень характерно для рыцарского романа: приключения позволяют рыцарю реализовать себя. Чем больше приключений, тем лучше.
Действие романа начинается с того, что на пиру при дворе короля Артура герой узнает от своего кузена рыцаря Калогренана о чудесном источнике, скрытом в дремучем Броселиандском лесу. Возле источника стоит небольшая часовня и возвышается дивная сосна, меж ветвей которой на цепи подвешен ковш. И, если полить из этого ковша на самоцветный камень, поднимется столь ужасная буря, что выживший в ней сможет считать себя непобедимым:
«Источник в двух шагах отсюда.
Но берегись! Придётся худо
Тому, кто на таком пути
Не знает, как себя вести.
Когда ты человек неробкий,
Езжай по этой самой тропке…» (25)
Ивэйн в тот же вечер тайно покидает замок, чтобы отыскать источник. Но оказывается, источник охраняется неким рыцарем. Тот предупреждает Ивэйна, что к источнику приближаться нельзя. Но рыцарю нужны приключения, и в отчаянном поединке Ивэйн повергает таинственного стража источника. Умирающий рыцарь поворачивает коня, а Ивэйн устремляется следом. Так он оказывается в незнакомом замке, где челядь смертельно раненного хозяина, в общем-то, вполне могла бы с ним расправиться. Но к Ивэйну проявляет благосклонность служанка Люнетта. И здесь возникает ещё один важный момент. Случается нечто фантастическое: Люнетта даёт рыцарю волшебное колечко, которое делает его невидимым. Иначе его бы тут же схватили…
Вообще в «Рыцаре со львом» мы встретим ещё немало подобных моментов. Поэтому хочу сразу сказать несколько слов об элементе фантастики в рыцарском романе. Дело в том, что фантастические допущения присутствовали и в эпосе. Скажем, в «Песне о Роланде» небесные силы принимают активное участие в событиях. В поэме описывается, как архангел является королю Карлу, спускаются на землю «всевышние херувимы» Рафаил «и Михаил-заступник», слетает «и сам архангел Гавриил», чтобы унести душу умершего Роланда в «чудный светлый рай». Но подобные вещи лишь для современного сознания кажутся чем-то невероятным. Читатели того времени не воспринимали сверхъестественное как выдумку. Это вполне укладывалось в представление средневекового человека о реальности. А в рыцарском романе фантастическое воспринималось как вымысел уже современниками. Читатели видели в этом некий сказочный элемент. Сказку же никто не принимает всерьёз. Поэтому про рыцарский роман говорили: он лживый, но приятный. То есть фантастичность здесь другого типа, чем в эпосе. Она носит условный характер. Превращение рыцаря в невидимку – это некая сказочная фантастика, свойственная стилистике самого рыцарского романа.
Благодаря чудодейственному кольцу Ивэйна не могут обнаружить. Люнетта уговаривает его бежать. Но тут рыцарь видит даму Лодину, хозяйку замка, оплакивающую поверженного рыцаря Эскладоса. Он очарован её красотой и теперь уже не в силах уйти. Он хотел бы жениться на Лодине. И тогда служанка и в этом решает ему помочь. Ивэйн – убийца мужа дамы Лодины. Но служанка убеждает госпожу в том, что кому-то ведь нужно будет в дальнейшем охранять источник. Так разве можно найти лучшего защитника? Ивэйн сразил её мужа – пусть теперь сам оберегает источник. И Лодина соглашается с такими аргументами. А затем даёт и согласие стать женой Ивэйна. Вассалы единодушно одобряют выбор госпожи: слава рыцаря Ивэйна, сына короля Уриена, гремит по всей земле, а доблесть свою он доказал, сразив мощного Эскладоса. Отныне Ивэйн – законный и любимый супруг златовласой Лодины.
И вот здесь возникает ситуация, прямо противоположная, скажем, ситуации рыцарского романа «Эрек». Рыцарь говорит Лодине, что должен вернуться ко двору короля Артура. Ивэйну следует закаляться в турнирах, чтобы быть достойным жены. Лодина, скрепя сердце, отпускает рыцаря, но повелевает вернуться ровно через год. Ивэйн с тоской покидает замок.
Но в сражениях и турнирах год проходит незаметно:
На всех турнирах побеждая,
Свою отвагу подтверждая,
Ивэйн сподобился похвал.
Год незаметно миновал,
Прошло гораздо больше года.
Когда бы мысль такого рода
Ивэйну в голову пришла!
Нет! Закусил он удила.
Роскошный август наступает,
Весельем душу подкупает.
Назначен праздник при дворе.
Пируют рыцари в шатре.
Король Артур пирует с ними,
Как будто с братьями родными.
Ивэйн со всеми пировал… (26)
И тут ко двору короля является посланница Лодины и сообщает, что теперь Ивэйн может вообще не возвращаться. В романе «Эрек» ради любви к красавице Эниде рыцарь забывал о доблестях, о подвигах, о славе. А здесь наоборот: герой отдал предпочтение рыцарским забавам:
«Над госпожою надругался!
Любви законной домогался –
И поступил, как низкий вор.
Кто скажет: это оговор?
Проступков не бывает гаже.
Мессир Ивэйн виновен в краже.
Изменник чувствами играл
И сердце госпожи украл..» (27)
Теперь он может забыть о Лодине…
В полном отчаянии рыцарь устремляется в лес. Ивэйн словно впадает в безумие. Свою одежду он разрывает в клочья:
Ткань дорогую раздирает,
Рассудок на бегу теряет.
Бежит в безумии бегом.
Поля пустынные кругом,
Кругом неведомая местность.
Баронов мучит неизвестность.
Ивэйна нужно разыскать…
<…>
И у лесничего из рук
Безумец вырывает лук.
Дичину в дебрях он стреляет
И голод мясом утоляет.
Среди пустынных этих мест
Ивэйн сырое мясо ест.
В лесах безумец наш дичает. (28)
Однажды спящего рыцаря, скорее похожего на дикаря, находит некая знатная дама. Она решает помочь несчастному: натирает с головы до ног чудодейственной мазью и кладёт рядом с ним новую одежду. Словно пробудившись от безумия, Ивэйн прикрывает наготу. Внезапно до него доносится отчаянный львиный рык. Это тоже вполне сказочный мотив. Рыцарь видит, как лев сражается со змеем, вцепившимся в его хвост:
В смертельной схватке лев и змей.
Попробуй-ка уразумей,
Кто помощи твоей достоин,
Когда ты сам примерный воин.
Рассудок здравый говорит:
Преступен тот, кто ядовит.
Перечить разуму не смея,
Ивэйн решил прикончить змея.
Ивэйн выхватывает меч.
Огнем лицо ему обжечь
Змей разъяренный попытался.
Ивэйн, однако, цел остался.
Ивэйна щит предохранил.
Расправу рыцарь учинил
Над ядовитым этим змеем,
Как над безжалостным злодеем.
Ивэйну пламя нипочем.
Он гадину рассек мечом,
Он змея разрубил на части,
Из этой кровожадной пасти
Не вырвав львиного хвоста.
Была задача не проста.
Решить задачу подобает.
Искусно рыцарь отрубает
Зажатый кончик, чтобы лев
Освободился, уцелев.
Должно быть, хищник в раздраженье
И нужно с ним вступить в сраженье.
Но нет! Колени лев согнул,
В слезах, признательный, вздохнул.
И рыцарь добрый догадался,
Что лев навек ему предался… (29)
Могучий зверь становится верным спутником и оруженосцем Ивэйна. Но однажды вновь оказавшись у чудесного источника, Ивэйн лишается чувств. Он всё-таки очень страдает от разлуки с дамой Лодиной:
Он сетовал, он сокрушался,
Себя, несчастный, укорял,
В слезах сознанье потерял,
И наземь замертво свалился
Тот, кто недавно исцелился.
Как будто чтобы рядом лечь,
Сверкнул на солнце острый меч,
Внезапно выскользнув из ножен,
Куда небрежно был он вложен.
В кольчугу меч попал концом,
Разъединив кольцо с кольцом,
Ивэйну поцарапал шею
Он сталью хладною своею.
Ивэйну в тело сталь впилась,
И кровь на землю полилась.
Хотя не пахнет мертвечиной,
Сочтя беспамятство кончиной,
Лев стонет, охает, ревет,
Когтями, безутешный, рвет
Свою же собственную гриву,
Подвластен скорбному порыву,
Он жаждет смерти сгоряча.
Зубами лезвие меча
Из раны быстро извлекает
И рукоять меча втыкает
Он в щель древесного ствола,
Чтобы сорваться не могла,
Когда пронзит жестокой сталью
Он грудь себе, томим печалью.
Лев готов даже покончить с собой от горя – так беззаветно он предан своему хозяину:
Как дикий вепрь перед копьем,
Лев перед самым острием
На меч неистово рванулся,
Но в этот миг Ивэйн очнулся,
И лев на меч не набежал,
Свой бег безумный задержал… (30)
В романе произойдёт ещё немало разных событий. Рыцарь и лев станут скитаться по свету и совершать подвиги: одолеют злого великана, спасут от гибели родственников рыцаря Гавэйна и даже сумеют освободить триста дев, пленённых демонами в замке Злоключенья… И в конце концов Ивэйн заслужит прощения дамы Лодины. Это случится в тот самый момент, когда рыцарь уже перестанет надеяться. Лодина сообщит, что «грех покаянием смягчен…» Ивэйн искупил свою вину. Неистовое безумие рыцаря доказало, как горестно он переживал их расставание.
Роман «Ланселот, или Рыцарь в Тележке» (между 1176-1181 гг.) – классический куртуазный роман, пользовавшийся, пожалуй, наибольшим успехом у публики. Кстати, это та самая книга, которую будут затем читать Паоло и Франческа – персонажи «Божественной комедии» Данте. Герой романа рыцарь Ланселот влюблён в жену короля Артура королеву Гвиневру, как и положено в куртуазном романе. Ради Гвиневры он готов на самые безрассудные подвиги. Но вот однажды некий рыцарь похищает королеву Гвиневру, и никто не знает, куда она подевалась. Не раздумывая, Ланселот отправляется на поиски королевы. На пути ему встречается карлик, который обещает открыть имя похитителя, если Ланселот сядет в его тележку. Вообще-то, в те времена тележка равнялась позорному столбу для рыцаря. Ланселот оказывается перед нелёгким выбором: любовь к даме или рыцарская честь… Рыцарь колеблется, но ради беззаветной любви к Гвиневре всё же выполняет унизительное требование прокатиться в тележке. Как и обещал, карлик открывает, где искать королеву. Оказывается, волшебник Мелеагант спрятал Гвиневру в своём замке. Преодолев немало трудностей, Ланселот находит этот замок и вызывает похитителя на поединок.
Но тут возникает ещё одна неожиданная сложность. Ланселот замечает, что из окна башни за их сражением наблюдает сама пленённая королева. Ланселот не может позволить себе повернуться к даме спиной. Вообще, во время поединка подобного довольно трудно избежать. Но как бы ни было трудно, даже смертельно опасно, Ланселот сражается, не отрывая глаз от Гвиневры. В конце концов, он, конечно, побеждает соперника и является к королеве. А та, ко всеобщему удивлению, не желает его видеть. Рыцарь не может понять причины, ведь он освободил её… А всё дело в том, что Ланселот раздумывал, прежде чем сесть в тележку. Вот из-за этих-то минутных сомнений Гвиневра и не желает теперь его принять.
Позже королева возвращается к своему двору, а в заточении у вассалов Мелеаганта оказывается сам Ланселот. Долгие дни и ночи рыцарь томится в темнице. Между тем, в честь Гвиневры устраивается грандиозный рыцарский турнир, и Ланселот, разумеется, тоже хотел бы принять в нём участие. И тогда Ланселот просит отпустить его на турнир под честное рыцарское слово. По окончании состязаний он обязательно снова вернётся в замок Мелеаганта. Рыцарскому слову можно верить, и Ланселота отпускают. Но на турнире все считают, что Ланселота среди его участников нет. Рыцарь выступает под закрытым забралом, и никто его не узнает. В том числе и королева. Она посылает доблестно сражающемуся незнакомцу записку, в которой просит, чтобы тот вёл себя как трус. Для Ланселота слово дамы превыше чести, и он выставляет себя на всеобщее посмешище. Тогда Гвиневра догадывается, что за доспехами неизвестного скрывается Ланселот. Ещё раз убедившись в преданности влюблённого рыцаря, Гвиневра отменяет своё повеление, и Ланселот становится победителем турнира. Таков типичный для куртуазного романа сюжетный ход …
Однако среди рыцарских романов особо выделяются два произведения. Они во многом выходят за рамки чисто куртуазной литературы. Не случайно впоследствии они окажут столь значительное влияние на развитие всей европейской литературы. Это романы «Тристан и Изольда» и «Парцифаль».
Роман о Тристане и Изольде известен во множестве версий. В XII веке возникла французская стихотворная обработка древней кельтской легенды. Существовали норвежская, английская, испанская, чешская и прочие вариации. Но всё же лучшая разработка сюжета принадлежит немецкому автору начала XIII века Готфриду Страсбургскому (стихотворный роман «Тристан»). Первая его особенность заключается в том, что перед нами биографическое произведение. Повествование начинается с рождения Тристана и завершается его смертью. Обычно рыцарские романы – это серия подвигов и приключений героя. Они имеют начало, но не имеют конца. Здесь же представлена завершённая человеческая жизнь.
Герой романа Тристан рано лишился родителей. Его отец Ривален (в некоторых версиях Мелиадук), король Лоонуа, погиб в сражении; мать, Бланшефлер, умерла вскоре после родов. У Тристана было трудное детство. Само его имя созвучно французскому слову triste, что значит печальный. Но затем Тристан приезжает ко двору своего дяди, корнуэльского короля Марка. Здесь возникает важный мотив, близкий к «Песне о Роланде»: рыцарь Роланд – племянник короля Карла, Тристан же – племянник короля Марка.
Тристан очень предан своему королю, совершает ради него подвиги. К примеру, сумел избавить королевство Марка от страшных податей ирландскому исполину Морхульту, сразившись с ним и одержав победу в поединке. В этой части роман напоминает рыцарский эпос. Герой – верный вассал, но его не любят бароны короля. Они опасаются, что бездетный Марк решит передать Тристану корону. Тристан может стать наследником престола. И поэтому они хотят, чтобы король Марк как можно скорее женился. Здесь возникают разные варианты в разных версиях сюжета. По некоторым из них птичка приносит золотой волосок, и Марк объявляет, что возьмёт в жены девушку, которой он принадлежит. По другим трактовкам, в частности Готфрида Страсбургского, Марк сватается к ирландской принцессе Изольде. И в качестве свата он посылает к Изольде Тристана. Чтобы заполучить её в жены для короля Марка, Тристан совершает ещё один удивительный подвиг – убивает змея. И после этого мать Изольды дает согласие на брак дочери с королем Марком. Правда Изольда считает, что Тристан для себя её завоевывает. Но оказывается, Тристан – только сват короля.
Мать Изольды – волшебница. Она даёт служанке дочери сосуд с чудодейственным любовным напитком, который предназначался для Изольды и её будущего мужа короля Марка. Но по ошибке на корабле его выпивают Тристан и Изольда и уже не могут противиться охватившей их страсти. Тем не менее, Изольда становится женой короля. Она с радостью покорилась своим чувствам к Тристану, потому не испытывает и раскаяния. Но вот Тристана это мучает. Он – верный вассал Марка, его племянник. Он всем ему обязан. Марк – король, которому он присягал верно служить. Тристан всячески пытается бороться за свою честь. Но он бессилен…
Король Марк узнаёт об измене Изольды. Вообще-то, он не хочет этому верить, но злые наветчики приводят столь неоспоримые доказательства, что выхода нет. Он должен наказать Тристана и Изольду. Король в гневе приказывает сжечь Изольду, но по дороге к месту казни процессия встречает прокаженных, и Марк меняет решение: он отдает Изольду прокаженным, а Тристана изгоняет. Но Тристан считает, что с этого момента у короля Марка не остается больше никаких прав на Изольду. Он уводит её от прокаженных, и герои укрываются в лесу Моруа.
Это единственный счастливый период в их жизни. Тристан и Изольда живут в лесу, вдали от людей. Лес, вообще, очень важный символ. Он играет существенную роль во всей литературе Средних веков и Возрождения. Скажем, «Божественная комедия» Данте начинается словами: «Земную жизнь пройдя до середины, // Я очутился в сумрачном лесу». Герои комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь, или как вам это понравится» бегут в лес. Лес – это часть естественного, первозданного, в отличие от сада, к примеру. Сад – это окультуренный островок природы, а лес – дикое место. Любви Тристана и Изольды нет места в обществе, она может существовать лишь в лесу.
Тристан это понимает, поэтому, как это ни печально, считает своим долгом вернуть Изольду королю. И когда он узнает, что король Марк охотится неподалеку, то решает добиться, чтобы тот простил и вновь принял Изольду. Чтобы обмануть короля Марка, он кладёт между собой и Изольдой меч, желая показать, что даже в лесу Изольда хранит верность мужу. Король видит спящую Изольду, и этот меч, разделяющий её и Тристана, и решает, что Изольда всё-таки была оболгана. Но бароны не столь легковерны. Они требуют Божьего суда над Изольдой.
В Средние века существовал обычай: в исключительных случаях человек приговаривался к смертельному испытанию, его судьба вверялась решению Господа как высшего судьи. К примеру, обвиняемый, давая клятву, брал в руки раскалённое железо, и, если говорил правду, Бог вступался за него – раскалённое железо не обжигало. Такую клятву верности королю Марку должна принести Изольда.
И тогда герои решают обмануть самого Господа Бога. Тристан в обличье паломника в условленный час приходит к реке, на другом берегу которой Изольде предстояло пройти испытание, и на руках переносит Изольду через водный поток. Достигнув берега, он будто бы оступается и падает, крепко обнимая королеву. И после этого Изольда клянется, что никогда не была ни в чьих объятьях, кроме объятий своего мужа короля Марка и того паломника, который только что на глазах у всех помог ей добраться до берега. А так как Изольда сказала правду, раскалённое железо не причинило ей вреда.
Средневековый автор понимал, что Бога так просто не провести. Но он давал этому обстоятельству особую мотивировку: Бог проявил снисходительность к Тристану и Изольде. Это божественное милосердие.
Тристан чувствует: если он останется и дальше служить при дворе короля, то всё повторится сначала. Сила их любви такова, что ни он, ни Изольда не смогут ей противиться. И он уезжает, чтобы никогда больше не видеть Изольду. Чтобы забыть её, он решает жениться. Его избранницу тоже зовут Изольда. Только, в отличие от первой, которая зовётся в романе Изольдой Белокурой, у этой иное прозвище – Изольда Белорукая. У неё прекрасные белые руки. «Имя и красоту королевы заметил Тристан. Он не хотел брать её в жёны за одно имя, за одну красоту. Если бы её не звали Изольда, не полюбил бы её Тристан. Не будь у неё Изольдовой красоты, не мог бы Тристан её полюбить. За имя и красоту, замеченную Тристаном, он вознамерился сделать её своею женой». Однако Тристан не способен полюбить другую женщину. Безразличие мужа оскорбляет Изольду Белорукую. Но случайно она слышит разговор Тристана с её братом, которому Тристан признаётся, что не волен в собственных чувствах.
В одной из битв Тристан получает смертельную рану. Он обречён, но перед смертью хотел бы ещё раз увидеть Изольду. Когда-то она дала ему своё кольцо со словами: если Тристан пришлёт с этим кольцом гонца, она последует за ним, куда бы то ни было.… Тристан посылает за Изольдой, чтобы встретиться с ней в последний раз.
У Тристана уговор с гонцом. Этот мотив известен ещё с античных времён: если Изольда будет на корабле, то паруса должны быть подняты белые, а если нет – чёрные. Но если в истории с Тезеем, допустим, паруса были просто перепутаны, то здесь всё сложилось иначе. Тристан не может умереть, не повидав напоследок Изольду, и поэтому вся его жизнь – это ожидание. Но сам он не в силах подойти к окну и посмотреть, под какими парусами приближается корабль. Он просит свою жену Изольду Белорукую, чтобы та рассказала, что видит. И хотя паруса над кораблём белые, жена из ревности говорит, что – чёрные. Тристан умирает – больше нет смысла жить. Изольда застаёт уже мёртвого Тристана. Обнимая тело любимого, она и сама умирает от горя.
В конце концов король Марк узнаёт, что во всём виноват был волшебный напиток. Он прощает Тристана и Изольду, и героев хоронят рядом друг с другом. Позже над их могилами вырастают деревья, кроны которых оказываются сплетёнными между собой. Их не раз пытались разделить, но ветви всё равно снова и снова соединялись.
Кажется, налицо все типичные черты куртуазного романа того времени. Но всё же он выходит за рамки средневековой литературы. Отношение автора к чувствам героев двойственно. Конечно, Тристан и Изольда нарушают нравственные устои и законы своей эпохи. Но автор явно сочувствует любви героев, поскольку воспринимает её как некую иррациональную стихийную силу, над которой люди не властны. Таково действие волшебного напитка, который им довелось испить. Причём, в тот самый момент, когда это произошло, ещё на корабле, «любящие обнялись; в их прекрасных телах трепетало любовное желание и сила жизни. Тристан сказал: "Пусть же придёт смерть!"(31)
Этот мотив очень важен в романе. Это любовь, которая не может осуществиться в действительности. Недаром Тристан в первую же минуту произнёс эти слова: «Пусть же придёт смерть». Только в смерти любящие смогли наконец соединиться. Жизнь их разлучала – смерть соединила. И в этом смысле – это скорее средневековый роман. Жизнь не даёт почвы для счастья героев. В высшем смысле лишь в смерти чувства Тристана и Изольды обретают своё торжество.
Однако в романе есть один важный мотив, который не был свойственен литературе Средневековья. Это – ощущение неповторимой индивидуальности человека. Скажем, гомеровская Елена – самая прекрасная из женщин, более совершенной красавицы не было на свете. В средневековом романе женщина – тоже воплощение некоего абсолютного, недосягаемого идеала. А здесь главное – неповторимость Изольды. Не случайно в романе есть и другая Изольда. У неё то же самое имя, и такая же она красивая. Казалось бы, нисколько не хуже первой. Но Тристану нужна только одна-единственная его Изольда. Это понимание любви как чего-то глубоко личного, субъективного. И Тристан, кстати, очень остро это ощущает.
Средневековое сознание складывало объективности: прекрасная, совершенная, идеальная. Его менее всего занимала неповторимая индивидуальность человека. А здесь именно на этом – на неповторимости, уникальности, единственности Изольды делается акцент. Тристан мог изменить королю Марку, но не способен был изменить этому чувству…
Первая разработка невероятно популярного в Средние века сюжета о рыцаре Парцифале, воспитанном в уединении и отправившемся затем на поиски Святого Грааля, принадлежит французскому поэту Кретьену де Труа (ум. ок. 1180). Это начатый, но не законченный им стихотворный роман «Сказание о Граале» («Perceval le Gallois, ou Le conte du Graal»). Но, пожалуй, самая значительная обработка сюжета, благодаря которой история простодушного рыцаря вошла в историю мировой литературы, принадлежит немецкому автору XIII в. Вольфраму фон Эшенбаху. В его романе «Парцифаль» сплелось легендарное и историческое. Многоплановость присутствует в самом образе Грааля. Неиссякаемая чаша, подобно рогу изобилия, всегда насыщает своего владельца – мотив, широко известный в мировом фольклоре. Но глубинный пласт, который здесь присутствует, связан с важнейшим сакральным символом – чашей, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечери и в которую Иосиф Аримафейский, по преданию, собрал кровь из ран распятого Христа. Член Синедриона и тайный ученик Иисуса Иосиф Аримафейский стал первым хранителем священной реликвии, которая позже якобы была привезена в Британию. И это уже чисто религиозная, мистическая линия, хотя, надо сказать, церковь никогда официально не признавала подобных историй о Граале.
Начнём с сюжета романа. Главный его герой – юноша Парцифаль. Его отец, странствующий рыцарь Гамурет, совершивший немало подвигов, заслуживший победой на рыцарском турнире руку королевы Валезии Герцелойды, погиб в одном из рыцарских походов. И теперь мать Парцифаля Герцелойда очень не хочет, чтобы её сын тоже стал рыцарем. Пытаясь уберечь сына от повторения трагической участи отца, Герцелойда покидает королевство. Она запрещает окружающим даже упоминать о рыцарях и рыцарской службе:
«…Я родила его для мира,
И чтоб не сделалась беда,
Он знать не должен никогда
О страшных рыцарских забавах
И о сражениях кровавых». (32)
Парцифаль подрастает в глуши, на лоне природы, и даже не догадывается о своём рыцарском происхождении. Но однажды в лесу во время охоты Парцифаль встречает всадников. Великолепное снаряжение незнакомцев приводит его в восторг.
О, как доспехи их блестящи,
О, как их взор неустрашим!
Все трое на богов похожи. (33)
Граф, восседавший на коне, увлекает юношу рассказами о рыцарских подвигах и о жизни рыцарей при дворе короля Артура и говорит:
…"Ты молод чересчур.
Но славный наш король Артур
Возводит в рыцарское званье
Всех, кем заслужено признанье
И покровительство его.
Кто не страшится ничего,
Кого геройство не покинет,
Тот при дворе Артура принят.
Спеши припасть к его стопам,
И рыцарем ты станешь сам!.." (34)
Юноша приходит к матери и требует дать ему коня и доспехи, чтобы он смог отправиться в Нант ко двору короля Артура. Встревоженная Герцелойда решает прибегнуть к хитрости:
Порою хитрость – та же сила…
И вот схитрить она решила:
"Сын просит дать ему коня?
Что ж, он получит от меня
Коня – то бишь, слепую клячу -
И шутовской наряд в придачу,
А в одеянье дурака
Узнает он наверняка
Толпы насмешки и побои:
Мол, коли шут – не лезь в герои!..
И ненаглядный мальчик мой
Сам в страхе кинется домой…"
Так поступить она решила
И в тот же вечер сыну сшила
Из мешковины балахон,
Подобье неких панталон
И туфли из телячьей кожи,
Что и на туфли не похожи,
Да с погремушками колпак,
Что скажешь? – вылитый дурак!.. (35)
Герцелойда надеется, что при дворе новобранца Парцифаля поднимут на смех, и очень скоро сын сам будет вынужден вернуться домой.
И действительно, поначалу все только насмехаются над простодушным юношей. Но затем происходит нечто неожиданное. Это событие кажется чем-то случайным, непонятным для всех. Парцифаль встречает рыцаря Итера Красного, двоюродного племянника короля Артура. Тот рассказывает Парцифалю, что король лишил его владений и теперь Итер желает вступить в поединок с рыцарем из свиты короля, чтобы вернуть себе законное право на земли.
И вдруг Парцифаль заявляет, что готов сражаться. Придворные смеются, Парцифаль и на рыцаря-то не похож. Но каким-то чудом Парцифаль соперника побеждает. Прежде он никогда не держал в руках оружия, а тут проявил какую-то невероятную доблесть. Казалось бы, это просто удачное стечение обстоятельств. Но Парцифаля принимают ко двору, и он становится одним из рыцарей короля Артура.
Важную роль в его жизни в этот период играет рыцарь Гурнеманц, который старается обучить неискушенного Парцифаля всем тонкостям рыцарского искусства. Он ведь не знал ничего. И старый князь дает Парцифалю целый ряд наставлений:
"Стремись священный стыд сберечь,
Знай: без священного стыда
Душа – как птица без гнезда,
Лишённая к тому же крыл…"
И далее проговорил:
"Будь милосерд и справедлив,
К чужим ошибкам терпелив
И помни всюду и везде:
Не оставляй людей в беде.
Спеши, спеши на помощь к ним,
К тем, кто обижен и гоним,
Навек спознавшись с состраданьем,
Как с первым рыцарским даяньем…
Господне ждёт благодаренье,
Кто воспитал в себе смиренье!..
Умерен будь! Сколь славен тот,
Кто и не скряга и не мот!..
С вопросами соваться бойся,
А вопрошающим – откройся.
При этом никогда не ври:
Спросили – правду говори!..
Вступая в бой, сомкни, мой милый,
Великодушье с твёрдой силой!..
Не смей, коль совесть дорога,
Топтать лежачего врага,
И если он тебе сдаётся,
То и живым пусть остаётся!
Ему поверив на слово,
Ты отпусти несчастного!..
Поверженных не обижай!..
Чужие нравы уважай!
Учись, мой рыцарь, с юных лет
Блюсти дворцовый этикет,
А также рыцарский устав!..» (36)
Но главный совет, который Гурнеманц даёт Парцифалю: никогда не задавать лишних вопросов.
Парцифаль старается освоить все эти строгие правила рыцарского поведения. Он снова отправляется в путь, следуя некому странному, «полному обещаний» зову, «идущему прямо с облаков»:
Сегодня путь его пролёг
Среди нехоженых дорог,
Средь мхов, средь бурелома…
Чем дальше он от дома,
Тем больше топей и болот… (37)
И вот однажды, с трудом пробираясь сквозь лесную чащу, Парцифаль замечает озеро:
Ладью на озере видать.
И рыбаков. А посерёдке,
В кругу мужчин, сидящих в лодке,
Он замечает одного,
Кто не похож ни на кого:
В плаще роскошном, тёмно-синем,
Расшитом золотом… С павлиньим
Плюмажем… Будь он королем,
Пышней бы не было на нём
И драгоценнее наряда.
Герой с него не сводит взгляда
И спрашивает рыбака:
Что, далека или близка
Дорога в здешнее селенье? (38)
Парцифаль видит, что незнакомец тяжело ранен, но не решается спросить, кто он такой и что с ним произошло, считает, что не положено спрашивать.
Но что он видит в удивленье?
Сколь опечалился рыбак!
В его очах – могильный мрак.
Он грустно молвит: "Милый друг,
На тридцать – сорок вёрст вокруг
Жилья не сыщете людского.
Здесь нет селенья никакого…
А впрочем, добрый господин,
Тут замок – слышал я – один
Невдалеке виднеется…
Вам есть на что надеяться!
Спешите же скорей туда,
Где скал кончается гряда,
Но будьте крайне осторожны:
Глядишь, и оступиться можно!..
Чтоб в замок вас могли впустить,
Вы попросите опустить
Сначала мост подъёмный
Над пропастью огромной.
Опустят если – добрый знак…"
"Что ж. Я поеду, коли так…" (39)
Парцифаль попадает в загадочный замок. А затем оказывается, что рыбак, встреченный им на берегу, это и есть хозяин замка Мунсальвеш король Анфортас:
Тяжёлой хворью он измаян.
Глаза пылают. Хладен лоб.
Жестокий бьёт его озноб.
…
Но вопреки ужасной хвори
Он, с лаской дружеской во взоре,
Увидев гостя, попросил
Его присесть… Он был без сил,
Но добротой лицо лучилось…
И вдруг – нежданное случилось… (40)
Парцифаль видит нечто удивительное:
Дверь – настежь. Свет свечей мигает.
Оруженосец в зал вбегает,
И крови красная струя
С копья струится, с острия
По рукаву его стекая.
И, не смолкая, не стихая,
Разносится со всех сторон
Истошный вопль, протяжный стон.
И это вот что означало:
Всё человечество кричало
И в исступлении звало
Избыть содеянное зло,
Все беды, горести, потери!..
Вдоль стен, к резной дубовой двери,
Копьё оруженосец нёс,
А крик всё ширился и рос,
Но лишь за дверью скрылся он,
Тотчас же смолкли крик и стон
И буря умиротворилась… (41)
Окровавленное копьё – один из важных символов, которые здесь присутствуют. А затем Парцифаль видит и сам таинственный Грааль. Появляются прекрасные дамы со светильниками в руках, а за ними – королева, которая вносит Грааль:
И перед залом потрясённым
Возник на бархате зелёном
Светлейших радостей исток,
Он же и корень, он и росток,
Райский дар, преизбыток земного блаженства,
Воплощенье совершенства,
Вожделеннейший камень Грааль…
Сверкал светильников хрусталь,
И запах благовоний пряных
Шёл из сосудов тех стеклянных,
Где пламенем горел бальзам -
Услада сердцу и глазам…
<…>
Да. Силой обладал чудесной
Святой Грааль… Лишь чистый, честный,
Кто сердцем кроток и беззлобен,
Граалем обладать способен…
И волей высшего царя
Он королеве был дан не зря…
Она приблизилась к больному
(И не могло быть по-иному),
Поставила пред ним Грааль…
Глядит с восторгом Парцифаль
Не на святой Грааль… О нет!
На ту, в чей плащ он был одет…
Но дело к трапезе идёт…
<…>
Грааль в своей великой силе
Мог дать, чего б вы ни просили,
Вмиг угостив вас (это было чудом!)
Любым горячим иль холодным блюдом,
Заморским или местным,
Известным исстари и неизвестным,
Любою птицей или дичью -
Предела нет его величью.
Ведь Грааль был воплощеньем совершенства
И преизбытком земного блаженства,
И был основою основ
Ему пресветлый рай Христов. (42)
Грааль предстаёт здесь как глубоко таинственный, многоплановый образ. С одной стороны – это волшебный предмет, своего рода чудесный источник, способный поддерживать жизненные силы человека, а с другой – священная духовная реликвия. Парцифалю вообще очень хотелось бы узнать, что происходит. Всё увиденное кажется ему слишком загадочным:
Он потрясён, смятен – не скроем.
Спросил бы: что творится здесь?
Однако скромность, а не спесь
Ему задать вопрос мешает
И права спрашивать лишает.
Ведь Гурнеманц предупреждал,
Чтоб Парцифаль не задавал
При неожиданных соблазнах
Вопросов лишних или праздных:
От любопытства кровь бурлит,
А вежество молчать велит!..
"Нет, любопытством не унижу
Честь рыцаря!.. А то, что вижу,
Мне объяснят когда-нибудь,
Лишь надо подождать чуть-чуть…"
<…>
Но тут приблизился к нему
С мечом в руках оруженосец,
Меч Парцифалю преподнёс,
Великую радость ему принёс.
Больной король обращается к Парцифалю со словами:
"Был этот меч всегда со мной,
Всегда служил мне верно.
Теперь же дело моё скверно,
Рука не в силах меч держать.
И он тебе принадлежать
Отныне будет: воздаянье
За добрые твои деянья
И нечто вроде возмещенья
За скромность угощенья…"
Как речь столь странную понять?
Но Парцифаль молчит опять.
Молчит! Хоть все, кто были в зале,
Сейчас вопроса ожидали.
Он, очевидно, нужен всем.
Но Парцифаль, как прежде, нем… (43)
Парцифаль так ни о чём и не спрашивает. А затем уезжает из этого замка, возвращается ко двору короля Артура.
Но однажды, когда все рыцари были в сборе, перед ними появляется посланница Грааля – волшебница Кундри, некое двойственное существо. В её облике присутствуют не только человеческие, но и звериные черты:
Ротик её украшали
Два длинных кабаньих клыка,
Приметных издалека.
Не избежать описаний
Кожи её обезьяньей,
И шерстью обросших ручек,
И умилительных штучек,
Что назывались ногтями,
Но львиными были когтями…
Не уставала она сжимать
Рубиновую рукоять
Длинной шёлковой плети…
Страшней никого я не знал на свете… (44)
Кундри принимается обличать Парцифаля:
«…Низок и лукав
Ваш нрав и тёмен разум.
Красавцем ясноглазым
Посмели вы прийти сюда.
Меж тем от вас – одна беда.
Я всем чудовищем кажусь,
Но лишь одним сейчас горжусь,
Что с вами мы не схожи.
Мы не одно и то же!
Вы сердцем, вы душой урод!..
Пошто трусливо смолк ваш рот?
Иль требуют сокрытья
Известные событья?..
Скажите, рыцарь: как же так?
Вам скорбный встретился Рыбак,
Несчастием томимый…
А вы? Промчались мимо!
В ту приснопамятную ночь
Лишь вы могли ему помочь,
Но вас не занимала
Чужая боль нимало…
(До чьей-то скорби снизойти?!
Куда там! Мне не по пути!
Того печаль изъела?
Но мне-то что за дело?!)
Вы даже не раскрыли рта!..
Но бог вам разомкнёт уста
И вырвет, вырвет ваш язык
За тот невыкрикнутый крик
Простого состраданья!
И нет вам оправданья
Ни в этом мире и ни в том…» (45)
Оказывается, одним лишь сочувственным словом Парцифаль мог исцелить Анфортаса и вернуть былое процветание королевству. Он должен был узнать у незнакомца, в чём причина его мук, проявить сострадание, но исходил лишь из правил рыцарского этикета. Только теперь Парцифаль начинает это осознавать:
«Душу мою застилает мрак.
Вот здесь я стою перед вами
И выразить не могу словами,
Какой измучен я тоской…
Не нужно радости мне людской,
И я назад к вам не приду,
Пока Грааль вновь не найду…
Я сознаю, в чём я виновен:
Был непомерно хладнокровен.
Мне быть не может оправданья,
Поскольку выше состраданья
Законы вежества поставил!
И ради соблюденья правил
Молчал перед лицом несчастья,
Ничем не выразив участья
Анфортасу, кому в ту ночь
Я мог, обязан был помочь!..
Вопрос с моих не сорвался губ
Потому, что молод я был и глуп…» (46)
Отныне для Парцифаля остаётся единственное средство спасти Анфортаса: искупить свою вину подвигами. Он много странствует, чтобы вновь отыскать тот удивительный замок и увидеть Грааль. Но всё безуспешно. И тогда в его душе рождается бунт. Он больше не хочет служить Всевышнему:
"Бог?! Бог?! Но что такое – Бог?! -
Воскликнул валезиец гневно. -
Не наши ль судьбы так плачевны,
Чтоб мы не поняли того,
Сколь бесполезна власть его,
Сколь слаб и немощен всевышний!..
Служить ему? Нет! Труд излишний!
Я верен был ему и предан,
И я обманут им и предан.
Кто на него усердье тратит,
Тому он ненавистью платит.
Я ненависть его приму,
Но боле – не служу ему!..
О, есть иной предмет служенья!..
Эх, друг Гаван! В разгар сраженья
На помощь бога не зови.
Взывай к спасительной Любви,
Хранительнице нашей верной!
Прощай, мой друг нелицемерный,
И да храпит тебя Любовь!..
Кто знает, свидимся ли вновь?.." (47)
Но однажды Парцифаль встречает отшельника Треврицента, который на многое открывает ему глаза. Он призывает Парцифаля вернуться к вере:
«Когда б в своём уме ты был,
То одного бы не забыл:
Бог не помочь не может!
<…>
«Бог это – Верность… Посему
Будь верен Богу своему.
Бог – Истина… К безбожью
Идут, спознавшись с ложью…
Бог есть – Добро. А суть Добра
В том, чтоб душа была добра.
Что ни произошло бы -
Всё восприми без злобы.
Свой разум злобой осквернишь, -
Тем самым бога очернишь -
Терпение господне,
Как сделал ты сегодня!
Добро – есть свет, а зло – есть тьма.
И коль ты не сошёл с ума,
Внемли сему совету:
Вернись к Добру и к Свету!..» (48)
Оказывается, этот отшельник – брат Анфортаса и матери Парцифаля Герцелойды. Он рассказывает Парцифалю историю Короля-Рыбака Анфортаса. Унаследовав Грааль, он жаждал ещё большей славы, но в поединке получил рану, которая с тех пор не заживала… В сущности, отшельник посвящает Парцифаля в тайну Грааля:
«…Грааль, он тем и знаменит,
Что человечью жизнь хранит.
Тот, кто на камень глянет,
Пусть знает: хоть побьют, хоть ранят,
Семь дней уж точно он не умрёт!
Это известно наперёд.
Достаточно лишь посмотреть -
И невозможно умереть
В течение недели!
Диво, в самом деле!..
…Исполнен к людям доброты,
Грааль сохраняет их черты
До самой старости молодыми,
Вот только делает седыми
С теченьем лет их волоса -
Знать, здесь бессильны все чудеса!..
В ночь на пятницу страстную
Грааль, о коем повествую,
Из-под заоблачных высот
Белоснежного голубя на землю ждёт
По заведенному порядку
На камень дивную облатку
Небесный голубь сей кладёт.
Так повторяется из году в год…
Облаткою Грааль насыщается,
И сила его не истощается,
Не могут исчерпаться никогда
Ни его питье, ни его еда,
Ни сокровища недр, ни сокровища вод,
Ни что на суше, в реке или в море живёт.
Несметны у Грааля богатства…
Но как же попасть в Граалево братство
И как о том, что ты избран, узнать?..
Надпись на камне умей прочитать!
Она появляется время от времени
С указанием имени, рода, племени,
А также пола того лица,
Что призвано Граалю служить до конца…» (49)
Служение – это и есть главное испытание. Оказывается, Парцифалю суждено было стать новым хранителем Грааля. Но на нём лежит вина. Грехи не позволяют ему вернуться в Мунсальвеш. Его уход из дома стоил жизни его матери. Он никогда даже не задумался о том, что виновен в её гибели. Красный Итер, которого он сразил в своём первом поединке, оказывается, был его двоюродным братом – Парцифаль совершил братоубийство. И, наконец, встретив больного незнакомца, законы вежливости он поставил выше простого человеческого сочувствия. Парцифаль должен искупить свою вину и только тогда сможет вновь отыскать путь к Святому Граалю.
Как бы подводя итог роману, сам Вольфрам фон Эшенбах так объясняет его суть:
Да, я, Вольфрам фон Эшенбах,
За совесть пел, а не за страх
И за своим героем следом
От поражений шёл к победам…
Но высшая из всех побед -
Проживши жизнь, увидеть свет,
Не призрачный, а настоящий,
От чистой Правды исходящий,
Не просто по миру брести,
А Истину вдруг обрести… (50)
Герой романа приходит к пониманию того, что чувство сострадания, искренность и милосердие выше любых рыцарских правил…
В «Парцифале» ещё сохраняются внешние черты рыцарского романа. Но если в прежних подобных произведениях подвиги для рыцаря, в общем-то, всегда были самоцелью, неким героическим приключением, возможностью проявить собственную доблесть, то здесь поиски Грааля – это нечто иное. Сюжет о рыцаре Парцифале превращается в историю героя, стремящегося осуществить предначертанную ему судьбу, обрести некую высшую истину. И этот недосягаемый, непостижимый духовный идеал, вечно влекущий человека, воплощает собой Грааль.
Литература средневекового города
XII-XIII века в Европе – это период становления и расцвета городов. Сначала несколько слов о том, что вообще такое – средневековый город? Происхождение городов в эпоху Средневековья было различным, но, как бы то ни было, города всегда становились центром ремесла и торговли. Городское население составляли прежде всего ремесленники, которые объединялись в цеха, и купцы, которые тоже в свою очередь образовывали гильдии. Естественно, в каждом городе обязательно был храм, в связи с чем в составе горожан присутствовало духовенство. И, конечно же, студенчество. Только назывались студенты в Средние века иначе – школярами. Во многих средневековых городах, правда уже к концу эпохи, возникают университеты.
Вся культура Нового времени – это в сущности культура города, вся европейская цивилизация – это торжество города над деревней. Но в то же время город вполне вписывался в средневековый миропорядок. Правда, жизнь горожанина мало чем напоминала жизнь рыцаря. Она проистекала в основном в сфере материальных, практических интересов, в то время как рыцарь был как бы отрешён от подобных забот, жил точно в некоем особом, выпадающем из обыденности мире. Его сфера – мир идеального. А горожанин… Повседневные заботы составляли непосредственное содержание всей городской жизни. К тому же города нередко подвергались рыцарским набегам. Рыцари грабили городское население. Церковь тоже в свою очередь обкладывала его разного рода поборами. Поэтому город видел как бы изнанку средневековой жизни. Рыцарь в глазах горожан – вовсе не тот герой, каким он представал в рыцарских романах, а нередко – грабитель и насильник, важный человек, который всегда был готов обобрать бедного горожанина. Как, скажем, и фигура монаха, которая тоже воспринималась неоднозначно. Не случайно в городской литературе по контрасту с рыцарской всегда присутствовало критическое начало.
Тем не менее, этот критический пафос не выходил за рамки средневекового понимания вещей. Крепнущая королевская власть опиралась на городское население, и горожане вправе были рассчитывать на некоторые привилегии и вольности. Поэтому они и не пытались что-либо изменить, скорее отстаивали собственные интересы в рамках самой существующей системы.
Особым моментом в жизни средневекового города, который во многом окрашивал городскую литературу, являлся карнавал, игравший важную роль и в эпоху Античности. Достаточно вспомнить о комедиях Аристофана и о роли карнавала в греческой культуре. Карнавал присутствовал и в римской действительности. Но в средневековой жизни карнавал занял совершенно особое место. Дело в том, что основной формообразующей категорией средневековой культуры стала вертикаль, а карнавал – это перевёрнутая мера, перевёрнутая вертикаль. И потому принцип перевёртыша для средневекового сознания оказался столь значим. Он приобрёл несравнимо большую значимость, чем в прежние века.
Средневековые карнавальные праздники носили, казалось бы, кощунственный характер. Достаточно вспомнить, скажем, очень яркое описание средневекового карнавала в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», где во время празднества горбуна Квазимодо возводят в папы. Карнавал – это церковь в перевёрнутом виде. Кроме того, устраивались пародийные литургии. Толпа во время карнавала могла ворваться в храм и совершить торжественное «богослужение». Элита духовенства облачалась в женские одежды и маски, на алтаре священники играли в кости, устраивались пляски… Роль Девы Марии исполняла какая-нибудь подвыпившая девица. В городской средневековой литературе сформировался целый пласт произведений, пародирующих основные элементы культа (как на латинском, так и на народных языках), сохранились многочисленные пародийные проповеди, пародии на молитвы и псалмы… В день первомученика Стефана, покровителя церковников, отмечался даже специальный праздник дураков. Организовывались особые «дурацкие корпорации», которые своим внутренним устройством в точности копировали церковную иерархию. Во главе их стояли выбранные «дураками» папа или мать-дура, у которых были свои епископы и церемониймейстеры. Наиболее древний орден дураков («Narrenorden») был организован в 1381 г., а к XV веку такие шутовские сообщества распространились по всей Европе под лозунгом "Число дураков бесконечно".
Как всё это понимать?
Карнавалы устраивались обычно дважды в год: по окончании Рождественского поста и перед Великим постом на Масленицу. В пост верующим приходится всё-таки очень строго себя ограничивать, соблюдать разного рода предписания… Поэтому церковь разрешала карнавалы, считая, что людям необходимо хоть на короткое время дать себе волю, раскрепоститься…
Вообще, важно правильно понимать особенности карнавального смеха. Приведу один пример, совсем элементарный, но, как модель, он, может быть, кое-что пояснит. Допустим, маленький ребёнок надевает штанишки на голову и смеётся. Что это значит? Он уже знает, что так нельзя, и не ставит под сомнение саму эту норму. Напротив, он её утверждает, хотя и делает это шиворот навыворот. Так и участники карнавала. Совершая во время карнавала все эти, казалось бы, бесчинства, кощунственные, провокационные действа, они вовсе не ставили под сомнение сами постулаты веры. Ничего подобного. Участники карнавала представляли всё шиворот навыворот, показывая то, как делать нельзя. Не над Девой Марией они насмехались, а над ряженой девицей, что её изображала.
Однако есть здесь и другая сторона, и её нельзя не замечать. Дело в том, что малышу нравится нарушать норму. Он в ней не сомневается, но вот нарушать её ему приятно. Именно потому, что нельзя. Он получает удовольствие оттого, что делает всё наоборот. В средневековом смехе всё, конечно же, было сложнее, но принцип, сама схема – та же самая. При этом средневековый карнавал никогда не подвергал сомнению ни религиозные, ни какие иные установления. Норма оставалась нормой. Но карнавал создавал перевёрнутый мир. Это первое. И второе: людям доставляло удовольствие хотя бы на короткий период отступать от ограничивающих их жизнь правил. Они понимали, что всё это нехорошо, неправильно, но нарушать было приятно. Карнавал рождал ощущение свободы. Поэтому карнавальные праздники играли столь важную роль в строго регламентированной культуре европейского Средневековья.
Теперь о главных жанрах городской литературы. В основном это были повествовательные жанры. Прежде всего короткие забавные повести в стихах, бытовые прозаические рассказы. Во Франции они носили название – фаблио (от фр. fabula – басня), в Германии – шванк (от средневерхненемецкого swanc – весёлая идея), в Италии – новеллино (Il novellino – анонимные сборники новелл). Такие произведения были тесно связаны с площадной, народной культурой. Их авторы, имена которых чаще всего оставались неизвестными, не выдумывали, а разрабатывали уже существующие, знакомые всем бродячие сюжеты. Фаблио и шванки носили анекдотический, шутливый характер. Последний был связан с карнавалом, с его смеховыми формами.
Но существовали и назидательные сюжеты. К числу таких популярных дидактических историй относится «Разрезанная попона». Её действующие лица: дед, отец, мать и ребёнок. Кстати, в произведениях городской литературы имена, как правило, отсутствовали. Женщина чаще всего изображалась негативно. В этом смысле городская литература – антитеза рыцарской, где женщина была вознесена на необыкновенную высоту. А здесь она представала в явно сниженном образе. Так вот, жена не любит своего свёкра и требует, чтобы муж выгнал старика из дому. И тот, в общем-то, подчиняется жене. Но перед нами – поучительный пример. Отец велит мальчику дать деду с собой в дорогу попону, чтобы тому было чем укрыться. А сын берёт и разрезает попону пополам. И когда отец спрашивает мальчика, зачем он это сделал, неужели пожалел для деда целой попоны, тот отвечает: «Нет, это я для тебя приберегу, когда состаришься, отдам тебе вторую половину». Слова ребёнка заставили отца устыдиться и оставить старика доживать свой век в семье.
Излюбленными героями городской литературы становятся дурак и плут. Можно, конечно, сказать, что дурак и плут – это противоположности. Плут – умный, а дурак – глуп. Но между ними существует и внутренняя связь. Во-первых, и тот, и другой нарушают норму. Один по глупости, другой из хитрости, сознательно, но оба нарушают. Нарушитель – всегда центральный персонаж, тот, кто делает всё не так, как другие, не как положено (это лежит в самой основе карнавального мышления). А, во-вторых, плут часто прикидывается дурачком. Ему удобно притворяться, чтобы иметь возможность совершать разного рода плутовские поступки. Поэтому граница между плутом и дураком, в общем-то, довольно подвижна…
Сохранилось свыше 160 фаблио, созданных в период с конца XII до середины XIV века.
Наиболее простой формой этого жанра является «Бурёнка – поповская корова». Сюжет рассказа таков: поп убеждает крестьянина в том, что дары тот должен приносить не столько церкви, сколько лично ему, и тогда дарующему всё вернётся сторицей. Поверив в это, простодушный крестьянин решает отдать попу корову. Поп велит слуге привязать свою корову к той, что привёл ему крестьянин, «чтоб к дому могла привыкать»:
Слуга Белянку в сад отводит
И, связав коров, сам уходит.
45 Осталась пара на лугу.
Бурёнка шею гнёт в дугу,
Есть траву она продолжает;
Белянка пастись не желает:
Верёвку тянет во всю мочь
50 И из сада уходит прочь.
Ведёт Бурёнку по полям,
По пастбищам и деревням,
Пока её не притащила,
Хотя и нелегко ей было,
55 К виллану – прямо к самой двери.
Виллан глядит – глазам не верит;
В душе рад-радёшенек он.
«Ого, – он молвил, поражён, —
И впрямь, дорогая сестрица,
60 Господь воздаёт нам сторицей:
За Белянкой пришла Бурёнка,
Стало сразу две коровёнки…
<….>
В сей сказке вот какой урок:
65 Мудрый себя вверяет богу,
Бог пошлёт – и получит много;
А глупый – и копит и прячет, —
Не разбогатеть – без удачи!
Всё счастливый случай решает:
70 Двух коров виллан получает,
А поп и одну потерял.
Подняться думал – ан упал!
Подобный критический взгляд на духовенство присутствует и в фаблио «Завещание осла», однако здесь всё предстает несколько сложнее:
1 Кто желает в довольстве жить
И дни свои так проводить,
Чтоб росло его состоянье —
Ждут того всегда нареканья
5 И злословья клеветников.
Каждый вредить ему готов,
Злой завистью одолеваем.
Как ни любезен будь хозяин,
Из десятка гостей его
10 Шесть найдётся клеветников.
Завистников же – сам-девятый;
За спиной он им враг заклятый,
А перед ним гнут низко шею
И быть приятными умеют.
15 Раз нету постоянства в том,
Кто сидит за его столом,
Кроме зависти – что другого
Ожидать ему от чужого?
А дальше события разворачиваются так: у попа был осёл, которого он нежно любил, и, когда осёл умер, поп похоронил его на освящённой земле, где покоился прах честных прихожан. Завистники пожаловались епископу, рассказали ему о случившемся. Разгневанный епископ спрашивает попа:
«Нечестивец, служитель зла,
Куда вы зарыли осла?
<…>
Клянусь Египетской Марией,
Коль правда то, что говорят,
И люди случаи подтвердят,
Посадить вас велю в тюрьму
За неслыханную вину».
А тот отвечает: «Дайте время, я всё объясню». Приходит на следующий день поп к епископу и говорит:
«Ваша милость, скажу вам кратко —
Осёл у меня долго жил,
150 Много денег я с ним нажил;
Честно служил осёл мой славный
20 лет как слуга исправный,
И – я клянусь души спасеньем! —
20 су добывалось в день им,
155 В год 20 ливров добывал.
Чтоб в ад не попасть, отказал
Он вам их в своём завещанье».
«Бог наградит его старанье, —
Сказал епископ, – и простит
160 Все преступленья и грехи!»
Епископ заключает, что предан земле был поистине праведный осёл! И завершается история словами:
Теперь вы слышали о том,
Как сладил с попом-богачом
Епископ и как он добился,
Чтоб тот почтенью научился.
<…>
Не страшно тому наказанье,
Кто с деньгами на суд пришёл;
Христианином стал осёл…
Финал сюжета двойственен. С одной стороны, богач здесь явно вызывает сочувствие, но, в то же время, оказывается, за деньги и осла можно признать христианином…
Подобная двойственность звучит и в фаблио «О виллане, который тяжбой приобрел Рай». Главный герой этой истории крестьянин (виллан)
Помер в пятницу, утром рано,
И тут вот что с ним приключилось:
В час, как с телом душа простилась
И виллан лежал уже мёртв,
Не пришёл ни ангел, ни чёрт,
Дабы душе вопрос задать
Иль что-нибудь ей приказать.
Знайте – робость душа забыла
И радость она ощутила:
Взглянув направо, в небе зрит —
Архангел Михаил летит,
К блаженствам душу восхищает;
За ангелом путь направляет,
Душа вилланова – и вот
Перед ними уж райский вход.
Но хранитель ключей от небесных врат апостол Петр никак не хочет пускать душу новоприставленного, говорит: «Рай – для святых и светлых угодников. Таким, как ты, не место в божьей обители!». А крестьянин ему на это отвечает: «Но ты ведь сам трижды от Христа отрекался!». Петр понял, что ему с таким не совладать, и обратился к апостолу Фоме, который, как известно, был неверующим, усомнился в воскресении Иисуса… Тогда в спор вступил апостол Павел. Но крестьянин и в его прошлом отыскал нечто неприглядное:
«Как? Лысый Павел преподобный,
Да вы ль так бойко говорите,
Вы – злейший тиран и мучитель,
Какого только свет рождал?
Как известно, по вине Савла (будущего апостола Павла) в своё время погибло немало христиан, в том числе был побит камнями первомученик Стефан. Так что крестьянин в конце концов заключает: «Все вы никуда не годитесь!».
Не в силах противостоять доводам крестьянина апостолы обращаются к самому Господу Богу, без приговора которого ни одной душе в Рай не попасть. Но и здесь крестьянин находит, что сказать:
«Коль здесь они – могу остаться
Я и подавно, полагаю;
Не отрекался от тебя я,
И верил плоти воскресенью,
И не гнал людей на мученье;
Они же в этом провинились,
А ныне в раю очутились!
Пока я телом в мире жил,
Порядочным и честным слыл:
Беднякам свой хлеб отдавал,
Днём и ночью дверь открывал,
У огня их отогревал,
До кончины их призревал
И после в церковь шёл за прахом,
Жертвовал портки и рубаху —
Всё, в чём нуждался человек;
Иль это не добро, а грех?
Исповедовался не ложно
И плоть твою вкушал, как должно,
Кто помер так, тому, как слышно,
Отпускает грехи всевышний.
Знаете – правду ль я сказал;
Без помех я сюда попал;
Раз я здесь – зачем уходить?
Или ваши слова забыть —
Ибо вы сказали, конечно:
Вступивший здесь пребудет вечно,
Не ломать же мне ваш устав!»
Так что же на это отвечает Господь?
«Виллан, – бог говорит, – ты прав.
Вёл спор за рай с большим уменьем,
Тяжбу выиграл словопреньем;
В хорошей школе был, наверно,
Слова найти умеешь верно,
Умеешь дело защитить».
Каков же вывод?
Притча хочет вас научить:
Часто зря пострадает тот,
Кто тяжбой своё не берёт.
Ведь хитрость правду исказила,
Подделка естество сразила,
Кривда все пути захватила,
Ловкость стала нужней, чем сила.
Сначала крестьянин тоже вроде бы вызывает сочувствие, а в финале оказывается, что тяжбой чего угодно можно добиться, даже места в Раю. Здесь тоже всё неоднозначно…
Или «Крестьянин – лекарь». Позже эта история ляжет в основу известного фарса Мольера «Лекарь поневоле». Крестьянин женился на дочери рыцаря, и теперь ему кажется, что жена ему изменяет. Хотя он и не поймал её на явной измене, но всё-таки думает, что та вряд ли ему верна. И поэтому жену бьёт – на всякий случай, профилактически. Женщине это надоело, и она решает наказать мужа. Как-то королевская дочь подавилась костью, и понадобилась помощь лекаря. Она и говорит: «Мой муж умеет лечить, но, если вы его об этом попросите, будет отказываться. Избейте его хорошенько, тогда он и поможет больной». Крестьянин действительно стал отпираться. Но, когда его избили до полусмерти, понял, что должен что-то предпринять. Принялся корчить перед больной разные смешные рожи, кривляться, и от смеха та сама выплюнула застрявшую кость.
Тогда со всего города стали собираться страждущие, требуя, чтобы крестьянин и их вылечил. Крестьянин взмолился: «Я же не лекарь, она сама случайно кость выплюнула!». Но в ответ услышал: «Мы знаем, как тебя заставить!» Крестьянин понял, что его снова станут бить, и тогда придумал вот что: предложил самому немощному пожертвовать собой ради спасения других: его бросят в печь, а все остальные будут исцелены его пеплом.
Крестьянин приступил к осмотру, и каждый из пациентов больше всего боялся, что может попасть в число безнадежных, поэтому на вопрос, как он себя чувствует, отвечал: «Прекрасно!». Так что больных в конце концов в замке не осталось, разом все поправились.
Существует также немало немецких шванков, среди которых особой популярностью пользовалось сочинение Штриккера «Поп Амис». Главный герой этой серии – хитроумный и ловкий священник, способный найти выход и извлечь для себя выгоду в любой ситуации. Приведу два примера. Завистливый епископ, с которым враждует герой, устраивает ему различные испытания. В данном случае – предлагает научить осла читать. Поп Амис восклицает: «Как?! Даже ребёнка обучить чтению нелегко, а тут – осёл!» Епископ отвечает: «Ну, не сразу, постепенно». Тот соглашается: «Хорошо, научу его одной букве». Берёт книгу и пересыпает овсом. Осёл принимается листать страницы в поисках зёрен, и каждый раз, когда их находит, произносил звук «а». А раз так, вроде и читать научился!
Другой эпизод о том, как поп Амис решил заработать. Пришёл в один богатый дом и объявил, что рисует портреты. Причём если портрет заказчиков не устроит, обещал отдать его даром. Хозяева решили, что перед ними дурачок, которого запросто можно провести! Он их изобразит, а они не заплатят, скажут, что не понравилось! А герой и не думал рисовать. Пустые холсты показывает и говорит: «Особенность этих рисунков в том, что видеть их могут только законнорожденные, а незаконнорожденные ничего не увидят». И, естественно, все признают, что портреты прекрасны.
В конце концов, пережив множество приключений, дойдя до самого Константинополя, поп Амис возвращается на родину разбогатевшим и мирно заканчивает свои дни аббатом в одном из монастырей.
«Роман о Лисе» стал наиболее ярким памятником городской литературы Средневековья. Название роман здесь – условное. Это цикл, существовавший во множестве версий, соединение различных фаблио, шванков. Первые французские варианты «Романа о Лисе» опирались на более ранние германские источники. Сам сюжет обширной эпической поэмы уходит корнями в глубины фольклора, в басни, в народные сказки о лисе и волке. Но только этому традиционному противостоянию животных-героев придан характер сатиры на средневековое общество. Это, кстати, входит в сам замысел произведения:
Вы, сударь, слышали не раз
От нас, сказителей, рассказ,
Как похищал Парис Елену,
Он был наказан за измену.
Вы часто слышали от нас
Печальный, трогательный сказ
О славном рыцаре Тристане
И о его смертельной ране.
Сегодня я для вас начну
Рассказ весёлый про войну,
Что продолжалась сотни лет
(Конца ей и доселе нет)
Ренар и волк её вели…
(Пер. В. Масса)
Вот такая пародия и на античную классику и на рыцарский роман.
В настоящее время слово «ренар» (так зовут главного героя произведения) по-французски означает – лис, но старое французское название животного было иное. Однако персонаж оказался настолько популярен, что со временем само его имя стало обозначать лисицу. Волка зовут Изенгрим. Это вечно голодный рыцарь. Лис – тоже рыцарь, приближённый короля, льва Нобля. Он живёт в замке Альтертун (Вонючая дыра), участвует в турнирах, враждует с баронами…
Борьбе лиса и волка в романе, как я уже сказал, придан характер феодальной междоусобицы. Но лис хитёр и потому всегда одерживает над волком победу. Наконец незадачливый волк решает обратиться в суд. Судить лиса должен король Нобль. Но лев с давних пор благоволит лису. Когда-то ему довелось делить добычу – быка, корову и телёнка, и лис разрешил спор таким образом: «Быка отдать льву, корову – львице, а телёнка – львёнку». Это очень понравилось королю, и с тех пор он питает к лису особую благосклонность. Но на суде присутствует ещё и верблюд, который представляет папский двор. Он произносит речь, из которой ничего понять нельзя, но смысл её сводится к тому, что король может решить дело, как ему вздумается. В общем, лев уже готов был оправдать лиса, но в это время в суд являются петух Шантеклер и куры с обвинительной петицией: лис удушил их благочестивую сестру. И уж тут ничего не поделаешь – лиса приговаривают к казни. Лис соглашается принять наказание, но заявляет, что раскаялся в содеянных грехах и просит напоследок позволить ему побывать в Ватикане. Лиса отпускают на богомолье. Но тот делает несколько шагов и… ловит зайца.
Лис вынужден скитаться, прячась от всех, с трудом добывает себе пропитание. Но лукавство и смекалка по-прежнему выручают его: то льстивыми речами выманит у ворона кусок сыра, то одурачит рыбаков, прикинувшись мёртвым. Те положат его в повозку с богатым уловом, а лис тем временем досыта набьёт себе брюхо, да ещё и прихватит, убегая, часть добычи с собой. Волк Изенгрин, тоже рыщущий в поисках съестного, подходит к дому лиса. Запах жареной рыбы заставляет волка забыть о смертной вражде. Он просит лиса угостить его. Но хитрец предлагает Изенгрину самому наловить себе рыбы. Ренар отводит волка на почти замерзший пруд и велит опустить хвост в прорубь. В итоге волк не только лишается хвоста, но и едва успевает унести ноги…
Мотив суда над лисом повторяется в произведении неоднократно. В одном из эпизодов лис соглашается на поединок с Изенгрином. Волк его одолевает, Ренара хотят повесить, но монахи упрашивают отправить его в монастырь. Пройдоха лис становится монахом. Но, естественно, днём он усердно молится, а ночами таскает кур.
Это лишь эпизод романа. Но хочу обратить внимание на один важный момент: в этом фрагменте дана как бы универсальная критика всех сторон средневекового общества: и королевской власти, и феодальной междоусобицы, и церкви. Однако не следует думать, что сами нормы здесь ставятся под сомнение. Напротив, происходящее предстает как некое искажение, отступление от общепринятого. Недаром герои романа – звери. И все они отклоняются от образца: лев вовсе не похож на настоящего льва, да и лис поступает не так, как следовало бы лису. Но сами нормы здесь остаются незыблемы. Под вопросом оказывается лишь то, насколько они осуществимы в реальной действительности.
Другим, не менее значимым явлением словесного искусства Средневековья, становится театр. Происходит зарождение средневековой драмы (IX-XIII вв.) Хочу сразу отметить: с гибелью античной культуры перестал существовать и театр в том виде, как его понимали древние. А в Средние века театр рождается заново. Позже, в эпоху Возрождения, когда возникнет острый интерес к наследию Античности, будет возрождена и античная драма. Вообще, античная традиция станет играть очень важную роль в формировании нового европейского театра. Но средневековый театр формируется как нечто самостоятельное, вне связи с античным.
Средневековый театр рождается в церкви. Вообще, во всяком богослужении, в католическом даже в большей степени, чем в православном, присутствует некий сценический элемент, то есть изначально средневековая драма формировалась как часть церковной службы, которая развертывалась в виде некоего действа, может и не совсем театрального, но во всяком случае, какие-то элементы театральной образности в нём присутствовали. Но это ещё не было театром. Первичная форма театра возникает в тот момент, когда действо выносится за стены храма, на паперть, позже – на церковный двор и, наконец, на городскую площадь; когда оно перестаёт быть частью церемониала, а становится дополнением к нему, разыгрывается вне его рамок.
Другая важная особенность этих драм в том, что в отличие от богослужения, которое, как известно, в католической церкви и сегодня совершается на латыни, они разыгрывались на народных языках и уже этим отделялись от литургии. Хотя в основе действа лежал религиозный сюжет, оно разворачивалось вне церковной службы и уже не являлось звеном богослужения. Такая драма получила название полулитургической.
Одной из самых ранних из известных нам полулитургических драм является «Представление об Адаме» (в некоторых переводах «Действо об Адаме»). Драма состоит из трёх частей: «Изгнание Адама и Евы из Рая», «Убийство Каином Авеля» и «Явление пророков». Наиболее интересной из них является первая, сюжет которой воспроизводит историю грехопадения человека. Здесь существенно пространство: церковная паперть символизирует собой Рай, где пребывают Адам и Ева, Бог – как бы в самой церкви, а место, куда люди будут изгнаны, земля, это – церковный двор. Устроители представления не допускали смены различных мест действия. Разновременные и разнопространственные элементы совмещались в едином сценическом пространстве…
Представление начинается с того, что Бог обращается с наставлениями к Адаму и Еве:
Я создал плоть
Твою из глины.
<…>
Я сотворил по своему
Тебя подобию. Потому
Блюди, чтоб мысли мне твои
Противоречить не могли.
Затем он указывает людям на «древо познания добра и зла» и запрещает прикасаться к его плодам. Однако в эту условную, религиозно-нравоучительную канву вплетаются и некоторые элементы действительности, достоверные жизненные детали. Отношения Адама с Создателем во многом напоминают отношения вассала и сеньора. Человек должен покорно служить.
Адама пытается соблазнить дьявол, уверяя, что если тот всё же вкусит от «древа познания», «очи его отверзятся, грядущее станет ему ясным…». Но безуспешно… Тогда дьявол обращается к Еве, которая оказывается куда более сговорчивой. Кстати, главный соблазн, с которым дьявол обращается к Адаму, это обещание сделать его равным Богу! Но Адам не внемлет мятежным речам. А вот Еву дьяволу удается соблазнить. И соблазняет он её тем же: обещанием могущества и власти, готовностью открыть женщине все тайны бытия. Но тут есть одна тонкость. Она заключается в том, каким образом дьяволу всё же удается убедить Еву. Он восхищается её красотой, нежностью, сожалеет, что Адам её недостоин… Но, главное, дьявол обращается к Еве с просьбой не рассказывать Адаму об их разговоре: пусть это останется между ними. И вот с той минуты, когда Ева согласилась утаить от Адама эту беседу, она и вступила в сделку с дьяволом, оказалась в его сетях. А дальше всё как в Библии. Ева вкушает запретный плод, после чего с восторгом восклицает:
Как будто Богу я равна.
Я знаю всё, чем я была,
Чем быть должна: вся глубь светла.
Не медли же, вкуси, Адам.
Тебе я тем блаженство дам.
Женщина протягивает яблоко и Адаму, но тот не решается его попробовать. Ева настаивает:
Таких не приходилось есть.
Возьми, пока возможность есть…
Адам всё же поддается уговорам. Как следует из ремарки, «Адам съедает часть яблока и познаёт, что согрешил; он опускает глаза, снимает пышные одежды и надевает одежду бедную, сшитую из фиговых листьев, и, являя вид великой скорби, начинает сетовать».
Но тут появляется разгневанный Господь и, обращаясь к дерзнувшим нарушить его запрет людям, произносит:
Идите вон. Сменить вам рай
Придётся не на лучший край.
<…>
Ждёт вас отныне глад и труд,
Ждёт скорбь, усталость и нужда
Дни, и недели, и года.
<…>
И вам страдать отныне впредь,
И нет того, кто б пожалел,
Кто б вам помог хотя словами,
Коли не сжалюсь сам над вами.
(Перевод с франц. С. Пинуса).
После этого ангел в белых одеждах с «пылающим мечом в руках» изгоняет Адама и Еву из Рая. Люди спускаются на церковный двор и начинают работать лопатами. Таков финал, иллюстрирующий божий приговор человеку: "В поте лица твоего будешь есть хлеб" (Бытие, 3:19).
Но и здесь в трактовку канонического библейского сюжета проникают элементы действительности: раньше Адам был вассалом, теперь же стал бедняком-землепашцем, вынужденным весь свой век исправно трудиться….
Следующий этап развития средневекового театра связан с появлением миракля. Слово миракль по-французски означает «чудо». Это драма о чуде. Но для миракля характерен уже не религиозный, а скорее реалистический, взятый из повседневной действительности сюжет. Полулитургическая драма – это всегда религиозный сюжет, в который включались какие-то элементы реальности. А здесь, наоборот: в реальный, бытовой план вторгается элемент религиозного чуда – это нечто иное.
К примеру, «Игра о святом Николае» – самый ранний из известных нам мираклей (впервые представлен около 1200 г.). Его автор – французский поэт Жан Бодель (кон. XII – нач. XIII вв.). События миракля относятся ко временам Крестовых походов и разворачиваются в двух разных пространствах одновременно. Один центр действия – дворец восточного царя, во владения которого вторглись войска крестоносцев; второй – во Франции, в небольшом городке Аррасе.
Так вот, некий рыцарь после кровопролитной битвы, в которой полегло немало христианских воинов, попадает в плен к сарацинам. Сарацинский правитель замечает в руках у этого честного человека изображение Николая-чудотворца. «Негодный,– воскликнул царь, – веришь ли ты в это дерево?»
«Ч е с т н ы й ч е л о в е к. Государь, это – святой Николай, помогающий угнетённым; чудеса его всем явны: он возвращает все потери, он выводит заблудших на истинный путь, он призывает к богу неверных, возвращает зрение слепым, воскрешает утопленников; вещь, вверенная его хранению, не потеряется и не испортится, даже если бы то был этот дворец, полный золота; только бы он был поставлен при казне: такова милость божия, ему данная». (51)
Как это часто бывает в сказках, царь говорит пленнику: «Если ты сказал правду, тебя ждёт свобода, а если солгал – смерть». «…Прежде чем я уйду отсюда, твой Николай подвергнется испытанию: я хочу поручить ему свою казну, но если только я потеряю даже то, что может поместиться в моем глазу, ты будешь сожжён или колесован. Сенешал, сведи его к Дюрану, моему мучителю и палачу. Но смотри, чтобы он был заключён в оковы».
Христианина отправляют в темницу. Царь же, чтобы испытать чудотворную силу святого, открывает все свои сундуки и хранилища и ставит у порога статуэтку Николая-чудотворца. Это первый сюжетный ряд.
Но действие разворачивается одновременно на двух разных сценических площадках, и другая пространственная точка – это трактир во французском городке, где воры играют в кости и выпивают. Они задолжали хозяину. Каким-то образом, как – это не объяснено, им становится известно, что в городе открыты хранилища, и они отправляются грабить, чтобы расплатиться с трактирщиком. Кстати, добраться от трактира до царских хранилищ физически нельзя, но это – условность театрального действа.
Несложно догадаться, что бедного пленника ожидает смерть, поскольку царя все-таки обокрали. Христианин обращается с мольбой к своему небесному покровителю: «Пресчастливый святой Николай, помоги мне в моей нужде, ибо пришёл конец мой, если враги одолеют меня! В нужде узнается друг. Господин, помоги же своему человеку, на которого озлобляется языческий царь; он не хочет сносить, чтобы я жил ещё! До завтра отложен мой конец, если казна не будет принесена. Господин, утешь злосчастного, который убивается в плаче и слезах!»
И здесь происходит нечто, характерное для миракля, – сам святой Николай является герою. (Это уже не статуэтка, а актёр). Святой должен спасти честного человека. Но для этого он отправляется, и это тоже характерно для миракля, в трактир и действует примерно как полицейский: заставляет воров всё вернуть. Мираклю свойственно это сочетание – чудесное показано как нечто сугубо наглядное. Николай просто физически отбирает награбленное. Говорит «верните», и напуганные воры возвращают сокровища. Царь узнаёт, что в казну возвратилось даже «больше, чем было украдено». На него это событие производит столь сильное впечатление, что он отрекается и от Аполлона, и от Магомета, и от «тарабарского плута» Тервагана, которым прежде поклонялся, и сам принимает христианскую веру. Причём происходит это в тот самый момент, когда на второй площадке виден трактир, где воры вновь пьют и ругаются, то есть, представлены параллельно совершенно разные события, совмещено бытовое и религиозное. Воров случившееся ничуть не изменило, они и не собирались что-либо пересматривать в своей жизни, остаются такими же, какими и были. Где-то поблизости висит бельё, и они тут же решают его украсть. Царя же и его приближенных всё происшедшее преображает.
Другое значительное драматургическое произведение XIII в. – «Миракль о Теофиле» французского поэта Рютбёфа (ок. 1230 – ок. 1285). В этом меракле, созданном около 1261 г., впервые предстаёт литературная обработка истории, которая в дальнейшем обретёт черты сюжета о докторе Фаусте. Герой миракля Теофил – церковный казначей, который всю свою жизнь стремился честно служить Богу и следовать христианским заповедям. Некогда он славился в округе своим достатком и добродетелью. Но судьба обошлась с ним жестоко: он потерял всё, впав в немилость у церковного начальства. В отчаянии Теофил обращается к Богу:
Мой господин! В моей мольбе
Я столько помнил о тебе!
Всё роздал, раздарил, что мог,
И стал – совсем пустой мешок.
Мой кардинал сказал мне: "Мат".
Король мой загнан в угол, взят,
А я вот – нищенствую сам…
Подрясник свой к ростовщикам
Снесу, иль жизни я лишусь…
И как с прислугой разочтусь?
И кто теперь прокормит их?
А кардинал? Ему до них
Нет дела… Новым господам
Пусть служат… Он к моим мольбам
Не снизойдет… Чтоб он издох!
Ну хорошо! Я сам не плох!
Будь проклят верящий врагу:
Сам провести его могу.
Чтобы своё вернуть, готов
Пойти на всё, без дальних слов.(52)
(Пер. А. Блок)
По вине кардинала, за которого Теофил всегда ревностно молился, он стал нищим, и теперь готов продать душу дьяволу, только бы отомстить обидчику, вернуть чин и былое богатство.
Дьявол соглашается помочь Теофилу, но у него свои требования:
Мой друг и брат мой, Теофил,
Теперь, когда ты поступил
Ко мне на службу, делай так:
Когда придёт к тебе бедняк,
Ты спину поверни и знай -
Своей дорогою ступай.
Да берегись ему помочь.
А кто заискивать не прочь
Перед тобой – ты будь жесток:
Придёт ли нищий на порог, -
Остерегись ему подать.
Смиренье, кротость, благодать,
Пост, покаянье, доброта -
Всё это мне тошней креста.
Что до молитв и благостынь,
То здесь ты лишь умом раскинь,
Чтоб знать, как это портит кровь.
Когда же честность и любовь
Завижу, – издыхаю я,
И чрево мне сосёт змея.
Когда в больницу кто спешит
Помочь больным, – меня мутит,
Скребёт под ложечкой – да как!
Делам я добрым – злейший враг.
Таково условие договора – творить лишь злое, иначе человек дьяволу не интересен. Теофил его принимает. И теперь герою кажется, что исполнилось всё, к чему он стремился:
Теперь мне выгодней твердить
Свои молитвы, чем тогда.
Теперь десятками сюда
Крестьяне будут притекать.
Я их заставлю пострадать:
Теперь я вижу в этом прок,
Дурак, кто с ними не жесток.
Отныне буду чёрств и горд.
Кардинал возвращает Теофилу отнятое, приносит свои извинения и даже объявляет:
Мой друг, иль вас попутал чёрт?
Вам надо помнить, Теофил,
Чтоб строгий долг исполнен был.
Итак, теперь и вы, и я
Здесь поселимся, как друзья.
Согласно дружбе, будем впредь
Сообща поместьями владеть.
Теперь я больше вам не враг.
Но оказывается, прежде чем заключить договор, дьявол взял у Теофила расписку:
Тебе не снился и во сне
Тот чин, который я, клянусь,
Тебе добыть не откажусь.
Но раз уж так, то слушай: я
Беру расписку от тебя
В умно расставленных словах.
Не раз бывал я в дураках,
Когда, расписок не беря,
Я пользу приносил вам зря.
Вот почему она нужна.
Как известно, подобная расписка делается кровью. И теперь, когда душе Теофила грозит ад, он переживает искреннее раскаяние и молит о помощи Деву Марию. Вообще, Богородица часто выступает заступницей, «тёплой заступницей мира холодного», как писал М. Лермонтов («Молитва»). В католической традиции её нередко именуют «прибежищем грешников». Множество легенд повествует о том, как Дева Мария испрашивает для заблудших облегчения участи. И здесь она тоже решает Теофила простить. В этом миракле возникает это характерное сочетание религиозного и натуралистического. Дева Мария подходит к дьяволу и отбирает у него расписку. Нет расписки, и Теофил – спасён.
В «Действе о Теофиле» этот мотив играет важную роль. Это не просто какое-то иррациональное чудо: расписку Дева Мария буквально выхватывает у дьявола. Это очень конкретно, наглядно представлено. А ещё: оказывается, сама по себе расписка ничего не значит. Дьявол думал, что главное – засвидетельствовать соглашение с человеком письменно, а оказалось – его можно и расторгнуть.
В XIV веке на смену мираклю приходит мистерия (франц. mysrères, от лат. ministerium – церковная служба, или от mysterium – таинство). Мистерии были грандиозны по своим масштабам. Сюжетами их становились важнейшие события Ветхого и Нового Завета, причем святых и библейских персонажей изображали священники, а дьяволов и второстепенных героев – обыкновенные горожане или бродячие актеры. Женские роли исполнялись молодыми людьми в масках. Подготовкой представлений занимался специальный комитет, состоявший из граждан и духовенства, который отвечал за сбор средств на сооружение сцены, декорации, изготовление костюмов и проч. Это был поистине народный театр. Мистерии проходили на городской площади, как правило, в дни религиозных праздников. Представление начиналось ранним утром и продолжалось с небольшими перерывами до захода солнца. Нередко оно длились несколько дней. Так, по некоторым свидетельствам «Мистерия о деяниях апостолов» насчитывала свыше 600000 стихов и разыгрывалась непрерывно в течение 40 дней. В продолжение всего этого времени в городе закрывались лавки, пустели улицы. Платные места для зрителей – партер и галерея – располагались под открытым небом. Но большинство желающих устраивалось где придётся: стоя, сидя, а то и лёжа на крышах близлежащих домов… Число действующих лиц мистерии тоже было впечатляющим; достигало порой нескольких десятков, а то и сотен человек.
Во многом это напоминает античный театр. Однако отношение к представлениям было иным, чем в Античности. В античном театре зрители осознавали условность самого этого действа, понимали, что это театр, игра. Лучшего актёра или, допустим, драматурга отмечали наградой и т.д. А здесь такого не было. Дело в том, что для христианского религиозного мышления всякое подобие священно. В мистерии изображались события Священного писания. Конечно, это были лишь подобия. Но и икона – тоже подобие, однако высоко почитается верующими. Поэтому и отношение к мистерии было гораздо более серьёзным. Она не воспринималась как условная игра…
В мистерии создавалась модель целого мироздания. Рай, Ад, Земля условно обозначались различными площадками и беседками, расставленными на площади. Так, к примеру, в стихотворном прологе мистерии «Воскресение спасителя» (XII в.) говорилось:
Мы покажем представление
Святого Воскресения.
Расположим в порядке
Беседки и площадки.
С креста следует начать,
Затем пойдёт гробница,
Возле неё ж – темница,
Чтобы татей туда заточать.
Ад должен быть напоследок,
А с другой стороны беседок
Будут небеса… (53)
Действие разворачивалось одновременно в разных точках пространства. Вообще, важнейшая категория средневекового мышления – это вертикаль. Рай в сознании верующих, конечно, символически располагался вверху, на небе. Но поскольку в театре это показать невозможно, использовались и некоторые условные замещения: Рай – справа, Ад – слева, правое знаменует верх, левое – низ. Применялся особый тип декорационного оформления, при котором на сценической площадке устанавливались выстроенные по прямой линии фронтально все декорации, необходимые по ходу действия. В сущности это та же конструкция, что и в иконе, где подобным образом выражается отсутствие времени для Бога – одновременность всей истории.
События мистерий охватывали необъятный материал – ветхозаветный, новозаветный, апостольский… Но в то же время в столь грандиозные по масштабам патетические действа вторгались и некие бытовые реалии. Это проявлялось в виде включений в представления каких-то второстепенных, эпизодических для Священного писания персонажей и моментов. Реальная жизнь неизбежно всё более проникала в мистерию.
Скажем, в одной из мистерий, посвященных Распятию и Воскресению Христа, мать Иисуса и Мария Магдалина отправляются к продавцу благовоний и масел, чтобы умастить ими тело перед погребением. Хозяин лавки видит, что женщины охвачены горем, и продает им свой товар за нереально высокую цену. А затем происходит такая бытовая перебранка между торговцем и его женой, которая упрекает мужа за то, что только дурак мог продать в такой ситуации хорошие благовония! Мог бы подсунуть и плохие. Покупательницы бы всё равно не заметили…
Подобные совершенно приземленные, бытовые детали и подробности всё чаще проникали в канонический религиозный сюжет. В действие стали включаться второстепенные персонажи во вставных фрагментах и разного рода отступлениях, и в какой-то момент это взорвало подобный тип представления…
Важным жанром позднего средневекового театра становится фарс. Это, конечно, средневековая комедия. Но что такое фарс с точки зрения этимологической? Это – «фарш», слово, которое всем известно, но вряд ли ассоциируется с фарсом. Оно происходит от латинского farsa (начинка); во французском это слово farce, буквально «фарш». Фарс – это та бытовая, реалистическая начинка и комические интермедии, которые поначалу включались в религиозную канву мистерии.
Один из таких ранних фарсов – «Баран». Здесь ещё совершенно очевидно общее религиозное содержание. Пастухи пасут овец, им встречается маг, явно – пройдоха, жалуется пастухам на тяжёлую жизнь. Говорит, что жена каждый год рожает, и у них уже так много детей, что он просто не знает, как жить. Пастухи слушают мага с сочувствием, а потом, когда маг уходит, замечают, что тот украл у них барашка. Пастухи решают отправиться вслед за магом. Приходят к тому в дом, а маг восклицает: «Какой барашек? У меня вот снова ребёнок родился, а вы мне про барашка!» Пастухам стало стыдно, и они решили преподнести новорождённому дар. Но когда приблизились к колыбели, то увидели, что там не младенец, а украденный барашек. В этот момент раздается голос свыше, возвещающий, что в Вифлееме родился Христос. И дары, которые предназначались для мнимого ребёнка мага, они относят к яслям младенца Христа. Здесь – комедийная ситуация, с одной стороны, но с другой – присутствует и религиозный сюжет. Таким фарс был изначально. Но в дальнейшем религиозная канва исчезает, фарс становится бытовой комедией.
Один из самых знаменитых фарсов средневековья – фарс об адвокате Патлене («Господин Пьер Патлен», ок. 1470; «Новый Патлен», ок. 1475; «Завещание Патлена», ок. 1500). Патлен – типичный персонаж городской литературы, о котором не зря говорят – «хитрее нету хитреца». Но плутни Патлена чаще всего направлены против таких же ловкачей и мошенников, как и он сам. В одном из многочисленных сюжетов фарса адвокат Патлен решает защищать в суде недалекого на вид пастуха, которого суконщик обвиняет в краже баранов. Патлен ему советует: о чём бы ни спрашивал судья, отвечать лишь блеяньем. Пастух так и поступает. Адвокат заключает: «Видите, до чего дошёл бедняга, как такого судить?» Прикинувшегося безумцем пастуха оправдывают. Тогда Патлен ему говорит: «Тебя оправдали, плати». Но пастух и на это отвечает: «Бе-е». Адвокат недоумевает: «Суд же позади, можно нормально разговаривать!» Но находчивый пастух лишь блеет в ответ. Он так и не заплатил Патлену.
Патлен
…О горький миг!
Провёл я стольких прощелыг,
У них кредита добиваясь,
И оплатить намереваясь
В день Страшного суда. А тут
Я пастухом простым надут! (54)
(Пер. В. Васильева)
Кстати, именно в этом фарсе звучит ставшая крылатой фраза: «Вернемся к нашим баранам». Этими словами судья то и дело прерывает речь богатого суконщика, который, забыв о провинившемся пастухе, осыпает упреками его ушлого адвоката, некогда прикинувшегося умирающим и не уплатившего ему за сукно.
Существует множество фарсов о дурных жёнах. Их героини всегда вздорны, капризны, изворотливы, ветрены, а, главное, чрезвычайно строптивы. Но не менее значительную группу составляют и фарсы о глупых мужьях. К примеру, фарс «Лохань» (1490-е гг.). Его герой – горожанин по имени Жакино. Жена и тёща заставляют покладистого Жакино делать всю домашнюю работу и при этом постоянно ругают его, обзывают бездельником. Он даже не в силах запомнить всё, что ему велят: «Жан, сделай то! Жан, сделай сё! // На Жана взваливают всё!» Наконец жена и тёща решают составить точный перечень того, что Жакино делать обязан:
Тёща. С утра топить на кухне печь…
Просеивать, месить и печь…
Жена. Бельё замачивать в лохани…
Тёща. Да позаботиться заранее,
Чтобы воды хватило в чане…
Жена. Ходить на рынок, Жакино…
Тёща. Возить на мельницу зерно…
Жена. И стряпать каждый день обед.
Тёща. И кухню подметать как след,
Чтобы ни сора там, ни пыли.
Жакино. Вы что-то слишком зачастили,
Не поспеваю я писать.
<…>
Жена. Стирать
Ты будешь детские пелёнки.
Жакино. К чертям!
Жена. Подумай о ребёнке!
Жакино. Жена, мужской ли это труд?
Жена. Пиши, болван, пройдоха, плут!
Жакино. Нет – хоть стреляй в меня из пушки.
К лицу ли мужу постирушки?
Ты не добьёшься ничего.
Жена. Ох, проучу же я его!
Он у меня не взвидит света. (55)
(Пер. Е. Баевской)
Жена зовет Жакино выкручивать бельё, но в перебранке неожиданно падает в огромную лохань с водой и начинает тонуть:
…На помощь! Караул!
Нет больше сил! Держусь едва я!
<…>
Спаси меня! (56)
А Жакино на эти крики о помощи отвечает:
Э нет, мой свет:
Такого в нашем списке нет.
И начинает зачитывать барахтающейся в воде жене список своих обязанностей, стараясь ничего не упустить из виду.
В конце концов Жакино всё же помогает жене выбраться из лохани, но в обмен берёт с неё обещание впредь выполнять всю женскую работу по дому самой:
… Наступит мир у нас с женою,
И станет всё как у людей.
По неразумности своей
С женой вступая в перебранку,
Всё вывернул я наизнанку.
Смеялась надо мной жена –
Теперь осмеяна она.
Я вновь хозяин, муж, отец.
Прощайте, зрители! Конец. (57)
Сюжеты фарсов заимствовались из городской повседневности. Их действующими лицами становились своего рода узнаваемые образы-маски, типизированные персонажи, нарушающие не только некие бытовые, но и социальные, профессиональные, нравственно-этические нормы: монах, торгующий индульгенциями, сластолюбивый поп, псевдоученый, лекарь-шарлатан, солдат-мародер, чиновник-взяточник… Фарсовый театр с его карнавальным шутовством и карикатурностью долгое время оставался одной из наиболее ярких форм городского вольномыслия…
В особый тип можно выделить фарсы, в которых пародировалась церковь и её догматы… Хотя надо сказать, и представители клира не жаловали фарсеров (так горожане называли исполнителей фарсов). Сохранились свидетельства современников о самом прославленном актёре средневекового театра, по прозвищу Понтале. Однажды у себя в балагане Понтале громко бил в барабан, чем очень мешал проведению мессы в храме неподалеку. Разгневанный клирик пришёл на представление и на глазах у публики изрезал ножом кожу на барабане актёра. Тогда Понтале надел на голову дырявый инструмент и отправился на мессу. Из-за хохота, который подняли прихожане, пришлось прервать богослужение.
Несколько слов о жанре моралите (франц. moralite, от лат. moralis – нравственный). Это тоже характерный жанр XV-XVI вв., целиком построенный на аллегорических фигурах и олицетворении различных отвлечённых понятий. Некоторые из них достаточно очевидны. К примеру, Скупость – это человек, который сам в отрепьях, но с мешком золота в руках. У Глупости – ослиные уши, у Чревоугодия – огромный живот. Персонажи моралите легко угадывались по таким очевидным приметам и атрибутам: Вера – крест, Надежда – якорь, Любовь – сердце, Возмездие – меч, Правосудие – весы, Совесть – зеркало… Может, несколько неожиданной сегодня может показаться фигура Наслаждение. Это – апельсин.
Главной темой моралите являлся извечный конфликт между светлым и тёмным началами в жизни человека, каждое из которых старалось завладеть его душой, но при этом Добро неизменно торжествовало, что должно было благотворно воздействовать на публику. Моралите носили явно нравоучительный характер. К примеру, моралите «Каждый человек» – об участи умирающего. Когда к человеку приближается смерть, все его покидают. Дружба была готова проводить с ним дни и ночи на пирах и в веселье, могла последовать за ним даже в каких-то дурных, порочных делах, но разделить с ним смерть она не хочет. Его оставляют Родство и Богатство. Единственное, что следует за человеком после смерти, – это его Добрые Дела. В заключение моралите обязательно излагалась некая обобщающая мораль.
Своего наивысшего расцвета городская средневековая литература достигла в Италии. Для её развития здесь сложились совершенно особые условия. Формально Королевство Италия вплоть до 1648 года было составной частью Священной Римской империи. На протяжении всего Средневековья продолжалась борьба между римскими папами и императорами за реальную власть над Италией. Под знаком их вооруженного соперничества прошли многие национальные события XII—XV вв. Эта борьба позволила итальянским городам, лавируя между двумя противниками, добиться относительной самостоятельности и превратиться не только в центры мировой торговли, но и в своеобразные города-государства.
К таким мощным образованиям относилась Флоренция – город в центре горной провинции Тоскана, которому суждено было сыграть необычайно важную роль не только в экономике и политике, но и в становлении итальянской культуры. В XII веке во Флоренции возникли первые политические течения. Подобного не знало европейское Средневековье. Это были своего рода конкурирующие феодальные партии. Первая опиралась на власть германского императора и носила название – гибеллины. Вторая партия – гвельфы – выступала за усиление влияния римского папы. В конце концов гвельфы одержали в этом противостоянии победу над гибеллинами и изгнали их из Флоренции.
Данте Алигьери
Величайший поэт Средневековья родился во Флоренции в 1265 г. По словам самого Данте, в день его рождения солнце находилось в созвездии Близнецов ("Рай", XXII песнь), что по тогдашним представлениям означало склонность человека к занятиям искусством и науками. Родители Данте принадлежали к партии гвельфов. По легенде, которую поддерживал сам поэт, история его рода восходила к знатному римскому семейству, участвовавшему в основании Флоренции. О матери синьоре Белле известно лишь то, что она умерла, когда Данте был ещё ребенком. Отец Алагьеро Д'Алигьери зарабатывал, вероятно, нотариальной практикой и по общему флорентийскому обычаю ростовщичеством. Родители сумели дать сыну неплохое образование. Данте имел широкие познания в античной и средневековой литературе, в естественных науках. Позже учился, предположительно, в Болонском и по некоторым свидетельствам Парижском университетах. Курс высшего образования в те времена включал в себя изучение "семи свободных искусств": грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Известно, что Данте владел французским. Хорошо был знаком со стихами провансальских трубадуров. Конечно же, знал латынь: свободно читал произведения Цицерона, Боэция… Вергилий был его любимым поэтом.
Что касается внешнего облика, поэта подробно описал Джованни Боккаччо, первый биограф Данте, лично знавший многих его близких родственников: "Был наш поэт роста ниже среднего, а когда достиг зрелых лет, начал к тому же сутулиться, ходил всегда неспешно и плавно, одежду носил самую скромную… Лицо у него было продолговатое и смуглое, нос орлиный, глаза довольно большие, челюсти крупные, нижняя губа выдавалась вперед, густые черные волосы курчавились, равно как и борода, вид был неизменно задумчивый и печальный».
В Италии в этот период получила распространение поэзия так называемого «Нового сладостного стиля» (итал. «Dolce stil nuovo»). Данте и его друг Гвидо Кавальканти стали наиболее яркими её представителями. Первое произведение Данте связано именно с этим поэтическим стилем. Это лирика, посвященная его любви к Беатриче. Ранняя смерть Беатриче стала серьёзным потрясением для Данте. По свидетельству тех, кто знал поэта близко, эта «смерть повергла Данте в такое горе, в такое сокрушение, в такие слёзы, что многие… боялись, что дело может кончиться только смертью. И думали, что последует она в скором времени, ибо видели, что он не поддается никакому сочувствию…» Но именно эти тяжелые переживания и породили первый поэтический сборник Данте «Новая жизнь» ("Vita Nuova"), в сущности, первую в западноевропейской литературе автобиографию.
Это произведение во многом продолжало традиции провансальской поэзии, существовавшей главным образом как стихи, обращённые к даме. Но в стихах Данте, по сравнению с поэзией трубадуров, моменты феодального служения вообще никакой роли не играли. Зато резко усилились религиозные мотивы. После смерти Беатриче Данте всерьёз обратился к изучению древних книг, к науке и философии. Его привлекали труды Альберта Великого, одного из первых европейских Фаустов, соединившего в одном лице архиепископа и естествоиспытателя. Большое влияние в этот период на Данте оказали взгляды католического мыслителя Фомы Аквинского, сумевшего связать христианское вероучение с идеями Аристотеля. «Этика» Аристотеля стала одной из самых любимых книг Данте.
Однако ни философия, ни поэзия, ни даже любовь не могли составить для него смысл существования. Данте был человеком сильного политического темперамента. В 1295 г. Данте впервые вступает на политическое поприще.
К тому времени партия гвельфов распалась на две части – Белых ("чистых") и Чёрных ("недовольных") гвельфов. Чёрными гвельфами заправляли древние, но не слишком богатые аристократы; Белыми руководили богатые, но не столь родовитые банкиры. Данте стал одним из лидеров Белых гвельфов, стремившихся отстоять для Флоренции положение, независимое от влияния наследственной аристократии и папы. И когда те одержали победу над Чёрными и изгнали их из Флоренции, Данте стал одним из семи приоров Флорентийской республики. Это был довольно высокий политический пост. Но, по словам самого поэта, этот приорат стал началом всех его бедствий.
Торжество Белых гвельфов оказалось кратковременным. В 1301 г., опираясь на помощь папы римского Бонифация VIII и заручившись поддержкой брата короля Филиппа IV Красивого – Карла Валуа, Чёрные гвельфы сумели взять реванш и жестоко расправились со своими противниками. Данте повезло: его в это время не было во Флоренции. Дом Данте разрушили до основания. Наряду с другими Белыми гвельфами поэт был обвинен в тяжком преступлении: присвоении финансовых средств республики. В 1302 г. против Данте был вынесен новый судебный вердикт: поэт был заочно приговорен к сожжению…
Дальнейшая жизнь Данте проходит в изгнании, вдали от Флоренции. Он мечтает вернуться на родину, но так никогда и не сможет этого сделать. В эмиграции меняются политические убеждения Данте. Он разочаровывается в партии Белых гвельфов и заявляет, что отныне составляет партию из одного человека, и это – он сам. Теперь свои надежды он возлагает на германского императора Генриха VII. В 1309 г. состоялась коронация Генриха VII и его супруги Маргариты Брабантской. Но, чтобы стать императором Священной Римской империи, король должен был венчаться в Милане легендарной железной короной лангобардских королей, что возводило в сан властителя Италии, и лишь затем в Риме императорской короной. Незадолго до этого по всей Италии было разослано латинское послание Данте, в котором поэт приветствовал нового правителя, несущего, по его мнению, мир и покой стране. Когда позже Генрих VII отправится в Итальянский поход, Данте станет писать прокламации с призывами поддержать императора, полагая, что перемены позволят ему восстановить утраченные гражданские права. Но в 1313 г. Генрих VII внезапно умирает от малярии, так и не успев вступить во Флоренцию. Надежды Данте на возвращение рушатся навсегда.
В 1315 г. Флоренция издаёт декрет об амнистии, в котором изгнанникам предлагалось вернуться на родину на определенных условиях: они должны были признать собственную вину, публично покаяться и внести значительный денежный выкуп. Данте счёл подобные требования неприемлемыми и был вновь осуждён на смертный приговор, отмененный, кстати, лишь во второй половине XX века.
На некоторое время Данте нашёл убежище в Вероне. В последние годы жил в Равенне, окружённый детьми, (58) друзьями и поклонниками. Летом 1321 года как посол правителя Равенны поэт отправляется в Венецию для заключения мирного договора. Но на обратном пути Данте заражается малярией и умирает в ночь с 13 на 14 сентября.
Самые именитые граждане Равенны на своих плечах несли гроб с телом поэта до места упокоения. Лишь во Флоренции никто не отозвался на смерть великого соотечественника. Позже Флоренция неоднократно пыталась вернуть останки Данте, но Равенна всякий раз отвечала отказом. Как писала А. Ахматова в стихотворении 1936 г.:
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы…
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог её забыть, –
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажжённой не прошёл
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной…
Данте – автор трёх трактатов: «О народном красноречии», «Пир» (1304-1307), и «О монархии» (1312-1313), в котором изложил своё политическое мировоззрение. Впервые в европейской традиции Данте предложил отделить церковь от государства, разграничить светскую и церковную власть…
В своем первом трактате «О народном красноречии» Данте выдвинул важное утверждение: писать необходимо на народном языке, а не на латыни, итальянский язык может стать достойным средством поэтического выражения. Поэты «Нового сладостного стиля» уже писали к тому времени по-итальянски. Но в научных сочинениях повсюду отдавалось предпочтение латыни. Конечно, возникает вопрос: в Италии существовало множество разных диалектов, какой из них – истинный итальянский? На этот вопрос Данте отвечает гениально просто: эталонным следует считать тот язык, на котором создаёт свои творения он, Данте. И уже следующий свой трактат «Пир», чисто философское сочинение, что особенно удивительно, Данте пишет на итальянском. Художественные произведения на национальном языке ещё встречались, но философские трактаты никто до Данте на иных языках, кроме латыни не писал. Данте стал первым. Он явился создателем итальянского литературного языка.(59)
Первое художественное произведение Данте – сборник сонетов и канцон «Новая жизнь». Из стихотворений, созданных между 1283 и 1292 гг., Данте отобрал те, что были посвящены Беатриче или казались достойны её памяти, расположил их в хронологическом порядке и связал прозой.
Данте так начинает своё произведение:
«В этом разделе книги моей памяти, до которого лишь немногое заслуживает быть прочитанным, находится рубрика, гласящая: "Incipit vita nova". (60) Под этой рубрикой я нахожу слова, которые я намерен воспроизвести в этой малой книге, и если не все, то по крайней мере их сущность». (61)
Прототипом образа Беатриче была реальная женщина, дочь знатного флорентийца Фолько Портинари, вышедшая замуж за банкира Симона деи Барди. Встреча Данте с юной Беатриче на весеннем празднике в доме её отца стала едва ли не самым значительным событием его жизни. По словам самого поэта, в тот момент, когда он впервые увидел её, «столь благородную и достойную», «дух жизни, обитающий в самой сокровенной глубине сердца, затрепетал столь сильно, что ужасающе проявлялся в малейшем биении. И, дрожа, он произнес следующие слова: «Ессе deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi». (62)
Данте пишет: «Девятый раз после того, как я родился, небо света приближалось к исходной точке в собственном своем круговращении, когда перед моими очами появилась впервые исполненная славы дама, царящая в моих помыслах, которую многие – не зная, как её зовут,– именовали Беатриче» (II).
Хочу сразу обратить внимание, мы к этому ещё вернемся, когда будем говорить о «Божественной комедии»: в произведениях Данте важна символика чисел. В «Новой жизни», в частности, особое значение имеет число девять. О Беатриче сказано: «В этой жизни она пребывала уже столько времени, что звёздное небо передвинулось к восточным пределам на двенадцатую часть одного градуса. Так предстала она предо мною почти в начале своего девятого года, я уже увидел её почти в конце моего девятого» (II).
Число 9, как пишет Данте, «согласно с Птолемеем и христианской истиной… – число движущихся небес». В «Новой жизни» оно будет ещё неоднократно встречаться, обозначая некий духовный порог, решающий шаг к чему-то новому, процесс духовной концентрации, предшествующей обновлению…
Связь между словами новый (neu) и девять (neum) имеется во множестве языков, где эти слова если не тождественны, то восходят к одному и тому же корню. Но в произведении Данте не только числа – всё носит символический характер. В том числе и цвета, связанные с образом Беатриче. Она «появилась облаченная в благороднейший кроваво-красный цвет, скромный и благопристойный, украшенная и опоясанная так, как подобало юному её возрасту» (II). Красный – один из цветов Богоматери, символизирующий небесную любовь.
Второй раз Данте увидел Беатриче, спустя ровно девять лет. «Когда миновало столько времени, что исполнилось ровно девять лет после упомянутого явления Благороднейшей, …случилось, что чудотворная госпожа предстала предо мной облаченная в одежды ослепительно белого цвета» (III).
В юной флорентийской красавице Данте видится некое чудо, нарушающее законы природы. Беатриче воспринимается поэтом как светоносная посланница небес. Любовь к ней духовно преображает Данте, делает его как бы иным, новым существом.
Этот мотив будет затем развит в «Божественной комедии», но уже в «Новой жизни» он очевиден. Сам Данте говорит об этом так: «Когда же я немного отдохнул и мёртвые духи мои воскресли, а изгнанные вернулись на свои места, я сказал моему другу такие слова: «Я сделал шаг в ту часть жизни, где нельзя уже идти далее, ежели хочешь воротиться» (пер. с итал. А.Эфроса).
Эти слова очень важны: «Я сделал шаг в ту часть жизни, где нельзя уже… воротиться». Это о смерти. Любовь и смерть здесь образуют некое неразрывное целое. Дело в том, что этот мотив звучит, к примеру, и в Новом Завете, в словах апостола Павла: «Смерть становится желанной, как условие полного соединения с предметом любви» (Второе послание к коринфянам, гл. 5, 8); «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (Первое послание к коринфянам, гл. 15).
В первой канцоне Данте пишет:
Скажу: Любовь дала моей печали
Столь сладостное чувство ощутить,
Что если б я дерзнул его открыть,
Познал бы мир любовное волненье.
То есть он сразу придаёт своей любви поистине метафизический характер.
Любовь гласит: «Дочь праха не бывает
Так разом и прекрасна и чиста…»
Но глянула, – и уж твердят уста,
Что в ней Господь нездешний мир являет.
Её чело – как жемчуг, где мерцает
Прозрачно разлитая бледнота;
Себя в ней доказует красота,
А естество – всю благость воплощает.
Из глаз её, когда она взирает,
Несутся духи в пламени любви
И мечут встречным молнии свои,
И сердце в них биение теряет.
Её улыбку вывела Любовь:
Кто раз взглянул, тот не дерзает вновь. (63)
(Пер. с итальянского А. Эфроса)
В 1289 г. умирает отец Беатриче. Данте настолько сильно сопереживает горю возлюбленной, что в горячечном бреду видит, будто умерла сама Беатриче. С её уходом рушится целый мир: гаснут солнце и звезды, дрожит земля, птицы замертво падают на землю. Но это не просто видение человеческой кончины. Данте видит Беатриче, которая вместе с ангелами возносится на небеса. И слова, которые употребляет здесь поэт, прежде звучали лишь по отношению к возносящемуся Христу.
В реальной жизни смерть Беатриче наступает позже, год спустя, хотя и эта дата в сочинении Данте весьма туманна: «Я говорю, что, если считать по обычаю Аравии, её благороднейшая душа вознеслась в первый час девятого дня месяца; а по счету, принятому в Сирии, она покинула нас в девятом месяце года, ибо первый месяц там Тизирин первый, называемый у нас октябрем; а по нашему исчислению, она ушла в том году нашего индикта, считая от Рождения Господня, когда совершенное число завершилось девять раз в том столетии, в котором суждено ей было пребывать на этом свете» (XXIX). На самом деле Беатриче умерла 9 июня 1290 года, но в данном случае важно не это, а кружение вокруг числа девять.
Завершает книгу сонет, который был написан уже после смерти Беатриче:
Над сферою, что шире всех кружится,
Посланник сердца, вздох проходит мой:
То новая Разумность, что с тоской
Дала ему Любовь, в нём ввысь стремится.
И вот пред ним желанная граница:
Он видит донну в почести большой,
В таком блистанье, в благости такой,
Что страннический дух не надивится.
Что видел он, то изъяснил; но я
Не мог постигнуть смысла в хитрой притче,
Как ни внимала ей душа моя.
Но явно мне: он о Благой вещал,
Зане я слышал имя: «Беатриче» —
И тайну слов, о донны, постигал. (64)
(Пер. с итал. А. Эфроса)
Хочу прокомментировать этот последний сонет. «Над сферою, что шире всех…», или, точнее было бы сказать, тише всех кружится, находится Эмпирей, где пребывает Господь. Мы ещё вернёмся к этому образу, когда будем говорить о «Божественной комедии». «Посланник сердца, вздох проходит мой: // То новая Разумность, что с тоской // Дала ему Любовь, в нём ввысь стремится». Любовь к Беатриче – это устремлённость ввысь. Она позволила Данте соприкоснуться с этой высшей духовной сферой бытия, она – его путь к Раю. И хотя поэт не способен описать этот запредельный «горний» мир, говорит, что у него для этого просто не хватает слов, гораздо важнее, что он смог ощутить этот абсолют.
Данте так заключает своё сочинение: «После этого сонета явилось мне чудесное видение, в котором я узрел то, что заставило меня принять решение не говорить больше о благословенной, пока я не буду в силах повествовать о ней более достойно. Чтобы достигнуть этого, я прилагаю все усилия, о чем она поистине знает. Так, если соблаговолит Тот, Кем всё живо, чтобы жизнь моя продлилась ещё несколько лет, я надеюсь сказать о ней то, что никогда ещё не было сказано ни об одной женщине». (XLII).
В этих словах, в сущности, заложен замысел «Божественной комедии». Данте так сумеет воспеть Беатриче, как ни один поэт не воспевал свою возлюбленную. В этом смысле «Новая жизнь» – пролог к главному произведению Данте, его «Божественной комедии».…
«Божественная комедия»
Считается, что работу над «Божественной комедией» Данте начал около 1307 года, а последние строчки поэмы были написаны им в 1320 году, незадолго до смерти.
«Божественная комедия» связана с особым жанром, получившим значительное развитие в Средние века. Это жанр видения. К нему можно отнести произведения, изображающие некий иной, потусторонний, нематериальный мир. Вообще, для средневекового человека смерть была главным событием жизни, его более всего волновал этот вопрос: а что будет там, за порогом земного существования? Поэтому визионерские свидетельства, разнообразные описания загробного мира составляли важную часть культуры Средневековья.
Эти описания были в основном двух типов: изложение реальных видений того или иного человека или же – литературные сочинения, к коим, в частности, относится и поэма Данте. Что значит в данном случае «реальные»? Разумеется, ни один человек ещё не вернулся с того света, чтобы рассказать об увиденном. Но, во-первых, в Средние века с огромной серьезностью относились к снам. Если человек видел загробный мир во сне, считалось, что это подлинное видение. Кроме того, встречались, очевидно, и случаи, когда люди испытывали некое околосмертное состояние, которое сегодня принято называть клинической смертью. Вернувшись к жизни, они делились увиденным. Правда, хочу заметить, в Средние века грамотных было мало, поэтому свидетельства, которые сохранились – это, как правило, записи, сделанные священниками. И это тоже накладывало известный отпечаток на характер свидетельств…
Так что же люди видели? А то, что им уже было известно, хотя, конечно, встречались и вариации. В ХХ веке проводилось немало подобных исследований. Большинство из переживших клиническую смерть действительно что-то воспринимали, они не выдумывают. Но когда человек вспоминал об этом пограничном опыте, то излагал лишь то, о чём изначально уже имел некое умозрительное представление. Известно, что нельзя рассказать сон. Мы не можем в точности передать сновидение, а обязательно его заново выстраиваем. Какие-то впечатления увиденное во сне, несомненно, оставляет, но вот передать сон последовательно, реконструировать его так, как он в действительности развивался, невозможно. Когда мы рассказываем о виденном во сне, вспоминаем какие-то образы, наша мысль находит в их появлении и чередованиях какую-то логику, хотя на самом деле, логики там, может быть, и не было. Или же она какая-то совершенно иная. Здесь неизбежны искажения. А уж о таком состоянии, как смерть, что и говорить…
Но книга Данте – это литературное произведение, хотя многие современники искренне верили в то, что Данте действительно побывал в загробном мире. Нередко поэту приходилось слышать: "Посмотрите, вон идёт человек, который спускается в Ад и возвращается оттуда, когда ему вздумается…" Тем не менее, «Божественная комедия» не реальное видение, не сон, а воплощение литературного замысла. Но к этому я хотел бы добавить, что Данте всё это действительно видел. Не в том смысле, что он там побывал, нет. Но это не было придумано, поэма отражает его собственное видение.
Теперь немного о другом. Данте считал, что художественное произведение должно заключать в себе четыре смысловых уровня. Первый – смысл буквальный. Я уже говорил, что современники Данте верили в достоверность его потустороннего путешествия. Оно представлено в поэме как реальное, совершенное во плоти и наяву… Второй уровень – аллегорический. Это желание показать связь между грехом и наказанием, добродетельным поступком человека и формой заслуженного посмертного блаженства. Каждый грех влечет за собой кару, а доброе деяние – награду. В загробном мире поэт видит разнообразные состояния, которые души умерших переживают в соответствии с божественным воздаянием… Третий уровень – смысл моральный. Задача Данте – попытаться вывести людей из состояния греха, помочь им открыть путь к просветляющей их жизнь истине. И, наконец, четвертый, высший уровень – анагогический. Это некий сверхсмысл, заложенный в произведении, попытка найти ответы на самые главные, последние вопросы бытия: что такое время, вечность, что есть человек, что есть Бог – то есть приблизиться к разгадке самых сокровенных тайн мироздания, поставить вопросы, на которые невозможно найти рациональные ответы…
Надо сказать, всякое произведение искусства, безусловно, несёт в себе три уровня смысла. В любом художественном тексте, кроме буквального, присутствует и некий символический смысл, без этого невозможно. Если художник изображает дождь, то это не совсем погодное явление, дождь здесь что-то ещё обозначает. В любом произведении есть этот иной, второй смысловой план, иначе это не искусство. И во всяком произведении заложен некоторый моральный посыл. Может быть, писатель и не ставил перед собой какой-то определенной нравственной цели, как, допустим, Данте, но невольно всякое произведение выражает этическую позицию автора. И даже отказ от всякой морали тоже несёт в себе некую мораль… Но вот что касается высшего – анагогического смысла, то он присущ лишь по-настоящему значительным, самым великим произведениям. «Божественная комедия» Данте, безусловно, относится к их числу.
Итак, что такое загробный мир в поэме Данте? Обратимся сперва к одной существенной стороне этого вопроса. Дело в том, что современный человек остро ощущает время, а восприятие человека Средневековья, напротив, было настроено на моменты, так или иначе сопряженные с вневременным. Загробный мир – это и есть мир вечности. Для средневекового человека любой религиозный праздник – это возможность соприкоснуться с этим вневременным миром. Известно, скажем, что в воскресенье не положено заниматься уборкой, стирать. Хотя, казалось бы, ничего греховного нет в том, чтобы привести в порядок комнату или постирать белье. А почему нельзя? А потому что это связано с временем. Необходимо выпасть из временного потока, погрузиться в мир вечности. Средневековый человек остро ощущал этот особый вневременной мир, но в чистом виде это ощущение представлено только в описании Рая у Данте.
Когда Данте достигает Рая, его предельной высоты – Эмпирея, мы к этому ещё вернемся, он видит божество. Бог – это сияющая точка, и про эту высшую, божественную точку сказано: «Здесь все где и все когда». Это и есть вечность. В ней заключена вся полнота бытия, всё, что было, есть и будет. В этой точке как бы сосредоточено всё Мироздание. Это наиполная полнота, поистине совершенный, абсолютный мир.
Что касается Ада, это не совсем вечность, поскольку Ад имел начало. Согласно Данте, Ад возник в результате низвержения с небес Люцифера, восставшего против Бога. Вонзившись в Землю, Люцифер застрял в ее центре, физическом средоточии Вселенной, образовав воронкообразную пропасть. Но если в Раю заключена вся полнота времени, все возможные «когда», то в Аду главное – это отсутствие времени.
А что значит «время»? Конечно, время в привычном нам понимании измеряется движением часовой стрелки по циферблату, это так. Но не совсем. Проще всего, пожалуй, о сути времени сказал когда-то Томас Манн: «Время – это то, что вынашивает перемены». Когда есть изменения, есть время. В Аду – безвременье, отсутствие времени, поэтому на вратах Ада написано: «Входящие, оставьте упованья». Ибо надежда связана с движением времени, с ощущением, что пройдет время и что-то изменится. А если не изменится, то не на что и уповать. Люди надеются на перемены, которые несёт в себе время, и там, где нет времени, – нет надежды. Вообще, каждая земная вещь пребывает в своем особом, только ей присущем времени. Скажем, мясо, которое хранится в холодильнике, пребывает в несколько ином временном режиме, чем если бы оно осталось лежать на столе. В холодильнике оно медленнее портится. А в консервной банке ещё медленнее…
А вот в Аду времени нет вообще. Это не полнота времени, а полное его отсутствие. Грешники переживают в Аду чудовищные муки, и эти муки нескончаемы. Вот как, к примеру, Данте описывает дождь в третьем круге Ада: «…дождь струится – холодный, вечный, грозный, ледяной». Представьте себе этот ледяной дождь, и он никогда не перестанет. Это и есть отсутствие времени. Мы ждём, что дождь пройдёт, а он будет длиться вечно.
Ещё один из таких страшных образов Ада, к которому мы ещё вернемся, это образ графа Уголино, грызущего череп своего врага, архиепископа Руджери:
124 Мы отошли, и тут глазам моим
Предстали двое, в яме леденея;
Один, как шапкой, был накрыт другим.
127 Как хлеб грызёт голодный, стервенея,
Так верхний зубы нижнему вонзал
Туда, где мозг смыкаются и шея. (65)
Так вот, это тоже будет вечно продолжаться. Это никогда не кончится, потому что в Аду нет времени. Это ужасная вечность… Времени нет, но некоторое ощущение длительности всё же присутствует: это ощущение муки, которую грешник испытывает здесь каждое мгновение.
Хочу обратиться к простому примеру, чтобы было понятно, на что это похоже. Наверное, большинство знает, как болят зубы. В чём-то это напоминает ужасную вечность Ада. Есть ощущение длительности, потому что больно, и вы каждую секунду это чувствуете. Но ничто не поможет.
Что касается Чистилища, это, в общем-то, некоторое более позднее изобретение. Вначале были только Ад и Рай. Кстати, православие не признает Чистилища. Но тогда слишком безнадежным представляется посмертное положение человека, по той простой причине, что в Рай попасть очень трудно. Разве что святые могут на это рассчитывать, а так – люди грешат достаточно, чтобы Рай был для них закрыт. А вот в Чистилище может оказаться всякий. Это должны быть не очень серьезные грехи, а такие, которые люди обычно совершают. Кроме того, можно покаяться, и Бог проявит милосердие. Человеку придется провести в Чистилище некоторое время, спустя которое ему, возможно, откроется Рай, но не сразу. Поэтому каждый мог рассчитывать на Чистилище, а на Рай лишь надеяться. Кроме того, период пребывания в Чистилище мог быть сокращен, если за умершего молились живые.
Конечно, у грешников нет часов, но они могут почувствовать, сколько прошло времени… Дело в том, что Ад – это подземная воронка, к этому образу мы ещё вернемся, и там полная темнота. Поэтому сказать, сколько там пробыл – невозможно. Рай – это мир чистого света, где, опять же, очень трудно ориентироваться. А Чистилище – это гора, с которой видны восходы и закаты, и можно оценить, сколько времени ты там находишься. Поэтому в чистом виде вечность – это Рай. Ад это ужасная вечность. Это не полнота времени, а безвременье. Чистилище же в какой-то степени соотнесено с ходом времени.
Но в известном смысле вся «Божественная комедия» Данте – это мир вечности. Основной принцип структуры поэмы – это вертикаль. А сама вертикаль есть синоним вечности. Ад представляет собой воронку из девяти кругов. Это некая градация уровней: самые безобидные грешники занимают здесь первый – верхний круг, а самые страшные – последний. Чистилище – это гора, включающая в себя семь уровней, и там тоже, естественно, самые большие грешники помещены внизу: чем выше круг, тем менее тяжки грехи. Рай же – это концентрические сферы, но и они тоже вытянуты по вертикали – это девять сфер, которые венчает Эмпирей, где пребывает Бог. Итак, всё мироздание вытянуто по вертикали, и место человека на этой духовной шкале определяется либо тяжестью совершенных им в жизни проступков, либо некими высокими, возвышающими душу деяниями…
Но хочу сразу отметить, что у Данте это – абсолютный мир. Вообще, средневековое общество тоже было построено по принципу вертикали, это очевидно. Существовала социальная вертикаль – король, бароны, крестьяне и т.д. Но нельзя сказать, что эта вертикаль была абсолютна. А в поэме Данте нет ничего случайного. И поэтому место, которое тот или иной человек занимает в этом мире, – тоже абсолютно. Не имеет значения, каково было его социальное положение, общественный статус при жизни, здесь это не принимается во внимание, как и время, в которое человек жил, – важна лишь внутренняя, духовная суть.
К примеру, второй круг Ада. Кого мы там встречаем? Елену и Париса, Тристана и Изольду, из исторических персонажей – Клеопатру и современницу Данте – Франческу да Римини. Не важно, что одна – царица, а другая – мифологическая героиня и жили они в разные эпохи. Обеих объединяет один и тот же грех сладострастия, и потому в вечности они помещены в один круг. Это абсолютная вертикаль, и в этом смысле вся «Божественная комедия» – это мир, где царит абсолют.
В связи с этим хочу коснуться ещё двух вопросов, прежде чем перейти к рассмотрению самого текста поэмы. Во-первых, о названии – «Божественная комедия». Сам Данте не называл поэму «божественной», именовал ее просто комедией. А почему это – комедия, там ведь нет ничего смешного? Но, во-первых, комедией называлось произведение, имеющее счастливую развязку, а Данте, как известно, достигает Рая. Во-вторых, книга написана на народном итальянском языке. Эпитет же «божественная» ей дали позже (впервые он появился в издании, вышедшем в 1555 в Венеции). Но не потому, что Данте в своей поэме размышляет о Боге, а потому что она божественно совершенна, прекрасна. В ней присутствуют те же удивительные мера и порядок, которые сам Господь придал некогда сотворенному им миру.
В одном из писем Данте объясняет, что его поэма – это аллегория наподобие Библии. Она имеет сложную символическую структуру. Напомню, какое значение Данте придавал числовой символике. В поэме выделяется несколько таких чисел. В основе самой её структуры лежит число три. Тройка – это вертикальное число, символизирующее божественное триединство, духовность. И есть горизонтальное число четыре – земное, являющееся символом нашей земной, материальной действительности, видимого мира. Мы делим год на четыре сезона, жизнь – на четыре отрезка, горизонт – на четыре стороны света, различаем четыре действия в арифметике и т. д. Семерку Данте считал священной, поскольку та представляет собой некую божественную сумму: состоит из божественной тройки и земной четверки, сочетает в себе духовное и материальное, объединяет Бога и Землю. Из комбинаций тройки и четверки состоят все естественные временные отрезки на земле. Как символ целостности и совершенства, семерка у Данте ассоциируется с человеком и человеческим восприятием. Отсюда семь нот в звукоряде, семь дней в неделе, семь классических планет на небосводе, семь смертных грехов, семь добродетелей, семь таинств и т. д.
Кроме того, в поэме Данте встречаются квадраты чисел. Допустим, три в квадрате – это девять, число, символизирующее некий порог, за которым следует новый уровень. Как квадрат божественной тройки, девятка имеет глубокое религиозное значение. В архаичных культурах она ассоциируется с образом Великих Богинь. В христианстве это число перехода. В своей Нагорной проповеди Иисус провозгласил девять духовных заповедей. Вознесение Христово произошло в девятый час утра… Число десять тоже символизирует некую ощутимую божественную границу. Оно олицетворяет согласие человека с высшим божественным принципом, ассоциируется с Богочеловеком, Христом. И, наконец, десять в квадрате – это сто, символ совершенства. Это все числа Данте – 3, 4, 7, 9, 10. Упоминания других чисел в поэме Данте нет. Но всё, что хотите, исчерпано этими числами.
Поэма делится на три части, посвященные трем царствам загробного мира – это Ад, Чистилище и Рай. Вторая и третья части включают в себя 33 песни, то есть снова – 3 и 3. В первую часть включена одна дополнительная песнь, которая служит прологом ко всей поэме. Таким образом, всего в «Божественной комедии» 100 песней приблизительно одинаковой длины (130–150 строк), то есть 10 в квадрате. В Аду 9 кругов, в Чистилище 7 кругов, в Раю 9 сфер и всеобъемлющая высшая – Эмпирей. Написана «Божественная комедия» особой строкой – терциной, в само строение которой Данте тоже вкладывал глубокий смысл. Условную схему терцины можно представить как последовательность «а – b – а», за которой следует чередование «b – c – b», а дальше «c – d – c» и т. д. Каждая строфа содержит три строчки, так что здесь тоже присутствует троичность. Ещё раз повторю: в книге Данте просто не может быть ничего случайного.
Приведу пример, чтобы было понятно, что это такое. Важнейшим событием для Данте как героя поэмы является его встреча с Беатриче. Это тридцатая песнь «Чистилища», т. е. 3 умноженное на 10. Ей предшествуют 63 песни, за которыми следуют еще 36. Обратите внимание: это зеркальные числа, 63 и 36. Кроме того, в сумме 6 и 3 дают 9. Вообще, количество стихов в различных песнях колеблется, но в тридцатой песне их 145. В сумме эти числа дают 10. Встреча с Беатриче происходит в 73 стихе, а 7+3 это тоже 10. Вот почему поэму Данте называли «божественной»: в ней всё абсолютно.
Первая песнь поэмы – вводная:
1 Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
4 Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
7 Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нём обретши навсегда,
Скажу про всё, что видел в этой чаще.
10 Не помню сам, как я вошёл туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с верного следа. (66)
(Ад. Песнь первая. 1-12)
Итак, – «Земную жизнь пройдя до половины», – как это понимать? Данте считал, что средняя продолжительность человеческой жизни – семьдесят лет, и, следовательно, середина пути – тридцатипятилетие. Данте, который родился в 1265 году, хотел подчеркнуть, что эти строчки написаны в 1300 году. На самом деле это было написано не в 1300 году, но ему хотелось, чтобы в тексте присутствовала эта круглая дата – начало нового столетия. Мы ведь тоже в свое время как-то особенно переживали наступление 2000 года, смену эпох.
Но эти слова можно понимать и иначе. Средневековый человек воспринимал свою земную жизнь как своеобразную подготовку к миру загробному, и потому старался прожить её так, чтобы по крайней мере обрести в мире ином покой. То есть, смысл человеческого существования – в жизни вечной. А для этого, так как все мы грешны, надо покаяться, иначе не попадешь и в Чистилище. Встречаются, конечно, и столь тяжкие грехи, что покаяние не поможет, но в простых грехах оно способно облегчить посмертную участь. А так как мы не знаем, когда умрём, то каждое мгновение человек должен каяться. Кстати, совершив покаяние, религиозный человек начинает жить как бы заново. И поэтому «жизнь, пройденная до половины», – это можно понимать и как некую кризисную точку, тот духовный перелом, который переживает Данте.
Теперь фраза: «Я очутился в сумрачном лесу». Лес – это очень важный символ, символ природы. Человек погрузился в таинства собственной природы, своего естества и – заблудился. Он дошёл до середины пути и чего-то ждет. Вообще, символика играет важную роль во всей поэме, а в первой песне особенно.
Но вот Данте видит некий холм и решает подняться на его вершину:
13 Но, к холмному приблизившись подножью,
Которым замыкался этот дол,
Мне сжавший сердце ужасом и дрожью,
16 Я увидал, едва глаза возвёл,
Что свет планеты, всюду путеводной,
Уже на плечи горные сошёл.
19 Тогда вздохнула более свободной
И долгий страх превозмогла душа,
Измученная ночью безысходной.
22 И словно тот, кто, тяжело дыша,
На берег выйдя из пучины пенной,
Глядит назад, где волны бьют, страша,
25 Так и мой дух, бегущий и смятенный,
Вспять обернулся, озирая путь,
Всех уводящий к смерти предреченной.
28 Когда я телу дал передохнуть,
Я вверх пошёл, и мне была опора
В стопе, давившей на земную грудь. (67)
(Ад. Первая песнь. 13-30)
Итак, была ночь, сумрачный лес вокруг, а затем наступило утро. Свет играет очень важную роль в произведении Данте. Свет – это духовность, контраст тьме. Мы видим человека, пребывающего во тьме, который пытается взойти на холм, чтобы приблизиться к свету. И он думает, что способен это сделать. Однако ничего не получается.
31 И вот, внизу крутого косогора,
Проворная и вьющаяся рысь,
Вся в ярких пятнах пёстрого узора.
34 Она, кружа, мне преграждала высь,
И я не раз на крутизне опасной
Возвратным следом помышлял спастись.
37 Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звёзды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
40 Божественная двинула Любовь.
Доверясь часу и поре счастливой,
Уже не так сжималась в сердце кровь
43 При виде зверя с шерстью прихотливой;
Но, ужасом опять его стесня,
Навстречу вышел лев с подъятой гривой.
46 Он наступал как будто на меня,
От голода рыча освирепело
И самый воздух страхом цепеня.
49 И с ним волчица, чьё худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несёт;
Немало душ из-за неё скорбело.
52 Меня сковал такой тяжёлый гнёт
Перед её стремящим ужас взглядом,
Что я утратил чаянье высот. (68)
(Ад. Первая песнь 31-54)
Итак, ему преграждают дорогу три зверя. Три! Ещё раз повторяю, у Данте будет много разных перечислений, но других чисел, кроме 3, 4, 7, 9, в «Божественной комедии» не встречается. Здесь три зверя. Первый – это рысь с её прихотливой шкурой, аллегорический образ чувственных страстей, которые мешают человеку набрать духовную высоту. Но их он преодолевает, всё-таки начинает восхождение. А затем появляется лев. Лев – это символ гордости и властолюбия. Но самое важное, что окончательно сразило Данте, – это волчица. Символический и аллегорический смысл этого образа раскрывается в самом тексте:
49 И с ним волчица, чьё худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несёт;
Немало душ из-за неё скорбело. (69)
(Ад. Песнь первая. 49-51)
Волчица – это воплощение корыстолюбия и алчности.
Чувственные страсти, гордость и, в особенности, корысть и алчность мешают Данте подняться выше. Герой поэмы «утратил чаянье высот». С чувственной страстью всё понятно, с гордостью – тоже, он их преодолел, а вот алчность… Дело в том, что важнейшей, глубинной основой мира, по мнению Данте, является любовь. Когда Данте достигает Рая, ему открывается некая последняя тайна бытия, этим завершается «Божественная комедия».
142 Здесь изнемог высокий духа взлёт;
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,
145 Любовь, что движет солнце и светила. (70)
(Рай. Песнь тридцать третья.142-145)
Кстати, само это слово Данте пишет с большой буквы: «Божественная двинула Любовь».
Он видит звёздное небо:
37 Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звёзды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
40 Божественная двинула Любовь. (71)
(Ад. Песнь первая. 37-40)
Любовь – это сила объединяющая, ведущая к свету, алчность же – разделяет, уводит человека в ту область, «где лучи молчат», и потому алчность и корыстолюбие, по мнению Данте, противостоят любви, они – из числа самых страшных, непростительных пороков.
Кроме того, здесь есть ещё один важный мотив, оттенок смысла: для того, чтобы обрести себя, надо не бояться себя потерять. Для того чтобы познать истину, оказывается, следует не подняться, а, скорее, осмелиться ступить вниз. Дело в том, что в трудную минуту на помощь к Данте приходит дух поэта Вергилия. Пребывающая на небесах Беатриче обращается к нему со словами:
61 Мой друг, который счастью не был другом,
В пустыне горной верный путь обресть
Отчаялся и оттеснён испугом.
64 Такую в небе слышала я весть;
Боюсь, не поздно ль я помочь готова,
И бедствия он мог не перенесть. (72)
( Ад. Вторая песнь 61-66)
Вергилий должен провести Данте по загробному миру. Им необходимо сперва спуститься в преисподнюю, пройти Ад и Чистилище, и только затем у врат Рая Данте сможет увидеть Беатриче. Она будет сопровождать его в Раю. Оказывается, прежде чем узнать, что такое праведность, необходимо испытать, что такое грех. Надо познать грех в самом себе, преодолеть собственную духовную мглу…
Что такое образ Вергилия в поэме? Вергилий – любимый поэт Данте, но в «Божественной комедии» он олицетворяет собой не столько поэзию, сколько светское знание – искусство, науку, вообще человеческий разум, если хотите. Данте придает большое значение этим областям существования: и искусству, и науке, но считает, что рациональное знание может открыть человеку лишь то, как жить не следует. Путь же к истинной реальности открывают любовь и вера. «Она – основа чаемых вещей // И довод для того, что нам незримо…» (Рай, Двадцать четвертая песнь. 64-65. С.418). «Нам подобает умозаключать // Из веры там, где знание невластно…» (Рай. Песнь двадцать четвертая. 76-77. С. 418). «Поистине безумные слова – // Что постижима разумом стихия // Единого в трёх лицах естества!» (Чистилище. Песнь третья. 34-36. С. 172).
Итак, Вергилий должен открыть Данте, что такое – грех. Истину же ему явят любовь и вера, которые воплощает собой Беатриче. Данте встретит её на пороге Земного Рая. Правда, хочу сразу заметить: после восьмого круга Рая её сменит ещё один проводник – христианский святой Бернард Клервоский. В последних песнях поэмы именно он будет сопровождать Данте. Это реальное историческое лицо, богослов-мистик, обладавший колоссальным нравственным авторитетом как в церковных, так и в светских кругах, основатель и духовный покровитель рыцарского ордена тамплиеров. Но, надо сказать, его появление в этой роли в поэме Данте кажется недостаточно мотивированным, Беатриче вполне могла бы остаться с героем до конца пути. Было бы ещё понятно, если б её сменил архангел. Вероятно, это было связано с приверженностью Данте к неким тайным учениям, но думаю, прежде всего, это было сделано по одной причине – требовалось три проводника. Два для Данте – не число, поэтому он в конце ввёл в действие образ Бернарда Клервоского. Данте нужны три проводника, он не может обойтись двумя. Числа для него невероятно важны.
Вообще в «Божественной комедии» сосуществуют как бы два сюжета. Они, конечно, между собой тесно связаны, но в то же время их можно отделить друг от друга. Первый сюжет – это движение, собственно путь, пройденный Данте. Он проходит через Ад, Чистилище и Рай и постигает в конце концов сущность Творца. А второй сюжет – это картины загробного мира, причём образы его наиболее ярко выступают в первой части поэмы, посвященной Аду, в других разделах эта сторона не столь существенна.
Хочу начать с первой сюжетной линии. Это путешествие Данте, который в данном случае выступает как герой поэмы. Это живой человек, который спускается в мир мёртвых. Прежде всего, он должен понять, что такое грех. И первый, очень важный момент на этом пути – необходимость избавиться от страха.
46 Нельзя, чтоб страх повелевал уму;
Иначе мы отходим от свершений,
Как зверь, когда мерещится ему.
49 Чтоб разрешить тебя от опасений,
Скажу тебе, как я узнал о том,
Что ты моих достоин сожалений. (73)
(Ад. Песнь вторая. 46-51)
Когда Данте достигает границ Ада, звучат слова:
1 Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ,
Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН,
Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ.
4 БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЁН:
Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ
И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЁН.
7 ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНЬЯ,
И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ.
ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ. (74)
(Ад. Песнь третья. 1-9)
Никаких надежд. По словам Вергилия, «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; // Здесь страх не должен подавать совета». (Ад. Песнь третья. 14-15. С. 24). Итак, первый важный шаг на пути к нравственному очищению, это избавление от страха, иначе Ад не пройти. Главное – не бояться, как бы ни было страшно то, с чем предстоит столкнуться.
Теперь о структуре Ада. В поэме Данте Ад представлен в виде колоссальной воронки, упирающейся в центр Земли, и состоит из девяти кругов. Распределение грехов в этих кругах говорит нам о сути нравственной концепции Данте: чем ниже уровень, тем более тяжек грех.
Прежде всего, о том, что значит для Данте первый круг Ада, так называемый Лимб (лат. limbus – кайма). Это сложный вопрос. В Лимбе пребывают добродетельные нехристиане и некрещеные младенцы. Последние умерли в младенческом возрасте и потому не могли принять крещение. А первые тоже не виноваты. Они родились до пришествия Христа и потому не познали истинного Бога, лишь приблизились к этому познанию… Правда, Христос, согласно преданию, многих ветхозаветных святых вывел из Ада – Адама, Авеля, Ноя, Моисея, Давида, Авраама… Но вот античных – оставил. Выдающиеся представители античной культуры, среди которых Гомер, «превысший из певцов всех стран», Гораций, Овидий, Сократ, Платон, Аристотель, находятся в Аду. Они здесь, собственно, не испытывают никаких страданий. Но они лишены света. Они не узнали его при жизни. Не по своей вине… Но теперь, в вечности, им приходится пребывать во тьме.
А вот со второго круга начинается верхний Ад – это второй, третий, четвертый и пятый круги. Второй круг занимают сладострастники, третий – чревоугодники, четвертый – скупцы и расточители, пятый круг, Стигийское болото, – гневные. Что такое грехи верхнего Ада? В целом, это грехи, которые связаны с человеческими слабостями: люди поддаются страстям, не умеют им сопротивляться. Здесь есть своя градация, но это верхний Ад.
Нижний Ад – это седьмой, восьмой и девятый круги. В пропасти нижнего Ада они располагаются как бы тремя уступами. Но грехи нижнего Ада это уже не последствия слабости, а проявления злой воли. Грехи нижнего Ада – это когда человек грешит осознанно.
Промежуточный круг – шестой. Здесь, среди еретиков и лжеучителей, находятся также эпикурейцы. Они жили подобно грешникам верхнего Ада, то есть отдавались страстям и соблазнам материального мира. Но есть одно отличие: те поступали так по малодушию, а эти – по убеждению. Они занимают промежуточный круг между верхним и нижним Адом.
Классификация грехов нижнего Ада вызывает наибольшие трудности для нашего понимания. Дело в том, что она не соответствует не только уголовному кодексу, но и современным нравственным представлениям. Седьмой круг Ада – это насильники. В трёх поясах седьмого круга представлены три вида насилия. Здесь находятся совершившие насилие над ближними, т. е. убийцы и тираны; насилие над собой – самоубийцы, и третий пояс занимают насильники над божеством – богохульники.
Первый вопрос, который в связи с этим возникает: почему для Данте самоубийство больший грех, чем убийство? С нашей точки зрения всё наоборот. Но, во-первых, Данте считает, и это очень важный момент, – человеку можно простить то, что роднит его с животным, является выражением его физического естества. Другое дело – относящееся к духовной сущности. И вот там, где люди этой своей высшей сущностью пренебрегают, и возникают самые ужасные грехи. Животные убивают друг друга, но они не кончают жизнь самоубийством – это сугубо человеческое преступление.
Данте воспринимает самоубийство как очень тяжкий грех. Жизнь – это дар Бога, и человек обязан до конца исполнить то, что предначертано свыше, принять любую участь. Данте видит в самоубийстве некий скрытый протест против Создателя, и потому самоубийцы занимают промежуточное положение между убийцами и богохульниками. Насилие над собой есть насилие над божеством.
Восьмой круг – это обманщики. Он состоит из десяти рвов, или Злых Щелей. Каждый последующий ров здесь расположен ниже предыдущего и отделен от других валом. В Злых Щелях представлены разные виды обмана. Градации меж ними не столь существенны, мы не будем на этом останавливаться. Гораздо важнее другой вопрос: почему для Данте обман – больший грех, чем убийство, ведь с нашей точки зрения убийство куда страшнее. Дело в том, что Данте убежден, и надо правильно его понять, что звери не обманывают. Они, может, и убивают, но никогда не обманывают. А вот люди условились, что будут следовать в своей земной жизни правде, а сами – врут. Если в убийстве ещё может содержаться какой-то скрытый животный инстинкт, то обман есть нарушение некоего изначального договора, который существует между людьми. На этом держится всякое человеческое сообщество.
Хочу пояснить мысль Данте. Конечно, обман довольно широко распространён в нашей действительности, гораздо больше, чем убийство. Хотя убивают тоже много, но обманывают на каждом шагу. Тем не менее, надо сказать, жить в обществе, где все обманывают, невозможно, мы всё-таки существуем с представлением, что люди честны друг с другом. Конечно, понимаем, что кто-то в чём-то нам лжёт, но потребность в правде заключена в человеке как некоторое безусловное изначальное установление. А если представить, что вообще никто вокруг не говорит правду, никакого общества не будет, оно просто распадётся. Поэтому для Данте обман – больший грех, чем даже лишение другого жизни.
Самая глубинная часть Ада – это девятый круг, ледяное озеро Коцит. Здесь представлена высшая форма обмана – обман доверившихся, или, попросту говоря, предательство. Предательство для Данте – самый чудовищный грех. Девятый круг разделяется на четыре пояса. Первый пояс (Каина) удерживает предателей родных, второй пояс (Антенора) – предателей родины и единомышленников, третий пояс (Толомея) – место пребывания предателей друзей и четвертый – это Джудекка, куда помещены предатели благодетелей.
Почему для Данте предатели родных и предатели родины, конечно, серьёзные грешники, но всё-таки – меньшие, чем, скажем, предатели друзей или, тем более, благодетелей? По одной простой причине: степень греха возрастает по мере роста степени нашей свободы. Близких мы не выбираем, как, впрочем, и родину. А вот выбор друзей и благодетелей является актом нашей собственной свободной воли и потому влечёт за собой и большую долю ответственности.
И, наконец, на самом дне, в трёх пастях вмерзшего в ледяную глыбу Люцифера, находятся три самых чудовищных, по мнению Данте, грешника. Пребывание одного из них здесь для нас абсолютно обосновано: это Иуда, предавший Христа. А вот что касается двух других, оценка этих личностей в поэме Данте противоречит последующей европейской традиции. Это персонажи римской истории Брут и Кассий. Римский сенатор Брут неоднократно воспевался в мировой литературе. В трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» он, к примеру, предстает как борец за свободу. А у Данте убийца Цезаря – последний грешник, заслуживающий адского дна Джудекки. Это связано с политическими идеалами Данте. Автор «Божественной комедии» был сторонником императора и считал предательство властителя, «величества человеческого», тяжелейшим грехом, равным предательству «величества божеского». Но, повторю, никто никогда больше не ставил Брута в один ряд с Иудой.
Теперь – Чистилище. Данте изображает его в виде горы, возвышающейся в южном полушарии посреди океана. (Данте и Вергилий оказываются возле её подножия, преодолев узкий коридор, соединяющий полушария в центре Земли). Нижняя часть горы образует Предчистилище, где томятся отлучённые от церкви и нерадивые души, и расположена долина земных властителей, а верхняя часть опоясана семью уступами – кругами собственно Чистилища. На плоской вершине горы Данте помещает Земной Рай.
Если в Аду Данте пробыл сутки, с 6 часов вечера до 6 часов утра, то в Чистилище – 80 часов. Почему в Чистилище он провёл больше времени? Ну, прежде всего потому, что спускаться всегда легче, чем подниматься – и в прямом, и в переносном смысле. В Ад Данте спускался, а каменистая тропа Чистилища устремляется вверх.
А кроме того, Данте движется только при свете дня. Как говорил Христос (Евангелие от Иоанна): «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Ночью в Чистилище возможно лишь движение вниз или по кругу.
К вратам Чистилища ведут три ступени, своего рода три условия очищения. Первое – сокрушение сердца, то есть здесь необходимо искренне раскаяться. На второй ступени следует это раскаяние облечь в слова: сначала непритворно, всем сердцем пожалеть о содеянном, а затем выразить раскаяние словами. И третий момент – нужно подтвердить своё раскаяние поступками. Потребность в освобождении от груза грехов неустанно гонит души вверх по кругам Чистилища…
Чистилище включает в себя семь кругов, по числу семи библейских смертных грехов. Когда Данте достигает четвертого, срединного круга, здесь, на половине пути, Вергилий объясняет ему такую структуру. В основе человеческого поведения лежит любовь:
94 Природная не может погрешать;
Вторая может целью ошибиться,
Не в меру скудной иль чрезмерной стать.
97 Пока она к высокому стремится,
А в низком за предел не перешла,
Дурным усладам нет причин родиться;
100 Но где она идёт стезею зла
Иль блага жаждет слишком или мало,
Там тварь завет творца не соблюла.
103 Отсюда ясно, что любовь – начало
Как всякого похвального плода,
Так и всего, за что карать пристало.
106 А так как взор любви склонен всегда
К тому всех прежде, кем она носима,
То неприязнь к себе вещам чужда.
109 И так как сущее неотделимо
От Первой сущности, она никак
Не может оказаться нелюбима.
112 Раз это верно, остается так:
Зло, как предмет любви, есть зло чужое… (75)
(Чистилище. Песнь семнадцатая. 91-112)
Здесь, в Чистилище, в отличие от Ада степень греховности человека соизмеряется именно с категорией добра, любовь к добру оказывается тем идеалом, к которому должны устремляться проходящие очищение души. Но любить можно не только добро, но и зло, желать зла другим из любви к самому себе. Грехи, рождённые этим эгоистическим чувством, искупаются в трёх нижних кругах Чистилища.
Итак, первый круг – это зависть:
«…И в вашем иле вид её трояк.
Иной надеется подняться вдвое,
Поправ соседа, – Этот должен пасть,
И лишь тогда он будет жить в покое…» (76)
(Чистилище. Песнь семнадцатая. 114-117)
Второй круг – гордость:
«…Иной боится славу, милость, власть
Утратить, если ближний вознесётся;
И неприязнь томит его, как страсть…» (77)
(Чистилище. Песнь семнадцатая. 118-120)
Третий круг – это гнев:
«Иной же от обиды так зажжётся,
Что голоден, пока не отомстит,
И мыслями к чужой невзгоде рвётся.
И этой вот любви троякий вид
Оплакан там вниз; но есть другая,
Чей путь к добру – иной, чем надлежит…» (78)
(Чистилище. Песнь семнадцатая. 121-126)
Вообще гневные находятся в Аду, но там – нераскаявшиеся грешники, а здесь они раскаялись. Далее следует четвёртый круг, где пребывают те, кто проявлял недостаточную любовь к истинному благу, – унылые. Эти души не способны ни на что хорошее. Данте очень низко ставит уныние, для него гораздо лучше быть гордецом или завистником. Формально конечно это не так, но Данте очень не любит унылых, мы к этому ещё вернемся.
«Все смутно жаждут блага, сознавая,
Что мир души лишь в нём осуществим,
И все к нему стремятся, уповая.
Но если вас влечёт к общенью с ним
Лишь вялая любовь, то покаянных
Казнит вот этот круг, где мы стоим…» (79)
(Чистилище. Песнь семнадцатая. 127-132)
А вот пятый, шестой и седьмой круги занимают приверженцы ложных благ и идеалов. В пятом круге проходят очищение корыстолюбцы и расточители, в шестом – чревоугодники, в седьмом – сладострастники. С этих грехов круги Ада начинались, а круги Чистилища завершаются, только здесь представлены раскаявшиеся грешники, а там – нет. То есть это некоторый повтор грехов верхнего Ада. Круги нижнего Ада не дублируются, из них не попадают в Чистилище. А вот из верхнего Ада вполне можно подняться и выше, в Чистилище, если грешники пожалели о содеянном и если это простительные грехи.
Но, надо сказать, участь грешников в Чистилище тоже довольно прискорбна. В чём-то она может быть даже хуже, чем в Аду. Конечно, после Чистилища можно и в Рай попасть. Но дело в том, что грешники Ада ещё вспоминают свою земную жизнь. Они живут этими воспоминаниями. Они не раскаялись. А обитатели Чистилища – раскаялись, и потому всё прежнее земное существование стало для них отвратительно, им нечего вспомнить. У них, конечно, есть смутная надежда. Но когда всё это закончится, они не знают…
И вот наконец пройдя все круги Ада и Чистилища, Данте достигает Земного Рая. Здесь происходит его встреча с Беатриче. Это важнейший момент поэмы. «Всю кровь мою // Пронизывает трепет несказанный: // Следы огня былого узнаю!» (Чистилище. Песнь тридцатая. 46-48. С. 295). В это время Вергилий исчезает, в пути по Земному Раю Данте будет сопровождать Беатриче. «Взгляни смелей! Да, да, я – Беатриче. // Как соизволил ты взойти сюда, // Где обитают счастье и величье?» (Там же. 73-75. С. 295). И здесь для Данте образ Беатриче колеблется между образом реальной женщины, которую он когда-то любил, и тем грандиозным символом любви и веры, коим она становится в финале «Божественной комедии»:
121 Была пора, он находил подмогу
В моём лице; я взором молодым
Вела его на верную дорогу.
124 Но чуть я, между первым и вторым
Из возрастов, от жизни отлетела, -
Меня покинув, он ушёл к другим.
127 Когда я к духу вознеслась от тела
И силой возросла и красотой,
Его душа к любимой охладела.
130 Он устремил шаги дурной стезей,
К обманным благам, ложным изначала,
Чьи обещанья – лишь посул пустой.
133 Напрасно я во снах к нему взывала
И наяву, чтоб с ложного следа
Вернуть его: он не скорбел нимало.
136 Так глубока была его беда,
Что дать ему спасенье можно было
Лишь зрелищем погибших навсегда. (80)
(Чистилище. Песнь тридцатая. 121-138)
Беатриче порой упрекает Данте:
52 Раз ты лишился высшей из отрад
С моею смертью, что же в смертной доле
Ещё могло к себе привлечь твой взгляд?
55 Ты должен был при первом же уколе
Того, что бренно, устремить полёт
Вослед за мной, не бренной, как дотоле.
58 Не надо было брать на крылья гнёт,
Чтоб снова пострадать, – будь то девичка
Иль прочий вздор, который миг живёт. (81)
(Чистилище. Песнь тридцать первая. 52-60)
Эти слова можно понимать и буквально: когда Беатриче ушла из жизни, «его душа к любимой охладела». Беатриче корит Данте за то, что тот увлекался другими женщинами (это нашло отражение в его стихах), что он забыл её. А можно прочитать эти слова и иначе: он отошёл от веры в то высшее начало, которое олицетворяет собой Беатриче.
Вспоминается известное стихотворение Александра Блока, который очень любил Данте и во многом ему следовал.
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твоё лицо в простой оправе
Перед мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем…
Вино и страсть терзали жизнь мою…
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою…
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют твоей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла…
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твоё лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
(30 декабря 1908 г.)
Это стихотворение посвящено Любови Дмитриевне Менделеевой, жене поэта, и носит вполне автобиографический характер. Любовь Дмитриевна покинула Блока, ушла в театр, и, кроме того, у неё были другие связи. Но в то же время эта женщина для поэта – некая икона, недаром здесь появляются такие строчки: «И вспомнил я тебя пред аналоем,// И звал тебя, как молодость свою…». Синий плащ, сам синий цвет тоже имеют для Блока особое символическое значение – это его образ Богоматери. Женский образ в стихотворении колеблется между реальностью и символом.
И здесь то же самое. Данте проходит путь, которым следует каждый новоприбывший, – пьет воды Леты, реки забвения, чтобы стереть из памяти воспоминания о своих прежних грехах. (Затем он пьёт из потока Эвнои, чтобы вспомнить все добрые поступки, которые совершал когда-либо в жизни).
Так вот, Данте видит Беатриче и говорит, обращаясь к ней:
«… Я не вспоминаю,
Чтоб я когда-либо чуждался вас,
И в этом я себя не упрекаю». (82)
(Чистилище. Песнь тридцать третья. 91-93)
Прежде он чувствовал свою вину перед ней, а теперь – нет. А Беатриче ему на это отвечает:
«Если ты на этот раз
Забыл, – и улыбнулась еле зримо, –
То вспомни, как ты Лету пил сейчас…». (83)
(Чистилище. Песнь тридцать третья. 94-96)
Данте забыл все свои земные прегрешения. Теперь он чист, и с этого момента начинается его возвышение в Раю.
Каким образом Данте совершает своё путешествие по небесам – сказать трудно. Мы ясно ощущаем, как он движется и в Аду, и в Чистилище: ступает ногами. Данте – земной человек, путь дается ему с трудом. Он чувствует утомление, но в обоих случаях – идёт, это очевидно. А вот каким образом он возносится? Не исключено, что, подобно жившему до Потопа Еноху (Быт.5:24) или пророку Илие (4 Цар.2:11), которые, согласно Библейским преданиям, живыми были взяты «в обитель блаженства». В Земном Раю Данте является Беатриче, восседающая на колеснице, которая затем поднимает их в небеса. Скорее всего, это надо понимать так, что тело Данте остаётся в Земном Раю, а душа возносится в Рай. Но это лишь предположения. Никакого очевидного ответа на этот вопрос в «Божественной комедии» нет.
Теперь структура Рая, как она представлена в поэме Данте. Рай состоит из семи сфер, опоясывающих Землю и соответствующих семи основным планетам Солнечной системы (согласно общепринятым представлениям эпохи Средневековья). Первое небо – это Луна, преддверие Рая, обитель верных долгу. Затем следует второе небо – Меркурий, где находятся деятельные, третье небо – Венера, где пребывают любящие, четвёртое небо – Солнце, обитель мудрецов и великих учёных, пятое небо – Марс, где располагаются воители за веру, шестое небо – Юпитер, где пребывают справедливые, и, наконец, седьмое небо – это Сатурн, где находятся созерцатели. Только созерцатели, по мнению Данте, способны, отрешившись от всего тщетного и бренного, воспринимать божественное и потому удостаиваются седьмого круга. Восьмой и девятый – это круги ангелов и праведников Ветхого и Нового завета, восьмое – звёздное небо, и девятое – кристальное небо, или Перводвигатель. Венчает конструкцию Эмпирей – бесконечная лучезарная сфера, дающая жизнь всему сущему.
Хочу обратить внимание: обычно люди выше седьмого круга не поднимаются. Для человеческих душ это предел, отсюда, кстати, выражение «оказаться на седьмом небе» и т. д. Данте же в своем путешествии достигает высшей области небес – Эмпирея. Здесь Данте видит сияющую реку, а затем – кругообразное озеро света в центре бескрайнего, подобного раскрытой розе, небесного амфитеатра… Движение Данте по Раю имеет явный символический смысл…
Вообще, Рай – это мир света, и Данте поначалу этот свет даже слепит. Ад – это мир тьмы, а здесь – абсолютный, чистейший свет.
Когда Данте беседует с обитателями Рая, прежде всего его интересует вопрос, не испытывают ли они хоть какого-нибудь недовольства? Это, конечно, Рай. Но, может быть, у них всё же есть хотя бы чувство зависти к тем, кто оказался кругом выше. Там ведь много уровней. Но в Раю не знают подобных чувств:
«…Ведь тем-то и блаженно наше esse, (84)
Что божья воля руководит им
И наша с нею не в противовесе.
И так как в этом царстве мы стоим
По ступеням, то счастливы народы
И царь, чью волю вольно мы вершим;
Она – наш мир; она – морские воды,
Куда течёт всё, что творит она,
И всё, что создано трудом природы». (85)
(Рай. Песнь третья. 79-87)
Обитатели Рая во всём видят божественную справедливость: «… в том – часть нашей радости, что мзда // Нам по заслугам нашим воздаётся, // Не меньше и не больше никогда. …» (Рай. Песнь шестая. 118-120. С. 338). Это Рай, и потому здесь существуют лишь разные формы блаженства.
В Раю путеводительницей Данте становится Беатриче. Но её образ здесь меняется по сравнению с тем, какой она представала на границе Чистилища. Там она ещё сохраняла черты той реальной женщины, которую когда-то любил Данте, которая была воспета им ещё в книге «Новая жизнь». Здесь же Беатриче утрачивает прежние земные приметы:
22 Здесь признаю, что я сражён вконец,
Как не бывал сражён своей задачей
Трагед иль комик, ни один певец;
25 Как слабый глаз от солнца, не иначе,
Мысль, вспоминая, что за свет сиял
В улыбке той, становится незрячей.
28 С тех пор как я впервые увидал
Её лицо здесь на земле, всечасно
За ней я в песнях следом поспевал;
31 Но ныне я старался бы напрасно
Достигнуть пеньем до её красот,
Как тот, чьё мастерство уже не властно.
34 Такая, что о ней да воспоёт
Труба звучней моей, не столь чудесной,
Которая свой труд к концу ведёт… (86)
(Рай. Песнь тридцатая. 22-36)
Итак, у Данте даже не находится слов для того, чтобы описать такую Беатриче.
Достигнув наконец Эмпирея, Данте созерцает божество. Это – предел, высшее, что вообще может быть:
67 О, Вышний Свет, над мыслию земною
Столь вознесенный, памяти моей
Верни хоть малость виденного мною
70 И даруй мне такую мощь речей,
Чтобы хоть искру славы заповедной
Я сохранил для будущих людей!
73 В моём уме ожив, как отсвет бледный,
И сколько-то в стихах моих звуча,
Понятней будет им твой блеск победный.
76 Свет был так резок, зренья не мрача,
Что, думаю, меня бы ослепило,
Когда я взор отвёл бы от луча.
79 Меня, я помню, это окрылило,
И я глядел, доколе в вышине
Не вскрылась Нескончаемая Сила.
82 О щедрый дар, подавший смелость мне
Вонзиться взором в Свет Неизреченный
И созерцанье утолить вполне!
85 Я видел – в этой глуби сокровенной
Любовь как в книгу некую сплела
То, что разлистано по всей вселенной:
88 Суть и случайность, связь их и дела,
Всё – слитое столь дивно для сознанья,
Что речь моя как сумерки тускла.
91 Я самое начало их слиянья,
Должно быть, видел, ибо вновь познал,
Так говоря, огромность ликованья.
94 Единый миг мне большей бездной стал,
Чем двадцать пять веков – затее смелой,
Когда Нептун тень Арго увидал.
97 Так разум мои взирал, оцепенелый,
Восхищен, пристален и недвижим
И созерцанием опламенелый.
100 В том Свете дух становится таким,
Что лишь к нему стремится неизменно,
Не отвращаясь к зрелищам иным;
103 Затем что всё, что сердцу вожделенно,
Всё благо – в нём, и вне его лучей
Порочно то, что в нём всесовершенно.
106 Отныне будет речь моя скудней, -
Хоть и немного помню я, – чем слово
Младенца, льнущего к сосцам грудей,
109 Не то, чтоб свыше одного простого
Обличия тот Свет живой вмещал:
Он всё такой, как в каждый миг былого;
112 Но потому, что взор во мне крепчал,
Единый облик, так как я при этом
Менялся сам, себя во мне менял. (87)
(Рай. Песнь тридцать третья. 67-114)
Итак, Данте постепенно постигает этот невероятный божественный свет. Но не потому, что свет меняется, а потому что претерпевает изменения он сам. Ему начинает открываться полнота истины, заключённая в этом сиянии:
115 Я увидал, объят Высоким Светом
И в ясную глубинность погружён,
Три равноёмких круга, разных цветом.
118 Один другим, казалось, отражён,
Как бы Ирида от Ириды встала;
А третий – пламень, и от них рождён. (88)
( Рай. Песнь тридцать третья.115-120)
Три круга – это три божественных ипостаси: Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух, который для Данте отождествляется
…с Любовью, третьей с ними сущей… (89)
(Рай. Песнь тринадцатая. 55-57)
Хочу сразу отметить: между православной и католической ветвями христианства существует одно глубоко принципиальное расхождение. Не организационное (таких различий очень много: структура церкви, календарь, обряды и прочее), а чисто догматическое. Православие не принимает латинскую формулировку Никео-Константинопольского Символа Веры с дополнением, в котором речь идёт об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и от Сына. Если говорить о догматической стороне, главное расхождение заключается в этом. Это вопрос о Троице. Не случайно Данте всячески подчеркивает: «а третий» есть порождение Бога-Отца и Бога-Сына, Бога и Богочеловека. Это очень важная сторона мысли Данте. Он к ней и раньше обращался:
55 Затем что животворный Свет, идущий
От Светодавца и единый с ним,
Как и с Любовью, третьей с ними сущей,
58 Струит лучи волением своим
На девять сущностей, как на зерцала,
И вечно остаётся неделим;
61 Оттуда сходит в низшие начала,
Из круга в круг, и под конец творит
Случайное и длящееся мало;
64 Я под случайным мыслю всякий вид
Созданий, всё, что небосвод кружащий
Чрез семя и без семени плодит.
67 Их воск изменчив, наравне с творящей
Его средой, и потому чекан
Даёт то смутный оттиск, то блестящий.
70 Вот почему, при схожести семян,
Бывает качество плодов неравно,
И разный ум вам от рожденья дан.
73 Когда бы воск был вытоплен исправно
И натиск силы неба был прямой,
То блеск печати выступал бы явно.
76 Но естество его туманит мглой,
Как если б мастер проявлял уменье,
Но действовал дрожащею рукой.
79 Когда ж Любовь, расположив Прозренье,
Его печатью Силы нагнела,
То возникает высшее свершенье.
82 Так некогда земная персть могла
Стать совершеннее, чем всё живое;
Так приснодева в чреве понесла.
85 И в том ты прав, что естество земное
Не ведало носителей таких
И не изведает, как эти двое. (90)
(Рай. Песнь тринадцатая. 55-87)
Вообще, человек – несовершенное создание, хотя и создание Бога. Но дважды в человеческом воплощении достигались истинные высоты: это были Дева Мария и Христос. Они явили собой совершенные творения, в которых Бог и человек слиты воедино. Это важная тема поэмы:
121 О, если б слово мысль мою вмещало, -
Хоть перед тем, что взор увидел мой,
Мысль такова, что мало молвить: "Мало!"
124 О, Вечный Свет, который лишь собой
Излит и постижим и, постигая,
Постигнутый, лелеет образ свой!
127 Круговорот, который, возникая,
В тебе сиял, как отражённый свет, -
Когда его я обозрел вдоль края,
130 Внутри, окрашенные в тот же цвет,
Явил мне как бы наши очертанья;
И взор мой жадно был к нему воздет. (91)
(Рай. Песнь тридцать третья. 121-133)
В какой-то момент в одном из кругов Данте как бы почудилось очертание человеческого лица:
133 Как геометр, напрягший все старанья,
Чтобы измерить круг, схватить умом
Искомого не может основанья,
136 Таков был я при новом диве том:
Хотел постичь, как сочетаны были
Лицо и круг в слиянии своём… (92)
(Рай. Песнь тридцать третья. 133-138)
Это главная проблема, которая волнует Данте: как божественное может сочетаться с человеческим? Его волнует образ Христа.
139 Но собственных мне было мало крылий;
И тут в мой разум грянул блеск с высот,
Неся свершенье всех его усилий.
142 Здесь изнемог высокий духа взлёт;
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,
145 Любовь, что движет солнце и светила. (93)
(Рай. Песнь тридцать третья. 133-145)
Именно чувство любви и позволило ему испытать высшее озарение. Разумом этого не постичь. Но именно так и могут соединиться божественное и человеческое. В этом и заключается постижение высшей истины, которая является Данте в финале «Божественной комедии».
Всё, о чём мы говорили до сих пор, делает «Божественную комедию» Данте великим итогом всей культуры Средневековья. Данте действительно подводит итог этой культуре. Однако его произведение, одновременно, есть и исток всей культуры Нового времени. Энгельс в своей критике Данте назвал его последним поэтом Средних веков и первым поэтом Нового времени. А Осип Мандельштам заметил: «Ведь, если хотите, вся новая поэзия лишь вольноотпущенница Алигьери и воздвигалась она резвящимися шалунами национальных литератур на закрытом и недочитанном Данте». (Из черновых набросков к «Разговору о Данте»)
Что же делает Данте первым поэтом Нового времени? Прежде всего, и в этом отличие культуры Нового времени от культуры эпохи Данте, в ней первостепенным становится личностное начало. Мы не знаем имён создателей грандиозных средневековых соборов, не знаем авторов великих средневековых икон. В литературе нам, конечно, известны некоторые имена, однако, скажем, в рыцарской поэзии для нас гораздо важнее жанры, чем имена сочинителей. Мы больше отличаем канцоны от альб, чем одного поэта от другого. И что касается рыцарских романов, там тоже основополагающими являются сюжеты. Конечно, разработку того или иного материала индивидуальность автора как-то окрашивает, но всё-таки главным остаётся сам сюжет. Нас, скажем, больше интересует история Тристана и Изольды, чем то, как её представлял тот или иной рассказчик.
Культура же Нового времени глубоко личностна, её субъектом становится именно человеческая личность, и Данте – первая личность рубежа эпох. Как личность, он выступает в двух ипостасях. Данте – герой «Божественной комедии». Недаром поэма начинается с «Я»: «Земную жизнь пройдя до половины, // Я очутился в сумрачном лесу». И путь Данте в поэме – это во многом его личный путь. Кстати, по «Божественной комедии» вполне можно составить представление о многих фактах его реальной биографии. Это не вымышленный герой, а сам Данте. Но он не только главное действующее лицо поэмы. Он – её автор.
Кроме того, Данте взял на себя смелость, какую никто до него не мог бы себе позволить. Он решился судить грешников. Хотя в Средние века ещё и не существовало догмы о непогрешимости римского папы, она возникла позже, но всё же уже тогда папа считался непререкаемым авторитетом. А Данте встречает в Аду пап: Николая III, Анастасия. Это ладно, они, возможно, были далеко не безупречны. Но он и папе, своему современнику, уготовил заранее место в Аду, воздав по заслугам при жизни. Данте позволил себе неслыханное. Он выступил в роли Господа Бога! Поэтому не случайно эта глубоко религиозная книга была внесена католической церковью в список запретных. Данте хватило дерзости судить человечество и весь мир.
А что касается образа Беатриче… В поэме она становится духовным проводником Данте. Но кем была Беатриче в реальной жизни, чем прославилась? Есть, конечно, герои, выдающиеся личности, такие, как тот же Бернард Клервоский, который был возведён церковью в лик святых. А Беатриче? Чем она заслужила такой чести? А ничем, кроме того, что её любил Данте. Автор сделал эту женщину символом Высшей истины. Данте – первая личность Нового времени.
Не хочу останавливаться на вопросе, который, в общем-то, не может обсуждаться: существует ли загробный мир и что он означает? Это тайна, которую каждый из нас откроет для себя сам и только за порогом смерти, другого способа нет. Но если говорить о более рациональных вещах, то загробный мир в нашей действительности – это мир нашей памяти. Это бесспорный факт: люди живы для нас до тех пор, пока остаются в нашей памяти. Человеческая память это – реальная вещь, о которой можно судить.
Каждая культура имеет свой пантеон, и люди одной культуры – это люди одной исторической памяти. Допустим, русский пантеон – это исторические деятели России, писатели, поэты, художники, философы, учёные… Кроме того, нельзя забывать, что русская культура всё же глубоко связана с европейской, и европейский пантеон входит в её состав. А кроме того, есть и третий момент – наша индивидуальная память. Это наши собственные предки, родители, близкие, те люди, которые влияли на нас в течение жизни. Они тоже составляют неотъемлемую часть нашего мира.
Но есть ещё одна существенная деталь. В этот культурный пантеон входят не только реальные лица, но и вымышленные литературные герои. Русская культура не существует без Евгения Онегина и Татьяны, и они не менее значимы для нас, чем сам А.С. Пушкин, к примеру. И то же самое можно сказать о Наташе Ростовой, которая не менее важна для нас, чем автор «Войны и мира» Л.Н. Толстой. Герои книг остаются жить в нашем сознании, в памяти, определяя сами основы мировосприятия…
А если с этой точки зрения взглянуть на текст «Божественной комедии»? Её герои – это деятели итальянской, европейской культуры эпохи Данте. Это и литературные персонажи, и мифологические. Но это и знакомые Данте, с которыми он был связан в действительности, имён которых другие, может быть, даже не слышали. С этой точки зрения «Божественная комедия» – это мир души самого Данте. Автор здесь заполняет собой пространство произведения.
Теперь ещё один важный момент. Новое время проявляет острый интерес ко всему земному. Если культура Средневековья всецело обращена к небесам, то культура Нового времени прежде всего – к земле. И в «Божественной комедии» ценность земного существования поднята невероятно высоко.
Данте в своём путешествии достигает вершин духовного мира, но в конце концов возвращается в земную действительность. Он не остается в Раю. Это не уход от земного. Это постижение высшей истины ради того, чтобы жить дальше.
Кстати, в этом тоже проявляется необыкновенная дерзость автора «Божественной комедии». Кто живым входил в загробный мир? Одиссей, Эней, апостол Павел и Данте. Больше, пожалуй, никто. Вот такая компания. Он и сам поначалу колеблется, сомневается в возможности совершить подобное путешествие, но всё же находит в себе силы пройти этот путь до конца и вернуться назад. Все, что Данте увидел там, важно для жизни здесь. В этом смысле особенно существенна первая часть поэмы. Данте беседует с грешниками, и возникает ситуация, которая вообще характерна для «Божественной комедии», но особо отчетливо выступает в описании Ада. Она заключается в том, что в мир вечности вторгается время. В мир вневременный входит живой человек. Для грешников это, может быть, единственная возможность поговорить с человеком из земного мира. В мир мёртвых никто живым не попадал, а вот Данте смог, и с его появлением там вечность словно прерывается.
Наиболее наглядно это показано в сцене с графом Уголино, которого Данте встречает в девятом круге Ада, во втором поясе, предназначенном для предателей родины и предателей единомышленников. Граф Уголино, один из вождей гвельфов в Пизе, во время войны пизанцев с генуэзским флотом защищал порт Пизы с суши и не смог прийти на помощь кораблям. Флот был потоплен. В дальнейшем граф Уголино стал правителем города, но против него выступили гибеллины, обвинив в предательстве. Пришедший к власти архиепископ Руджери заточил графа в башню вместе с сыновьями и внуками, где вскоре все они умерли от голода.
В Аду Уголино непрестанно грызёт череп своего врага архиепископа Руджери. Но для того, чтобы поговорить с Данте, он должен остановиться:
Подняв уста от мерзостного брашна,
Он вытер свой окровавленный рот
О волосы, в которых грыз так страшно,
Потом сказал… (94)
(Ад. Песнь тридцать третья. 1-4)
Далее следует его речь, к которой мы ещё вернемся. Но в данном случае важно другое. Как только Уголино умолкает,
…вновь, скосив зрачки,
Вцепился в жалкий череп, в кость вонзая,
Как у собаки, крепкие клыки. (95)
(Ад. Песнь тридцать третья. 76-78)
Пока он разговаривает, вечность как бы отступает. В данном случае мы просто очень наглядно это ощущаем. Но фактически это прерывание вечности происходит каждый раз, когда появляется Данте.
О чём же идёт речь? Иногда Данте задает вопросы, иногда грешники о чём-то его спрашивают или сами пытаются что-то рассказать. Вообще, Данте ведёт себя с грешниками как журналист. Он разговаривает. И главный вопрос, который Данте задаёт собеседнику: как ты сюда попал? Но грешники тоже задают Данте практически один и тот же вопрос. Их интересуют новости. Грешники Ада, в отличие, скажем, от обитателей Рая, ничего не знают о том, что случилось после их смерти. Они спрашивают Данте о недавних событиях или просят, чтобы Данте рассказал оставшимся на Земле то, что тем не было известно.
Например, среди самоубийц Данте встречает знаменитого оратора, который несправедливо был обвинён в предательстве. Его ослепили и заточили в тюрьму, где он покончил с собой. Он хочет, чтобы люди в земной действительности узнали, что он не был предателем. Он в Аду, потому что самоубийца, но предательства не совершал. Для него важно, чтобы Данте передал это живым. Другими словами, речь здесь каждый раз идёт о земном…
Земное необыкновенно возвеличивается. И поскольку оно выдерживает столкновение с вечностью, то как бы уравнивается с ней в значимости. В этом сопряжении земное никак не умаляется.
Наиболее ярко образы людей представлены именно в первой части «Божественной комедии». Дело в том, что в Раю души, можно сказать, совершенно отрешены от всего, что связано с земной, материальной действительностью. В Чистилище слишком несчастны в том смысле, что раскаиваются, но ничего хорошего их там не ждёт… То есть может быть и ждёт, но очень не скоро. А вот в Аду умершие непрестанно вспоминают свою прошедшую жизнь, живут этими воспоминаниями. Они – нераскаявшиеся грешники.
Каково отношение Данте к грешникам? Оно разное. Он по-разному относится к разным героям, и это не связано с сутью того или иного греха, который те совершили, или круга, в которому отнесены. К одним он даже жесток: мало того, что человек наказан Богом, так ещё и Данте одного из обитателей Ада бьёт по голове веслом. А некоторым, наоборот, сочувствует, ведёт беседу и вообще проявляет неподдельный интерес.
С этой точки зрения, могут быть выделены образы, наиболее подробно описанные Данте. Это Паоло и Франческа во втором круге Ада, Фарината – в шестом круге, Улисс, или Одиссей – в восьмом круге, и граф Уголино, которого мы уже упоминали, находящийся среди предателей в девятом круге. Эти личности особо привлекают внимание Данте.
И здесь мы подходим к одной важной особенности произведения в целом. Дело в том, что у врат Ада пребывают нерешительные. Это – жалкие души, которые не сделали в жизни ничего плохого, но и ничего хорошего. Вообще ничего. Они не достойны не только Чистилища и Рая, но даже Ада. Для того чтобы попасть в Ад, необходимо что-то совершить, а они ни на что не годятся. К таким героям Данте относится с особым презрением:
31 И я, с главою, ужасом стеснённой,
"Чей это крик? – едва спросить посмел. —
Какой толпы, страданьем побеждённой?"
34 И вождь в ответ: "То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел.
37 И с ними ангелов дурная стая,
Что, не восстав, была и не верна
Всевышнему, средину соблюдая.
40 Их свергло небо, не терпя пятна;
И пропасть Ада их не принимает,
Иначе возгордилась бы вина".
43 И я: "Учитель, что их так терзает
И понуждает к жалобам таким?"
А он: "Ответ недолгий подобает.
46 И смертный час для них недостижим,
И эта жизнь настолько нестерпима,
Что всё другое было б легче им.
49 Их память на земле невоскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов: взгляни – и мимо!" (96)
(Ад. Песнь третья. 31-51)
Души нерешительных настолько ничтожны, что «не стоят слов».
Конечно, отрицательная величина меньше нуля, как известно. Но наверняка каждый знает: если нет денег, это – плохо, а вот когда долги – это гораздо хуже. Как известно, у отрицательной величины есть модуль, и по модулю она больше нуля. А что такое этот модуль здесь, в поэме Данте? Нерешительные – нули, а грешники Ада – это отрицательные величины, в которых ощущается этот особый духовный модуль – их личность. У Данте возникает как бы ещё одна дополнительная координата, которая не вмещается в выстроенную им же самим вертикаль, – это сила человеческой личности. Грешникам он может сочувствовать, некоторых даже ненавидеть, но вот так, с презрением пройти мимо, – возможно только по отношению к тем, кто напрочь лишен личностного начала.
Начнём с образа Фаринаты дельи Уберти. Это шестой круг Ада, десятая песнь. Глава флорентийских гибеллинов, «подражатель Эпикура» Фарината находится среди еретиков и лжеучителей. Данте видит его сидящим в глубине раскалённой могилы. Но, услышав разговор Данте с Вергилием, Фарината поднимается:
…Я к моему вождю прильнул тесней.
31 И он мне: "Что ты смотришь так несмело?
Взгляни, ты видишь: Фарината встал.
Вот: всё от чресл и выше видно тело".
34 Уже я взгляд в лицо ему вперял;
А он, чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал.
37 Меня мой вождь продвинул безопасно
Среди огней, лизавших нам пяты,
И так промолвил: "Говори с ним ясно".
40 Когда я стал у поднятой плиты,
В ногах могилы, мёртвый, глянув строго,
Спросил надменно: "Чей потомок ты?"
43 Я, повинуясь, не укрыл ни слога,
Но в точности поведал обо всём;
Тогда он брови изогнул немного,
46 Потом сказал: "То был враждебный дом
Мне, всем моим сокровным и клевретам;
Он от меня два раза нёс разгром". (97)
( Ад. Песнь десятая. 30-48)
Напомню, родители Данте принадлежали к партии гвельфов, а Фарината был гибеллином…
49 "Хоть изгнаны, – не медлил я ответом, -
Они вернулись вновь со всех сторон;
А вашим счастья нет в искусстве этом".
52 Тут новый призрак, в яме, где и он,
Приподнял подбородок выше края;
Казалось, он коленопреклонен. (98)
( Ад. Песнь десятая. 49-54)
Хочу сразу обратить внимание: держаться на ногах здесь, судя по всему, невероятно трудно, но Фарината всё же продолжает стоять: «от чресл и выше видно тело».
А вот, что сказано о другом герое:
55 Он посмотрел окрест, как бы желая
Увидеть, нет ли спутника со мной;
Но умерла надежда, и, рыдая,
58 Он молвил: "Если в этот склеп слепой
Тебя привёл твой величавый гений,
Где сын мой? Почему он не с тобой?" (99)
( Ад. Песнь десятая. 55-60)
Это Кавальканте Кавальканти, отец друга Данте, поэта Гвидо Кавальканти. Увидев Данте среди мёртвых, он никак не может понять, почему рядом с ним нет его сына.
61 "Я не своею волей в царстве теней, -
Ответил я, – и здесь мой вождь стоит;
А Гвидо ваш не чтил его творений". (100)
(Ад. Песнь десятая. 61-63)
И здесь происходит обмолвка: говоря о Гвидо, Данте вместо настоящего времени употребляет прошедшее. Странно, но грешники Ада очень внимательны к временным формам глагола. Кавальканте сразу же заметил, что Данте заговорил о друге в прошедшем времени:
67 Вдруг он вскочил, крича: "Как ты ответил?
Он их не чтил? Его уж нет средь вас?
Отрадный свет его очам не светел?"
70 И так как мой ответ на этот раз
Недолгое молчанье предваряло,
Он рухнул навзничь и исчез из глаз. (101)
(Ад. Песнь десятая. 67-73)
Конечно, если б это была жизнь, то было бы понятно: отца волнует, жив ли сын. Но в Аду, наверное, можно и не беспокоиться о подобных вещах. А он сокрушается, что его сына, вероятно, уже нет в живых, «отрадный свет его очам не светел». Вот как высоко обитатели Царства мёртвых ценят жизнь. Сами они пребывают в вечности, но обращены всецело к земному.
Ещё один важный момент. Кавальканти очень хотел бы узнать о судьбе сына, но подняться на ноги он не в силах, сначала только подбородок вытянул, а потом и вовсе упал в ров. А Фарината, несмотря ни на что, продолжает стоять.
73 А тот гордец, чья речь меня призвала
Стать около, недвижен был и тих
И облик свой не изменил нимало.
76 "То, – продолжал он снова, – что для них
Искусство это трудным остаётся,
Больнее мне, чем ложе мук моих.
79 Но раньше, чем в полсотый раз зажжётся
Лик госпожи, чью волю здесь творят,
Ты сам поймёшь, легко ль оно даётся.
82 Но – в милый мир да обретешь возврат! -
Поведай мне: зачем без снисхожденья
Законы ваши всех моих клеймят?"
85 И я на это: "В память истребленья,
Окрасившего Арбию в багрец,
У нас во храме так творят моленья".
88 Вздохнув в сердцах, он молвил наконец:
"Там был не только я, и в бой едва ли
Шёл беспричинно хоть один боец.
91 Зато я был один, когда решали
Флоренцию стереть с лица земли;
Я спас её, при поднятом забрале".
94 "О, если б ваши внуки мир нашли! -
Ответил я…. (102)
( Ад. Песнь десятая. 73-95)
Фаринату безумно волнует всё, что происходит во Флоренции и, главным образом, судьба его партии. Он расспрашивает Данте, как обстоят дела у гибеллинов. Он продолжает жить всё теми же страстями, что и при жизни.
Хочу обратить внимание ещё на некоторые моменты, касающиеся образа Фаринаты. Во-первых, мы ощущаем чрезвычайную силу его личности, и это, несомненно, импонирует Данте. Фарината гордо возвышается над своей огненной могилой, будто с презрением озирая Ад, и никакие муки не могут сломить его дух. Сила личности – это то, что Данте так высоко ценит даже в последних грешниках, для него это несомненное достоинство.
Теперь второе: литература XX века очень любила, так называемые, пограничные ситуации, в которых человек оказывается перед лицом смерти и должен проявить всё, на что способен. Однако то, что изображает Данте – это больше, чем пограничная, это – запредельная ситуация. Человек предстаёт перед Высшим судом, и потому его личность здесь должна проявиться с исключительной полнотой. Смерть вообще обладает одним очень важным качеством: она обобщает, оставляет в памяти лишь самое главное, а всё второстепенное отбрасывает. А каково то главное, что остаётся в Фаринате? Он осуждён за предательство и эпикурейскую ересь, коей считались в Средние века материалистические убеждения, шестым кругом Ада. Однако не это привлекает в нём Данте. Для автора поэмы важно, что даже за гробом Фаринату по-прежнему волнует судьба Флоренции. Он терпит наказание за совершённые в жизни проступки, но, как личность, не укладывается в рамки круга, к которому отнесён. Главным в нём оказывается что-то ещё, что не учитывало посмертное наказание.
Обитателям Рая открыты какие-то иные горизонты, а в Аду грешники живут лишь воспоминаниями. Они ни в чём не раскаялись, у них нет никакой надежды на спасение, и потому им не остается ничего, кроме как думать о былом. Это важная особенность грешников Ада. Они продолжают жить всё теми же страстями, что и при жизни. А для Фаринаты самое главное – это, оказывается, его участие в политической борьбе. Его волнует будущее Флоренции – вот что существенно.
Но в то же время это близко самому Данте. Он ведь тоже вернулся с высот Рая на землю. Интерес к земному, материальному миру, который проявляют грешники, прибывающие в Аду, автору «Божественной комедии» очень понятен. Он ведь и сам ещё не слишком отдалился от этого мира, не отрешился от сугубо земных чувств и забот. Эта черта грешников ему, несомненно, близка.
Ещё один существенный образ – это Улисс (такова латинская форма имени Одиссей), один из ключевых участников Троянской войны, которого Данте встречает в восьмом круге Ада. Он помещён среди лукавых советчиков, и это естественно. Именно Улисс дал ахейцам совет построить деревянного коня и с его помощью проникнуть в Трою. А Вергилий, как известно, был певцом Трои. Естественно, что к Улиссу, который придумал хитрость, погубившую троянцев, автор «Энеиды» должен относиться крайне отрицательно. Улисс – лукавый советчик. Однако то, что он рассказывает Данте, не имеет никакого отношения к этому его греху. Он говорит о том, о чём не знает никто. И это, видимо, изобретение Данте, потому что ни в одном другом источнике подобных сведений мы не встречаем:
91 Расстался я с Цирцеей, год скрывавшей
Меня вблизи Гаэты, где потом
Пристал Эней, так этот край назвавший… (103)
(Ад. Песнь двадцать шестая. 91-93)
В поэме Гомера главным устремлением Улисса было – вернуться домой. По окончании Троянской войны он мечтает лишь о возвращении на родную Итаку. А у Данте он представлен совершенно иначе:
94 Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойный
Близ Пенелопы с радостным челом
97 Не возмогли смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И всё, чем дурны люди и достойны. (104)
(Ад. Песнь двадцать шестая. 94-99)
Вообще, это не свойственно человеку Средневековья. Все путешествия во времена Античности и в Средние века – это всегда путь домой. Как построен античный роман? Герой проходит череду испытаний и в конце концов возвращается в родные края. В Средние века одним из наиболее популярных сюжетов искусства становится библейская притча о возвращении блудного сына… А в «Божественной комедии» Улисс стремится к совершенно иному: его влекут странствия. Он мечтает «изведать мира дальний кругозор»…
В поэме Данте присутствует не только человеческое, но и божественное видение. Это две линии, которые сосуществуют, но, в то же время, полной гармонии между ними нет. Данте остро ощущает это противоречие, и в образе Улисса оно выступает особенно наглядно. Путь самого Данте, в сущности, очень близок к пройденному Улиссом. Оказавшись в южном полушарии, он замечает:
130 Пять раз успел внизу луны блеснуть
И столько ж раз погаснуть свет заёмный,
С тех пор как мы пустились в дерзкий путь,
133 Когда гора, далёкой грудой тёмной,
Открылась нам; от века своего
Я не видал ещё такой огромной.
136 Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налёта
Ударил в судно, повернул его
139 Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,
142 И море, хлынув, поглотило нас. (105)
(Ад. Песнь двадцать шестая. 130-142)
Так вот, эта огромная гора, которая здесь перед ним возникает, это – Чистилище. Кстати, к этому образу Данте ещё раз вернётся уже в описании Рая, как бы подчеркивая, что видел ту же самую гору, которую видел когда-то Улисс. Так что их пути схожи, только Данте шёл по вертикали, поднимаясь из глубин Ада, и лишь затем оказался у подножия Чистилища, а Улисс двигался по горизонтали…
Великая сила произведения Данте заключается в том, что в нём сочетаются обе точки зрения. Человеческое и божественное образуют в поэме некий контрапункт, но никогда не совпадают, кроме тех эпизодов, в которых Данте достигает Рая. Ему знакомы те страстные порывы, которые влекут друг к другу Паоло и Франческу, но он знает и ту совершенную любовь, что «движет солнце и светила». Данте ощущает напряжённое сочетание обоих полюсов.
Ему близка жажда знаний, которая двигала Улиссом. Но он понимает и другое: это устремление к познанию мира должно всё-таки сопровождаться и неким духовным подъёмом, развиваться не только по горизонтали, но и по вертикали. Таков путь, который проходит в поэме автор: он хорошо понимает всех своих героев, но ему открыта и некая иная, недоступная тем перспектива. Это и составляет основу произведения Данте. Божественная точка зрения не подавляет в нём человеческую, человеческое не исключает божественного. Оба видения сочетаются, иногда дополняют, иногда противоречат друг другу, но Данте считает, что и то, и другое должно присутствовать. В идеале они могли бы слиться, но это в идеале. В реальной жизни они не тождественны.
Теперь немного о другой стороне «Божественной комедии». Это её художественная особенность, некое заложенное внутри противоречие. С одной стороны, это в высшей степени аллегоричное произведение, и в этом смысле оно характерно для средневековой поэзии. Собственно, сами муки героев Данте это, как правило, некое инобытие их грехов: гневные и в вечности разрывают друг друга на части, скупые вечно прячут заветные сокровища, чревоугодников терзают нескончаемый голод и жажда и т.д. Или как, к примеру, Данте изображает любовную страсть? Это вихрь, в который навсегда заключены Паоло и Франческа:
31 То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая.
34 Когда они стремятся вдоль скалы,
Взлетают крики, жалобы и пени,
На господа ужасные хулы.
37 И я узнал, что это круг мучений
Для тех, кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений. (106)
(Ад. Песнь пятая.31-39)
Это кружение вихря, в котором они никогда не смогут остановиться, – таков аллегорический образ охвативших их чувств. Но в то же время Данте так конкретно, так реалистично это изображает, что мы точно забываем об аллегорической стороне.
Скажем, самоубийцы в поэме предстают в виде кустов терновника: они пренебрегли своим телом и потому не сохранили его в мире загробном. Чтобы Данте ощутил, что это такое, Вергилий предлагает ему надломить веточку:
28 И мне сказал мой мудрый проводник:
"Тебе любую ветвь сломать довольно,
Чтоб домысел твой рухнул в тот же миг".
31 Тогда я руку протянул невольно
К терновнику и отломил сучок;
И ствол воскликнул: "Не ломай, мне больно!"
34 В надломе кровью потемнел росток
И снова крикнул: "Прекрати мученья!
Ужели дух твой до того жесток? (107)
(Ад. Песнь тринадцатая. 28-36)
Всё это очень конкретно, наглядно показано: растение вскрикивает от боли. В этот момент мы забываем, что перед нами аллегория.
А как, например, изображён Бертрам де Борн, знаменитый провансальский трубадур, сумевший поссорить английского короля Генриха II со старшим сыном, наследником престола, и другими членами королевской семьи. Мука, которую Бертрам испытывает, пребывая в восьмом круге Ада среди зачинщиков раздора, тоже вполне аллегорична: его голова теперь так же оторвана от тела, как прежде он сам отлучал себя от братьев и соседей, сея вокруг бесконечные распри. Бертрам держит голову в руках. Это тоже вполне ясный аллегорический образ. Но когда Бертрам пытается заговорить в поэме с Данте, то, чтобы быть услышанным, протягивает голову ближе к уху собеседника!
В девятом круге Ада описывается невероятный холод. Этот холод, с одной стороны, – явная аллегория, но, с другой стороны, здесь тоже всё почти осязаемо:
70 Потом я видел сотни лиц во льду,
Подобных пёсьим мордам; и доныне
Страх у меня к замёрзшему пруду. (108)
(Ад. Песнь тридцать вторая. 70)
Даже вернувшись на землю, Данте всё ещё боится увидеть вдруг замёрзший пруд, потому что тот напоминает ему ледяное озеро на дне Ада…
Но и его отношение к грешникам тоже носит психологически достоверный, сугубо реалистичный характер.
73 И вот, пока мы шли к той середине,
Где сходится всех тяжестей поток,
И я дрожал в темнеющей пустыне, -
76 Была то воля, случай или рок,
Не знаю, – только, меж голов ступая,
Я одному ногой ушиб висок.
79 "Ты что дерёшься? – вскрикнул дух, стеная. -
Ведь не пришёл же ты меня толкнуть,
За Монтаперти лишний раз отмщая?"
82 И я: "Учитель, подожди чуть-чуть;
Пусть он меня избавит от сомнений;
Потом ускорим, сколько хочешь, путь".
85 Вожатый стал; и я промолвил тени,
Которая ругалась всем дурным:
"Кто ты, к другим столь злобный средь мучений?"
88 "А сам ты кто, ступающий другим
На лица в Антеноре, – он ответил, -
Больней, чем если бы ты был живым?"
91 "Я жив, и ты бы утешенье встретил, -
Был мой ответ, – когда б из рода в род
В моих созвучьях я тебя отметил".
94 И он сказал: "Хочу наоборот.
Отстань, уйди; хитрец ты плоховатый:
Нашёл, чем льстить средь ледяных болот!"
97 Вцепясь ему в затылок волосатый,
Я так сказал: "Себя ты назовёшь
Иль без волос останешься, проклятый!" (109)
( Ад. Песнь тридцать вторая. 73-99)
Вообще трудно себе представить, что это иносказание, он ведь грешника буквально за волосы хватает. Данте настолько реалистичен, что мы не можем воспринимать описанное лишь как символ.
Иногда Данте выстраивает очень сложный ряд ассоциаций, как тонко подметил Осип Мандельштам в своём «Разговоре о Данте». К примеру, речь идёт об образе обмана. Воплощением данного греха в поэме становится Герион – легендарный трёхтелый великан, прославившийся своими богатствами и тем, что «кротким лицом, ласковыми речами и всем обхождением улещивал гостей, а потом убивал доверившихся его радушию».
1 Вот острохвостый зверь, сверлящий горы,
Пред кем ничтожны и стена и меч;
Вот кто земные отравил просторы".
4 Такую мой вожатый начал речь,
Рукою подзывая великана
Близ пройденного мрамора возлечь.
7 И образ омерзительный обмана,
Подплыв, но хвост к себе не подобрав,
Припал на берег всей громадой стана.
10 Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт приветливых и чистых,
Но остальной змеиным был состав. (110)
(Ад. Песнь семнадцатая. 1-12)
Здесь достаточно ясно выступает аллегорическая составляющая: у обмана приятное лицо и змеиная суть. Но дальше следует такое описание Гериона:
13 Две лапы, волосатых и когтистых;
Спина его, и брюхо, и бока -
В узоре пятен и узлов цветистых.
16 Пестрей основы и пестрей утка
Ни турок, ни татарин не сплетает;
Хитрей Арахна не ткала платка. (111)
( Ад. Песнь семнадцатая. 13-16)
Затем Данте видит ростовщиков, и возникает такая картина:
55 У каждого на грудь мошна свисала,
Имевшая особый знак и цвет,
И очи им как будто услаждала.
58 Так, на одном я увидал кисет,
Где в жёлтом поле был рисунок синий,
Подобный льву, вздыбившему хребет.
61 А на другом из мучимых пустыней
Мешочек был, подобно крови, ал
И с белою, как молоко, гусыней. (112)
(Ад. Песнь семнадцатая. 55-61)
Причудливому, подчеркнуто пёстрому узору шкуры Гериона как бы вторит многоцветие флорентийского рынка. Каждый из ростовщиков носит на груди мошну, имеющую свой особый знак отличия и окраску, и это тоже создаёт довольно прихотливую картину. Но и это ещё не всё. На хребте крылатого Гериона Данте переносится из седьмого круга Ада в восьмой. Как известно, до изобретения первых летательных аппаратов люди могли себе представить полёт только на волшебных коврах, а здесь само чудовище выступает как ковер-самолет. Рождается такой многоплановый, необычный аллегорический знак. Образ, который творит Данте, с одной стороны, сугубо символичен, а с другой – представлен настолько выразительно и конкретно, что мы ощущаем аллегорию как нечто абсолютно реалистичное.
И, наконец последний момент, который хотелось бы пояснить. Дело в том, что старая литература всегда изображала прошлое – историческое или же мифологическое, и Данте в своей поэме тоже обращается к прошлому, поскольку это мир мёртвых. Но в «Божественной комедии» исчезает то очевидное ощущение временной дистанции, которое было свойственно образам прошлого в произведениях его предшественников. Прежние авторы изображали персонажей ушедших эпох героями иного плана – не того мира, в котором жили сами.
Пушкин в «Евгении Онегине», как бы формулируя принципы нового романа, пишет:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня. (113)
«Добрый читатель», «мой приятель» – такого не решился бы сказать, допустим, автор «Песни о Роланде» или же создатель рыцарского романа. Даже Шекспир не мог так отозваться ни об одном из своих персонажей. А Данте может. В «Божественной комедии» он представляет своих друзей. Он изображает Франческу да Римини, свою современницу, точно так же, как легендарных цариц древности Семирамиду или Клеопатру, да и с мифологическими героями беседует запросто, как, к примеру, с Улиссом. Улисс для Данте – «добрый приятель». В этом смысле с «Божественной комедии» Данте действительно начинается литература не только Нового, но и Новейшего времени. Правы были те, кто утверждал, что в произведении Данте заложено всё последующее. «Божественная комедия» – великий финал Средневековья, но и великий исток всей будущей европейской литературы.
Литература эпохи Возрождения
Ранее всего черты эпохи Возрождения (фр. Renaissance, итал. Rinascimento) проявились в Италии, и потому уже современники Данте, Петрарка и Боккаччо, являются её первыми авторами. Позднее всего новая эпоха пришла в Испанию, там это – первые десятилетия XVII века. В Германии, во Франции – это XVI век. Но, в целом, в Европе Возрождение начинается не раньше XIV века и к началу XVII завершается в большинстве стран.
В этот период происходят важные социальные процессы и прежде всего – становление единых национальных государств. Средние века не знали национальных государств. Это были объединения либо более крупные, чем национальные, любо гораздо меньшие. Существовали отдельные области, провинции или же грандиозные империи, такие, к примеру, как Священная Римская Империя с императором во главе, в состав которой входили Германия, Италия и т.д. А вот к концу эпохи Возрождения начинают образовываться национальные государства, причём формой правления в них становится абсолютная монархия. Совершается переход от феодального к централизованному монархическому порядку. Такова политическая суть переворота, связанного с эпохой Возрождения.
В экономическом плане Возрождение – это становление мануфактур. Средневековое ремесленничество сменяется мануфактурой, в которой ещё не было машин, механизмов, облегчающих процесс производства, но уже появляется разделение труда, начинает использоваться наёмный труд.
И, наконец, религиозная сторона… Эпоха Возрождения характеризуется борьбой за Реформацию в церкви. Волна Реформации – движения, направленного на изменение учения и самой организации церкви, захлестнула почти все страны Европы, за исключением Испании и Италии. Но победила Реформация далеко не везде. Она утвердилась в Швейцарии, частично в Германии и в компромиссной форме в Англии, в англиканской церкви, которая больше не подчинялась римскому папе. Но борьба за церковные преобразования, повторяю, охватила большую часть Европы.
Суть эпохи Возрождения – в её переходном характере. Это определяет и её временные границы. С появлением капиталистического государства, с окончательной победой мануфактур и утверждением Реформации, там, где это произошло, завершается эпоха Возрождения. Сущность её в самом переходе. Это время, когда старые формы жизни рушились, а новые ещё только складывались. Это, так сказать, эпоха исторического половодья, когда река истории вышла из берегов, но не вошла ещё в новое русло. Такие эпохи обычно оказываются периодами вдруг открывшихся возможностей. Далеко не все из них осуществляются в действительности. Однако духовный переворот, принесённый эпохой Возрождения, родил ту новую модель мира, которая определила всё дальнейшее развитие культуры, вплоть до конца ХХ столетия.
Мир выстроился по горизонтали. Средневековая модель мира – это вертикаль, а здесь впервые возникает горизонталь. Это первая культура, основанная на принципе горизонтали, когда взор человека стал обращаться не ввысь, а вдаль. Не случайно именно Возрождение явилось эпохой великих географических открытий. Уже в «Божественной комедии» Данте взгляд Улисса направляется за горизонт. Но там речь шла о мифологическом герое, а здесь это стремление «изведать даль» проявилось в самой реальности.
Именно в эпоху Возрождения появляется перспектива в живописи. Художники стали открывать для себя визуальную пространственную глубину. Средневековый зритель стоит перед картиной и смотрит на неё снизу вверх, а здесь он смотрит вдаль. Перспективная живопись рождается именно в эпоху Возрождения, это важная особенность. Как и гуманизм – важнейшее идеологическое течение эпохи…
Человек в этой новой картине мира занял почти что то же самое место, хочу подчеркнуть это слово – почти, какое в средневековом мире занимал Бог. Ренессанс не был атеистическим, и в существовании Создателя никто не сомневался. Изменилось отношение к природе. Природа перестала восприниматься как некое низменное, греховное начало. На первый план выступила идея, так называемой великой цепи бытия, которая звучала уже в Средневековье: представление о том, что начало всему – Господь, за которым следуют девять ангельских чинов: серафимы, архангелы… Далее – человек, он в центре, а затем – животные, растения, минералы… То есть человек занимает в этом ряду срединное положение. Бог, создавая наш мир, хотел бы, чтобы духовное и природное слились в нём в единое целое, но достигается это лишь в человеке, поэтому человек сложнее бесплотных ангелов, которые лишь духовны и, разумеется, выше животных… Он почти равен Богу. Не равен, но почти равен. Дух и материя в нём слиты воедино – это есть нечто священное, к чему стремился в своём творении сам Господь.
Вообще, важная особенность этого нового понимания человека связана с представлением о самом Творце. Бог всемогущ, и его воля ничем не ограничена. Для него не существует никаких преград… Но та же возможность творить, то же мощное созидательное начало заложено, по мнению мыслителей Ренессанса, и в человеке. Известный итальянский гуманист и философ Пико делла Мирандола (1463—1494) в своей «Речи о достоинстве человека» писал: «Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: "Не даём мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стеснённый никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать всё, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные. <…> О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет!» – заключает философ. (Перевод Л.Брагиной).
Для человека нет ничего невозможного. Он – творец самого себя, хозяин своей жизни. Он сам определяет границы собственной природы и потому почти равен Богу. Для остальных существ всё предопределено. Только человеку дан выбор, предоставлена эта божественная свобода. Ангелы всегда остаются лишь ангелами, посланниками, исполнителями божественной воли, а человек по своей собственной воле может пасть, а может и вознестись. Поэтому в картине мироздания человек занял особое, почти равное Богу место. Он стал мыслиться как некое высшее создание, дитя природы, творение Бога…
В Средние века люди видели свою основную задачу в том, чтобы преодолеть всё плотское и земное. Человек представлялся существом, которое должно победить в себе земные устремления. А Ренессанс провозгласил идеал гармонии духовного и телесного. Эта цель была столь же трудно достижима, как для человека Средневековья – отрешение от страстей. Это тоже требует огромных усилий воли и духа, но это – другой идеал.
Идеал человека Возрождения – слияние божественного и земного. В зародыше эта идея была заложена уже в «Божественной комедии» Данте, но как осознанный принцип возникает именно в эпоху Ренессанса. Человек – это главное оценочное понятие. Когда в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» над телом убитого Брута даже его враг Антоний восклицает: «Он человеком был!» – это не констатация факта, а великая оценка.
А что значит «быть человеком»? В наше время человек достиг невероятного могущества: покорил космос, добрался до границ Солнечной системы, освоил сверхтехнологии – его возможности возросли очевидно. Однако не думаю, что каждый из нас ощущает себя уж столь всесильным. Это – возможности человека вообще, а не каждого в отдельности. Тому есть множество причин, но есть и особенная сторона дела. Конечно, существует родовая сущность человека. Но в современном мире отдельный человек не способен охватить все виды деятельности, это, разумеется, невозможно. Любая научная проблема сегодня решается сообществом ученых, но никак не в одиночку. А вот в эпоху Ренессанса сложилась ситуация, когда индивид обладал силой целого. Нас сегодня справедливо удивляет, например, личность Леонардо да Винчи. Он был великим художником, мыслителем, изобретателем, исследователем, поэтом. Вообще, масштаб и многогранность этого человека поражают воображение. Конечно, он и тогда, наверное, был исключением – оказался равно гениален во многих областях творчества и в научной деятельности. Но эта многогранность Леонардо – явление, присущее эпохе в целом. Другие её представители были, может, не столь одарены, но развиты столь же универсально.
В эпоху Возрождения сложилась уникальная ситуация. Старое цеховое разделение труда было разрушено, новое ещё не сложилось. И возникла не только необходимость, но и реальная возможность отдельному человеку охватить всю сумму знаний и умений – всю совокупность того, что было достигнуто человечеством на тот момент его развития. Род смог воплотиться в индивиде – такого больше никогда не было в обозримой истории, и вряд ли это ещё когда-нибудь повторится. Но в ту эпоху – существовало.
Приведу один пример. Леон Баттиста Альберти – итальянский ученый, писатель, один из основателей новой европейской архитектуры – человек, конечно, талантливый, но не Леонардо. Приведу фрагмент биографии, изложенной современником: «С самого детства Альберти оказывался первым во всём, чем только человек может отличиться от других. Его успехи в гимнастических и всякого рода физических упражнениях вызывали всеобщее удивление. Рассказывали, как он без разбега перепрыгивал через головы людей, бросал монеты в соборе так, что одна залетала под верхний свод, как он укрощает самых диких коней, потому что хочет превзойти всех в трёх отношениях – лучше всех говорить, ходить и ездить верхом. Он обязан одному себе успехами в музыке, и, тем не менее, знатоки удивляются его произведениям. Он стал изучать право, но после нескольких лет занятий заболел от переутомления. На 24-ом году у него стала ослаблять память к словам, хотя способность к их пониманию нисколько не уменьшилась. Тогда он перешёл к физике, математике, но в то же время не перестал приобретать другие познания в самых различных ремеслах, вплоть до сапожного мастерства». Таков тип человека Ренессанса: он изучает, постигает всё, «вплоть до сапожного мастерства».
Есть ещё одна важная особенность, которая играет существенную роль в понимании искусства Ренессанса. Дело в том, что и в литературе, и в искусстве более позднего периода, особенно нашего времени, возникает одна проблема. Сегодня она встает перед любым художником, писателем, поэтом, режиссером во всей своей остроте. Эта проблема заключается в том, что надо быть не похожим на других, обладать какой-то своей собственной, особой, оригинальной манерой. Это трудно, но необходимо. А вот люди эпохи Возрождения к этому не стремились. Человек Возрождения хотел быть первым, лучшим во всём, старался достичь некоего абсолютного мастерства.
Этим, кстати, определяются некоторые важные особенности ренессансной живописи. Большинство художников эпохи обращаются к одним и тем же сюжетам, чтобы достичь совершенства и вовсе не стремятся быть оригинальными. Атрибуция произведений эпохи Возрождения очень сложна: порой бывает трудно установить, написал ли картину сам знаменитый мастер или кто-то из его учеников и последователей…
Теперь немного о другой стороне культуры Возрождения. Разные исторические периоды можно классифицировать в зависимости от того, какие времена люди той поры считали для себя идеалом. Архаические эпохи склонны были идеализировать прошлое. Овидий писал о четырех великих периодах древности, в том числе и о существовавшем некогда Золотом веке, в который царили идеальный порядок и гармония, позже утраченные. Культура Нового времени, начиная с XVIII века, и, во всяком случае, до конца века XX-го, была устремлена главным образом в будущее, полагала, что где-то там, в будущем, возможно построение некоего идеального миропорядка.
Культура Возрождения – самая счастливая в том смысле, что это была культура настоящего времени. Людям этой эпохи казалось, что они уже пребывают, если не в Золотом, то почти в Золотом веке. Так же, как человек почти равен Богу, так и они – живут почти в Золотом веке. Есть только текущее время. Прошлого уже нет, будущего ещё нет, существует лишь одно-единственное сейчас. Но вопрос заключается в том, как это понимать?
Существует такой парадокс о времени. Он принадлежит философу XVII века Блезу Паскалю, человеку, правда, уже другой эпохи. Паскаль говорил: «Что такое прошлое? Это то, чего уже нет. Что такое будущее? Это то, чего ещё нет. А что такое настоящее? Это нулевая точка между тем, чего уже нет, и тем, чего ещё нет». Это значит – ничего нет. Но сам этот момент, в сущности, близок к той высшей точке, которую созерцал Данте в Раю, – точке, в которой соединены все «где» и все «когда». Это некая абсолютная полнота бытия – вечное сейчас. В трагедии Шекспира Ромео скажет монаху: «С молитвою соедини нам руки, // А там хоть смерть. Я буду ликовать, // Что хоть минуту звал её своею». (Акт II). В такой минуте заключена целая жизнь.
Вообще, понятие «настоящее время» имеет разные смыслы. Один простой. Важный постулат эпохи Возрождения – это право человека на наслаждение, нужно наслаждаться каждым мгновением бытия, жить моментом. Но дело в том, что настоящее время вбирает в себя и прошлое, и будущее. Наша память превращает прошлое в настоящее, и мы живём, в сущности, в том большом времени, которое сохраняем в собственной памяти. Мы расширяем рамки настоящего. Не случайно Ренессанс придает такое огромное значение образованию, знаниям и культуре вообще. Это – память. Мы живём не в короткое отдельное мгновение, а во всей протяженности того времени, которое помним. А если оно ушло из памяти, тогда, конечно, это уже не наше. Тогда это прошлое. Время является настоящим, пока оно продолжает жить в нашем сознании.
Что касается будущего… Личность должна оставить во времени свой след. Поэтому творчество есть высшее проявление для человека Ренессанса. Хотя наслаждение тоже очень важно, но высший миг – это творчество. Следует так прожить свою жизнь, чтобы она запомнилась, осталась в памяти других. Поэтому миг настоящего должен вобрать в себя все три вектора времени, это и есть его полнота.
Кстати, существовала идея создать новый город Ренессанса. Но люди хотели воплотить её как можно скорее, конечно. Строить город заново – это бог знает, когда будет, в нём смогут жить лишь потомки, какие-то будущие поколения, а хотелось оказаться там уже сейчас. Так что было сделано? Они стали закрывать щитами фасады старых зданий, создавая тем самым видимость новизны. Они хотели жить здесь и сейчас. И слава Богу, потому что не разрушили ничего из древних и средневековых построек.
Теперь хочу коснуться ещё одной важной черты эпохи Возрождения. Она во многом связана с самим понятием, самим этим словом – Ренессанс. Это возрождение Античности. В Средние века к Античности относились негативно, а Ренессанс возрождает связь с этой эпохой. Что это такое? А то же желание превратить прошлое в настоящее. Сама идея возрождения Античности заключается в том, чтобы воскресить ушедшее время в настоящем.
Для средневекового сознания принципы античной и собственной эпохи – это два полюса. Греки жили в языческом мире. Их культура основывалась на культе природы, причем в её грешном понимании, поэтому все древнегреческие боги стали считаться в Средние века бесами. К примеру, храмы Венеры назывались публичными домами. Но на картинах итальянских художников эпохи Ренессанса мы видим и античные и христианские сюжеты. Один из излюбленных – Мадонна с младенцем. Это традиционный сюжет живописи Ренессанса. Достаточно вспомнить «Мадонну Литту» или знаменитую «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. Так что о том, что это искусство порывает со Средневековьем, не может быть и речи. Оно лишь хотело снять противоречие между средневековым сознанием и античным.
Возрождение стремилось к синтезу: Античность – это природа, Средневековье – дух, и их нужно соединить. Это – главная задача, поэтому культ Античности в общем не означал отказа от идей Средневековья. С одной стороны, художники Возрождения изображают Мадонн как реальных женщин. Нередко моделями для них служили их собственные возлюбленные. А с другой стороны, они необычайно одухотворяют античные сюжеты и образы. И поэтому между Мадонной Рафаэля или Леонардо и «Спящей Венерой» Джорджоне нет принципиальной разницы. Венера Ренессанса столь же одухотворена, а Мадонна выглядит как вполне реальная женщина. В этом смысле очень характерна картина Тициана «Любовь небесная и Любовь земная». Я не раз показывал студентам репродукцию и спрашивал, где, по их мнению, образ Любви земной, а где – небесной? Одна из женщин на картине обнажена. И чаще всего студенты отвечают, что земная любовь – это обнаженная женщина. А на самом деле – наоборот. На полотнах Тициана Мадонна – это как раз земная любовь. Художники Возрождения не разделяют, а пытаются привести к единству духовное и природное в искусстве, Средневековье и Античность. Тициан уничтожает эту грань между земным и небесным нарочито…
Но культ Античности имеет ещё один важный смысл. Мы уже касались этой темы, но ещё раз повторю. Античность создала совершенно особый тип культуры, которая выступает как нечто самоценное, самодостаточное. Цель культуры – в ней самой. Восточная и Средневековая культуры в этом смысле были иными. Средневековая культура была почти целиком сочинена церковью. Скажем, не существовало средневековой живописи в чистом виде, существовала либо иконопись, любо роспись храмов. Не существовало собственно музыкального искусства, создавались либо религиозные хоралы, либо какие-нибудь бытовые песни, но не музыкальные произведения как таковые. Целью культуры, возникшей в Античности, являлась сама культура. И это оказалось очень близко Ренессансу. Поэтому не случайно главным его феноменом стало искусство живописи. Картина в каком-то смысле явилась моделью самой эпохи.
Прежде были икона или фреска, настенная роспись, которые служили каким-то религиозным нуждам. В эпоху Ренессанса автор живописного полотна не стесняет себя такими конкретными задачами. Он просто пишет картину. В этом и заключается новый тип культуры.
Кроме того, в живописи появляется перспектива, перед зрителем открывается некая даль. Это мир, выстроенный по горизонтали, и перспектива здесь носит строго геометрический характер, требующий, чтобы линии сходились на горизонте. Леонардо придерживался этого принципа всегда. Сейчас так не рисует ни один художник, никто не пользуется линейной перспективой, которая была свойственна живописным полотнам Ренессанса. Если современный мастер станет так строить изображение, это будет мёртвая картина. Сегодня изображают так, как видит глаз художника, а субъективное видение далеко не всегда считается с законами перспективы. Они справедливы, как показывают современные оптические исследования, для удалённого образа, а для предметов, расположенных вблизи, это не работает. Мы так не видим. Но это никак не умаляет достоинств художников Ренессанса. В их творениях – замечательная, никем не превзойдённая сила.
Художники эпохи Ренессанса не стремились показать мир таким, каким они его видели. Они исходили из видения человека вообще. Это не божественная точка зрения, а человеческая, но это – не индивидуальная точка зрения в современном значении слова. Современные художники избегают линейной перспективы. А художники Ренессанса видели мир совершенно другим образом и изображали его так, как должен был воспринимать нормальный человеческий глаз. Отсюда этот идеальный образ.
Как правило, художники Возрождения обращались либо к мифологическим, либо к религиозным сюжетам. Портретной живописи создавалось очень мало, и, кстати, все портреты были в высшей степени идеализированы. Моделями для художников нередко становились реальные женщины, но художники превращали их в Мадонн. Это искажение в сторону идеального было вызвано стремлением в реальном образе увидеть некую иную, идеальную суть. Живопись вообще стала ведущим искусством, скажем, итальянского Ренессанса. Леонардо в своём трактате о живописи возвёл её выше всех других искусств. Почему? Потому что это искусство настоящего времени. Книгу мы читаем в течение какого-то периода, прослушивание музыки тоже требует некоторой временной протяженности, а картину схватываем взглядом одномоментно, воспринимаем её целиком. Это как бы полнота мгновения. Именно поэтому живопись явилась моделью всей ренессансной культуры.
Теперь несколько слов о периодизации. Эпоху Возрождения условно можно разделить на три периода. Это Раннее Возрождение, время, когда идеалы эпохи ещё только складывались, когда происходило их формирование. Это Высокое Возрождение. К этому моменту основные черты и принципы утвердились окончательно, это высшая точка. И, наконец, Позднее Возрождение. Исторически эпоха в основном завершилась. Тот новый порядок, который следовал на смену Возрождению, оказался очень далёк от устремлений и надежд, которые двигали художниками. Не случайно Позднее Возрождение проходит под знаком глубочайшего кризиса идеалов. Через эти этапы в той или иной мере проходят все страны Европы…
Франческо Петрарка
стал первым поэтом раннего итальянского Возрождения. Родители Петрарки так же, как и Данте, были родом из Флоренции. Отец будущего поэта, известный нотариус, как и Данте, принадлежал к партии белых гвельфов и тоже был вынужден бежать из Флоренции, где его приговорили к громадному штрафу и отсечению кисти руки. Франческо родился 20 июля 1304 года уже в изгнании, когда семья вынужденно скиталась по городкам и селениям Тосканы в тщетной надежде на возвращение домой. (114)
Мальчику шёл девятый год, когда родители решили наконец обосноваться в провансальском Авиньоне, где жило немало бывших флорентийцев…
В ту пору в Авиньоне располагался папский двор, переведённый из Рима. Это была эпоха, так называемого, «авиньонского пленения пап». А там, где пребывал папа, особенно в Средние века, и был своеобразный центр. Туда стекались не только религиозные паломники, но и банкиры, торговцы, художники, архитекторы, предприимчивые авантюристы всех мастей, все те, кто предпочитал находиться под папским покровительством. За считанные годы тихий городок на берегу реки Роны превратился в новую столицу папства с поспешно возведённым дворцом, крепостями, многочисленными монастырями и соборами.
С раннего возраста Петрарка серьёзно увлекался классической литературой и древней историей. Но по настоянию отца поступил сперва в юридическую школу, а затем и на юридический факультет Болонского университета. Однако юридическая практика мало его привлекала. Как признавался сам поэт: «Мне претило углубляться в изучение того, чем бесчестно пользоваться я не хотел, а честно не мог».
Идеалом Петрарки были юридические науки, основанные на философии. Он был чуть ли не единственным в своё время, кто осознал значимость исконного римского права. "Право наших отцов, – говорил он, – детище глубокой и ясной мысли, нами не понято и предано забвению".
Петрарка мечтал посвятить себя поэзии, философии, истории… Но литературное творчество в те времена не приносило заработка. После смерти отца Петрарка оказался почти без средств к существованию. Чтобы зарабатывать на жизнь, обладавший не только приятной внешностью, но и красноречием, эрудицией, прекрасным знанием латыни Петрарка решил принять духовный сан. Но, надо сказать, никакого религиозного рвения он не испытывал. Петрарка поселился при папском дворе, был рукоположен, но вряд ли когда-либо совершал богослужения. Особое участие в его судьбе в этот период приняли кардинал Джованни Колонна и его семья. Петрарка стал личным секретарём влиятельного кардинала.
Подобная служба не только открывала двери в высшие круги авиньонского общества, но и оставляла достаточно свободного времени. Петрарка любил досуг. Он решил не проявлять никакого заметного участия в политической жизни. В этом смысле он совсем не похож на Данте. «Нет высшей свободы, чем свобода суждений, – говорил Петрарка. – Я требую её для себя, чтобы не отказывать в ней другим». Его идеал иной: не терпеть нужды, не допускать излишеств, не властвовать над другими, но и никому не подчиняться. Петрарка приобрел небольшое имение в Воклюзе, долине близ Авиньона, где мог жить и писать практически в уединении. Вспоминая об этом периоде своей жизни, он признавался: «Только в это время я узнал, что значит настоящая жизнь».
В личности Петрарки нашёл своё проявление новый, рождённый самой наступавшей эпохой тип человека. В отличие от Данте Петрарку влекла прежде всего личная, индивидуальная свобода. Когда возникла возможность вернуться во Флоренцию, он предпочёл поселиться в Милане, хотя Флоренция была республикой, а в Милане в то время правила семья тиранов Висконти. Сам он так объяснял своё решение: «Повсюду и всегда я останусь абсолютно свободным. Я имею в виду свободу духа, ибо во всём, что касается тела и всего остального, поневоле приходится подчиняться тому, кто сильнее нас. <…> Полагаю всё же, что тирания одного человека менее сурова, чем тирания народа…». (Из письма Д. Боккаччо 1365 г.)
Отказавшись от кафедры во Флоренции, он стал исполнять обязанности секретаря и представителя архиепископа Джованни Висконти. По его поручению стареющий поэт совершил ряд дипломатических поездок. Но это не отрывало его от творчества. В последние годы после неудачных попыток вернуться в Авиньон Петрарка жил в Венеции рядом со своей незаконнорожденной дочерью и внуками. Умер поэт в местечке Арква близ Падуи, где и был похоронен. В ночь с 18 на 19 июля 1374 года, за день до семидесятилетия, Петрарку нашли лежащим за столом с пером в руке над жизнеописанием Цезаря. Это было мечтой всей его жизни – закончить писать и жить в один и тот же момент.
Петрарке ещё при жизни в отличие от Данте довелось пережить настоящую литературную славу. Уже к началу 1340-х годов поэт был известен всей Италии. Его должны были венчать лавровым венком. Возник лишь вопрос: где должна совершиться церемония? Петрарка получил приглашение сразу из трёх городов: Парижа, Неаполя и Рима. Но, надо сказать, Рим в ту пору пребывал в страшном запустении. После того, как город покинули папа и папский двор, он переживал упадок: на Форуме паслись коровы, а в самом городе и его окрестностях было полно бандитов, поэтому Петрарке советовали отказаться от идеи ехать в Рим. Но он заявил, что хочет удостоиться высшей поэтической награды именно на Капитолии, в Риме, поскольку это «глава мира, в нем покоится прах древних поэтов». Петрарка стал почётным гражданином «вечного города».
Важнейшей чертой творчества Петрарки было особое отношение к Античности, прежде всего к римской литературе. Греческую поэзию он знал мало, а римскую – очень хорошо. Он, конечно, знал Античность лучше, чем Данте. И дело не в количестве прочитанных книг, а в самом характере его отношения к античному наследию. Для Данте Античность – дополнение к Средневековью. Вергилий дополняет собой Беатриче, как и она, направляет путь Данте, служит духовным проводником… А для Петрарки Античность и схоластическое Средневековье – это два полюса. Он первый с такой ясностью ощутил то, что было в античной культуре, быть может, наиболее важным, – живой интерес к человеку и окружающему его земному миру.
Самым любимым античным автором Петрарки с юных лет был Цицерон. Когда-то, ещё в детстве, отец, узнав, что сын ради чтения и поэтических опытов пренебрегает изучением нотариального дела, бросил в камин все его любимые книги. Видя отчаяние мальчика, он руками выхватил из огня два ещё не успевшие обуглиться тома. По странному совпадению это были сочинения Вергилия и Цицерона.
Страстный интерес Петрарки к классической древности, к личностям Цицерона и других великих римских авторов, заставили его вести многолетние поиски и последовательно анализировать и описывать всё то, что в те времена хранилось в монастырских библиотеках, у собирателей и антикваров Прованса. Именно благодаря Петрарке появились первые серьёзные описи уцелевшего античного литературного наследия и достопримечательностей…
Петрарка резко расходился с Данте в своей оценке латинского языка. Данте призывал писать по-итальянски, свой трактат «Пир» он создал на итальянском языке, а Петрарка, наоборот, вернулся к латыни. Не только в художественных произведениях. У него есть «Книга писем о делах повседневных». Это реальные письма, обращённые к друзьям, в которых он на латыни рассуждает о самом обыденном. Данте пишет философские трактаты по-итальянски, а Петрарка – письма на латыни. «Цицерон, философствуя в книгах, – говорит Петрарка, – в письмах говорит о повседневных вещах, вспоминает новости и слухи своего времени. Они для меня захватывающи». Сам он тоже размышляет на латинском языке о «делах повседневных». Латынь для него – эталонное воплощение Античности. Цицерон – некий образец…
Но, как известно, Евангелие от Иоанна начинается так: «Слово было у Бога, и слово было Бог». Это божественное слово, а слово Цицерона – человеческое. Это культ слова человеческого. Но дело в том, что латынь, на которой писал Петрарка, – это не тот язык, с которым боролся Данте. Данте выступал против средневековой латыни, являвшейся официальным языком эпохи, языком церкви, языком науки, а Петрарка решил возродить классическую цицероновскую латынь. Это нечто другое. Это язык культуры, язык, который для Петрарки был связан с самим понятием Античности. Это вообще было довольно распространено в эпоху Возрождения. Гуманисты нередко обращались к латинскому. Но из этого, в общем, ничего не получилось. Я бы больше сказал: окончательно похоронил латынь не Данте, а именно Петрарка. Дело в том, что та латынь, с которой боролся Данте, была ещё живым языком, это был язык Средневековья, живая разговорная речь. Петрарка же хотел возродить классическую латынь, на которой в то время уже никто не разговаривал. Поэтому из этой попытки ровным счётом ничего не вышло. Кстати, самые лучшие произведения Петрарки написаны не на латыни. Наиболее значительными оказались те, что были написаны по-итальянски. Это, прежде всего, его стихи, к которым сам Петрарка относился как к пустякам и безделкам, не предназначенным для публики.
Вообще, из всех литературных творений, созданных на латыни, удачным оказалось только одно. Это книга немецкого гуманиста Эразма Роттердамского «Похвальное слово Глупости» – единственное живое произведение. Нельзя возродить мёртвый язык. Средневековая латынь была отвергнута, потому что стало очевидным, насколько она несовершенна. Петрарка, пытаясь вернуть в культурный обиход цицероновскую латынь, убил, в сущности, латынь средневековую. Но всё это в целом послужило дальнейшему развитию итальянского языка…
Как я уже говорил, на латыни написаны письма Петрарки. Они обращены как к вполне реальным, конкретным лицам, с которыми он был связан в жизни, так и к известным историческим персонажам прошлых эпох: Сократу, Титу Ливию, Цицерону и так далее. С самого начала в этом присутствует некий условный, игровой момент, который существен для понимания Петрарки. Но в одном из писем сам Петрарка так формулирует их назначение: «Сложив руки и сидя на берегу, легко судить вкривь и вкось об искусстве рулевого. Огради от наглецов эти непричёсанные и неосторожно выпущенные из рук листки, хоть спрятав их где-нибудь в своих тайниках. Но когда к тебе придёт, – если я когда-нибудь завершу его, – не то Фидиево изваяние Минервы, о котором говорит Цицерон, а какое ни есть изображение моей души, слепок моего ума, оттачиваемый мною с огромным усердием, то спокойно ставь его на любом видном месте…» (115)
То есть главный интерес для Петрарки представлял он сам, его желание постичь собственную душу. В творчестве Данте это выступает в очень сложной форме, а у Петрарки выражено непосредственно. Он хочет рассказать о самом себе, и образцом для него в этом является Цицерон. В значительной степени отсюда проистекает и желание писать на латыни. Петрарка чувствует себя приближенным к некой культурной традиции. Это идущее ещё со времен Античности ощущение искусства как самоценной игры. Письма к Титу Ливию или к Цицерону – это ведь чистая игра, которая для Петрарки была высшим проявлением культуры, как и сам латинский язык, на котором он пишет эти письма. Он говорит: «Слава, за которой мы гонимся, – ветер, дым, тень, ничто; по здравом и трезвом рассуждении ею можно прекрасно пренебречь, и если не можешь с корнем вырвать стремление к ней – потому что оно обычно всего настойчивей преследует более благородные души, – то, по крайней мере, пресеки его разрастание серпом рассудка. Приходится подчиниться времени, приходится подчиниться обстоятельствам. (116)
Стремление Петрарки к славе очень велико. «Кратко скажу напоследок суть своей мысли: взращивай добродетель, пока живёшь, – за могилой пожнёшь славу», – такова главная его идея. «…Вдумываюсь, как могу, день ото дня стараясь всё глубже вдуматься, – не в то, каким кажусь другим, а в то, что я такое сам; чувствую, что и возраст мой, и какая ни есть ладность тела, и прочее (в чём мне, возможно, кто-то и завидует) дано мне для испытания, для упражнения, для труда». (I 3. Почтенному старцу Раймунду Суперанду Суперану, правоведу, о нестойком цвете лет. Перевод с латинского В. Бибихина). (117)
Вот, например, Петрарка описывает гору, охваченный горячим желанием когда-нибудь подняться на её вершину: «Много лет я думал взойти туда; ещё в детстве <…>, веря молве, согласно которой с её вершины можно видеть два моря, Адриатическое и Чёрное, – правда это или ложь, достоверно установить не могу, потому что и гора от наших краёв далека и разноречие писателей ставит дело под вопрос: всех приводить не буду…» (IV 1. Диониджи из Борго сан Сеполькро, монаху ордена Святого Августина и профессору Священного Писания, о своих душевных заботах).
В конце концов он даже решает взойти на вершину горы, поскольку Филипп Македонский тоже когда-то совершил такое восхождение. Ему это совпадение необыкновенно приятно. Но затем он берёт в руки сочинение одного из отцов церкви Блаженного Августина, и, открыв на случайной странице, читает: «И отправляются люди дивиться и высоте гор, и громадности морских валов, и широте речных просторов, и необъятности океана, и круговращению созвездий – и оставляют сами себя». Петрарка откладывает книгу в гневе на самого себя за то, что продолжает «ещё дивиться земным вещам, когда давно даже от языческих философов должен был знать, что нет ничего дивного, кроме души, рядом с величием которой ничто не велико!» (V 1. Диониджи из Борго сан Сеполькро, монаху ордена Святого Августина и профессору Священного Писания, о своих душевных заботах).
В размышлениях Петрарки присутствует это противоречие: вид горы приводит его в восторг, и в то же время он готов согласиться с рассуждениями Св. Августина, который утверждает, что, в общем-то, подобные вещи не стоят восхищений, гораздо лучше обратить усилия к чему-то более возвышенному и важному. (118)
Эта внутренняя противоречивость находит выражение в главном произведении Петрарки, на котором основана его литературная слава. Это сборник сонетов и канцон, обращенных к возлюбленной Петрарки – Лауре («Canzoniere», «Книга песен»). Их свыше трехсот. Книга делится на две части: одни сонеты написаны при жизни Лауры, другие – после её смерти.
Прототипом легендарной Лауры была реальная женщина, но всё же весьма сомнительно, что в стихах присутствует её действительный образ. Впервые Петрарка увидел Лауру, когда та была совсем юной девушкой. Вскоре она вышла замуж и, став женой и матерью одиннадцати детей, с неодобрением относилась к оказываемым ей знакам внимания. Тем не менее, это чувство жило в сердце Петрарки на протяжении двадцати лет, пока Лаура была жива, и годы после её смерти.
Сохранилась запись, сделанная рукой Петрарки, приклеенная им к обложке старинной рукописной книги, семейной реликвии, с которой поэт никогда не расставался: "Лаура, известная своими добродетелями и долго прославляемая моими песнями, впервые предстала моим глазам на заре моей юности, в лето Господне 1327, утром 6 апреля, в соборе святой Клары, в Авиньоне. И в том же городе, также в апреле и также шестого дня того же месяца, в те же утренние часы в году 1348 покинул мир этот луч света…<…>В память о скорбном событии, с каким-то горьким предчувствием, что не должно быть уже ничего, радующего меня в этой жизни, <…> пишу об этом именно в том месте, которое часто стоит у меня перед глазами…"
И всё же любовь к Лауре была скорее творением искусства, нежели жизни. Не случайно даже Боккаччо, младший современник Петрарки, знавший его лично, пишет по этому поводу так: «Насколько я могу судить, его Лауру надо понимать аллегорически, как лавровый венок, которого он впоследствии удостоился». Само имя Лаура столь же символично, как, скажем, и имя Беатриче. В его звучании слышится lauro – лавр, символ бессмертия, l'aurea – золотая, l'aura – дуновение…
Несомненно, в своих стихах Петрарка опирался на «Новую Жизнь» Данте, и образ Лауры во многом подсказан образом Беатриче. Однако с самого начала мы ощущаем резкое различие между образами Лауры и Беатриче. Для Данте Беатриче – некое земное воплощение небесного, недаром она становится проводником поэта в Раю. Петрарку же больше волнует не добродетель Лауры, а её красота: «белокурые волосы, молочная белизна шеи, пылающие щёки, ясные очи, нежное лицо». Для него это всё-таки реальная женщина с «золотыми кудрями, розовыми пальцами…» на фоне прекрасной природы – совершенный женский образ, напоминающий мадонн с полотен художников итальянского Ренессанса. Ни в одном из сонетов мы не встретим Лауру в стенах собора или на фоне городского пейзажа. Мы видим её у реки, среди холмов, в саду, на цветущем лугу… Героиню Петрарки всегда окружают простор, открытое, ярко освещённое солнцем пространство:
Прелестные цветы
Ей на колени, томной,
Серебряным дождём с ветвей струились.
Средь этой красоты
Она сидела скромно:
Цветы любовным нимбом серебрились.
На лоно ей ложились,
Блестели в волосах
И, сочетаясь с ними,
Казались золотыми.
И на траве – цветы, и на волнах,
И, рея величаво,
Цветы шептали: "Здесь Любви держава". (119)
(«На жизнь мадонны Лауры». CXXVI "Прохладных волн кристалл…" Перевод Е. Солоновича)
Это похоже на образ святой, над головой которой возвышается нимб, только это нимб из цветов. Цветы здесь предстают как часть природы, воплощение наиболее совершенной её стороны. Петрарка подчеркивает: один цветок лёг на землю, другой на воду, третий свободно парил в воздухе… Это различные природные стихии – земля, вода, воздух, на фоне которых возникает образ прекрасной женщины как явление некоей идеальной земной красоты и гармонии.
Различие в отношениях Данте к Беатриче и Петрарки к Лауре, может быть, наиболее наглядно выступает в стихотворении Петрарки, посвящённом смерти Лауры. Данте, как это описано в «Новой жизни», смерть Беатриче видит во сне. Но это не просто уход человека из жизни – это видение божества, которое покидает земной мир:
И я узнал ещё о дивном многом
В том буйном сне, который влёк меня:
Я пребывал в стране неизъясненной,
Я видел донн, бегущих по дорогам,
Простоволосых, плача и стеня,
И мечущих какой-то огнь нетленный.
Потом я увидал, как постепенно
Свет солнца мерк, а звезд – сиял сильней;
Шёл плач из их очей,
И на лету пернатых смерть сражала,
И вся земля дрожала,
И муж предстал мне, бледный и согбенный,
И рек: "Что медлишь? Весть ли не дошла?
Так знай же: днесь мадонна умерла!"
Смерть Беатриче – некая космическая катастрофа, масштаб которой таков, что меркнет солнце:
Подняв глаза, омытые слезами,
Я увидал, как улетает в высь
Рой ангелов, белея словно манна;
И облачко пред ними шло как знамя,
И голоса вокруг его неслись,
Поющие торжественно: "Осанна!"
(Пер. с итал. Ф. Эфроса)
Беатриче возносится вместе с ангелами на небеса, как бы приобщаясь к миру божественному. Впрочем, она и прежде была для Данте частью запредельного, нездешнего…
А вот как Петрарка изображает смерть Лауры. Он, конечно, хорошо знал стихотворение Данте, вероятно, даже внутренне опирался на него, но изобразил всё иначе. Сначала приведу сонет в стихотворном переводе Осипа Мандельштама, а затем в более близком к оригиналу подстрочнике. Дело в том, что стихи вообще плохо переводимы, и каждый переводчик очень вольно их истолковывает. Вот как, например, это делает Мандельштам:
Речка, распухшая от слёз солёных,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зелёных;
Дол, полный клятв и шёпотов калёных,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах —
Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я. Как бы внутри гранита,
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,
Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.
(Декабрь 1933 – январь 1934)
В более точном прозаическом изложении это звучит так: «Долина, что жалобами моими полна, …река, что часто от плача моего набухает, …воздух, который от моих вздохов – тёплый и прозрачный, …холм, что был мне мил, а теперь мне безотраден… Здесь я видел моё благо и по этим следам возвращаюсь туда, откуда, к небу шагая, взошла она, оставив на земле свою прекрасную оболочку». В целом это очень похоже на стихотворение Данте. Лаура здесь тоже возносится на небеса. Однако обратите внимание на две вещи. Первое: здесь присутствует местоимение «Я». Там – донны плачут, свет солнца меркнет, дрожит земля – совершается некая космическая катастрофа. А здесь – «река, что часто от плача моего набухала, воздух от моих вздохов тёплый, холм, что был мне мил, а теперь мне безотраден» – в центре стоит «Я» поэта. В стихотворении Петрарки представлено его собственное, глубоко личное переживание, его личная трагедия.
И второе. Лаура покинула мир… Но к чему здесь прикован взгляд поэта? К земле – к тому месту, где она оставила свою смертную оболочку. Он не на небо смотрит, которое приняло её душу, а на землю. Поэтому это одновременно и близко и далеко от стихотворения Данте.
А теперь коротко о трактате Петрарки, который носит название «Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру» (1343). Это некая исповедь, своего рода диалог между Петраркой и одним из отцов христианской церкви – Блаженным Августином. Кстати, Августин тоже в своё время писал исповедь. Поэтому не случайно, что Петрарка выбирает именно его в качестве своего воображаемого собеседника. Но этот диалог с Августином, на самом деле, конечно, – это разговор с самим собой. И выражает он то же самое внутреннее противоречие, о котором уже шла речь, – Петрарка мог с восхищением размышлять о покорении горных вершин, и даже совершать подобные восхождения, а затем сокрушаться о тщетности всего земного.
В этом произведении как бы звучат два голоса – голос Петрарки, голос его «Я» и голос Блаженного Августина. Августин выражает религиозно-церковный взгляд на мир – это идеальный человек, который наложил на свою душу узду разума, который может сказать, что у него нет ничего общего с бренным и материальным. Сам он жаждет лишь некоего высшего духовного счастья.
Вообще, Петрарку очень волнует проблема смерти, она его всегда занимала. В одном из писем он заметит: «Словом, если кратко подытожить, я знаю, что поднимаюсь, чтоб опуститься, расцветаю, чтоб увянуть, мужаю, чтоб состариться, живу, чтоб умереть» (Почтенному старцу Раймунду Суперану, правоведу, о нестойком цвете лет). Его волнует смерть и, само собой, он очень любит жизнь. Он знает, что всё закончится: молодость пройдет, жизнь… Но не муки Ада его страшат, его тревожит скорее непрочность, краткость человеческой жизни вообще. Его волнует земное, а не небесное.
Одна из главных тем разговора с Блаженным Августином – это Лаура. Блаженный Августин говорит Петрарке, что его любовь к Лауре – лишь страстное стремление к земному благу. Петрарка пытается объяснить, что он любит её душу. Но Блаженный Августин отвечает: «Если ты можешь любить то, что является твоему взору, значит, ты любишь тело». Петрарка говорит, что душу он не отделяет от тела… Но Блаженный Августин настаивает на своем: «Она отдалила твою душу от любви к вещам небесным и отвратила твои желания с Творца на творение, а это и есть самая покатая дорога к смерти».(120)
«Нельзя быть привязанным к смертному, конечному», – заключает Августин. «Я найду утешение в воспоминаниях о прошедших годах», – продолжает настаивать Петрарка, ведь именно любовь к Лауре сделала его поэтом. Именно она пробудила его полусонный дух.
И здесь возникает ещё одна очень важная тема, связанная с именем Лауры. «Ты жаждешь славы», – заключает Блаженный Августин. (Этот мотив, как я уже отметил, подчеркивал и Боккаччо). И Петрарка соглашается: «Да – это правда! Я не мечтаю стать богом. Я не мечтаю о бессмертии, мне довольно людской славы, я её жажду и, смертный, сам желаю лишь смертного». Спор закончился. Ничем. «Но да будет так, – сказал Блаженный Августин, – раз не может быть иначе». Голос Августина и свой собственный – это как бы два равнозначных, равновесных голоса, живущих в душе автора.
Подобная противоречивость находит выражение и в лирике Петрарки. Все лучшие стихи к Лауре проникнуты этой двойственностью. Петрарка и сам не знает, что такое эта любовь:
Коль не любовь сей жар, какой недуг
Меня знобит? Коль он – любовь, то что же
Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!..
Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..
На что ропщу, коль сам вступил в сей круг?
Коль им пленен, напрасны стоны. То же,
Что в жизни смерть, – любовь. На боль похоже
Блаженство. "Страсть", "страданье" – тот же звук.
Призвал ли я иль принял поневоле
Чужую власть?.. Блуждает разум мой.
Я – утлый челн в стихийном произволе.
И кормщика над праздной нет кормой.
Чего хочу – с самим собой в расколе, -
Не знаю. В зной – дрожу; горю – зимой.
(CXXXII. Перевод Вяч. Иванова)
В другом стихотворении Петрарка пишет:
Не жажду мира – не влекусь к войне;
Страшусь и жду; горю и леденею;
От всех бегу – и все желанны мне;
Лечу горе – и в прахе цепенею;
Томлюсь в тюрьме – но нет желез в окне;
Открыта дверь – но я бежать не смею:
Любви – не раб и не чужой вполне,
Я не в цепях и не отпущен ею.
Гляжу без глаз; кричу без языка;
На гибель рвусь – и к помощи взываю;
Себе я враг – и дорог мне чужой,
Мне пищей – скорбь, веселием – тоска;
И жизнь и смерть равно я отклоняю:
Вот что вы, донна, сделали со мной!
(CXXXIV. Пер. с итальянского А.Эфроса)
В стихах Петрарки возникают мотивы, каких не могло быть у Данте:
Есть существа с таким надменным взглядом,
Что созерцают солнце напрямик;
Другие же от света прячут лик
И тянутся к вечеровым отрадам;
И третьи есть, отравленные ядом
Любви к огню; и пыл их так велик,
Что платят жизнью за желанный миг, –
Судьба дала мне место с ними рядом!
Поистине, мне вынести невмочь
Сиянья донны, ни найти укрытья
Средь темноты, когда наступит ночь;
И немощный, слезящийся свой взор
Веленьем рока должен к ней стремить я,
Так сам себя веду я на костёр! (121)
(CXXXIV. Пер. с итальянского А. Эфроса)
Различие между Данте и Петраркой довольно точно определил А.С Пушкин в своём знаменитом стихотворении «Сонет»: «Суровый Дант не презирал сонета…» Данте в сознании людей остается суровым автором «Божественной комедии», строгим судьей мира. Изображение же любви впервые появляется именно в лирике Петрарки. Это сонеты, в которых «жар любви Петрарка изливал». И, кроме того, для него самым важным всегда оставалась сама поэзия. Я уже говорил, Петрарку, как, наверное, вообще любого человека, волнует тема смерти. Но для Данте она неразрывно связана с образом загробного мира. А что такое смерть для Петрарки? Это вечное забвение. Откуда смерть берёт свое начало? С того самого момента, когда человека забывают, считает Петрарка. И потому главное для него – это его поэзия, которая способна даровать бессмертие. Петрарка стремится обессмертить себя словом, и в этом смысле он предвосхищает литературу Нового времени.
Джованни Боккаччо
Выдающийся писатель раннего итальянского Возрождения родился в 1313 году в городке Чертальдо близ Флоренции, умер в 1375 в Тоскане, лишь на год пережив своего старшего современника и друга Петрарку (их личное общение и переписка продолжались многие годы). Боккаччо был внебрачным сыном влиятельного флорентийского купца и некой знатной француженки, о которой нам почти ничего не известно. Мы знаем лишь, что Боккаччо практически с младенчества рос и воспитывался в доме отца. С ранних лет Боккаччо проявлял интерес к поэзии, к литературному творчеству: по его собственному признанию стихи он начал сочинять с тех самых пор, как только выучил буквы. Но отец всеми силами старался направить развитие сына по торгово-финансовой стезе: на десятом году жизни отдал обучаться купеческому делу, а когда Джованни исполнилось четырнадцать, забрал с собой в Неаполь осваивать каноническое право и набираться опыта при отделении флорентийского банка Барди, совладельцем которого он являлся.
Но вопреки ожиданиям Неаполь открыл для Боккаччо совершенно иные жизненные горизонты. Заведение Барди обеспечивало основную финансовую поддержку Роберту Анжуйскому, просвещенному неаполитанскому монарху, слывшему подлинным покровителем наук и искусств своего времени. Благодаря положению отца, Джованни был принят при дворе короля, где его природный талант и интерес к поэзии получили наконец необходимую поддержку: он мог общаться с художниками, учёными, философами, посещать королевскую библиотеку с богатейшим собранием древних и современных книг…
К 1336 году произошло знакомство Боккаччо с Марией д`Аквино, адресатом и вдохновительницей его первых серьезных литературных опытов. Согласно легенде, которую поддерживал сам Боккаччо, Мария была внебрачной дочерью короля Роберта. Эта встреча произошла в страстную субботу в церкви Сан-Лоренцо – ровно через десять лет после знаменитой встречи Петрарки с Лаурой в церкви Санта-Клара в Авиньоне…
Однако отношения Боккаччо с этой женщиной совсем не походили на отношения Петрарки и Лауры, и уж тем более Данте и Беатриче. Довольно скоро куртуазное служение даме переросло в любовную связь, и столь же скоро возлюбленная изменила Боккаччо. Видимо, для красавицы-аристократки это была не самая подходящая партия. Боккаччо, тяжело переживавший разрыв, к тому же лишившийся финансовой поддержки, покинул Неаполь. Отец настоял на скорейшем возвращении Боккаччо во Флоренцию, где тот мог бы самостоятельно зарабатывать на жизнь, выполняя различные дипломатические поручения от имени республики.
Вообще, тот временной промежуток, что отделяет Боккаччо от поколения Петрарки, и уж тем более годы, отделяющие его от Данте, который умер, когда Боккаччо исполнилось всего лишь семь лет, оказался значительным. Бокаччо очень любил Данте. О Петрарке такого сказать нельзя: он с Данте скорее соревновался. А вот Боккаччо действительно любил Данте, и именно он установил традицию, которая по сей день поддерживается во Флореции – проведение ежегодных мероприятий, посвященных творческому наследию Данте. Стараниями Боккаччо во Флоренции была учреждена специальная научная кафедра. Боккаччо начал работу над комментарием к «Божественной комедии» (правда, успел охватить лишь первые 17 песен), написал первую биографию "Жизнь Данте Алигьери" («Малый трактат в похвалу Данте») (ок. 1360, изд. 1477). Эта книга основана на материалах и сведениях, предоставленных близкими друзьями и родственниками великого поэта. (122)
Но когда читаешь это сочинение Боккаччо, особенно остро ощущаешь, насколько далёк от него мир Данте.
Вот, к примеру, как Боккаччо описывает важнейший эпизод жизни своего великого предшественника – встречу будущего поэта с Беатриче. Данте впервые увидел юную Беатриче во время майского праздника. «Ласковое небо украшало своим светом землю, заставляя… смеяться яркими цветами среди зелени деревьев». В такой праздничной обстановке, полной «прекрасной музыки, всеобщего веселья, изысканных кушаний и вин», по мнению Боккаччо, Данте полюбил Беатриче. «Она была хорошеньким ребёнком, с весьма приятным обращением, помимо красоты обладала такой чистотой и привлекательностью, что многие её считали как бы ангелочком». «Беатриче умерла рано, а что тут удивительного – много ли человеку надо, чтобы умереть: стоит простыть или перегреться. Чтобы утешить Данте, ему подыскали жену. Смешно думать, что муки любви можно излечить при помощи женитьбы. Но можно себе представить, сколько страданий скрывают от нас стены семейного дома, страданий, воспринимаемых иногда как сплошные радости».
В сущности, Боккаччо переводит мир высокой поэзии Данте на язык обыденной, бытовой реальности. Всю эту глубинную символику, аллегоричность…
Среди наиболее значительных произведений, написанных Боккаччо на итальянском языке, – повесть «Фьяметта» (1343, изд. 1472). В этой книге Боккаччо изображает свою личную душевную драму, свои взаимоотношения с Марией. Повествование ведётся от лица главной героини, Фьяметты, которую оставляет любовник. И здесь следует особо отметить: чтобы автор-мужчина решился вложить свои личные переживания в уста женщины, – до Боккаччо подобное было исключено. Женщина – это идеал. Данте и Петрарка никогда не посмели бы говорить от имени Беатриче или Лауры. А вот Боккаччо ничего не стоило представить коллизии собственной жизни как драму покинутой женщины.
С 1340-х вплоть до 1371 Боккаччо работал над «Генеалогией языческих богов» (энциклопедический труд на латинском языке из 15 книг, первая редакция ок. 1360), создал трактаты «О горах, лесах, источниках, озёрах, реках, болотах и морях» (начат около 1355—1357); «О несчастиях знаменитых людей» (ок. 1360); «О знаменитых женщинах» («De claris mulieribus», начат ок. 1361) (книга включает в себя более сотни биографий – от Евы до королевы Иоанны Неаполитанской), написал четыре больших поэмы…
Однако главное произведение Боккаччо, на котором основана его мировая слава, – сборник новелл «Декамерон» (1348-1353, изд. 1471). Эта книга – наиболее важный памятник эпохи раннего итальянского Ренессанса. Хочу начать с заставки, своего рода преамбулы, которой она открывается: «Начинается книга, называемая Декамерон, прозванная Principe Galeotto, в которой содержится сто новелл, рассказанных в течение десяти дней семью дамами и тремя молодыми людьми».(123)
Здесь звучат прямые реминисценции из Данте. «Новая жизнь» Данте предваряется словами: «Incipit vita nova». Для читателей того времени это была прямая отсылка.
В книге Боккаччо 100 новелл, столько же, сколько и песен в «Божественной комедии». Десять молодых людей в течение десяти дней рассказывают друг другу истории – всего сто историй, или новелл. Кроме того, сам состав рассказчиков – семь женщин и трое мужчин – тоже важная деталь, на которую следует обратить внимание. Вообще, более естественным, наверное, было бы другое сочетание, чтобы мужчин и женщин было поровну. Но для Боккаччо десять – это именно семь плюс три, а не пять и пять. Это дантовское понимание символики числа десять. Далее сказано, что книга прозвана Principe Galeotto (буквально «сводник»), а это – прямая отсылка к истории Паоло и Франчески, которых некогда соединила книга. В пятой песне «Божественной комедии» есть такие строчки: «И книга стала нашим Галеотом! Никто из нас не дочитал листа». Книга Боккаччо подобна той, которую читали когда-то герои поэмы Данте.
И ещё. Большинство сюжетов «Декамерона» заимствовано из средневековых городских новелл. Книга же, которую читали Паоло и Франческа, – это рыцарский роман «Лонцелот». Вообще, рыцарская и городская литературы – своего рода полюса. Но у Боккаччо они сближены. И, наконец, само название «Декамерон»… Оно образовано от греческих слов «десять» и «день», т. е. десятидневник. И это создает ещё один смысловой пласт книги – античный. В Средние века существовал очень популярный жанр гексамерон – так назывался сборник новелл, шестидневник. Шестерка ассоциировалась с шестью днями божественного творения. Но Бокаччо называет свою книгу несколько иронически «Декамерон». Таким образом, уже в самом её названии соединилось множество важных отсылок и мотивов.
Книга имеет раму. В ней есть предисловие и заключение. Сами новеллы представлены от лица героев, но в предисловии и в заключении выступает сам автор. Два слова хочу сказать о предисловии. Оно обращено к дамам. Боккаччо подчеркивает, что его книга предназначена именно для «слабого пола», для женщин, которых ему хотелось бы «приободрить и развлечь». Дело в том, что в жизни мужчин присутствует немало разных развлечений. Влюблённые мужчины, «если их постигнет грусть или удручение мысли, <…> могут гулять, слышать и видеть многое, охотиться за птицей и зверем, ловить рыбу, ездить верхом, играть или торговать…», в то время как женщины, «связанные волею, капризами, приказаниями отцов, матерей, братьев и мужей, …большую часть времени проводят в тесной замкнутости своих покоев», «от страха и стыда таят в нежной груди любовное пламя». (124)
Так вот, чтобы найти хоть какое-то утешение, Боккаччо предлагает дамам читать свою книгу. Она написана специально для них.
В книге есть ещё одно очень важное авторское вступление, предваряющее новеллы четвёртого дня. Это единственная история, которая представлена в «Декамероне» от лица автора, поэтому она необыкновенно важна для понимания произведения в целом, несёт в себе некий программный смысл. В этой новелле говорится о человеке, по имени Филиппе, который жил некогда во Флоренции. У героя, незнатного, но весьма состоятельного, рано умерла жена, и он остался один с малолетним сыном. Охваченный горем, Филиппе решил навсегда удалиться от мирского. «…Раздав всё своё имущество во имя божие, он тотчас же ушёл на гору Азинайо, поместился здесь в одной келейке с своим сыном и, живя с ним от милостыни и в молитвах, особенно остерегался говорить в его присутствии о каком бы то ни было мирском деле, ни показывать ему что-либо подобное, дабы это не отвлекало его от такого служения; напротив, он всегда беседовал с ним о славе вечной жизни, о боге и святых, ничему иному не обучая его, как только молитвам; в такой жизни он продержал его много лет, никогда не выпуская его из кельи и никого не давая ему видеть, кроме себя».(125)
И вот однажды, когда отец стал уже довольно стар и ему было не под силу в одиночку преодолевать путь до Флоренции, он взял с собой сына, которому к тому времени уже исполнилось восемнадцать. Юноша впервые увидел «дворцы, дома, церкви и всё другое, чем полон город и чего он, насколько хватало памяти, никогда не видел». В изумлении он то и дело спрашивал отца, – что это такое и как зовётся? Отец отвечал…
Но тут случилось им встретить толпу «разодетых женщин, возвращавшихся со свадьбы». Увидев их, парень обратился к отцу: "А что это такое?" На что отец ответил: «Сын мой, опусти долу глаза, не гляди на них, ибо это вещь худая». Тогда сын спросил: «А как их звать?» Отец, дабы не возбудить в чувственных вожделениях юноши какой-нибудь плотской склонности и желания, не захотел назвать их настоящим именем, то есть женщинами, а сказал: «Их звать гусынями». И вот что дивно послушать: сын, никогда дотоле не видевший ни одной женщины, не заботясь ни о дворцах, ни о быке или лошади и осле, либо о деньгах и другом, что видел, тотчас сказал: «Отец мой, прошу вас, устройте так, чтобы нам получить одну из этих гусынь». – «Ахти, сын мой, – говорит отец, – замолчи: это вещи худые». – «Разве худые вещи таковы с виду?» – спросил юноша. «Да», – ответил отец. Тогда он сказал: «Не знаю, что вы такое говорите и почему эти вещи худые; что до меня, мне кажется, я ничего ещё не видел столь красивого и приятного, как они. Они красивее, чем намалеванные ангелы, которых вы мне несколько раз показывали. Пожалуйста, коли вы любите меня, дайте поведём с собой туда наверх одну из этих гусынь, я стану её кормить». Отец сказал: «Я этого не желаю, ты не знаешь, чем их и кормить», – и он тут же почувствовал, что природа сильнее его разума, и раскаялся, что повёл его во Флоренцию». (126)
Это одна из центральных тем книги: нельзя противиться законам природы. «Таких сил, сознаюсь, у меня нет, и я не желаю обладать ими для этой цели», – утверждает сам автор. (127)
«Декамерон» открывается вводной новеллой. В этой новелле Боккаччо изображает событие, произошедшее на самом деле – эпидемию бубонной чумы, охватившую Европу в 1348 году. Это не выдумано автором. Но на момент описываемых в книге событий Боккаччо было 35 лет, он пребывал в том самом возрасте, в котором Данте якобы приступил к созданию своей «Божественной комедии». Вообще, такие параллели для Боккаччо необыкновенно существенны. Смертельной эпидемии посвящена вводная новелла «Декамерона», и это – вторая рама книги.
Сохранилось историческое свидетельство современника Боккаччо, Маттео Виллани, который рассказывает о людских нравах в разгар бедствия, унесшего жизни 25 миллионов человек…: «Сладострастие не знало узды, явились невиданные, странные костюмы, нечестные обычаи, даже утварь преобразили на новый лад. Простой народ, вследствие общего изобилия, не хотел отдаваться обычным занятиям, притязал лишь на изысканную пищу; браки устраивались по желанию, служанки и женщины из черни рядились в роскошные и дорогие платья именитых дам, унесённых смертью. Так почти весь наш город (Флоренция) неудержно увлёкся к безнравственной жизни; в других городах и областях мира было и того хуже». (128) Чума здесь как бы снимает все запреты.
Сам Боккаччо, описывая мир, охваченный чумой, тоже говорит о том, что нравственные нормы в этот период оказались точно отброшены. Сама жизнь коренным образом изменила нравы горожан. Люди «предоставили и себя и своё имущество на произвол, точно им больше не жить» <…> заболевали многие и повсюду.<…> Не станем говорить о том, что один горожанин избегал другого, что сосед почти не заботился о соседе, родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись издали: бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата и нередко жена мужа; более того и невероятнее: отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети». (129)
В десятой новелле шестого дня один из героев, говоря о происходящем во Флоренции, замечает: «Разве вы не знаете, что у нас теперь такое страшное время, когда судьи покинули суды, когда законы, как божеские, так равно и человеческие, безмолвствуют и когда каждому предоставлено право любыми средствами бороться за жизнь?» (цитата приводится в переводе Н. Любимова). В разгар чумы «всякому было позволено делать всё, что заблагорассудится». (130)
Порой это обретало весьма причудливое выражение. К примеру, даже для самых почтенных горожан не было неприличным, заголившись, ходить со штанами на голове. Боккаччо рисует здесь на первый взгляд очень странный образ. Согласитесь, надевать штаны на голову – вряд ли хороший способ уберечься от чумы. Но, вероятно, он хочет сказать этим нечто другое. Здесь возникает аналогия с карнавалом, когда всё делается не так, как следует, выворачивается наизнанку. В охваченной смертоносной чумой Флоренции царит та же атмосфера, что и во время карнавала. Это мир, как бы пришедший в состояние хаоса. Всё, что прежде было незыблемым, устоявшимся, вдруг утратило всякую силу.
Герои «Декамерона» – семь женщин и трое мужчин, благовоспитанные, благородные, красивые, образованные, собрались в церкви (сначала – женщины, а потом к ним присоединились мужчины) и приняли решение покинуть Флоренцию. Они договорились, что остановятся в одном из загородных домов, опустевших во время эпидемии, и там, на лоне природы, попытаются пережить бедствия. Герои договорились, что будут приятно проводить время. А заключаться это будет в том, что они станут по очереди рассказывать друг другу истории, ежедневно избирая королеву или короля, задающих тему рассказа. Иногда это может быть и свободная тема… Таким образом, каждому предстоит однажды возглавить собрание и по заведённому порядку предаться рассказу…
И здесь мы подходим к ещё одному важному смысловому пласту «Декамерона», связанному с образами этих молодых людей, их времяпровождением и описанием мира, который их окружает. Боккаччо рисует здесь некий идеальный мир, в котором царит полная гармония природы и культуры, порядка и свободы. Хочу привести только один пример, относящийся у концу шестого дня. Это описание так называемой Долины Дам, взглянуть на которую отправились героини в сопровождении служанок: «Они вступили в неё довольно узкой дорогой, с одной стороны которой бежал светлый поток, и увидели, что она так прекрасна и прелестна, особенно в ту пору, когда стояла большая жара, как только можно было себе представить. <…> Поверхность долины была такая круглая, точно она обведена циркулем, хотя видно было, что это – создание природы, а не рук человека; она была в окружности немного более полумили, окружена шестью не особенно высокими горами…
Откосы этих пригорков спускались к долине уступами, какие мы видим в театрах, где ступени последовательно располагаются сверху вниз, постепенно суживая свой круг. Уступы эти, поскольку они обращены были к полуденной стороне, были все в виноградниках, оливковых, миндалевых, вишневых, фиговых и многих других плодоносных деревьях, так что и пяди не оставалось пустою. Те, что обращены были к Северной Колеснице, были все в рощах из дубов, ясеней и других ярко-зелёных, стройных, как только можно себе представить, деревьев, тогда как долина, без иного входа, кроме того, которым прошли дамы, была полна елей, кипарисов, лавров и нескольких сосен, так хорошо расположенных и распределённых, как будто их насадил лучший художник». (131)
Итак, здесь всё необыкновенно естественно и гармонично. Даже деревья растут таким образом, будто бы их сознательно «насадил лучший художник». Это полное единство искусства и природы.
На следующее утро, а это уже начало седьмого дня, герои вновь вышли на прогулку к тому же самому месту: «Лучи солнца едва пробивались, когда все пустились в путь; никогда ещё, казалось им, соловьи и другие птички не пели так весело, как в то утро; сопровождаемые их песнями, они дошли до Долины Дам, где их встретило ещё большее количество птичек, радовавшихся, казалось, их прибытию. Когда они обошли долину и снова осмотрели её, она показалась им ещё красивее, чем в прошлый день, потому что время дня более соответствовало её красоте. Разговевшись хорошим вином и печеньем, они принялись петь, дабы не отстать от птичек, <…> а все пташки, точно не желая быть побеждёнными, присоединяли к ним новые, сладкие звуки».(132)
Пение птиц и голоса людей здесь тоже необыкновенно созвучны, органично сливаются в единое целое. Возникает образ некоего идеального, гармоничного мира, который может возникнуть из хаоса.
Однако главное содержание «Декамерона» – это изображение мира, пока ещё погруженного в хаос.
В числе особенностей книги Боккаччо – критика духовенства. Многие сюжеты «Декамерона» были заимствованы из произведений городской литературы, где столь же часто встречается этот мотив. Однако образы монахов в «Декамероне» резко отличаются от персонажей городской литературы. Дело в том, что в последних нормы монашеской жизни, как таковые, никогда не ставились под сомнение, а у Боккаччо критикуются сами нормы. Герой первой новеллы третьего дня – Мазетто, прикинувшись немым, поступает садовником в женский монастырь, и вскоре все послушницы этого монастыря, включая игуменью, становятся его любовницами. В конце концов, он просто не выдерживает и спасается бегством…
Очень характерна четвёртая новелла третьего дня. Здесь изображается семейная пара: богатый человек по имени Пуччьо, до того набожный, что все звали его «брат Пуччьо», который только и знал, что «слушал проповеди, выстаивал обедни, никогда не пропускал случая быть на духовном пении мирян, постился и бичевался», и «жена его, по имени Изабетта, ещё молодая, двадцати восьми – тридцати лет, свежая и красивая, пухленькая, как красное яблочко». Женщина «по святости мужа, а может быть, и по его старости, очень часто выдерживала более продолжительную диету, чем того желала, и когда ей хотелось спать, а может быть, и позабавиться с ним, он рассказывал ей про жизнь Христа, <…> или о плаче Магдалины и другие подобные вещи…». (133)
Между тем из Парижа приехал монах Дон Феличе, «молодой, красивый собою, острого ума и глубоких знаний», и брат Пуччьо очень с ним подружился. Монах стал частым гостем в доме брата Пуччьо и, «видя жену его такой свежей и кругленькой, …догадался, в чём она наиболее ощущала недостаток, и задумал, коли возможно, свалив работу с брата Пуччьо, взять её на себя. Раз и другой косясь на неё довольно плутовато, он таки добился того, что зажёг в её сердце то же вожделение, какое было у него. Заприметив это, монах при первом удобном случае переговорил с ней о своём желании, но, хотя он и нашёл её вполне готовой увенчать дело, способа к тому не находилось, потому что она не решалась сойтись с монахом ни в каком месте на свете, кроме своего дома, а дома это было невозможно, так как брат Пуччьо никогда не выезжал из города, что сильно печалило монаха». (134)
Пуччьо очень беспокоило, попадёт ли он в Рай. Он истово искал путь к райскому блаженству. И монах посоветовал ему наложить на себя своего рода эпитимью: каждую ночь взбираться на крышу дома и замаливать грехи перед Господом. А пока тот молился на крыше, монах проводил время с его женой. По этому поводу Боккаччо замечает: «В то время как брат Пуччьо, исполняя покаяние, думал попасть в рай, он отправил туда монаха, указавшего ему короткую дорогу, и жену, жившую при нём в большом недостатке того, чем монах, как человек милосердный, наделял её в изобилии». (135) Сам Боккаччо здесь, конечно же, сочувствует монаху и Изабетте, а вовсе не Пуччьо.
Очень показательна восьмая новелла пятого дня. Действие происходит в Равенне. Главный герой этой новеллы – знатный юноша Настаджио – влюбился в девушку необычайной красоты, ещё более родовитую, чем он сам, совершал ради неё прекрасные и похвальные поступки, тратил деньги без счёта, однако ж та и смотреть на него не хотела. Наконец родные его и друзья рассудили, что так он «одинаково расстроит и своё здоровье, и своё состояние» и начали просить Настаджио уехать из Равенны, некоторое время пожить где-нибудь ещё, пока не остынут и страсть любовная, и страсть к расточительству. Настаджио долго оборачивал дело в шутку, однако ж, в конце концов, сдался на уговоры.
И вот однажды, велев своим приближенным оставить его одного, чтобы ничто не отвлекало от мыслей о надменной и гордой возлюбленной, Настаджио побрёл куда глаза глядят. Он и не заметил, как очутился в сосновом бору. «Вдруг ему показалось, что он слышит страшный плач и резкие вопли, испускаемые женщиной; его сладкие мечты были прерваны, и, подняв голову, чтобы узнать, в чём дело, он <…> увидел бежавшую к месту, где он стоял, через рощу, густо заросшую кустарником и тернием, восхитительную обнажённую девушку с растрёпанными волосами, исцарапанную ветвями и колючками, плакавшую и громко просившую о пощаде. Помимо этого, он увидел по сторонам её двух громадных диких псов, быстро за ней бежавших и часто и жестоко кусавших её, когда они её настигали, а за нею на вороном коне показался тёмный всадник, с лицом сильно разгневанным, со шпагой в руке, страшными и бранными словами грозивший ей смертью. Всё это в одно и то же время наполнило его душу изумлением и испугом и, наконец, состраданием к несчастной женщине, <…> он бросился, чтобы схватить ветвь от дерева вместо палки, и пошёл навстречу собакам и всаднику. Но тот, видя это, закричал ему издали: «Не мешайся, Настаджио, дай псам и мне исполнить то, что заслужила эта негодная женщина». <…> Я родом из того же города, что и ты, и ты был ещё маленьким мальчиком, когда я, которого тогда звали Гвидо дельи Анастаджи, был гораздо сильнее влюблён в ту женщину, чем ты в Траверсари, и от её надменности и жестокости до того дошло моё горе, что однажды этой самой шпагой, которую ты видишь в моей руке, я, отчаявшись, убил себя.... Немного прошло времени, как эта женщина, безмерно радовавшаяся моей смерти, скончалась и за грех своего жестокосердия и за радость, какую она ощутила от моих страданий, не раскаявшись в том, ибо считала, что не только тем не погрешила, но и поступила как следует, осуждена была на адские муки. И как только она была ввержена туда, так мне и ей положили наказание: ей бежать от меня, а мне, когда-то столь её любившему, преследовать её, как смертельного врага, а не как любимую женщину…». (136)
Этот мотив тоже заимствован из средневекового рассказа. Но там была совершенно другая мотивировка: герой и его дама, жена некоего рыцаря, «с общего согласия впали в грех», который довёл даму до убийства мужа, «чтобы свободнее было творить худое». Так «прибывали они в грехе до смертного недуга». Господь заменил им ад чистилищем, и таким образом они совершали своё посмертное очищение. У Боккаччо же всё иначе. Дама узнала о том, что может случиться, если она и дальше станет пренебрегать чувствами Настаджио. В тот же вечер, «сменив свою ненависть на любовь», она объявила родителям, что хочет выйти замуж за Настаджио. «В следующее же воскресенье Настаджио… повенчался с ней, и долго жил с ней счастливо». Итак, видение оказалось более чем действенным, поскольку «не одно только это благо породил тот страх, но все другие жестокосердые равеннские дамы так напугались, что с тех пор стали снисходить к желаниям мужчин гораздо более прежнего». (137)
Ещё одна история (десятая новелла седьмого дня). Двое друзей, влюблённых в одну и ту же женщину, куму одного из героев, договорились: если один из них покинет этот мир раньше, то обязательно найдёт способ сообщить оставшемуся, как живётся на том свете. «Ходя, как то все делают, по церквам и проповедям, они часто слышали о славе или горе, уготованном <…>, смотря по заслугам, душам умерших». (138)
И вот один из друзей скончался, а на третий день действительно явился живому. Тот начал подробно расспрашивать, какое наказание влечёт за собой каждый содеянный при жизни грех, и обретается ли почивший «в числе осуждённых душ в неугасаемом адском огне?»… А умерший ему на это отвечает: «Брат мой, когда я прибыл туда, <…> весь дрожал от страха. Когда увидел это кто-то, бывший со мной рядом, сказал мне: „Что ты учинил большего против других, здесь обретающихся, что дрожишь, стоя в огне?“ – „О друг мой, – сказал я, – я страшно боюсь осуждения, которого ожидаю за великий, когда-то совершённый мною грех“. Тогда тот спросил меня, что это за грех; на это я отвечал: „Грех был такой, что я спал с одной своей кумой, и спал так, что уходил себя“. Тогда тот, глумясь надо мною, сказал: „Пошёл, глупец, не бойся, ибо здесь кумы в расчёт не берутся“. (139)
И с тех пор, узнав, что при посмертном суде «кумы в расчёт не берутся», герой «совсем успокоился» и уже не тратил времени даром, понял, что может наслаждаться жизнью, не страшась, что кто-то на небесах его за это потом покарает. Таков первый план «Декамерона».
Исключительно важная черта новелл Боккаччо – неожиданность финала. Отчасти это заложено в самом жанре новеллы, но особенно характерно для новелл Боккаччо. Происходящее в финале всегда внезапно, неожиданно, каждый раз это некоторое «вдруг». Иногда это связано с самим сюжетом, но порой выражает и нечто более глубинное, что, может быть, составляет самую сущность произведения Боккаччо. Приведу некоторые примеры, сначала – более простые, а затем подробнее остановимся на сложных.
Седьмая новелла седьмого дня. Главный герой этой новеллы – Лодовико, сын флорентийского купца. Для того чтобы Лодовико «пошёл в именитый род <…>, а не по торговле, отец не захотел поместить его в лавку, а отдал на службу вместе с другими дворянами к французскому королю, где он научился многим добрым нравам и другому хорошему». (140)
Но однажды в беседе герой услышал о красоте некой дамы из Болоньи. «Лодовико, ещё ни в кого дотоле не влюблявшийся, возгорелся таким желанием увидеть её, что ни на чём другом не мог остановить своей мысли». (141)
Он решил во что бы то ни стало поехать в Болонью, чтобы увидеть её своими глазами. Эта тема «любви издалека» связана в новелле Боккаччо с традицией куртуазной литературы, да и само имя – Беатриче – автором выбрано тоже, конечно, не случайно.
Итак, назвавшись Аникино, герой новеллы «прибыл в Болонью и, как то устроила судьба, на другой же день увидел ту даму на одном празднестве, и она показалась ему гораздо более красивой, чем он предполагал, вследствие чего, пламенно влюбившись в неё, он решил не покидать Болоньи, пока не добьётся её любви». (142) Размышляя, какой путь для этого избрать, Аникино рассчитал, что если ему удастся сделаться слугой её мужа Эгано, то, может быть, «удастся добиться и того, чего он желал».
Долгое время Аникино верно служил Эгано и никак не проявлял своих чувств к Беатриче – та даже не подозревала, что юноша в неё влюблен. Но однажды он всё-таки решил признаться своей госпоже, что, в общем-то, не ради службы приехал в Болонью. Аникино не знал, как Беатриче воспримет его слова. А Беатриче тут же назначила ему свидание.
В назначенный час Аникино на цыпочках вошёл в комнату, запер дверь изнутри, пробрался к тому краю кровати, где лежала донна Беатриче. Она взяла его за руку, а рядом в постели – муж. Аникино испугался, заподозрив в этом какой-то подвох. Но тут женщина и спрашивает мужа: «Эгано! – кого ты считаешь самым лучшим и честным и кого наиболее любишь из всех слуг, какие у тебя в доме?» Эгано ответил: «К чему это ты меня спрашиваешь..? Разве не знаешь? У меня нет и никогда не было такого, кому бы я так доверялся, как доверяю и люблю Аникино…». (143)
Умирая от страха, Аникино попытался было сбежать, но Беатриче и не думала отпускать его руку. Говорит мужу: «Если хочешь убедиться в верности своего слуги, то надень моё платье, набрось на голову покрывало и выйди в сад, где Аникино назначил мне свидание». Эгано, кое-как натянув на себя одежды жены, спустился в сад. А потом Беатриче обратилась к Аникино: «Ступай в сад и скажи моему мужу, что на самом деле хотел меня испытать!» Аникино, притворившись, будто в темноте принял хозяина за Беатриче, обрушился на него с криком и побоями, браня за легкомыслие. И после того Эгано совершенно уверился, что ни у одного дворянина в Болонье нет такой верной жены и столь преданного слуги. «Впоследствии и он, и жена часто смеялись над этим вместе с Аникино, последний и дама получили большую возможность, чем имели бы, быть может, иначе, творить то, что было им в удовольствие и утеху, пока Аникино заблагорассудилось оставаться у Эгано». (144)
Такой финал кажется неожиданным и внешне, и внутренне. Боккаччо прибегает к довольно распространённому куртуазному сюжету, но этот сюжет оказывается в его интерпретации перевёрнутым.
Ещё один пример, более серьёзный, – десятая новелла шестого дня. В ней рассказывается о монахе-пройдохе, который собирал пожертвования по городам и селениям, показывая прихожанам различные чудодейственные реликвии. Однажды он пообещал представить верующим одну из таких «предивных святынь», а именно – перо архангела Гавриила, «которое осталось в святилище девы Марии, когда он сообщил ей в Назарете благую весть». (145)
Среди слушавших брата Чиполлу оказалось двое молодых парней, которые решили над ним подшутить: воспользовались тем, что сума монаха осталась без присмотра, выкрали перо и подложили вместо него угли. В назначенный час собрался народ, монах открывает заветный ларчик, а там вместо пера – угли. «Тем не менее, не изменившись в лице, подняв горе глаза и руки», Чиполла обратился к прихожанам: «Господи, да похвалено будет вовеки твоё могущество! <…> сам господь вложил в мои руки ларец с угольями, ибо вспоминаю теперь, что праздник св. Лаврентия будет через два дня. <…> он и велел мне взять не перо, как я того хотел, а благословенные угли, …на которых был изжарен святой».
«После того как глупая толпа некоторое время рассматривала их с удивлением, все среди великой давки стали подходить к брату Чиполла, принося лучшее подаяние, чем обыкновенно, и каждый просил его коснуться его теми углями. Потому брат Чиполла, взяв угли в руки, стал делать на их белых камзолах и на куртках и на покрывалах женщин такие большие кресты, какие только могли поместиться <…> Таким образом, не без величайшей себе выгоды, он окрестил всех жителей <…>, быстрой сметкой наглумившись над теми, кто, похитив у него перо, вздумал поглумиться над ним». (146)
Боккаччо вообще чрезвычайно высоко ценит в человеке непредсказуемость, способность всегда поступать неожиданно.
Остановимся ещё на двух новеллах «Декамерона». Во-первых, это новелла о Саладине, третья новелла первого дня. В её основу положен известный сюжет новеллино:
«Султану, нуждавшемуся в деньгах, посоветовали найти предлог, чтобы осудить одного богатого еврея, который жил на его земле, а потом забрать его несметное имущество. Султан послал за этим евреем и спросил его: "Какая вера самая лучшая?" А про себя подумал: "Если он ответит: "Иудейская", – то скажу ему, что он оскорбляет мою веру. Если же ответит: "Сарацинская", – спрошу, почему тогда он сам держится иудейской".
Но еврей, выслушав вопрос султана, ответил так: "Мой повелитель, у одного отца было три сына и был у него перстень с камнем, ценнее которого нет на свете. Каждый из сыновей просил отца, чтобы он перед своей кончиной оставил этот перстень именно ему. Отец, видя, что все они хотят одного и того же, послал за искусным ювелиром и сказал: "Сделай мне, мастер, два перстня точно такие, как этот, и вставь в них по камню, похожему на этот".
Ювелир сделал перстни столь сходными, что никто, кроме отца, не мог узнать, какой из них настоящий. Потом отец позвал одного за другим своих сыновей и каждому, втайне от других, дал перстень, так что каждый стал считать себя обладателем настоящего перстня. Правду же знал только сам отец. То же скажу тебе и о трёх верах. Только отец Всевышний знает, какая из них лучше, мы же, его сыновья, считаем хорошей каждый свою".
Султан, выслушав такой ловкий ответ и не найдя, о чём бы ещё спросить, чтобы потом осудить, отпустил его». (147)
В этой истории самое главное, разумеется, – это притча о трёх перстнях, хотя существенны и отношения между султаном и евреем, которые так и остались врагами…
Как переделал эту историю Боккаччо? Во-первых, у него она резко увеличилась в размере. «Саладин, доблесть которого не только сделала его из человека ничтожного султаном Вавилона, но и доставила ему многие победы над сарацинскими и христианскими королями, растратил в различных войнах и больших расходах свою казну; а так как по случайному обстоятельству ему оказалась нужда в большой сумме денег и он недоумевал, где ему добыть её так скоро, как ему понадобилось, ему пришёл на память богатый еврей, по имени Мельхиседек, отдававший деньги в рост в Александрии. У него, думалось ему, было бы чем помочь ему, если бы он захотел; но он был скуп, по своей воле ничего бы не сделал, а прибегнуть к силе Саладин не хотел. Побуждаемый необходимостью, весь отдавшись мысли, какой бы найти способ, чтобы еврей помог ему <…>, он посадил его рядом с собою и затем сказал: «Почтенный муж, я слышал от многих лиц, что ты очень мудр и глубок в божественных вопросах, почему я охотно желал бы узнать от тебя, какую из трёх вер ты считаешь истинной: иудейскую, сарацинскую или христианскую?» (148) Пока хочу на этом остановиться.
Здесь всё так же, как и в новеллино, но есть одна деталь, на которую нельзя не обратить внимания: у героев появились имена. Там были просто султан и еврей, а здесь – Саладин и Мельхиседек. Имя – это очень важная вещь. Прежде всего, это индивидуальность. Даже если люди обладают одинаковыми именами, всё равно каждое имя – личное. Можно объединить группу людей одним словом – допустим, девушки, студентки, но не Оли, Лены, Ани и т. д. Имя всегда индивидуально. Итак, у героев новеллы Боккаччо появились имена, и потому это уже не просто история про султана и еврея, а столкновение Саладина и Мельхиседека.
Теперь притча, которую рассказывает Мельхиседек. Он был человеком мудрым и догадался, что Саладин ищет способ поймать его на слове, поэтому решил рассказать султану такую притчу: «…жил когда-то именитый и богатый человек, у которого в казне, в числе других дорогих вещей, был чудеснейший драгоценный перстень. Желая почтить его за его качества и красоту и навсегда оставить его в своём потомстве, он решил, чтобы тот из его сыновей, у которого обрёлся бы перстень, как переданный ему им самим, почитался его наследником и всеми другими был почитаем и признаваем за наибольшего. <…> В короткое время этот перстень перешёл из рук в руки ко многим наследникам и, наконец, попал в руки человека, у которого было трое прекрасных, доблестных сыновей, всецело послушных своему отцу, почему он и любил их всех трёх одинаково. Юноши знали обычай, связанный с перстнем, и каждый из них, желая быть предпочтённым другим, упрашивал, как умел лучше, отца, уже престарелого, чтобы он, умирая, оставил ему перстень.
Почтенный человек, одинаково их всех любивший и сам недоумевавший, которого ему выбрать, кому бы завещать кольцо, обещанное каждому из них, замыслил удовлетворить всех троих: тайно велел одному хорошему мастеру изготовить два других перстня, столь похожих на первый, что сам он, заказавший их, едва мог признать, какой из них настоящий. Умирая, он всем сыновьям тайно дал по перстню. По смерти отца каждый из них заявил притязание на наследство и почёт, и когда один отрицал на то право другого, каждый предъявил свой перстень во свидетельство того, что он поступает право. Когда все перстни оказались столь схожими один с другим, что нельзя было признать, какой из них подлинный, вопрос о том, кто из них настоящий наследник отцу, остался открытым, открыт и теперь…» (149)
Эта притча очень близка к той, что приведена в новеллино, но всё-таки есть и отличие. Там отец твердо знал, какой перстень – подлинный, а здесь он и сам их плохо различает. То же, как заключил свой рассказ Мельхиседек, можно сказать и о «трёх законах, которые бог-отец дал трём народам <…>: каждый народ полагает, что он владеет наследством и истинным законом, веления которого он держит и исполняет; но который из них им владеет – это такой же вопрос, как и о трёх перстнях». (150)
Но, самое важное, – финал этой новеллы. «Саладин понял, что еврей отлично сумел вывернуться из петли, которую он расставил у его ног, и потому решился открыть ему свои нужды и посмотреть, не захочет ли он услужить ему. Так он и поступил, объяснив ему, что он держал против него на уме, если бы он не ответил ему столь умно, как то сделал. Еврей с готовностью услужил Саладину такой суммой, какая требовалась, а Саладин впоследствии возвратил её сполна, да кроме того дал ему великие дары и всегда держал с ним дружбу…» (151)
Герои новеллино были и остались врагами, а у Боккаччо враги стали друзьями. Саладин считал, что Мельхиседек ни за что не захочет ему помочь, а тот помог, ведь Саладин обратился к его свободной воле. Финал новеллы звучит неожиданно, в новеллино подобная развязка была бы невозможна.
Теперь ещё один важный момент, который хотелось бы подчеркнуть. В новеллино весь этот рассказ – только повод для изложения притчи о трёх перстнях. Он как бы не связан строго с притчей, а здесь они – неразрывны, ибо взаимопонимание, которое возникает между Мельхиседеком и Саладином, – это прообраз тех отношений, которые могли бы сложиться между приверженцами разных религий. Они могли бы сблизиться, сохраняя при этом каждый свою веру, а вовсе не враждовать. Кстати, это не лишено актуальности и по сей день…
Вообще, как правило, человек у Боккаччо никогда не бывает равен самому себе. Любовь изображается им как некое стихийное, исключительно чувственное выражение человеческой натуры. Но любовь способна изменить, духовно преобразить человека. В этом отношении очень показательна первая новелла пятого дня. Настоящее имя главного героя новеллы было Галезо, но поскольку «…ни усилиями учителя, ни ласками и побоями отца, ни чьей-либо другой какой сноровкой невозможно было вбить ему в голову ни азбуки, ни нравов и он отличался грубым и неблагозвучным голосом и манерами, более приличными скоту, чем человеку, то все звали его как бы на смех Чимоне, что на их языке значило то же, что у нас скотина. Его пропащая жизнь была великой докукой отцу, и когда всякая надежда на него исчезла, чтоб не иметь постоянно перед собой причины своего горя, он приказал ему убраться в деревню и жить там с его рабочими. Чимоне это было очень приятно, потому что нравы и обычаи грубых людей были ему более по душе, чем городские». (152)
И вот однажды Чимоне брёл из одного хутора в другой и вдруг заметил спавшую на поляне красавицу. Глядя на неё с величайшим восхищением, Чимоне «почувствовал, что в его грубой душе, куда не входило до тех пор, несмотря на тысячи наставлений, никакое впечатление облагороженных ощущений, просыпается мысль, подсказывающая его грубому и материальному уму, что то – прекраснейшее создание, которое когда-либо видел смертный». (153)
Сражённый видением красоты, Чимоне впервые в жизни ощутил, что влюблён и должен во что бы то ни стало добиться взаимности. В очень короткое время мужлан, на удивление всем, кто его знал, стал другим. «Во-первых, он попросил отца дать ему такие же платья и убранство, в каких ходили и его братья, что тот сделал с удовольствием. Затем, вращаясь среди достойных юношей и услышав о нравах, которые подобает иметь людям благородным и особливо влюблённым, к величайшему изумлению всех в короткое время не только обучился грамоте, <…> не только изменил свой грубый деревенский голос в изящный и приличный горожанину, но и стал знатоком пения и музыки, опытнейшим и отважным в верховой езде и в военном деле, как в морском, так и сухопутном <…> сделался самым приятным юношей, обладавшим лучшими нравами и более выдающимися достоинствами, чем кто-либо другой…» (154)
Это «вдруг», это неожиданное преображение героя связано у Боккаччо с самим представлением о человеке, с оценкой его возможностей. В человеке нет ничего окончательного, предрешённого раз и навсегда… В героях Боккаччо всегда таятся некие скрытые возможности. Это, вообще, центральная идея Ренессанса – вера в то, что в каждом заложен поистине безграничный внутренний потенциал…
Что такое «Декамерон» как целое? Ведь это не просто сборник отдельных новелл, а единая книга. Крупнейший современный исследователь творчества Боккаччо, Витторе Бранка, автор уже ставшей классической монографии «Боккаччо средневековый» (155), высказывает немало ценных наблюдений. Однако с его концепцией трудно согласиться. На чём основана эта концепция? Бранка считает, что «Декамерон» Боккаччо есть некоторый аналог «Божественной комедии» Данте. С этой точки зрения он рассматривает первую новеллу первого дня и сотую, то есть десятую новеллу десятого дня. Первая новелла, по его убеждению, соответствует Аду, сотая – Раю, и, собственно, весь «Декамерон» – это поступательное движение от низшего к высшему, от зла к добру, так он рассматривает книгу Бокаччо. Но для того чтобы согласиться или отвергнуть идею Витторе Бранка, рассмотрим обе новеллы.
Итак, первая новелла первого дня, начало «Декамерона». Главный герой этой новеллы, некий Чеппарелло, служил нотариусом, и «для него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь из его актов (хотя их было у него немного) оказался не фальшивым. <…> Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием, прошеный и непрошеный. <…> Удовольствием и заботой было для него посеять раздор, вражду и скандалы между друзьями, родственниками и кем бы то ни было, и чем больше от того выходило бед, тем было ему милее. Если его приглашали принять участие в убийстве или каком другом дурном деле, он шёл на то с радостью, никогда не отказываясь, нередко и с охотой собственными руками нанося увечье и убивая людей. Кощунствовал он на бога и святых страшно, из-за всякой безделицы, ибо был гневлив не в пример другим. В церковь никогда не ходил и глумился неприличными словами над её таинствами, как ничего не стоящими; наоборот, охотно ходил в таверны и посещал другие непристойные места. <…> Украсть и ограбить он мог бы с столь же спокойной совестью, с какой благочестивый человек подал бы милостыню…». (156)
Витторе Бранка прав: в одном герое здесь сосредоточены, казалось бы, все пороки Ада, «худшего человека, чем он, может быть, и не родилось». Но сюжет новеллы таков, что по просьбе некоего купца Чеппарелло, которого все за малый рост звали Чаппеллетто, отправляется в Бургундию, чтобы взыскать с бургундцев долги. Остановился он у двух братьев-флорентийцев, занимавшихся ростовщичеством, но внезапно занемог. Братья тотчас же послали за лекарями, нашли человека для ухода, словом, приняли все меры для того, чтобы поставить захворавшего нотариуса на ноги. Однако ничто не помогало, ибо недуг Чаппеллетто оказался смертельным. Тут братья испугались, но не того, что постоялец умрёт, это их мало волновало. Они испугались, что тот вздумает исповедаться перед кончиной, и тогда всем станет известно, какого грешника они у себя приютили. Ни один священник не решится отпустить столь тяжкие грехи. Но для Чаппеллетто исповедь – единственная надежда хоть как-то облегчить свою посмертную участь. Может, Бог его простит и направит в Чистилище, а не в Ад. Поэтому Чаппеллетто обещает, что не подведёт, и просит позвать самого что ни на есть благочестивого исповедника, мотивируя это тем, что при жизни гневил Бога столь часто, что если перед смертью будет гневить его ещё час, то прегрешения его «от того не умножатся и не уменьшатся».
Так вот, собственно, главное в этой новелле – исповедь Чаппеллетто. Монах принялся ласково утешать больного, а затем спросил, когда тот в последний раз был на исповеди. Сэр Чаппеллетто, никогда прежде не исповедовавшийся, отвечал: «Отец мой, по обыкновению я исповедуюсь каждую неделю по крайней мере один раз, не считая недель, когда и чаще бываю на исповеди; правда, с тех пор, как я заболел, тому неделя, я не исповедовался: такое горе учинил мне мой недуг!»
– «Хорошо ты делал, сын мой, – сказал монах, – делай так и впредь; вижу я, что мало мне придётся услышать и спрашивать, так как ты так часто бываешь на духу».
– «Не говорите этого, святой отец, – сказал сэр Чаппеллетто, – сколько бы раз и как ни часто я исповедовался, я всегда имел в виду принести покаяние во всех своих грехах, о каких только я помнил со дня моего рождения до времени исповеди; потому прошу вас, честнейший отец, спрашивать меня обо всём так подробно, как будто я никогда не исповедовался…» (157)
Далее, пытаясь выяснить, в чём умирающему следует покаяться, монах перечисляет все наиболее известные прегрешения. Спрашивает, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь женщиной? (наказание за это – Второй круг Ада). «Сэр Чаппеллетто отвечал, вздыхая: «Отче, в этом отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь погрешить тщеславием». – «Говори, не бойся, никто ещё не согрешал, говоря правду на исповеди или при другом случае». Сказал тогда сэр Чаппеллетто: «Если вы уверяете меня в этом, то я скажу вам: я такой же девственник, каким вышел из утробы моей матушки». – «Да благословит тебя господь! – сказал монах. <…> Потом он спросил его, не разгневал ли он бога грехом чревоугодия. «Да, и много раз», – отвечал сэр Чаппеллетто, глубоко вздохнув, потому что хотя он держал все посты в году, соблюдаемые благочестивыми людьми, <…> тем не менее он пил воду с таким наслаждением и охотою, с каким большие любители пьют вино, особливо устав после хождения на молитву, либо в паломничестве. <…> На это отвечал монах: «Сын мой, эти грехи в природе вещей, легкие, и я не хочу, чтобы ты излишне отягчал ими свою совесть».
Но Чаппеллетто восклицает: «Не говорите мне этого в утешенье, отец мой, <…> вы знаете, как и я, что всё, делаемое ради господа, должно совершаться в чистоте и без всякой мысленной скверны; кто поступает иначе, грешит». Монах умилился: «Я очень рад, что таковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная совестливость. Но, скажи мне, не грешил ли ты любостяжанием, желая большего, чем следует, удерживая, что бы не следовало?» Отвечал на это сэр Чаппеллетто: «Я не желал бы, отец мой, чтобы вы заключили обо мне по тому, что я в доме у этих ростовщиков; у меня нет с ними ничего общего, я даже приехал сюда, чтобы их усовестить, убедить и отвратить от этого мерзкого промысла, и, может быть, успел бы в этом, если бы господь не взыскал меня <…>». – «Хорошо ты поступил, – сказал монах, – но не часто ли предавался ты гневу?» – «Увы, – сказал сэр Чаппеллетто, – этому, скажу вам, я предавался часто. И кто бы воздержался, видя ежедневно, как люди безобразничают, не соблюдая божьих заповедей, не боясь божьего суда? Несколько раз в день являлось у меня желание – лучше умереть, чем жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся за соблазнами, клянущихся и нарушающих клятву, бродящих по тавернам и не посещающих церкви, более следующих путям мира, чем путям господа». – «Сын мой, – сказал монах, – это святой гнев, и за это я не наложу на тебя эпитимии. Но, быть может, гнев побудил тебя совершить убийство, нанести кому-нибудь оскорбление или другую обиду?» – «Боже мой, – возразил сэр Чаппеллетто. <…> Да если бы у меня зародилась малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые вы назвали, неужели, думаете вы, господь так долго поддержал бы меня?» <…> Кроме того, ещё о многих других вещах расспрашивал его святой отец, и на всё он отвечал таким же образом. Монах хотел уже отпустить его, как сэр Чаппеллетто сказал: „Мессер, за мной есть ещё один грех, о котором я не сказал вам“. – „Какой же?“ – спросил тот, а этот отвечал: „Я припоминаю, что однажды велел своему слуге вымести дом в субботу, после девятого часа, позабыв достодолжное уважение к воскресенью“. – „Маловажное это дело, сын мой“, – сказал монах. „Нет, не говорите, что маловажное, – сказал сэр Чаппеллетто, – воскресный день надо нарочито чтить, ибо в этот день воскрес из мёртвых господь наш“. Сказал тогда монах: „Не сделал ли ты ещё чего?“ – „Да, мессере, – отвечал сэр Чаппеллетто, – однажды, позабывшись, я плюнул в церкви божьей“. Монах улыбнулся. „Сын мой, – сказал он, – об этом не стоит тревожиться; мы, монахи, ежедневно там плюём“. – „И очень дурно делаете, – сказал сэр Чаппеллетто, – святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в нём приносится жертва божия“. Одним словом, такого рода вещей он наговорил монаху множество, а под конец принялся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать, когда хотел. „Что с тобой, сын мой?“ – спросил святой отец. <…> Но сэр Чаппеллетто продолжал сильно плакать: „Увы, отец мой, – сказал он, – мой грех слишком велик, и я почти не верю, чтобы господь простил мне его, если не помогут ваши молитвы“. – „Говори без страха, – сказал монах, – я обещаю помолиться за тебя богу“. Сэр Чаппеллетто всё плакал и ничего не говорил, а монах продолжал увещевать его. Долго рыдая, продержал сэр Чаппеллетто монаха в таком ожидании и затем, испустив глубокий вздох, сказал: „Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня богу, я вам откроюсь: знайте, что, будучи ещё ребенком, я выбранил однажды мою мать!“ Сказав это, он снова принялся сильно плакать. „Сын мой, – сказал монах, – и этот-то грех представляется тебе ужасным? Люди весь день богохульствуют, и господь охотно прощает раскаявшихся в своем богохульстве; а ты думаешь, что он тебя не простит? Не плачь, утешься; уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял его на кресте, он простил бы тебе: так велико, как вижу, твоё раскаяние“. – „Увы, отец мой, что это вы говорите! – сказал сэр Чаппеллетто. – Моя милая мама носила меня в течение девяти месяцев денно и нощно; и на руках носила более ста раз; дурно я сделал, что её выбранил, тяжелый это грех! Если вы не помолитесь за меня богу, не простится он мне“. Когда монах увидел, что сэру Чаппеллетто не осталось сказать ничего более, он отпустил его и благословил, считая его святым человеком, ибо вполне веровал, что всё сказанное сэром Чаппеллетто правда. И кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час смертный?» (158)
Люди, знавшие Чаппеллетто, которые слышали его исповедь, стоя за дверью, давились хохотом и говорили друг дружке: «Вот так человек! <…> ни старость, ни болезнь, ни страх близкой смерти, ни страх перед господом, на суд которого он должен предстать через какой-нибудь час, ничто не отвлекло его от греховности и желания умереть таким, каким жил». (159)
В тот же день Чаппеллетто скончался. «Приор и легковерные монахи … отслужили над ним большую торжественную панихиду, а утром в стихарях и мантиях, с книгами в руках и преднесением крестов, с пением отправились за телом и с большим почетом и торжеством отнесли его в церковь, сопровождаемые почти всем населением города, мужчинами и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец, исповедовавший его, взойдя на амвон, начал проповедовать дивные вещи об его жизни…» (160)
И вскоре «так возросла молва об его святости и почитание его, что не было почти никого, кто бы в несчастии обратился к другому святому, а не к нему. Прозвали его и зовут San Ciappelletto и утверждают, что господь ради него много чудес проявил и ещё ежедневно проявляет тем, кто с благоговением прибегает к нему». (161)
Таково содержание первой новеллы.
Хочу сразу отметить: вроде бы нельзя обмануть Бога. Почему же тогда могила Чаппеллетто и в самом деле стала чудотворной? По этому поводу Боккаччо замечает: очевидно, «мы можем познать в этом великую к нам милость господа», который, взирая «не на наше заблуждение, а на чистоту веры», хотел помочь тем, кто искренне верил в святость Чаппеллетто. Автор так это объясняет. А может быть, нам вообще не дано знать божественных помыслов…
Теперь десятая новелла десятого дня, новелла о Гризельде. Эта история прямо противоположна первой. Итак, юный маркиз по имени Гвальтьери решил жениться на простой крестьянке. Он пришёл к её отцу, бедняку из бедняков, и объявил, что хочет взять в жёны его дочь Гризельду. Молодая невеста, переодевшись в дорогие одежды, казалось, переменила и душу и привычки. «Она была… красива телом и лицом и, насколько была красивой, настолько стала любезной, столь приветливой и благовоспитанной, что, казалось, она – дочь не Джьяннуколе, сторожившая овец, а благородного синьора, чем она поражала каждого, кто прежде знавал её. К тому же она была так послушлива и угодлива мужу, что он почитал себя самым счастливым и довольным человеком на свете». (162)
Гризельда сумела «всюду устроить так, что заставила говорить о своих достоинствах и добрых делах». И всё же вскоре маркизу пришла в голову странная мысль: устроить Гризельде испытание.
В положенный срок Гризельда родила дочь. Однако услышала от мужа: «Зачем мне дочь, я ждал сына…» Через некоторое время на свет появился мальчик: «Но мне не нужен сын от простолюдинки! – снова воскликнул маркиз, – это позорит мой род». А потом заявил, что и сама Гризельда ему надоела, и прогнал жену прочь. В одной сорочке, босая и простоволосая, Гризельда покинула замок. А вскоре стало известно, что маркиз решил снова жениться, и желает, чтобы Гризельда собственноручно подготовила всё необходимое к свадебному торжеству. Гризельда приняла и это. Но оказывается, происходившее было лишь игрой, на самом деле маркиз испытывал терпение и добродетель Гризельды. Женщина достойно вынесла все испытания, и тогда маркиз снова взял её в жены, разом возвратив всё то, что отнимал постепенно. «Что можно сказать по этому поводу, – заключает историю Дионео, рассказчик этой новеллы, – как не то, что и в бедные хижины спускаются с неба божественные духи», в то время, как в царственных покоях рождаются «такие, которые были бы достойнее пасти свиней, чем властвовать над людьми». (163)
Итак, в первой и в последней новеллах «Декамерона» представлены своего рода крайности. Это два полюса, между которыми располагаются все остальные новеллы книги. В первой новелле показана, казалось бы, абсолютная греховность. В последней, казалось бы, – абсолютная праведность. На этом строится концепция Витторе Бранка, его сопоставление «Декамерона» с «Божественной комедией». Но на самом деле привлекает в героях книги самого Боккаччо как раз то, что их объединяет. Это неоднозначность, способность проявлять себя неожиданно. Поведение Гризельды столь же невероятно, как и поступки, с другим знаком конечно, Чаппеллетто. А саму историю о Гризельде рассказывает Дионео, от лица которого представлены, кстати, самые фривольные новеллы «Декамерона».
Нельзя не учитывать, что «Божественная комедия» Данте внутренне завершена. После того, как Данте достигает Рая, больше уже ничего не может случиться. Сто первой песни «Божественной комедии» быть не может. Другое дело – книга Боккаччо. Конечно, «Декамерон» включает в себя ровно сто новелл, но разве не могло быть сто первой? Рассказчики не исчерпали все случаи, все истории, которые возможно было бы припомнить и представить на суд слушателей.
Вообще, новелла как жанр – памятник раннего Ренессанса. Основу его, как правило, составляют разные необычные случаи из жизни. Люди чаще всего рассказывают о чём-нибудь удивительном. Зачем пересказывать обычное? Оно и так известно. Поэтому Боккаччо, творя в русле этой традиции, тоже опирается на сюжеты, вызывающие удивление, выпадающие из нормы. Его герои нарушают привычный уклад жизни, ведут себя не так, как принято. И то, что они проявляют себя именно таким, необычным образом, поступают всегда непредсказуемо, вызывает явную симпатию и сочувствие Боккаччо. Он ощущает в этих людях ещё неизведанные, скрытые внутренние резервы, о которых сами герои не догадываются, – скорее подчиняются своим страстям. Но они уже выпали из традиционных, устоявшихся, сформированных прошлым устоев. Отсюда это «вдруг» Боккаччо, свидетельствующее, что человек, в сущности, никогда не бывает равен самому себе.
Первая и сотая новеллы, обрамляя «Декамерон», демонстрируют эти потаённые, готовые неожиданно вырваться наружу, не проявленные до поры возможности человека. Новеллы – полярны, но всё дело в самой непредсказуемости их главных героев. То, на что способна Гризельда, мало кто выдержит. Да и то, как проявил себя Чаппеллетто, мало кто проявит. Всё это не укладывается в привычные рамки, удивительно, но – возможно. Но, главное, представленные Боккаччо герои, безусловно, уже очень далеки от мира «Божественной комедии».
Франсуа Рабле
был исключительно самобытным, пожалуй, самым ярким автором Высокого Ренессанса, заложившим основы европейской литературы. Он родился неподалёку от французского городка Шинон около 1494 г. – точная дата нам неизвестна. Умер в 1553 г. предположительно в Париже. Ребёнком Рабле был отдан во францисканский монастырь, где получил начальное образование, изучал естественные науки, право, иностранные языки, в том числе классические – греческий и латинский.
Позже, став членом бенедиктинского ордена, будущий писатель-гуманист всерьёз увлекся медициной, даже прошёл курс обучения в университете города Монпелье на древнейшем в Европе медицинском факультете. Получив степень бакалавра медицины, Рабле поселился в Лионе, где поступил на службу в городскую больницу. Там же он впервые обратился к литературному творчеству.
Рабле является автором одного-единственного произведения – романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» не потому, что, сочетая сочинительство с врачебной практикой, ничего больше не успел написать, а потому что эту книгу создавал всю свою жизнь. Первая часть, ныне это вторая книга романа, вышла в свет в 1532 году (была издана под псевдонимом Алькофрибас Назье). Дело в том, что в 1532 в Леоне была опубликована, так называемая, народная книга о великане Гаргантюа, и Рабле решил написать продолжение, рассказывающее о его сыне Пантагрюэле. Но, когда работа над романом была завершена, Рабле понял, что его концепция резко расходится с изложенным в народной книге, и тогда, спустя два года, в 1534 году, обратился к предыстории – написал нынешнюю первую книгу о великане Гаргантюа. Поэтому хронология создания первой и второй книг отличается от их последовательности. Позже были написаны третья и четвёртая книги. Что касается пятой, она была опубликована уже после смерти Рабле и, видимо, не целиком принадлежала его перу, а, скорее всего, была дописана учениками. Существовал план, были намечены основные сюжетные линии… Но, тем не менее, завершена она не была и вышла в свет уже после смерти писателя.
«Гаргантюа и Пантагрюэль» – книга, которую трудно понять. Она сложна не для чтения, а именно для понимания, вообще непривычна для сознания современного человека. Впрочем, сам Рабле предупреждает в предисловии, что его читателю следует уподобиться собаке, «самому философическому животному на свете», которая с усердием разгрызает кость. «Что заставляет её поступать таким образом? На что она надеется? К чему стремится? Ни к чему иному, как к небольшому количеству мозга», – заключает своё вступление сам автор.
К тому же, отечественному читателю произведение Рабле открылось сравнительно недавно.
Было два важных события, которые помогли представить эту книгу русскому читателю. Во-первых, это появление в начале 60-х гг. ХХ века перевода романа, сделанного Н. М. Любимовым. (164) До этого времени Рабле на русском языке не существовало, старая версия В. А. Пяста (Гаргантюа и Пантагрюэль. – ЗИФ, 1929.) – это не перевод книги, а её переложение. Второе – это выход в свет исследования М. М. Бахтина, посвящённого творчеству Рабле (М.М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – 1965.). Не будет преувеличением сказать: оно открыло Рабле не только русскому, но и европейскому читателю. Монография Бахтина была переведена на все европейские языки.
Главная тема романа – жизнь человеческого тела. Именно описание физиологического, телесного существования занимает в «Гаргантюа и Пантагрюэле» центральное место, изображение «гротескного тела», если воспользоваться термином Бахтина. Но образ тела, который создаёт Рабле, совсем не похож на тот образ прекрасного обнажённого тела, который знаком нам по скульптурам Античности или по живописным полотнам художников Ренессанса. Там тело – завершённое, гармоничное, а здесь акцент делается на тех его частях, где тело выступает, выходит за собственные границы… Кроме того, подчеркиваются те моменты, в которые тело соприкасается с окружающим миром. Мы не привыкли к подобной трактовке человеческого тела, но у Рабле акцент делается исключительно на его отверстиях, на тех моментах, когда тело вбирает внешний мир или исторгает его из себя.
Человеческое тело для Рабле – это воплощение некой высшей формы материи. Это одухотворенная материя. И здесь возникает первый важный вопрос: как передать эту материю в слове? Дело в том, что жизнь тела до Рабле вообще не описывалась. Конечно, явление может существовать и не имея какого-либо словесного выражения, но по-настоящему культурное бытие нечто обретает лишь тогда, когда воплощается в слове. Пока вещь не названа, не обозначена словом – она не имеет полноценного существования в человеческом сознании. Вопрос заключается в том, как выразить в слове начало исключительно материально-телесное?
Рабле здесь обращается, как минимум, к трём языковым пластам. Вообще, сам Рабле был врачом и одним из первых во Франции препарировал человеческий труп. Поэтому первый языковой пласт, послуживший источником для описания тела в романе – это анатомические и физиологические термины. Они употребляются в столь шутливом тоне, что утрачивают свой чисто прикладной медицинский характер. Однако это язык описания тела. Приведу два примера. Первый – эпизод рождения Гаргантюа. Он появился на свет необычным образом. Его мать, находившаяся на сносях, объелась требухой. «Тогда одна мерзкая старушонка, …слывшая за великую лекарку, дала Гаргамелле какого-то ужасного вяжущего средства, от которого у неё так сжались и стянулись кольцевидные мышцы, что – страшно подумать! – вы бы их и зубами, пожалуй, не растянули. Одним словом, получилось как у чёрта, который во время молебна св. Мартину, записывал на пергаменте, о чём судачили две податливые бабёнки, а потом так и не сумел растянуть пергамент зубами.
Из-за этого несчастного случая вены устья маточных артерий у роженицы расширились, и ребёнок проскочил прямо в полую вену, а затем, взобравшись по диафрагме на высоту плеч, где вышеуказанная вена раздваивается, повернул налево и вылез в левое ухо». (165)
Или, скажем, изображение битвы, которую ведёт брат Жан, защищая виноградники. Обнаружив, что «враги обрывают виноград, и, таким образом, монастырь лишится годового запаса вина», он скинул рясу, схватил перекладину от ясеневого креста и, «не говоря худого слова, обрушился на них со страшной силой». «Одних он дубасил по черепу, другим ломал руки и ноги, третьим сворачивал шейные позвонки, четвёртым отшибал поясницу, кому разбивал нос, кому ставил фонари под глазами, кому заезжал по скуле, кому пересчитывал зубы, кому выворачивал лопатки, иным сокрушал голени, иным вывихивал бедра, иным расплющивал локтевые кости». (166)
В другом месте он сражается тоже весьма необычным способом. Выхватил меч и, ударив лучника, находившегося справа, «перерезал ему шейные вены и сфенитидные артерии, а заодно и язычок вплоть до миндалин, вторым же ударом обнажил спинной мозг между вторым и третьим позвонками, после чего лучник приказал долго жить».(167) Использование подобных терминов – первый языковый пласт, к которому обращается в своём романе Рабле.
Второй пласт – космический. Человеческое тело в изображении Рабле – это своего рода микрокосм, Вселенная в миниатюре. Скажем, описывая рот Пантагрюэля, он показывает, что внутри одного только зуба помещаются целые города. Это второй способ описания тела.
И третий – это то, что мы называем теперь ненормативной лексикой. В одном из эпизодов романа герои, плывя в открытом море, обнаруживают замерзшие слова. (Во время одной из битв якобы царил такой лютый холод, что всё произнесённое бойцами просто замерзало на лету). Герои набрали полные пригоршни таких замёрзших слов и звуков. Отогреваясь на ладонях, они начинали звучать. Но вот среди воинственных кличей и ржания боевых коней слуха героев коснулись «речения грубые, напоминающие по звуку барабан, дудку, рог или трубу». Панург вздумал было тоже сохранить несколько таких слов, «положив их в масло или чистую солому». Но Пантагрюэль ему этого не позволил, заметив, что «глупо беречь то, в чём никогда не бывает недостатка и что всегда под рукой». (168)
Таковы три главных языковых источника, прибегая к которым Рабле описывает человеческое тело.
Важнейшее место в романе занимают сцены еды и питья. Главные герои книги – пьяницы. Первое слово, которое произносит в романе Гаргантюа, – это «пить», и тем же самым словом роман завершается. Когда герои достигают наконец оракула Божественной Бутылки и обращаются к нему с вопросом о смысле жизни, в ответ они слышат лишь одно: «Пейте!» Пейте вино. Правда, хочу сразу уточнить, что это означает в данном случае. В романе Рабле это имеет символический смысл. То есть, герои пьют по-настоящему, но в то же время вино для них – некий символ, пища духовная в буквальном смысле слова, ибо вино пьют для духа, а не для того, чтобы утолить жажду. Для этого существует вода. Герои Рабле пьют очень много, у них даже ботинки набухают от выпитого. Но они пьют в меру. Просто у них большая мера. Они никогда не бывают пьяными, между прочим. Бывает, люди пьют, чтобы забыться, а герои Рабле – для того, чтобы обрести себя, снять все тормоза, почувствовать себя свободными.
Еда – это тоже особый, праздничный момент в жизни тела. Оно живёт, потому что ест, поглощает мир и, благодаря этому, продлевает своё существование. В этом смысле еда противостоит смерти. Смерть – это когда мир поглощает наше тело, а в процессе еды мы сами поглощаем мир. Поэтому не случайно у большинства народов после похорон принято устраивать поминки – за ритуалом погребения следует поминальная трапеза. Еда – это праздник в жизни тела. Не в том смысле, что еда – всегда праздник. Это ерунда, она перестала быть для нас праздником. Но всё-таки нет праздника без еды.
Вино, кстати, – это тоже очень важное выражение праздничности. В эпоху Возрождения существовал даже особый жанр – застольные беседы. Кстати, у современника Рабле, немецкого гуманиста Эразма Роттердамского, есть специальное произведение, которое носит название «Застольные беседы». Вино развязывает языки. Если устроить застолье без вина – люди будут есть и молчать, а с вином они начинают разговаривать, потому что вино – это пища духовная. Так было уже со времен Античности, достаточно вспомнить, например, известный трактат Платона «Пир». Отсюда слово, которое у нас теперь широко используется, – «симпозиум». Теперь научное обсуждение называют симпозиумом, а изначально это был пир, таково буквальное значение слова. Это разговор за столом, во время которого обязательно пьют вино. Вообще, пить молча – очень вредно, пить надо, разговаривая. Такие застольные разговоры могут касаться самых разных, даже сложных философских вопросов.
Но есть одна глубокая особенность слова, которое сопровождается возлияниями: оно может быть очень серьёзным по содержанию, но не может быть серьёзным по форме, обязательно должно быть шутливым. Пить и вести тяжеловесно-серьёзные разговоры всё-таки нельзя, они обязательно должны сопровождаться шуткой. В современном обиходе от застольных бесед ничего не осталось, кроме тостов. И, кстати, это тоже всегда благожелательное слово. Это – первое условие, даже в самом простом тосте: «За ваше здоровье!» – это присутствует. Но, главное, тосты должны быть шутливы. Очень серьёзный тост – это неприятно. Таково и слово в романе Рабле – оно серьёзное и одновременно шутливое. Сам автор во вступлении к третьей книге романа признаётся, что, «выпивая, творил, творя – выпивал». Поэтому вино – очень важная эмблема всего произведения.
Теперь хочу коснуться ещё одной темы. Если вы это поймёте, тогда поймёте и роман Рабле, а если нет – читать эту книгу бесполезно… Приведу маленький отрывок, в котором говориться о детстве Гаргантюа: Он «вечно валялся в грязи, пачкал нос, мазал лицо, стаптывал башмаки, ловил частенько мух и с увлечением гонялся за мотыльками, подвластными его отцу, …утирал рукавом нос, сморкался в суп, шлёпал по всем лужам, пил из туфли и имел обыкновение тереть себе живот корзинкой. Точил зубы о колодку, мыл руки похлёбкой, расчёсывал волосы стаканом, садился между двух стульев, укрывался мокрым мешком, запивал суп водой, как ему аукали, так он и откликался, кусался, когда смеялся, смеялся, когда кусался, частенько плевал в колодец…».(169) И дальше следует длинный перечень. Вот если вы поймёте эту бессмыслицу, то поймёте роман Рабле.
…Ребёнок не может самостоятельно открыть дверь. Плачет, просит, чтобы ему помогли – и ему открывают. А потом ему удаётся самому справиться с дверью. И что он делает? Открывает и закрывает, открывает и закрывает. Взрослые удивляются: «Зачем ты это делаешь?» Но раньше ребёнок чувствовал себя подчинённым двери, а теперь она ему подвластна. Хочет – открывает, хочет – закрывает. Он радуется собственной силе. Может, это выражено в несколько парадоксальной форме, но теперь он – хозяин мира. Гаргантюа говорят: пить из стакана, а он им причёсывается. Что хочу, то и делаю!
Вообще, подобное настроение характерно для всей эпохи в целом. Эпоха Возрождения открыла эксперимент. В Средние века либо всё определялось традицией, которой строго следовали, которая передавалась из поколения в поколение, либо выступала на первый план логика. Особо яркое выражение это получило в схоластике – системе сложных логических обоснований и доказательств. А Ренессанс впервые выдвинул идею эксперимента. То есть предположил, что сначала надо попробовать что-либо сделать, хотя, может, это и противоречит логике и устоявшимся представлениям. Может, получится, а может и нет. Но… надо попробовать!
Приведу один простой пример, чтобы это стало понятно. Открытие Колумбом Америки. Но ведь он и не собирался ничего открывать. Он же в Индию плыл. Но, чтобы попасть в Индию, все направлялись на восток, а Колумб повернул на запад. Всё наоборот сделал. Ему говорят – так, а он выбрал совсем другое направление. До Индии он не добрался, кстати. Ничего у него не получилось. Но зато по дороге открыл новый континент, хотя это и не входило в его планы. Это было крайне рискованное мероприятие: никто раньше так не плавал. Все знали путь в Индию, а Колумб всё сделал шиворот-навыворот – примерно, как Гаргантюа…
Но иногда это бывает полезно: вещи утрачивают своё знакомое значение, открываются с неожиданной стороны. Носить что-то в корзине – значит, использовать корзину по назначению. И здесь важно, насколько она вместительная, удобная, лёгкая. Но, чтобы почувствовать, что корзина шершавая… – для этого нужно потереться о неё пузом.
Ребенок открывает мир заново. Это, конечно, детские игры, и не более того. Но всё же, если причёсываться стаканом, то можно открыть в стакане такие качества, которые не заметишь, если из него пить. Ребёнок так познаёт мир. Конечно, скоро он поймет, что все эти эксперименты чаще всего ни к чему не приводят. Из многих перевёртышей может так ничего и не выйти, но из некоторых – что-то да получится.
Тема игры вообще очень важное место занимает в романе, и к этому мы ещё вернёмся. А пока хотел бы отметить одно: всё, что делает Гаргантюа, никакого практического значения не имеет. Смысл игры в том, чтобы играть. Допустим, он пьёт из ботинка, и так далее. Это всё игры. Вряд ли когда-нибудь кем-нибудь обувь будет использоваться для питья, да и стакан никогда не заменит собой расчёску. Но он играет, а цель игры – в ней самой. Я уже говорил, что Ренессанс открыл живописную картину. А в чём цель картины? Икона – другое дело. Она – предмет культа, предназначена для молитвы, богослужения. А картина для чего? Для того чтобы была картина.
Однако из таких перевёртышей проистекает важное событие, которым завершается первая книга романа: это основание Телемского аббатства. Дело в том, что между Грангузье и Пикрохолом вспыхивает война, в которой Грангузье одерживает победу. Огромная заслуга в этом принадлежит брату Жану. В награду Гаргантюа предлагает ему стать основателем монастыря, который будет именоваться – Телемская обитель (Телема – по-гречески: желание). Так вот, устав этого монастыря создаётся в точности по принципу игр Гаргантюа: здесь всё делается наоборот, не так, как обычно бывает в монастырях:
«В некоторых монастырях существует обычай: если туда войдет женщина (я разумею женщину добродетельную и целомудренную), то в местах, через которые она проходила, полагается после производить уборку, ну, а там будет заведён такой порядок: тщательно убирать все те помещения, в коих побывают инок или инокиня, которые случайно туда забредут. В монастырях всё размерено, рассчитано и расписано по часам, именно поэтому мы постановим, чтобы там не было ни часов, ни циферблатов, – все дела будут делаться по мере надобности и когда удобнее, ибо считать часы – это самая настоящая потеря времени. Какой от этого прок? Глупее глупого сообразовываться со звоном колокола, а не с велениями здравого смысла и разума. Item {Далее (лат.)}, в наше время идут в монастырь из женщин одни только кривоглазые, хромые, горбатые, уродливые, нескладные, помешанные, слабоумные, порченые и повреждённые, а из мужчин – сопливые, худородные, придурковатые, лишние рты…
– Кстати, – прервал его монах, – куда девать женщин некрасивых и настырных?
– Настырных – в монастырь, – отвечал Гаргантюа.
– Верно, – согласился монах.
– Следственно, туда будут принимать таких мужчин и женщин, которые отличаются красотою, статностью и обходительностью. Item, в женские обители мужчины проникают не иначе как тайком и украдкой, – следственно, вам надлежит ввести правило, воспрещающее женщинам избегать мужского общества, а мужчинам – общества женского. Item, как мужчины, так и женщины, поступив в монастырь, после годичного послушнического искуса должны и обязаны остаться в монастыре на всю жизнь, – следственно, по вашему уставу, как мужчины, так и женщины, поступившие к вам, вольны будут уйти от вас, когда захотят…» (170) И так далее.
Вся жизнь обитателей Телемского аббатства «была подчинена не законам, не уставам и не правилам, а собственной доброй воле и хотению. Вставали они когда вздумается, пили, ели, трудились, спали когда заблагорассудится; никто не будил их, никто не неволил их пить, есть или ещё что-либо делать. <…> Их устав состоял только из одного правила: «Делай, что хочешь». (171)
Таков главный принцип романа. Идея монастыря выворачивается наизнанку, и возникает Телемское аббатство, единственное правило в котором заключается в том, что правил нет. Естественно, перед Рабле здесь встаёт проблема: а что если всё это в конце концов приведёт к страшной неразберихе? Но нет, в аббатстве царят полная гармония и порядок. Из чего исходит Рабле? Он рассуждает примерно так… Ну, скажем, какая свобода нужна человеку в выборе: передвигаться обычным способом или ходить на голове? Человек сам откажется ходить на голове. У него есть только одна потребность: ступать по земле ногами. А может у него возникнуть желание ходить на голове? Да, при одном-единственном условии: если ходить на голове будет запрещено. Люди не выносят ограничений. Если что-то запретить, им сразу же захочется это сделать. Как известно, в Раю под запретом было только одно дерево, но Адам и Ева вкусили именно от его плодов. Поэтому, пока будут запреты, – люди будут их нарушать. Пока будут законы – будут преступники…
Хочу сразу уточнить: не надо думать, что Рабле – утопист, всерьёз полагающий, что, отказавшись от законов и правил, можно организовать жизнь общества. Он так не считает. Общество на таких принципах существовать не может. Телемское аббатство – это лишь некоторый эксперимент. К тому же в рамках этого эксперимента исключена самая сложная проблема, которая встаёт перед любым человеческим объединением: люди здесь не должны трудиться. Им приносят всё необходимое. Проблема организации труда, принуждения – всё это здесь отсутствует. Поэтому Рабле вовсе не думает, что по принципу Телемского аббатства может существовать мир. Такой иллюзии у него нет.
В обители всё устроено так, чтобы человек лишь радовался и наслаждался жизнью: в огромном книгохранилище для них собраны книги на множестве языков, просторные галереи расписаны фресками, посреди внутреннего двора расположен алебастровый фонтан с грациями, для развития и развлечений есть ипподром, театр, бассейн, фруктовый сад и т.д.
Создайте благоприятные условия, и люди будут вести себя хорошо, – убеждён Рабле. Он верит, что человек по природе своей добр, как добры его естественные, глубинные устремления: «Людей свободных, просвещённых, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока».
Тема свободы – центральная в романе Рабле. Она выступает в образах двух главных героев – Пантагрюэля и Панурга.
Вообще, образ Пантагрюэля очень близок к Гаргантюа. Я уже говорил, что роман начинался фактически со второй книги, с истории Пантагрюэля, лишь позже Рабле написал первую книгу. Гаргантюа – это во многом вариант Пантагрюэля, который является действующим лицом всех последующих книг. Что объединяет Гаргантюа и Пантагрюэля? Есть две особенности. Во-первых, оба героя – великаны. А кроме того, они короли. В них воплощена абсолютная человеческая свобода. Им не надо жить в Телемском аббатстве, чтобы поступать по собственному выбору. К тому же – они великаны и им ничего не страшно. Когда идёт война, Гаргантюа вычёсывает гребешком застрявшие в волосах пушечные ядра.
Тема короля, кстати, тоже носит в романе Рабле не столько политический, сколько символический характер. Образ короля выражает принцип полной человеческой свободы. Выше короля никого нет. Он действительно может жить по принципу: «делай, что хочешь»; он – король, и для него не существует никаких ограничений. Но поступает он всегда хорошо. Он – учёный, образованный человек, прекрасный сын, справедливый правитель. Он осуществляет принципы Телемского аббатства в самой реальной действительности. Правда, повторюсь: он – великан и король. В нём представлено всё доступное человеку могущество. Его ничто не страшит. Над ним никто не властен.
Другой вариант свободного человека в романе Рабле – это Панург. Образ Панурга – это обратная сторона человеческой свободы. Во второй книге романа происходит его знакомство с Пантагрюэлем. Глава носит название «О нраве и обычае Панурга». (ГЛАВА XVI).
«Панург был мужчина лет тридцати пяти, среднего роста, не высокий, не низенький, с крючковатым, напоминавшим ручку от бритвы носом, любивший оставлять с носом других, в высшей степени обходительный, впрочем слегка распутный и от рождения подверженный особой болезни, о которой в те времена говорили так:
Безденежье – недуг невыносимый.
Со всем тем он знал шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража, и был он озорник, шулер, кутила, гуляка и жулик, каких и в Париже немного.
А в сущности, чудеснейший из смертных.
И вечно он строил каверзы полицейским и ночному дозору. Соберёт иной раз трёх-четырёх парней, напоит их к вечеру, как тамплиеров, отведёт на улицу св. Женевьевы или к Наваррскому коллежу, и как раз перед тем, как здесь пройти ночному дозору, – о чём Панург догадывался, положив сначала шпагу на мостовую, а потом приложив ухо к земле: если шпага звенела, то это было непреложным знаком, что дозор близко, – Панург и его товарищи брали какую-нибудь тележку, раскачивали её изо всех сил и пускали с горы прямо под ноги ночному дозору, отчего бедные дозорные валились наземь, как свиньи, а в это время Панург с товарищами убегали в противоположную сторону: должно заметить, что и двух дней не прошло, а Панург уже знал все парижские улицы и закоулки, как Deus det { Боже, ниспошли [нам мир свой] (лат.)}.
Иной раз в таком месте, которого ночному дозору никак нельзя было миновать, он насыпал пороху, потом, завидев дозор, поджигал, а потом с удовлетворением смотрел, какую лёгкость движений выказывают караульные, вообразившие, что ноги им жжёт антонов огонь.
Особенно доставалось от него несчастным магистрам наук и богословам. Встретит, бывало, кого-нибудь из них на улице – и не преминет сделать гадость: одному насыплет навозу в шляпу, другому привесит сзади лисий хвост или заячьи уши, а не то придумает ещё какую-нибудь пакость.
В тот день, когда всем богословам было велено явиться в Сорбонну на предмет раскумекивания догматов, он приготовил так называемую бурбонскую смесь – смесь чеснока, гальбанума, асафетиды, кастореума и тёплого навоза, подлил туда гною из злокачественных нарывов и рано утром густо намазал этой смесью всю мостовую – так, чтобы самому чёрту стало невмочь. И уж как начали эти добрые люди драть при всех козла, так все нутро своё здесь и оставили. Человек десять-двенадцать умерли потом от чумы, четырнадцать заболели проказой, восемнадцать покрылись паршой, а более двадцати семи подхватили дурную болезнь.
Панург, однако ж, и в ус себе не дул. Он имел обыкновение носить под плащом хлыст и этим хлыстом немилосердно стегал молодых слуг, чтобы они попроворней несли вино своим хозяевам.
В его куртке насчитывалось более двадцати шести карманчиков и карманов, и все они у него были набиты:
в одном из них хранились свинцовая игральная кость и острый, как у скорняка, ножичек, которым он срезал кошельки;
в другом – сосуд с виноградным соком, которым он прыскал в глаза прохожим;
в третьем – головки репейника с воткнутыми в них гусиными и петушьими пёрышками: он сажал их добрым людям на плащ или же на шляпу, а ещё он любил приделывать людям рожки, с которыми они потом так и ходили по всему городу, а иногда и всю жизнь<…>
в четвёртом – уйма пакетиков со вшами и блохами, – он собирал их у нищей братии на кладбище Невинноубиенных младенцев; а затем при помощи тростинок или перьев, которыми пишут, стряхивал на воротнички наиболее жеманным девицам, преимущественно в церкви; к слову сказать, в церкви он никогда не поднимался на хоры, – он предпочитал и за обедней, и за вечерней, и во время проповеди быть внизу, среди женщин;
в пятом – множество крючков и крючочков, которыми он любил сцеплять мужчин и женщин, стоявших тесной толпой, главным образом тех женщин, которые носили платья из тонкой тафты, – стоило им дёрнуться, и платье – в клочья…» и т. д. (172)
В Панурге представлен отрицательный вариант человеческой свободы. Он тоже следует принципу «делай, что хочешь», но он живёт не в Телемском аббатстве, и в нём силён зуд разрушения. Однако Панург не опровергает идеалы Телемского аббатства. Рабле говорит, что, несмотря на всё это, «в сущности» Панург был чудеснейшим человеком. А что такое эта «сущность»? Это его природа. Разница между Пантагрюэлем и Панургом во многом определяется теми условиями, в которых каждый из них вырос. Пантагрюэля баловали, он – королевский наследник, великан, ему с самого начала всё было дано. А жизнь Панурга складывалась довольно трудно. Он бродяжничал, побывал в плену, повидал немало жестокого, и потому вполне естественно, что поворачивается к жизни дурной своей стороной. Но окажись Панург в благоприятных обстоятельствах, и он бы стал поступать хорошо. Кстати, в компании Пантагрюэля он не сделал ни единой пакости, и оказался очень надёжным товарищем.
Кроме того, и это важно: все пороки Панурга мимолетны. Они не коренятся в его натуре. Он никогда с самим собой до конца не совпадает. К примеру, во время бури, описанной в четвёртой книге, он проявляет невероятную трусость. Но он – не трус. Почему? Потому что он ничего не боится, кроме самой опасности. А опасности надо бояться, между прочим, на то она и опасность. Трус – тот, кто боится, когда опасности нет, кому она повсюду мерещится. А Панург – естественно труслив. Когда опасно – он боится, угроза миновала – страх прошёл. Он зол, когда голоден. А накормите – и он будет добр. Это не опровергает идеи Телемского аббатства. Панург – другой вариант свободного человека.
Очень важная, во многом ключевая, определяющая дальнейшее движение всего произведения, – глава в третьей книге, в которой Панург задаётся вопросом: стоит ли ему жениться. Здесь особенно ясно выступает несхожесть двух героев и в то же время их взаимосвязь. Пантагрюэль всячески покровительствует Панургу, но Панург всегда по уши в долгах. Он считает, что без долгов жить нельзя; свой хлеб он съедает на корню и полагает, что это в порядке вещей. Но Пантагрюэль помог ему расплатиться с долгами, и вот Панург задумывается о женитьбе. Но прежде он хочет спросить совета у Пантагрюэля.
« – Вы знаете, государь, что я решил жениться. <…> Во имя вашей давней любви ко мне скажите, какого вы на сей предмет мнения?
– Раз уж вы бросили жребий, – сказал Пантагрюэль, – поставили это своей задачей и приняли твёрдое решение, то разговор кончен, остаётся только привести намерение в исполнение.
– Да, но мне не хотелось бы приводить его в исполнение без вашего совета и согласия, – возразил Панург.
– Согласие я своё даю и советую вам жениться, – сказал Пантагрюэль.
– Да, но если вы считаете, – возразил Панург, – что мне лучше остаться на прежнем положении и перемен не искать, то я предпочёл бы не вступать в брак.
– Коли так – не женитесь, – сказал Пантагрюэль.
– Да, но разве вы хотите, чтобы я влачил свои дни один-одинешенек, без подруги жизни? – возразил Панург.
– Вы же знаете, что сказано в Писании: Veh soli (горе одинокому(лат.)). У холостяка нет той отрады, как у человека, нашедшего себе жену.
– Ну, ну, женитесь с Богом! – сказал Пантагрюэль.
– Но если жена наставит мне рога, – а вы сами знаете: нынче год урожайный, – я же тогда из себя вон выйду, – возразил Панург. – Я люблю рогоносцев, почитаю их за людей порядочных, вожу с ними дружбу, но я скорее соглашусь умереть, чем попасть в их число. Вот что у меня из головы не выходит.
– Выходит, не женитесь, – сказал Пантагрюэль. <…>
– Да, но если я всё-таки не могу обойтись без жены, как слепой без палки <…>, то не лучше ли мне связать свою судьбу с какой-нибудь честной и скромной женщиной, чем менять каждый день и всё бояться, как бы тебя не вздули, или, ещё того хуже, как бы не подцепить дурную болезнь? С порядочными женщинами я, да простят мне их мужья, пока ещё не знался.
– Значит, женитесь себе с Богом, – сказал Пантагрюэль.
– Но если попущением Божиим случится так, что я женюсь на порядочной женщине, а она станет меня колотить, то ведь мне придётся быть смиреннее самого Иова, разве только я тут же взбешусь от злости. Я слыхал, что женщины порядочные сварливы, что в семейной жизни они – сущий перец. А уж я её перещеголяю, уж я ей закачу выволочку: и по рукам, и по ногам, и по голове, и в лёгкие, и в печёнку, и в селезёнку, всё, что на ней, изорву в клочья, – нечистый дух будет стеречь её грешную душу прямо у порога. Хоть бы годик прожить без этаких раздоров, а ещё лучше не знать их совсем.
– Со всем тем не женитесь, – сказал Пантагрюэль.
– Да, но если, – возразил Панург, – я останусь в том же состоянии, без долгов и без жены <…>, если у меня не будет ни долгов, ни жены, то никто обо мне не позаботится и не создаст мне так называемого домашнего уюта. А случись заболеть, так мне всё станут делать шиворот-навыворот. Мудрец сказал: "Где нет женщины, – я разумею мать семейства, законную супругу, – там больной находится в весьма затруднительном положении". В этом я убедился на примере пап, легатов, кардиналов, епископов, аббатов, настоятелей, священников и монахов. Нет, уж я…
– В мужья записывайтесь с Богом, в мужья! – сказал Пантагрюэль.
– Да, но если я заболею и не смогу исполнять супружеские обязанности, – возразил Панург, – а жена, возмущённая моим бессилием, спутается с кем-нибудь ещё и не только не будет за мной ухаживать, но ещё и посмеётся над моей бедой и, что хуже всего, оберёт меня, как это мне не раз приходилось наблюдать, то уж пиши пропало, беги из дому в чём мать родила.
– Ну и дела! Уж лучше не женитесь, – сказал Пантагрюэль.
– Да, но в таком случае, – возразил Панург, – у меня никогда не будет законных сыновей и дочерей, которым я имел бы возможность передать моё имя и герб, которым я мог бы завещать своё состояние, и наследственное и благоприобретённое <…>, и с которыми я мог бы развлечься, если я чем-нибудь озабочен, как ежедневно на моих глазах развлекается с вами ваш милый, добрый отец и как развлекаются все порядочные люди в семейном кругу. И вот если я, будучи свободен от долгов и не будучи женат, буду чем-либо удручён, то, вместо того чтобы меня утешить, вы же ещё станете трунить над моим злополучием.
– В таком случае женитесь себе с Богом! – сказал Пантагрюэль». (173)
«Да» и «нет», «жениться», «не жениться» здесь уравнены.
« – Вы меня извините, но советы ваши напоминают песенку о Рикошете, – заметил Панург. – Сплошь одни capказмы, насмешки и бесконечные противоречия. Одно исключает другое. Не знаешь, чего держаться.
– Равным образом и вопросы ваши содержат в себе столько "если" и столько "но", что ничего нельзя обосновать, нельзя прийти ни к какому определённому решению, – возразил Пантагрюэль». (174)
В этой сцене видна полярность собеседников. Пантагрюэль всегда говорит «да», Панург всегда говорит «нет». Кстати, непременное «но», возникающее в его речи каждый раз, необходимо: оно движет главу и действие романа в целом. Если бы не было этого «но», все сразу бы и закончилось: женился – и всё. А тут – глава продолжается, потому что Панург каждый раз находит новые возражения против женитьбы. В конце концов, так развивается роман, потому что Панург будет продолжать искать ответ на этот вопрос. Сначала он будет ходить за советом – это вся третья книга. А затем герои отправятся в длительное путешествие и в конце концов достигнут оракула Божественной Бутылки, который откроет им истину. Таким образом, мотив женитьбы движет сюжет всего романа.
Однако и в «да» Пантагрюэля присутствует «нет». Он на всё отвечает «да», но только потому, что ничего не принимает всерьёз. Какая разница – жениться или не жениться? Можно так, а можно и иначе. Недаром Панург ему скажет: «Ваши советы – одни сарказмы». А в «нет» Панурга присутствует «да»: он и в самом деле хочет найти ответ на свой вопрос.
Если вдуматься в содержание главы, окажется, что всё происходящее – это, в сущности, игра. Хотел бы Панург жениться на самом деле, он бы как-нибудь решился. Но ему нравится разговаривать с Пантагрюэлем. Ему доставляет удовольствие выяснять, что тот думает по тому или иному поводу. Цель разговора – в самом разговоре, а не в женитьбе. Он и в дальнейшем будет спрашивать у разных людей совета не потому, что действительно мечтает найти себе жену, а чтобы поговорить.
Игра составляет основу романа Рабле. Во вводной главе к третьей книге, написанной от лица автора, есть такое рассуждение: «Когда Филипп, царь Македонский, задумал осадить и разорить Коринф, на коринфян, узнавших от своих лазутчиков, что он со своей многочисленною ратью идёт на них, это навело вполне понятный страх, и нимало не медля они, каждый на своём посту, ревностно взялись за дело, дабы оказать враждебным его действиям сопротивление и город свой защитить.
Одни подвозили в крепость утварь, скот, зерно, вина, фрукты, продовольствие и военное снаряжение.
Другие укрепляли стены,
строили бастионы,
возводили исходящие углы равелинов,
копали рвы,
вновь подводили контрмины,
прикрывали укрепления турами…», и так далее, и тому подобное.
Но в Коринфе жил философ Диоген, которому городские власти не доверили никаких поручений. «В течение нескольких дней он только молча наблюдал, как его сограждане всё у себя поднимали вверх дном. Затем боевой дух передался и ему: он подпоясался, нацепил на себя какую-то ветошь, закатал рукава до локтей, отдал старому своему приятелю суму, книги и навощенные дощечки, выбрал за городом …открытое место, выкатил туда бочку (Диоген, как известно, жил в бочке), в которой он укрывался от непогоды, и, обуреваемый жаждой деятельности, стал проворно двигать руками: уж он эту свою бочку поворачивал, переворачивал, чинил, грязнил,
наливал, выливал, забивал,
скоблил, смолил, белил,
катал, шатал, мотал, метал, латал, хомутал,
толкал, затыкал, кувыркал, полоскал,
конопатил, колошматил, баламутил,
пинал, приминал, уминал,
зарифлял, закреплял, заправлял,
сотрясал, потрясал, отрясал, вязал, подрезал, терзал,
продвигал, выдвигал, запрягал,
тузил, возил, пазил,
снаряжал, заряжал,
клепал, поднимал, обнимал,
выпаривал, выжаривал, обшаривал,
встряхивал, потряхивал, обмахивал,
строгал, тесал, бросал,
прочищал, оснащал, улещал,
супонил, полонил, помпонил,
скатывал и сбрасывал с вершины <…>, потом снова вкатывал наверх, точь-в-точь как Сизиф орудовал со своим камнем…». (175)
Такая вроде бы бессмысленная деятельность… Но сам Рабле уподобляет себя Диогену: «И мне тоже негоже бездействовать: хотя от бранных тревог и в стороне я, однако, духом пламенея, желал бы и я свершить что-либо достойное, особливо теперь, когда видишь, как граждане славного королевства французского, и по ту и по эту сторону гор, неутомимо трудятся и работают, – одним поручено возводить укрепления и оборонять отечество, другие готовятся отразить и разбить врага, и всё это делается так дружно, в таком образцовом порядке и столь явно в интересах будущего <…>, что я начинаю склоняться к мнению доброго Гераклита, уверявшего, что война – не враг, но источник всех благ». (176)
«Я тоже, – признается Рабле, – хочу что-нибудь совершить…»
Это – игра. А игра включает в себя два важных момента. Во-первых, цель игры – в ней самой… Но, главное, в игре всегда одновременно присутствуют и «да» и «нет». Игра не может быть однозначной и абсолютно серьёзной. Она только наполовину серьёзна, иначе это уже не игра. Сочетание «да» и «нет» составляет важнейшую её особенность. Поэтому ни Панург, ни Пантагрюэль никогда не бывают до конца серьёзны: они всё время играют.
Несколько слов о четвёртой и пятой книгах романа. Это путешествие Панурга, Пантагрюэля и брата Жана. Они должны получить наконец ответ на вопрос, который волнует Панурга: стоит ли ему жениться? На самом деле его интересует другой вопрос, хотя вопрос о женитьбе тоже с ним связан. Это вопрос о смысле жизни…
Вообще, надо сказать, Рабле различает мир Физиса и мир Антифизиса. Что это такое? Физис – это природа, а Антифизис – это нечто, противостоящее естественному, природному началу. Так вот, природа для Рабле – это добрая сила. Поэтому всё зло, и в частности, социальное зло – это порождение Антифизиса. Как и все отрицательные образы романа. Это как бы природа, вывернутая наизнанку. Здесь Рабле в чём-то близок к сатире. Но у Рабле это не сатира, ибо сатирические образы внешне смешные, а внутренне страшные. Как говорил Гоголь, «видимый миру смех сквозь невидимые миру слёзы». А у Рабле они не страшны. Он верит во всепобеждающую силу природы и воспринимает отрицательное лишь как некое искажение. Скажем, в первой книге романа изображается война Пикрохола с Грангузье: Пикрохол мечтает завоевать мир, у него грандиозные планы. Но началась война по ничтожному поводу: виноградари Гаргантюа поссорились с лепёшечниками Пикрохола. Кроме того, война не страшна, потому что в ней принимает участие Гаргантюа, которому всё нипочём. Он вычёсывает пушечные ядра гребешком, в качестве колокольчиков у него – колокола Собора Парижской Богоматери. Поэтому страшное здесь становится смешным. Для Рабле страшно как раз не смешное… В образах антифизиса существенна эта сторона: мир антифизиса серьёзен.
Я бы хотел остановиться на двух образах, которые перекликаются с главными темами романа. Это образы Гастера (Желудка) и Квинтессенции.
«Правителем острова был мессер Гастер, первый в мире магистр наук и искусств. Если вы полагаете, что величайшим магистром наук и искусств был огонь, как о том сказано у Цицерона, то вы ошибаетесь и заблуждаетесь, ибо и сам Цицерон в это не верил. Если же вы полагаете, что первым изобретателем наук и искусств был Меркурий, как некогда полагали древние наши друиды, то вы ошибаетесь жестоко. Прав был сатирик, считавший, что магистром всех наук и искусств был мессер Гастер.
Именно с ним мирно уживалась добрая госпожа Нужда, иначе называемая Бедностью, мать девяти муз, у которой от бога изобилия Пора родился благородный отпрыск Амур, посредник между землёй и небом, за какового его признаёт Платон в своем «Пире».
У доблестного владыки Гастера мы должны находиться в совершенном повиновении, должны ублажать и почитать его, ибо он властен, суров, строг, жесток, неумолим, непреклонен. Его ни в чём не уверишь, ничего ему не втолкуешь, ничего ему не внушишь. Он ничего не желает слушать. И если египтяне свидетельствуют, что Гарпократ, бог молчания, по-гречески Сигалион, был безуст, то есть не имел рта, так же точно Гастер родился безухим, подобно безухой статуе Юпитера на Крите. Изъясняется он только знаками. Но знакам его все повинуются скорее, нежели преторским эдиктам и королевским указам. В исполнении требований своих он никаких отсрочек и промедлений не допускает. Вам, уж верно, известно, что львиный рык приводит в трепет всех зверей, до которых он долетает. Об этом написано в книгах. Это справедливо. Я сам был тому свидетелем. И все же я вам ручаюсь, что от повелений Гастера колеблется небо и трясётся земля. Как скоро он изрёк свою волю, её надлежит в тот же миг исполнить или умереть.<…>
В каком бы обществе он ни находился, никаких споров из-за мест при нём не полагается, – он неукоснительно проходит вперёд, кто бы тут ни был: короли, императоры или даже сам папа. И на Базельском соборе он тоже шёл первым, хотя собор этот был весьма бурный: на нём всё не утихали споры и раздоры из-за того, кому с кем сидеть невместно, что, впрочем, вам хорошо известно. Все только и думают, как бы Гастеру угодить, все на него трудятся. Но и он в долгу у нас не остаётся: он облагодетельствовал нас тем, что изобрёл все науки и искусства, все ремёсла, все орудия, все хитроумные приспособления. Даже диких зверей он обучает искусствам, в коих им отказала природа. Воронов, попугаев, скворцов он превращает в поэтов, кукш и сорок – в поэтесс, учит их говорить и петь на языке человеческом. И всё это ради утробы!
Орлов, кречетов, соколов, балабанов, сапсанов, ястребов, коршунов, дербников, птиц не из гнезда взятых, неприрученных, вольных, хищных, диких он одомашнивает и приручает, и если даже он, когда ему вздумается, насколько ему заблагорассудится и так высоко, как ему желается, отпустит их полетать на вольном воздухе в поднебесье, и там он повелевает ими: по его манию, они ширяют, летают, парят и даже за облаками ублаготворяют и ублажают его, а затем он внезапно опускает их с небес на землю. И всё это ради утробы!
Слонов, львов, носорогов, медведей, лошадей, собак он заставляет плясать, играть в мяч, ходить по канату, бороться, плавать, прятаться, приносить ему, что он прикажет, и брать, что он прикажет. И всё это ради утробы!..» (177)
Это – важная тема романа. Я уже говорил, что образы еды и питья занимают в нём особое место. Главные герои Рабле – страшные обжоры, съедают невероятное количество пищи. Они постоянно ублажают свой «гастер». Но, в отличие от жителей острова, где властвует желудок, они ему не поклоняются. Они сохраняют внутреннюю свободу, даже во время еды никогда не бывают серьёзны. Еду они сопровождают возлияниями: не только едят, но и пьют, и к тому же ведут весёлые разговоры. А те – поклоняются всерьёз, хотя Гастер не раз отсылал их к своему судну, «дабы …поглядели, пораскинули умом и поразмыслили, какое такое божество находится в кишечных его извержениях». (178)
Королевство Квинтэссенции – это, напротив, мир чистого духа, а сама королева, крёстная дочь Аристотеля, питается лишь абстракциями и категориями. Здесь живут всевозможные мудрецы, искатели совершенства, служители науки. Но чем они занимаются? Один из них, к примеру, излечивал все виды истощения, постригая больных на три месяца в монахи, ибо «если уж они во иноческом чине не разжиреют, значит, и врачебное искусство, и сама природа в сем случае бессильны».
«Многие из упомянутых прислужников оттирают эфиопам дном корзинки только живот, и ничего более, отчего те малое время спустя белеют.
Другие на трёх парах лисиц, впряженных в одно ярмо, пахали песчаный берег моря и попусту не теряли ни единого зернышка.
Третьи мыли черепицу и сводили с неё краску.
Четвёртые долго толкли в мраморной ступке наждак, который у вас называется пемзой, и таким путем извлекали из него воду и изменяли его состав.
Пятые стригли ослов и получали отменную шерсть…», и так далее. (179)
Иногда учёные вступали между собой в ожесточённые споры, касаясь таких «сверхфизических проблем», как, допустим, тень осла или дым от фонаря, а в целом «из ничего творили нечто великое, а великое обращали в ничто», резали огонь ножом, черпали воду решетом, ловили сетями ветер…
Труды прислужников Квинтэссенции во многом напоминают игры Гаргантюа, который, кстати, тоже пытался оттереть добела пузо эфиопа… Но в чём разница между ними и Гаргантюа? Они делают это всерьёз, а он – играет.
И вот герои достигают наконец оракула Божественной Бутылки, который должен открыть им истинный смысл жизни. Однако оракул говорит им то, что они и сами давно уже знали, произносит одно-единственное слово: «Тринк». (это слово, которое герои слышат от толковательницы оракула жрицы Бакбук, «известно и понятно всем народам и означает оно: Пей!». (180)
И они пьют воду, между прочим, воду из священного источника. Но каждому кажется, что это не вода, а превосходное вино:
«…Панург воскликнул:
– Ей-богу, это бонское вино! Пусть меня сцапают сто шесть чертей, но такого вкусного вина я ещё никогда не пил. Чтобы как можно дольше его смаковать, недурно было бы иметь шею длиной в три локтя <…>.
– Честное фонарное слово, это вино гравское, забористое, игристое, – сказал брат Жан. – Бога ради, голубушка, откройте мне способ его приготовления.
– А по-моему, это мирвосское, – объявил Пантагрюэль, – прежде чем пить, я представил себе именно его. Одно плохо: уж очень оно холодное, холоднее льда, <…> холоднее воды Кантопории Коринфской, замораживавшей желудок и все пищеварительные органы тем, кто её пил.
– Пейте ещё, и ещё, и ещё, – молвила <жрица оракула> Бакбук. – И, каждый раз воображая что-нибудь новое, вы найдёте, что напиток обладает именно тем вкусом, какой вы задумали». (181)
Истолковывая ответ оракула, жрица говорит героям: «Истина – это дочь Времени». Пройдёт время, и «философы поймут, что все их знания, равно как знания их предшественников, составляют лишь ничтожнейшую часть того, что есть и чего они ещё не знают». (182)
Роман Рабле – это бесконечная игра. В этом произведении нет ни одного серьёзного слова. Вот, скажем, как Рабле описывает воспитание Гаргантюа. У него было два учителя. Первый – Тубал Олоферн, учёный-схоласт, который обучал его чисто схоластическим методом. Рабле высмеивает старое схоластическое воспитание. А потом был приглашён другой учитель, Панократ. И здесь Рабле изображает совершенно иную систему воспитания – гуманистическую. Гаргантюа не теряет с новым наставником ни минуты, изучает всё подряд. Раньше он бесконечно спал, а, теперь, согласно методу Панократа, всё его время стало уходить на приобретение знаний. «Итак, вставал Гаргантюа около четырёх часов утра. В то время как его растирали, он должен был прослушать несколько страниц из Священного писания, которое ему читали громко и внятно, с особым выражением, для каковой цели был нанят юный паж по имени Анагност, родом из Баше. Содержание читаемых отрывков часто оказывало на Гаргантюа такое действие, что он проникался особым благоговением и любовью к Богу, славил Его и молился Ему, ибо Священное писание открывало перед ним Его величие и мудрость неизречённую.
Затем Гаргантюа отправлялся в одно место, дабы извергнуть из себя экскременты. Там наставник повторял с ним прочитанное и разъяснял всё, что было ему непонятно и трудно». (183)
Главный герой романа – смех. Рабле смеётся над многими представлениями ушедшего Средневековья. Но, с другой стороны, он смеётся и над теми идеями, что стали достоянием его собственной, современной ему эпохи. Он ничего не принимает всерьёз. Телемское аббатство, конечно, – идеал Рабле. Но одновременно это и шутка…
Смех Рабле не носит ни в коей мере нигилистического характера, которым, к примеру, нередко отличался смех художников XX века, утверждавших, что за всем на свете стоит ничто. Смех Рабле другой. В смехе, считал Рабле, человек возвышается над самим собой и действительностью. Это единственное, что позволяет соприкоснуться с абсолютом, потому что всё, что пребывает во времени, – относительно. То, что мы знаем, – ничтожно мало по сравнению с тем, что неизбежно остаётся от нас скрытым. Но роман Рабле проникнут жизнерадостностью. Автор это всячески подчёркивает, в третьей книге, в частности, говорит, что, пытаясь подобно Диогену участвовать в делах этого мира, «скатывает с вершины <…>, потом снова вкатывает наверх» свою бочку, но на дне этой бочки скрывается надежда. Смеясь, Рабле ощущает относительность любой истины, но не исключает существования истины как таковой. Истина – дочь Времени, а Рабле верит в его поступательное движение.
Литература английского Возрождения
Возрождение в Англии имеет важные особенности. Хронологически оно наступает достаточно поздно: приходится на XV век. К тому времени уже отцвёл итальянский Ренессанс, завершилась эпоха Боккаччо и Рабле во Франции. Вообще, символический центр тяжести европейского мира стал перемещаться со средиземноморского юга на север. Поэтому можно сказать: английские гуманисты подводят итог всему европейскому Возрождению. Кроме того, в Англии это совпало с периодом борьбы двух династий – Ланкастеров и Йорков – за английский престол, грандиозного противостояния, которое вошло в историю как война Алой и Белой Розы (одна из основных тем исторических хроник Шекспира).
Главной особенностью новой эпохи в Англии была экономическая составляющая. Это был переход от средневекового ремесла к мануфактуре. Суконные мануфактуры, а также связанное с ними производство шерсти, стали играть во внутренней экономике первостепенную роль. Овцеводство фактически вытесняло земледелие.
Что касается внутриполитической ситуации, в Англии возникло централизованное абсолютистское государство. Этот процесс сопровождался страшными бедствиями для народных масс. Крупные землевладельцы, стремясь увеличить поставку шерсти развивающейся английской мануфактуре, захватывали территории – леса, поля, луга, которыми раньше крестьянские общины пользовались на свободном основании, и превращали их в пастбища для овец, а самих крестьян сгоняли. Земли, отводившиеся отныне под пастбища, лорды обносили оградами, рыли канавы для защиты от притязаний бывших владельцев. Таким образом они поставляли мануфактурам не только шерсть, но и рабочую силу. Однако экономическое принуждение не действовало. Лишённые земли крестьяне предпочитали бродяжничать, нищенствовать. Их принудительно отправляли на мануфактуры, где были очень суровые условия труда – так действовало знаменитое кровавое законодательство Генриха VIII, при котором было запрещено бродяжничество. Кроме того, любой незанятый человек был обязан поступать на службу к тому, кто её предложит, за ту плату, которую назначит наниматель. Неповиновавшихся штрафовали, клеймили, приговаривали к казни. Известному английскому гуманисту, философу и королевскому канцлеру при Генрихе VIII Томасу Мору принадлежит знаменитая фраза, – «овцы в Англии съели людей».
XVII век – золотой век европейского театра. И во главе его, без сомнений, стоял театр английского Ренессанса. (Вторым по значимости можно считать театр испанского барокко, третьим – театр французского классицизма). Это была эпоха великого расцвета драмы. Вообще, когда достигает наивысшего развития какой-либо жанр, появляется множество поэтов, драматургов, которые творят в некоем едином русле. В Англии в этот период тоже были авторы, каждый из которых мог бы составить честь любой национальной литературе. Имена их малоизвестны: фактически все они были заслонены одной колоссальной фигурой – Шекспиром. Нечто подобное произошло и в России. В первой половине XIX века в русской литературе было немало замечательных поэтов: А. Дельвиг, П. Вяземский, Е. Боратынский и др., но их творчество абсолютно затмил собой А. Пушкин, для нас – это поэты пушкинской эпохи, Пушкинская плеяда…
Уильям Шекспир
Биографические сведения о выдающемся английском поэте и драматурге чрезвычайно скудны. Известно лишь, что Шекспир родился в 1564 году в английском городе Стратфорде, умер в 1616 году. Его отец был состоятельным ремесленником, часто избиравшимся на различные общественные должности; мать принадлежала к одной из старейших саксонских семей. Считается, что Шекспир обучался в стратфордской «грамматической школе», хорошо знал латынь, античную поэзию. Сочинять для театра Шекспир начал предположительно с начала 90-х. Мы знаем, что он был актёром, драматургом и совладельцем театральной труппы, которая в 1599 году в Лондоне построила ставший позже всемирно известным театр «Глобус», а около 1612 года по непонятным для нас причинам вернулся в Стратфорд, где провёл последние годы своей жизни, так больше ничего и не написав.
Не осталось воспоминаний современников о Шекспире. Они жили рядом с одним из величайших гениев эпохи, но не оставили почти никаких свидетельств о нём. С этим связано появление легенды о том, что автором всемирно известных пьес был не Шекспир, а кто-то другой. Возникло множество претендентов на шекспировский престол. Истинных авторов искали среди людей, которые умерли в 1612 году. Приписывали произведения известному драматургу К. Марло, философу Ф. Бэкону… Одно время достаточно популярной была версия, утверждавшая, будто бы пьесы Шекспира на самом деле были написаны графом Рэтлендом. В девяностые годы XX века в России появилось исследование, в котором поддерживалась эта точка зрения, однако с некоторым новым дополнением: якобы под маской Шекспира выступал не только Роджер Мэннерс, пятый граф Рэтленд, но, вероятно, и его жена Елизавета Рэтленд. (184)
Во всяком случае, вопрос об авторстве открыт до сих пор, и потому, обращаясь к шекспировскому наследию, подобные легенды лучше отбросить, пока не появятся действительно неопровержимые доказательства…
На сегодняшний день у нас есть достаточные основания полагать, что автором великих драматургических произведений был уроженец Стратфорда, актёр лондонского театра «Глобус» Уильям Шекспир. Но хочу только два слова добавить в этой связи. Драма в то время ещё не стала литературным жанром, поэтому не осталось рукописей Шекспира, а только театральные списки его пьес. Шекспировские постановки пользовались успехом. Современники любили Шекспира, но, вероятно, не до конца понимали значение его творчества. Дело в том, что пьеса воспринимается прежде всего сквозь призму актёрского исполнения, и потому Шекспира смотрели, а не читали. Быть может, было бы несправедливо проводить аналогии, но всё-таки, возьмём для примера кинематограф. Чьи имена известны широкой публике? Имена актёров, очень крупных режиссёров, и лишь специалистам, знатокам, особым ценителям кино важно, кто написал сценарий фильма. Конечно, не хочу утверждать, что это одно и то же, но всё же сходство есть. Да и сам факт, что Шекспир, уехав из Лондона в 1612 году, перестал писать, тоже неудивителен. Он творил для сцены. Поэтому всё же лучше считать, что подлинным автором пьес был именно Шекспир, чем поддерживать те легенды, которые окружили его имя за прошедшие столетия…
«Ромео и Джульетта» (1594-1595) – единственная трагедия в начальном периоде творчества Шекспира, когда он создавал в основном комедии… Магическая власть природы над человеком, играющее в людях природное начало – вот главные их темы. Называются комедии обычно нейтрально: «Сон в летнюю ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой», «Двенадцатая ночь», и так далее. Для сравнения: в исторических хрониках Шекспир обращается к теме истории, которую воспринимает как результат приложения духовных и физических сил исторических деятелей. Называются они, как правило, именами королей. Король символизирует время царствования, эпоху в целом. История для Шекспира – драма, говорящая на языке искусства. Что касается трагедий, то здесь его интересует прежде всего человеческая личность, и поэтому их названия – это имена главных героев: «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир», «Кориолан», «Антоний и Клеопатра»…
Однако если в исторических хрониках Шекспир задавался вопросом: что личность даёт истории, то в трагедиях этот вопрос ставится иначе: что история даёт личности.
В основу трагедии «Ромео и Джульетта» положена итальянская новелла Маттео Банделло. (185)
Действие трагедии происходит в Италии, в Вероне XIV века. Но Шекспир значительно видоизменяет первоначальный сюжет. В его интерпретации эта история получила совсем иное звучание. «Ромео и Джульетта» написана в то же самое время, что и комедия «Сон в летнюю ночь», в трагедии много черт, сближающих его с комедийными пьесами этого периода. Здесь тоже важную роль играет тема любви и дружбы. Меркуцио и Ромео – друзья, а позже Ромео даже сражается с Тибальтом, защищая друга. Рассуждения Меркуцио, его речь о королеве Маб, легендарной королеве фей, героине английского фольклора, во многом напоминают атмосферу комедии «Сон в летнюю ночь»:
Всё королева Маб. Её проказы.
Она родоприемница у фей,
А по размерам – с камушек агата
В кольце у мэра. По ночам она
На шестерне пылинок цугом ездит
Вдоль по носам у нас, пока мы спим.
В колёсах – спицы из паучьих лапок,
Каретный верх – из крыльев саранчи,
Ремни гужей – из ниток паутины,
И хомуты – из капелек росы.
На кость сверчка накручен хлыст из пены,
Комар на козлах – ростом с червячка,
Из тех, которые от сонной лени
Заводятся в ногтях у мастериц.
Её возок – пустой лесной орешек.
Ей смастерили этот экипаж
Каретники волшебниц – жук и белка.
Она пересекает по ночам
Мозг любящих, которым снится нежность,
Горбы вельмож, которым снится двор;
Усы судей, которым снятся взятки,
И губы дев, которым снится страсть. (186)
(акт I, сцена 4).
Что касается главной темы «Ромео и Джульетты», в какой-то мере она тоже перекликается с излюбленной темой шекспировских комедий: это конфликт юных влюблённых и их родителей. Родители против брака героев, влюблённые вынуждены бежать; но если в комедии «Сон в летнюю ночь», к примеру, они бегут в лес, то здесь – нарушают устои семьи.
В сюжете «Ромео и Джульетты» вражда двух семей – Монтекки и Капулетти – иногда воспринимается чуть ли не трагическим лейтмотивом всего произведения. Однако это не так. Действие открывается сценой столкновения слуг, причём они нисколько не разделяют феодального конфликта своих господ. Для них это скорее повод подраться, проявление избытка жизненных сил:
САМСОН
Перед шавками из дома Монтекки я упрусь – не сдвинуть. Всех сотру в порошок: и молодцов и девок.
ГРЕГОРИО
Подумаешь, какой ураган!
САМСОН
Всех до одного. Молодцов в сторону, а девок – по углам и в щель.
ГРЕГОРИО
Ссора-то ведь господская и между мужской прислугой.
САМСОН
Всё равно. Слажу с мужской, примусь за женскую. Всем покажу свою силу.
ГРЕГОРИО
И бедным девочкам?
САМСОН
Пока хватит мочи, и девочкам. Я, слава богу, кусок мяса не малый. (187)
(акт 1, сцена 1).
Сама эта давняя вражда двух родов уже утратила какой бы то ни было реальный смысл. С самого начала её участники, в общем, это признают. Кстати, в финале драмы Монтекки и Капулетти примиряются, что противоречит закону жанра. Обычно враждующие в шекспировских трагедиях убивают друг друга, гибнут, но никогда не приходят к согласию. А здесь они примирились в финале.
«Ромео и Джульетта» – особая трагедия. Не только в творчестве Шекспира, но и вообще, наверное, особая, единственная в своем роде. Это – трагедия любви счастливой. Обычно трагедии повествуют о любви по разным причинам несчастной, а эта – о любви абсолютно счастливой. Дело в том, что между Ромео и Джульеттой больше чем гармония: они представляют собой как бы единое целое. Недаром в самом названии трагедии присутствуют имена обоих героев. Даже имена Ромео и Джульетты неразделимы.
Герои всегда думают и чувствуют одинаково:
«Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, груди, руки?» – скажет Джульетта.
(акт II, сцена 2).
А Ромео ей вторит:
«Меня перенесла сюда любовь,
Её не останавливают стены…
И потому – что мне твои родные!» (188)
(акт II, сцена 2).
Когда Ромео изгоняют из Вероны в наказание за гибель Тибальта, и кормилица и монах считают это счастливым исходом. Но для Ромео и Джульетты разлука равносильна смерти:
Слова: "Ромео изгнан" – это слишком
И значит уничтожить мать, отца,
Тибальта, и Ромео, и Джульетту.
"Ромео изгнан" – это глубина
Отчаянья без края и без дна! (189)
(акт III, сцена 2).
Так говорит Джульетта. А Ромео признается монаху:
Вне стен Вероны жизни нет нигде,
<…>
Небесный свод есть только над Джульеттой. (190)
(акт III, сцена 3).
Позже брат Лоренцо скажет о влюблённых:
Сочувствие сердец.
Сродство души. (191)
(акт III, сцена 3).
Шекспир, казалось бы, нагромоздил немало различных случайностей, чтобы привести события к печальной развязке. Вообще, судьба всегда избирает случайности… Монах Лоренцо слишком поздно пришёл в склеп: появись он чуть раньше, Ромео остался бы жив, узнал бы, что Джульетта вот-вот проснётся. Их разделила минута. Однако именно поэтому в гибели героев есть что-то роковое.
Отправляясь на бал к Капулетти, Ромео ещё ни о чём не подозревает. Он никогда не видел Джульетту и ещё влюблён в Розалину… Однако уже в этот момент он чувствует какую-то необъяснимую тревогу:
…Неведомое что-то,
Что спрятано пока ещё во тьме,
Но зародится с нынешнего бала,
Безвременно укоротит мне жизнь
Виной каких-то страшных обстоятельств.
Но тот, кто направляет мой корабль,
Уж поднял парус… (192)
(акт I, сцена 4).
Казалось бы, здесь тоже есть нечто, близкое к комедиям: вначале мы видим Ромео, влюблённого в Розалину, а потом, когда он появляется на балу и впервые видит Джульетту, в нём вспыхивает любовь к Джульетте, столь же внезапно и стремительно, как и в комедии «Сон в летнюю ночь» (правда, там лесной дух Пак смазывал героям глаза волшебным нектаром, навевающим чувства). До встречи с Джульеттой Ромео грезил о Розалине, скитался, страдал. А вот увидел Джульетту и Розалину забыл. Теперь он любит Джульетту.
Однако есть принципиальное различие. Любовь к Розалине – это что-то искусственное, литературное. Ромео скорее играет роль влюблённого. Говоря о Розалине, он точно повторяет известные стихотворные строки. А всё, что он скажет о Джульетте, будет небывало и искренне. Обретя Джульетту, он точно обретает самого себя, рождается как личность:
Её сиянье факелы затмило.
Она, подобно яркому бериллу
В ушах арапки, чересчур светла
Для мира безобразия и зла.
Как голубя среди вороньей стаи,
Её в толпе я сразу отличаю.
Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор.
Любил ли я хоть раз до этих пор?
О нет, то были ложные богини.
Я истинной красы не знал доныне. (193)
(акт I, сцена 5).
Это любовь с первого взгляда, и она – подлинная. Любовь абсолютно счастливая, повторяю. Однако мотив обреченности звучит в ней с самого начала; даже тогда, когда, казалось бы, для этого нет оснований. Джульетта восклицает:
Мне страшно, как мы скоро сговорились.
Всё слишком второпях и сгоряча,
Как блеск зарниц, который потухает… (194)
(акт II, сцена 2)
А Ромео, придя к монаху с просьбой обвенчать их с Джульеттой, скажет:
С молитвою соедини нам руки,
А там хоть смерть… (195)
(акт II, сцена 6)
В описании любви Ромео и Джульетты Шекспир использует традиционные формы лирической поэзии. Первое объяснение на балу – это сонет. Очень важная сцена у балкона, первое объяснение Ромео и Джульетты – это серенада, вечерняя песня. То, что говорит Ромео, очень близко к провансальской лирике:
О милая! О жизнь моя! О радость!
Стоит, сама не зная, кто она.
Губами шевелит, но слов не слышно.
Пустое, существует взглядов речь!
О, как я глуп! С ней говорят другие.
Две самых ярких звездочки, спеша
По делу с неба отлучиться, просят
Её глаза покамест посверкать.
Ах, если бы глаза её на деле
Переместились на небесный свод!
При их сиянье птицы бы запели,
Принявши ночь за солнечный восход.
Стоит одна, прижав ладонь к щеке.
О чём она задумалась украдкой?
О, быть бы на её руке перчаткой,
Перчаткой на руке!
<…>
Проговорила что-то. Светлый ангел,
Во мраке над моею головой
Ты реешь, как крылатый вестник неба
Вверху, на недоступной высоте,
Над изумленною толпой народа,
Которая следит за ним с земли. (196)
(акт II, сцена 2).
Подобное представление о любимой, как об ангеле небесном, характерно для европейской поэзии – от сочинений трубадуров до образа Лауры в сонетах Петрарки. Однако есть одно принципиальное отличие: Петрарка никогда бы не мог назвать Лауру «своей», потому что идеал недостижим, он не может явиться в реальной действительности. А здесь идеал воплощается в хрупком, смертном – в земной женщине, и поэтому всё оборачивается гибелью героев. Они чувствуют эту трагичность каждую минуту.
Рабле когда-то заметил, что готов отстаивать любую истину, но «до костра исключительно». На костёр ради истины он бы не пошёл, потому что все истины, которыми располагает человек, относительны. На костёр можно идти только ради чего-то абсолютного, а он убеждён, что абсолютного людям не дано. Абсолютен, считает Рабле, только смех, а ради смеха на костёр не идут.
Но для Ромео Джульетта – абсолютная ценность. Он готов ради неё пожертвовать жизнью; не случайно обращается к монаху со словами: «С молитвою соедини нам руки, // а там – хоть смерть! Я буду ликовать, // Что хоть минуту звал её cвоею».
И Джульетта, когда её хотят выдать замуж за Париса, разлучив с Ромео, восклицает:
Чтоб замуж за Париса не идти,
Я лучше брошусь с башни, присосежусь
К разбойникам, я к змеям заберусь
И дам себя сковать вдвоём с медведем.
Я вместо свадьбы лучше соглашусь
Заночевать в мертвецкой или лягу
В разрытую могилу… (197)
(акт IV, сцена 1).
Вот сцена прощания героев. Настало утро, и они должны расстаться:
ДЖУЛЬЕТТА
Та полоса совсем не свет зари,
А зарево какого-то светила,
Взошедшего, чтоб осветить твой путь
До Мантуи огнём факелоносца.
Побудь ещё. Куда тебе спешить?
РОМЕО
Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна,
Я и подавно остаюсь с тобой.
Пусть будет так. Та мгла – не мгла рассвета,
А блеск луны. Не жаворонка песнь
Над нами оглашает своды неба.
Мне легче оставаться, чем уйти.
Что ж, смерть так смерть!
Так хочется Джульетте. (198)
(акт III, сцена 5).
Счастье героев состоялось. Оно было более чем коротким. Но не к вечности, а к полноте мгновения устремлены Ромео и Джульетта. Их чувства достигают такой степени накала, что, кажется, жизнь подступает к своим пределам.
Помедли Ромео хоть минуту, и Джульетта бы проснулась. Но сила его страсти такова, что мысли о том, что Джульетта умерла, достаточно, чтобы покончить с собой. Это не вопрос. Жить без Джульетты он не может.
И губы, вы, преддверия души,
Запечатлейте долгим поцелуем
Со смертью мой бессрочный договор.
Сюда, сюда, угрюмый перевозчик!
Пора разбить потрёпанный корабль
С разбега о береговые скалы.
Пью за тебя, любовь!
(Выпивает яд.)
Ты не солгал,
Аптекарь! С поцелуем умираю. (199)
(акт V, сцена 3).
То же и Джульетта: очнувшись в склепе и увидев рядом принявшего яд Ромео, она вонзает в себя кинжал:
Будь здесь, а я умру. (200)
(акт V, сцена 3).
Есть некоторые ключевые фразы и образы в «Ромео и Джульетте»
Шекспира. И прежде всего это образ «залитых солнцем улиц Вероны». Это трагедия двенадцати часов. От жара полуденного солнца у героев точно закипает кровь. У Ромео и Джульетты это выражается в безудержных чувствах, которые приведут их к гибели, у Монтекки и Капулетти – в неутихающих распрях. Они и сами не знают, почему враждуют. Это ещё не упорядоченная, стихийная Верона. Душой раздора является здесь Тибальт. Буян и забияка, он затевает драку с Меркуцио, кстати, не имеющим отношения к роду Монтекки. Правда, бросит сопернику: «Меркуцио, ты в компании с Ромео?», но это скорее повод, чем реальная причина.
Вот как Меркуцио характеризует одного из самых миролюбивых членов рода Монтекки, Бенволио: «Ведь ты готов лезть с кулаками на всякого, у кого на один волос больше или меньше в бороде, чем у тебя, или только за то, что человек ест каштаны, в то время как у тебя глаза каштанового цвета. Голова у тебя набита кулачными соображениями, как яйцо – здоровою пищей, и, совершенно как яйцо, сбита всмятку вечными потасовками. Разве ты не поколотил человека за то, что он кашлянул на улице и разбудил твою собаку, лежавшую на солнце? Разве ты не набросился на портного, осмелившегося надеть новую пару до Пасхи, или на кого-то другого за то, что он новые башмаки подвязал старыми лентами?» (201)
Жители Вероны – это люди страстей, несдержанные, подчиняющиеся стихийным порывам, только в Ромео это проявляется как высокая любовь, а в других персонажах – как простая задиристость и непоследовательность (кстати, атмосфера шекспировской трагедии очень точно передана в известном фильме Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта»). Взять, к примеру, поведение старшего Капулетти. Вначале он говорит, что Джульетта слишком юна и ей ещё рано замуж. А затем требует, чтобы дочь немедленно вышла за Париса. Немедленно! А в финале мы узнаём, что мать Ромео умерла. Отчего? Она не вынесла разлуки с сыном. А ведь Ромео отсутствовал всего три дня. Но это тот же накал страсти.
Собственно говоря, в образе Вероны Шекспир создал модель эпохи Возрождения. А суть её, если говорить об исторической почве, в самом переходе. Старое уже рушится, а новое ещё не утвердилось окончательно. В «Ромео и Джульетте» Шекспир открывает те же самые процессы, которые он описывал в исторических хрониках.
Главное событие трагедии – поединок Ромео и Тибальта, который и привёл к роковым последствиям. Однако здесь совсем другая мотивировка, отличающаяся от той, что была в новелле Банделло. Там Ромео хотел разнять дерущихся, а здесь – нет. Тибальт уже был готов отступить. Но Ромео мстит за друга. Увидев мёртвого Меркуцио, он восклицает: «Огненноокий гнев, я твой отныне!». Несмотря на предложение примириться, он вступает в поединок и сражает Тибальта. Вообще, он не должен был этого делать. Он только что обвенчался с Джульеттой и знает, что Тибальт – её двоюродный брат, принадлежит к роду Капулетти. К тому же поединки в Вероне под строжайшим запретом. Но Ромео поддаётся порыву: в эту минуту он ослеплен гневом и ни о чём ином не помышляет.
Князь Эскал, наверное, имел основания выслать Ромео. Дело в том, что он и не вникал в причины ссоры. Ему просто надоели эти бесконечные уличные стычки и своеволие горожан. Его цель – навести порядок. Именно за «поступок самочинный», приведший к гибели Тибальта, по его же собственному выражению, он и отправляет Ромео прочь из Вероны. Но могло ли быть другим поведение Ромео? Нет. Иначе бы не было и его страсти к Джульетте. И то и другое есть выражение его стихийной, стремительной, безоглядной натуры.
Однако нельзя сказать, что между Ромео и Джульеттой и героями фона нет отличий. Ренессанс – это прежде всего духовный расцвет, а о Тибальте сказано, что он – явный неуч. Я уже говорил, что любовь к Розалине насквозь литературна. Кстати, и слова Ромео, обращенные к Джульетте, хотя глубоки и искренни, но тоже прошли через поэтическую культуру эпохи и отзываются чтением поэтов. Без этого не было бы высокого чувства к Джульетте. Любовь героев как бы впитала в себя весь этот культурный опыт…
Очень важна в трагедии Шекспира фраза о «прекрасном цветке, у которого ядовитые корни». Прекрасный цветок – это любовь Ромео и Джульетты. Ядовитые корни – та обстановка, которая царит в Вероне. Но цветка не существует без корней. Действие трагедии венчается победой князя Эскала и «скорбным примирением» враждующих. Но эта финальная победа объята сумраком. В Вероне, в которой торжествует князь Эскал и обуздан Тибальт, – в такой Вероне не остается места для любви Ромео и Джульетты, герои гибнут.
«Ромео и Джульетта» – не только трагедия любви. Это трагедия Ренессанса, у которого не осталось почвы под ногами; история начала сметать эту удивительную эпоху. Шекспир ещё верит в разумный смысл и неизбежность происходящих перемен. Он понимает, что общественное согласие и порядок необходимы. Но с ядовитыми корнями гибнет и прекрасный цветок.
Один из важных мотивов трагедии – юность Ромео и Джульетты. Они погибли, не растратив заключенные в них огромные резервы жизни. Развязка трагедии не кажется окончательной. «Шекспир, – пишет в своих заметках к стихотворным переводам трагедии Б. Пастернак, – словно боится, как бы зритель не уверовал слишком твердо» в её мнимую безусловность. В «Ромео и Джульетте» ощутима даль будущего, и свет, падающий из этого отдаленного источника, колеблет итоги финала: победа Эскала кажется относительной и неполной, а любовь Ромео и Джульетты – ценностью, неподвластной времени.
Своеобразным прологом ко второму, центральному, периоду творчества Шекспира является его трагедия «Юлий Цезарь» (1599). Здесь Шекспир обращается к римской истории. Но вопросы, которые он затрагивает в этой трагедии, – те же самые, что и в исторических хрониках…
Что сближает эту трагедию с хрониками? Во-первых, сама проблема, поставленная в этой трагедии, прежде всего, – политическая, в отличие, скажем, от «Ромео и Джульетты». А кроме того, название… Дело в том, что Юлия Цезаря, именем которого названа трагедия, убивают в третьем акте, и последние два акта обходятся без него. Завершается действие гибелью Брута: он, собственно, и есть подлинный главный герой этой трагедии. Как и полагается по канонам жанра, трагедия завершается гибелью героя. Это драматургический закон, который соблюдается в «Ромео и Джульетте» и во всех других трагедиях Шекспира. Но эта трагедия не случайно названа именем Цезаря – это время Цезаря. Тот же принцип действует и в исторических хрониках. Но здесь отношение Шекспира к историческому периоду иное, и в чём-то оно предвосхищает более поздние его трагедии.
Цезарь – один из величайших деятелей прошлого. Может быть, есть только три подобные фигуры во всей мировой истории, которые стали своеобразными мифами, – Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон. Цезарь – правитель государства, полководец, проницательный политик, понимающий требования своей эпохи. А главное, он – великий актёр истории. Но Шекспир разделяет Цезаря-человека и Цезаря – историческую фигуру. Он противопоставляет Юлия и Цезаря. Как Юлий, этот человек суеверен и даже проявляет порой слабость. Но не таков Цезарь. «Опасность знает, // что Цезарь поопаснее её». (202)
Он и сам всегда говорит о себе в третьем лице. «Цезарь» – это его историческая роль. Как частный человек, в личной жизни он не всегда может до неё дотягивать. Но, когда творит историю, он – Цезарь.
Однако в трагедии Шекспира возвеличен и Брут. Это честный республиканец, для которого дороже всего в жизни свобода Рима. Он любит Цезаря, хорошо относится к нему лично, но Цезарь готов погубить римскую свободу, а этого Брут не может ему простить. Он говорит так:
Не слишком ли кровав наш путь, Кай Кассий, -
Снять голову, потом рубить все члены?
<…>
Мы против духа Цезаря восстали,
А в духе человеческом нет крови.
О, если б без убийства мы могли
Дух Цезаря сломить! (203)
(акт II, сцена 3)
Он борется не с Цезарем, а с его идеями. Самого Цезаря он бы хотел пощадить. Но убивает-то он, конечно, Цезаря. Кстати, в последнем акте, уже после смерти императора, Бруту является тень Цезаря и повергает его. Дух Цезаря торжествует. А если перевести это на язык реальности, прежнего Цезаря сменяет новый. Дело Юлия Цезаря продолжит Октавиан Август. Дух Цезаря Бруту победить не дано.
Важнейшая в этой трагедии – сцена 3-го акта, в которой происходит убийство Цезаря, после чего Брут и Антоний произносят речи над его телом. Надо сказать, что Цезарь высоко ценил Брута. Узнав, что тот в числе заговорщиков, он произносит фразу, которая, правда, есть только в тексте Шекспира, исторический Цезарь этого не говорил: «И ты, Брут?». А в ответ слышит: «Так умри же, Цезарь!». Уж если Брут ему изменил…
И вот Брут произносит речь. Кассий, более реалистичный политик, чем Брут, уговаривает его не давать слова Антонию. Но Брут – поборник свободы. Он возражает: во имя чего же он тогда сражался? Сам Брут выступает с речью, в которой объясняет, почему он совершил это убийство. Он уважал Цезаря, но тот оказался слишком властолюбив, что грозило погубить римскую свободу. И народ вначале вроде бы поддерживает Брута – это важный момент, хочу это подчеркнуть, – соглашается с его аргументами. А потом выступает с речью Антоний, который говорит о том, как Цезарь хотел облагодетельствовать римлян: будто бы даже оставил завещание, согласно которому народу полагались всяческие подачки. И римляне моментально принимают сторону Антония.
Как к этому относиться? Люди поддерживали Брута, а потом поддержали Антония, даже готовы покарать самого Брута и других заговорщиков. Например, эпизод с Цинной:
Цинна: Правдиво – меня зовут Цинна.
Третий гражданин: Рвите его на клочки: он заговорщик.
Цинна: Я поэт Цинна! Я поэт Цинна!
Четвертый гражданин: Рвите его за плохие стихи, рвите его за плохие стихи!
Цинна: Я не заговорщик Цинна.
Второй гражданин: Всё равно, у него то же имя – Цинна; вырвать это имя из его сердца и разделаться с ним.
Третий гражданин: Рвите его! Рвите его! Живей, головни, эй! Головни. К дому Брута и к дому Кассия. Жгите всё. (204)
(акт III, сцена 3)
Поддержка, оказанная Бруту, – иллюзорная. Но в одном народ остаётся верен себе: он не поддерживает республику. И не случайно будет так сказано о Бруте:
Пусть станет Цезарем.
<…>
В нём увенчаем
всё лучшее от Цезаря. (205)
(акт III, сцена 2)
Они готовы поддержать Брута, если тот станет новым Цезарем. Прежде всего они за идею цезаризма. А кто явится её воплощением – Юлий, или Антоний, или Брут – для римлян не столь существенно…
И перед Брутом возникает одна возможность. Народ подсказывает ему, как надо играть, какую роль он должен на себя принять. Ему следовало бы заявить, что он станет новым Цезарем, и если бы он на это пошёл, то, несомненно, одержал бы победу. Но он не хочет быть актёром, не желает играть, а стремится остаться самим собой. Брут заключает: «Не хочу жить под ярмом времени».
Последние два акта трагедии разворачиваются уже после гебели Цезаря: это борьба Брута и Кассия против Антония Октавиана. Кассий довольно беспринципен. Он начинает брать взятки. Брута это возмущает, а Кассий ему говорит:
В такое время, как сейчас, нельзя
Наказывать за мелкие проступки.
Брут:
И про тебя ведь, Кассий, говорят,
Что будто бы ты на руку нечист
И недостойных званьем облекаешь
За золото. (206)
(акт IV, сцена 2)
Кассий не понимает, какое это сейчас имеет значение…
Впрочем, оба героя гибнут – и Кассий и Брут. И гибелью Брута завершается трагедия. Он, впрочем, сам бросается на меч, понимая, что дух Цезаря одержал победу. Враги Брута – Антоний, Октавиан – воздадут ему должное. Они скажут:
Прекрасна жизнь его, и все стихии
Так в нём соединились, что природа
Могла б сказать: «Он человеком был». (207)
(акт III, сцена 4)
Цезарь – великий актёр истории. А Брут не стал её актёром. Он потерпел полное поражение. Само время было против него, он не хотел слушаться его велений, не чувствовал движения истории. Но зато он остался человеком. В этом смысле «Юлий Цезарь» является прологом к последующим великим трагедиям.
«Гамлет» (1601) – самая неясная, таинственная трагедия Шекспира. Она всегда вызывала множество противоречивых толкований. Условно их можно разделить на две основные группы. Первая – это толкования, которые отрицают загадочность произведения. Приверженцы этой точки зрения считают, что сложности придуманы критиками, а на самом деле всё понятно. Гамлет сначала хочет проверить, виновен ли занявший датский престол Клавдий в гибели его отца. В конце концов он всё же убивает Клавдия, и никакой проблемы для него в этом нет. Не существует никакой загадки Гамлета, её позже придумали. Вторую группу составляют те, кто признают загадочность трагедии и пытаются её разгадать…
Среди многочисленных трактовок «Гамлета», и режиссёрских и литературоведческих, хотелось бы отметить две неправильные, но великие. Прежде всего, это трактовка И. Гёте, автора романа «Годы учения Вильгельма Мейстера», главный герой которого ставит шекспировскую трагедию и в связи с этим вынужден её истолковывать. И вторая – трактовка И. С. Тургенева. Отчасти подобная точка зрения высказывалась и до Тургенева, но наиболее полное выражение получила в его знаменитой работе «Гамлет и Дон-Кихот».
В интерпретации Гёте, Гамлет – благородная, но слабая натура. Слабая, потому что благородная. Он сравнивает Гамлета с прекрасной вазой, в которую высажен дуб. Когда дуб разросся, ваза раскололась, но не потому, что плоха, а потому что драгоценна. Просто не надо было помещать в неё столь мощное дерево, она не для того была предназначена. На плечи утонченного, хрупкого Гамлета выпала тяжелая участь родовой мести, и он мучается, потому что не в силах справиться с той задачей, которая на него возложена.
По мнению Тургенева, «Гамлет» – это трагедия рефлексирующей мысли. Гамлет потому бездействует, что бесконечно размышляет, анализирует каждый свой шаг, а это мешает ему действовать.
Это великие трактовки, но неправильные. Почему они великие, скажу позже. А почему неправильные, отвечу сразу. Вообще, понятия «правильного» или «неправильного» очень смутны и условны. Но есть, по крайней мере, одно условие, которое всегда надо соблюдать. А именно: любая трактовка должна ложиться на текст. Других правил нет. Если трактовка ложится на текст, значит, по крайней мере, допустима. А если тексту противоречит… Нам она может казаться интересной или нет, это другой вопрос, но правильной её назвать нельзя.
Так вот, обе упомянутые мной трактовки тексту трагедии противоречат. Гамлет, между прочим, довольно легко идёт на убийство. Он сразил Полония, который ни в чём не был повинен, не то, что Клавдий. И совершив это, нисколько не раскаивается, наоборот, говорит – так ему и надо. Он отправил на тот свет Гильденстерна и Розенкранца, убил Лаэрта и Клавдия. Пять человек в одной трагедии – не мало, правда? В своё время режиссер Глеб Панфилов упрекал Гамлета: даже перед смертью тот хочет знать, мертвы ли Гильденстерн и Розенкранц Это не укладывается в образ кроткого человека…
Теперь насчёт рефлексирующей мысли. Это замечание справедливо для второго акта трагедии. Гамлет, действительно, на протяжении всего второго акта лишь размышляет, и сам себя упрекает за эту рефлексию. Но после сцены «мышеловки» он действует необычайно активно, и никаких колебаний здесь уже нет. Он убивает Полония, посылает на верную гибель Гильденстерна и Розенкранца, а затем убивает короля.
Кто такой Гамлет? Однажды этот вопрос я задал на экзамене, и в ответ было сказано, что Гамлет – студент. Это правильно, Гамлет действительно приехал в датское королевство из Виттенбергского университета, где учился. Но я хотел услышать, что Гамлет – принц датский. Это важный момент.
Дело в том, что в конце трагедии дается указание на то, что, во-первых, Гамлет толст, а во-вторых – ему тридцать лет. По масштабам того времени тридцать лет – это наши сорок. Представить себе немолодого грузного Гамлета трудно. Гамлет должен быть молод. Дело в том, что и принц и студент – всегда юноши, даже если и не очень молоды, потому что в их жизни всё ещё впереди. Как король должен быть стар, так и принц обязательно должен быть молод. Студент всегда остаётся юношей – хотя бывает, что у него самого уже выросли дети. Что же касается возраста Гамлета, об этом упомянуто только в пятом акте. Но это связано с тем, что актёр, игравший Гамлета, вероятно, был немолод. Шекспир к концу трагедии хотел дать какие-то основания для того, чтобы актёр соответствовал роли.
То, что Гамлет – студент Виттенбергского университета, необыкновенно существенно. Виттенберг был центром европейского гуманизма, и Гамлет, очевидно, вынес из этого обучения целый ряд представлений. Есть такая сцена в трагедии: Гамлет в разговоре с Гильденстерном и Розенкранцем произносит свой знаменитый монолог о человеке. Хочу сразу отметить, что этот монолог является фактически цитатой из сочинения известного итальянского гуманиста Пико де ла Мирандола, его знаменитой «Речи о достоинстве человека»: «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! Поступками как близок к ангелу! Почти равен Богу – разуменьем! Краса вселенной! Венец всего живущего!» (акт II, сцена вторая) (208)
Повторяю: это почти дословная цитата. Этот монолог, видимо, передает усвоенное Гамлетом, то, чему его учили. Но теперь он в подобные вещи уже не верит: «А что мне эта квинтэссенция праха? Мужчины не занимают меня и женщины тоже, как ни оспаривают это ваши улыбки.<…>
…Этот цветник мирозданья, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатёр воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на мой взгляд – просто-напросто скопление вонючих и вредных паров». (акт II, сцена вторая) (209)
Итак, мы застаём Гамлета в состоянии глубокого разочарования в ренессансных идеалах. На вопрос Полония, видящего в руках Гамлета книгу, вероятно, какого-то гуманиста: «Что вы читаете, принц?» – он ответит: «Слова, слова, слова…»
Чем вызвано крушение идеалов? Эльсинорским опытом. Прошло два месяца с тех пор, как Гамлет приехал в Эльсинор на похороны своего отца. И первое, что его поражает, что так мучительно для него, – это поведение королевы. Настолько, что он даже задумывается о самоубийстве:
Два месяца, как умер… Двух не будет.
Такой король! Как светлый Аполлон
В сравнении с сатиром. Так ревниво
Любивший мать, что ветрам не давал
Дышать в лицо ей. О земля и небо!
Что поминать! Она к нему влеклась,
Как будто голод рос от утоленья.
И что ж, чрез месяц… Лучше не вникать!
О женщины, вам имя – вероломство! (210)
(акт I, сцена вторая).
Итак, первый удар по идеалам – разочарование в матери. Гамлет приехал на похороны, а попал на свадьбу… Вообще, это характерно для трагедии: каждый жизненный факт обобщается. Поведение Гертруды – символ поведения женщины, поведения человека вообще. Да и поведения Дании. Дело в том, что раньше все любили короля Гамлета и весьма иронически относились к Клавдию. А теперь лебезят перед новым королем, покупают его портреты и украшают ими стены домов. Дания так же быстро забыла прежнего короля, изменила его памяти, как и королева. Кстати, мать – это вполне мифологический образ, указывающий на символическую связь женщины и земли. Но Гамлет зря удивляется тому, что бывшие подданные спешно меняют парадные портреты. Это не Клавдия портреты развешиваются, а датского короля. Это портреты правителя, а кто им в данный момент является, не столь уж важно.
Очень существенным моментом в трагедии становится сравнение двух королей: старого Гамлета, отца главного героя, и нового короля, Клавдия. Время в трагедии Шекспира стянутое, и поэтому между царствованиями – не два месяца, а векá. Что такое образ старого Гамлета? Это тип короля, каким он представал в эпосе. Например, такая характерная деталь, которая часто упоминается в трагедии: идёт давний спор между Данией и Норвегией, который и «сейчас», то есть во времена Гамлета, всё ещё не утих… Только вот как этот конфликт решал прежде старый Гамлет? Выходил на поединок со старым Фортинбрасом и определял таким образом судьбу своей державы. Так, скажем, Карл Великий в «Песне о Роланде» сражался с Балиганом, в поэме Гомера состязались Парис и Менелай… Таков закон эпоса. Но теперь тоже идёт война, однако всё улаживается иным путём. Так что личность короля и его роль связаны и образуют неразрывное единство. Здесь Клавдий – ничтожество. Но он – король.
Существует образ, который проходит через многие произведения античной литературы, и не только античной. Это сравнение государства с организмом. Государство подобно живому организму, в котором король – своего рода голова. Это образ, который, кстати, и у Шекспира встречается в трагедии «Кориолан», но в целом всё-таки восходит к временам Античности. А здесь возникает другой образ. После сцены «мышеловки» Розенкранц говорит так:
Какая ж осмотрительность нужна
Тому, от чьей сохранности зависит
Жизнь множества! Кончина короля -
Не просто смерть. Она уносит в бездну
Всех близстоящих. Это – колесо,
Торчащее у края горной кручи,
К которому приделан целый лес
Зубцов и перемычек. Эти зубья
Всех раньше, если рухнет колесо,
На части разлетятся. Вздох владыки
Во всех в ответ рождает стон великий. (211)
(акт III, сцена третья).
Теперь это уже не организм, а механизм. Король – это главное «колесо» в государственной машине, а придворные – лишь вспомогательные детали, которые соединены с основной. Они, конечно, заинтересованы в том, чтобы это ключевое колесо работало. Но будет новое колесо – будут и перемычки. Однако есть принципиальная разница между организмом и механизмом: новую голову не приставишь. Даже руку трудно заменить, это будет уже не та рука, а вот новых колёс может быть сколько угодно. Это механизм. Личность здесь роли не играет. Важно занимаемое место.
В этой связи хочу коснуться ещё одной проблемы. Она заключается в том, что в Средние века человек был неотделим от своей социальной роли. Социальная принадлежность отражалась в характерной одежде. Рыцарь, священник, буржуа были одеты по-разному, по внешнему облику сразу можно было определить, из какого слоя общества человек. А Ренессанс считал, что социальные роли не важны: главное – сама личность, человеческая природа. Отсюда любовь к обнажённому телу: человек скидывает с себя покровы, и обнаруживается его божественность. У Боккаччо монах скажет: «Когда я сброшу рясу, <…> вы увидите, что я… такой же мужчина, как и все прочие»
Шекспир это понимает. Но он понимает и другое: да, человеческая личность освобождается от внешнего, от социальных ролей, но эти роли начинают действовать независимо от неё. Тут личность не важна, а важна роль. Раньше личность и роль были связаны, затем личность от роли отделилась, а теперь роль отделилась от личности. Клавдий – король, и потому все лебезят перед ним, льстят ему. Правит он при помощи своих придворных, а это уже зачаточная форма бюрократического аппарата. Личность утратила своё прежнее значение. Это открытие, этот эльсинорский опыт заставили Гамлета подвергнуть сомнению те прежние представления о человеке, которые он почерпнул, учась в Виттенбергском университете.
Завязка трагедии – встреча Гамлета с Призраком. Его часто называют ещё «тенью отца Гамлета». Это справедливо. Хочу сразу уточнить, чтобы не было вопросов, а то иногда студенты спрашивают, верил ли Шекспир в призраков или верил ли он в ведьм, когда речь идет о «Макбете». Не знаю, верил ли Шекспир, но в его трагедии Призрак проявляет себя, во-первых, объективно, а, во-вторых, символически, и этот символический смысл весьма существен.
Как известно, всякая тень – это проекция трёхмерного пространства на двухмерное. А призрак – это проекция четырёхмерного пространства на трёхмерное. Четвёртой координатой здесь является время. Это прошлое, которое отбрасывает тень в настоящее. И встреча Гамлета с тенью отца – это встреча Гамлета с прошлым. Возникает ситуация, близкая к «Орестее» Эсхила. Там тоже дядя героя, узурпировавший власть, убивший царя Агамемнона, его отца, становится мужем его матери. И, подобно Оресту, Гамлет тоже должен отомстить. Но положение Гамлета не похоже на положение Ореста. Для Ореста не было никакой проблемы в том, чтобы покончить с Эгисфом, для него мучительно мстить матери, Клитемнестре. А Гамлета тень отца призывает:
Мой сын, не оставайся равнодушным.
Не дай постели датских королей
Служить кровосмешенью и распутству!
Однако, как бы ни сложилась месть,
Не оскверняй души и умышленьем
Не посягай на мать. На то ей Бог,
И совести глубокие уколы. (212)
(акт I, сцена пятая).
Призрак всячески подчёркивает: «Мать не трогай!» Таким образом, ситуация как бы упрощается. Гамлет должен наказать лишь негодяя Клавдия.
И в этой связи – одна странность. Из всего того, что рассказывает Призрак, Гамлета больше всего волнует, казалось бы, то, что не должно волновать:
Где грифель мой? Я это запишу,
Что можно улыбаться, улыбаться
И быть мерзавцем. Если не везде,
То, достоверно, в Дании. (213)
(акт I, сцена пятая).
Гамлета могло бы поразить другое: брат убил брата. Причём столь подло – спящему влил в ухо яд. А его почему-то больше всего волнует, что можно улыбаться и оставаться злодеем. Он даже считает нужным записать это наблюдение. Все притворяются, никто не бывает самим собой.
В первом акте трагедии мать спрашивает Гамлета, отчего ему кажется столь ужасным случившееся, ведь все родители рано или поздно уходят из жизни.
Не кажется, сударыня, а есть.
Мне "кажется" неведомы. Ни мрачность
Плаща на мне, ни платья чернота,
Ни хриплая прерывистость дыханья,
Ни слёзы в три ручья, ни худоба,
Ни прочие свидетельства страданья
Не в силах выразить моей души.
Вот способы казаться, ибо это
Лишь действия, и их легко сыграть,
Моя же скорбь чуждается прикрас
И их не выставляет напоказ. (214)
(акт I, сцена вторая).
Гамлет глубоко поражён тем, что в мире, который его окружает, никто не предстаёт таким, какой он есть на самом деле. Это важная особенность «Гамлета» как пьесы. Дело в том, что Гамлет почти ни с кем не разговаривает откровенно. Может, иногда с Горацием. А вообще он никому не доверяет…
Шекспир внёс в свою трагедию одну примечательную поправку: дал герою и его отцу одно и то же имя, хотя в хронике этого не было. Герой должен стать новым Гамлетом, тут даже имена совпадают. Однако он чувствует не связь времён, а их разрыв. Между Клавдием и старым Гамлетом – пропасть. Настало совершенно другое время, всё изменилось. Но Гамлет не в силах это исправить…
Итак, первая загадка «Гамлета». Это второй акт. Прошло уже два месяца, а Гамлет бездействует. Сам говорил, что хотел бы «со скоростью мечты и страстной мысли // пуститься к мести», но так ни на что и не решился. Гамлет притворяется шутом. Или безумцем… Впрочем, по-английски это выражается одним и тем же словом “fool”.
Почему он притворяется? Дело в том, что Гамлет ясно видит, что все вокруг притворяются, играют роли. Значит, и у Гамлета тоже должна быть роль. Коль все играют, нельзя не играть. И он выбирает роль шута.
Почему именно шута? Есть много причин, начну с простой: потому что это – откровенно театральная роль. Гамлет играет, и все понимают, что он играет. Что он при этом думает – не важно. А остальные делают вид, что говорят всерьёз. Поэтому, если уж играть, то играть откровенно. Гамлет не лицемерит, но и не говорит то, что думает на самом деле. Он – шут…
Однако в шутовстве Гамлета присутствует и ещё нечно важное. Он считает, что с этими людьми невозможно разговаривать серьёзно: слова для них ничего не значат! И поэтому его шутовство носит столь явный характер. Оно является, как заметил Л.С. Выготский, своего рода «громоотводом откровенного бреда» (215), на фоне которого с особой ясностью выступает истинный смысл, то, что стоит за словами.
Приведу пример. Это из последнего акта: Гамлету является один из придворных, Озрик, который передаёт ему приглашение Клавдия принять участие в поединке с Лаэртом.
ОЗРИК
Милейший принц, если бы у вашего высочества нашлось время, я бы вам передал что-то от его величества.
ГАМЛЕТ
Сэр! Я это запечатлею глубоко в душе. Но пользуйтесь шляпой по назначению. Её место на голове.
ОЗРИК
Ваше высочество, благодарю вас. Очень жарко.
ГАМЛЕТ
Нет, поверьте, очень холодно. Ветер с севера.
ОЗРИК
Действительно, несколько холодновато. Ваша правда.
ГАМЛЕТ
И всё же, я бы сказал, страшная жара и духота для моей комплекции.
ОЗРИК
Принц, – неописуемая! (216)
(акт V, сцена вторая).
Можно с таким разговаривать? Нет. Шутовство – единственная форма, в которой Гамлет может проявлять себя в окружающем его мире. Кроме того, он и не может ни с кем быть откровенным, потому что никому не может рассказать о главном. Ему остаётся только шутовство. Иногда Гамлет говорит всерьёз, но всерьёз его слова никто не воспринимает.
Но это, конечно, не даёт ответа на вопрос: почему Гамлет бездействует? Я скажу так: он и сам этого до конца не понимает. Однако в конце второго акта кое-что приоткрывается. Это сцена с актёрами, так называемая, «мышеловка». Гамлет задумал проверить правдивость слов Призрака, решил устроить представление, в котором будет показано убийство короля, старого Гамлета. По его замыслу, это должно заставить Клавдия как-то себя обнаружить – он не может не прореагировать на этот спектакль.
…Послежу за дядей –
Возьмёт ли за живое. Если да,
Я знаю, как мне быть. Но может статься,
Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять
Любимый образ. Может быть, лукавый
Расчёл, как я устал и удручён,
И пользуется этим мне на гибель.
Нужны улики поверней моих.
Я это представленье и задумал,
Чтоб совесть короля на нём суметь
Намёками, как на крючок, поддеть. (217)
(акт II, сцена вторая).
Итак, Гамлет не до конца доверяет Призраку. Гамлету всё-таки нужно проверить его слова. Может, Призрак вовсе не тот, за кого себя выдает, а Дьявол, принявший облик его отца. Гамлет хочет проверить, и только после этого решается действовать – во всяком случае, так он объясняет своё поведение. Кстати, после сцены с «мышеловкой» Гамлет действительно начинает действовать чрезвычайно активно.
Обращает на себя внимание то, что Гамлет вообще не верит. В его письме к Офелии главные слова – «не верь».
«Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Не верь, что правда где-то.
Не верь…» (218)
(акт II, сцена вторая).
Трижды это повторено. Никому верить нельзя, все обманывают, притворяются. Это неверие вполне мотивировано в трагедии, но в то же время неверие – свойство человека Нового времени. Средние века были веками веры. Новое время – эпохи сомнения. Декарт говорил, что философия начинается с сомнения. Наука начинается тогда, когда возникают сомнения. В этом смысле Гамлет – человек Нового времени, который ничего не принимает на веру. У Ореста не было сомнений в том, что сказал ему Аполлон, – он и не думал ничего проверять. Люди Античности и Средневековья ничего не проверяли, а вот Гамлету необходимо убедиться. Хотя, повторяю, в трагедии это продиктовано самой ситуацией, но в то же время имеет и более широкий смысл.
Однако надо понять, чего боится Гамлет. Его не страшит убить невиновного. Во-первых, он убивает ни в чем не повинного Полония и никакого раскаяния при этом не испытывает. Он отправляет на смерть Гильденстерна и Розенкранца и тоже не чувствует никаких угрызений совести. Что касается Клавдия, то в монологе, к которому мы ещё вернемся, как он его называет? «Блудливый шарлатан! // Кровавый, лживый, злой, сластолюбивый». Может, Клавдий и не убивал старого Гамлета, но он такой негодяй, что покончить с ним не грех.
Чего же боится Гамлет?
Я уже говорил применительно к комедиям, что Шекспир любит параллельное развитие действия. Это присуще и трагедии «Гамлет». Есть сюжетная линия, параллельная линии Гамлета, – это линия Лаэрта. Лаэрт уезжает во Францию, а вернувшись, узнаёт, что Гамлет убил его отца, Полония. В этом смысле его ситуация близка к ситуации Гамлета. Но в отличие от Гамлета, он страстно желает мести и договаривается с Клавдием о том, что в его поединке с Гамлетом шпаги будут отравлены. Он убивает Гамлета, но затем раскаивается в совершенном. Почему? Потому что понял, что это не он мстил за смерть отца, а король Клавдий сыграл на его чувствах. Лаэрт был лишь орудием, и эта мысль заставила его в последнюю минуту раскаяться и во всём признаться Гамлету.
Так вот, Гамлет боится стать орудием в руках зла. Может, это Дьявол принял облик его отца? Ведь неизвестно… Гамлета страшит, что какие-то неизвестные ему силы станут им управлять – вот чего он боится, а не убить невиновного. Вот почему он хочет сначала убедиться, проверить…
Третий акт. Он начинается со знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть». Многим режиссёрам казалось, что этот монолог стоит не на месте, и, берясь за постановку трагедии, они его переставляли. Даже в очень хороших спектаклях… В этом монологе Гамлет как будто бы не задаётся вопросом, виновен ли Клавдий. Он говорит совсем о другом: о жизни и смерти. Монолог произносится перед сценой «мышеловки», но мысль о том, как поведёт себя Клавдий, в нём совершенно отсутствует. Многим поэтому кажется, что этот монолог должен звучать позже, , и надо это исправить. На самом деле, монолог стоит там, где нужно. Не следует режиссёрам думать, что они умнее Шекспира. Хотя «Гамлет» и подвергался на протяжении веков множеству разных трактовок и интерпретаций, главный вопрос трагедии все же был ясен всем с самого начала, даже тем, кто никогда «Гамлета» не читал. Это вопрос – «быть или не быть», а не «мстить или не мстить».
Быть иль не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чём разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снёс бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль,
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств… (219)
(акт III, сцена первая).
Как видите, здесь нет ни слова, связанного с темой виновности Клавдия. Это, действительно, главная проблема Гамлета: если обратиться к монологу, который завершается этими словами, то Гамлет с самого начала упрекает себя за бездействие. И для него укором является поведение актёров, которые в сценическую постановку куда больше вкладывают живых чувств, чем он, исполняя в реальности выпавшую ему роль мстителя:
Не страшно ль, что актёр проезжий этот
В фантазии, для сочиненных чувств
Так подчинил мечте своё сознанье,
Что сходит кровь со щёк его, глаза
И облик каждой складкой говорит,
Чем он живёт! А для чего в итоге?
Из-за Гекубы!
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
А он рыдает. Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к мести,
Как у меня? Он сцену б утопил
В потоке слёз, и оглушил бы речью,
И свёл бы виноватого с ума,
Потряс бы правого, смутил невежду
И изумил бы зрение и слух.
А я,
Тупой и жалкий выродок, слоняюсь
В сонливой лени и ни о себе
Не заикнусь, ни пальцем не ударю
Для короля, чью жизнь и власть смели
Так подло. Что ж, я трус? Кому угодно
Сказать мне дерзость? Дать мне тумака?
Развязно ущипнуть за подбородок?
Взять за нос? Обозвать меня лжецом
Заведомо безвинно? Кто охотник?
Смелее! В полученье распишусь.
Не желчь в моей печёнке голубиной,
Позор не злит меня, а то б давно
Я выкинул стервятникам на сало
Труп изверга. Блудливый шарлатан!
Кровавый, лживый, злой, сластолюбивый!
О мщенье!
Ну и осёл я, нечего сказать!
Я сын отца убитого. Мне небо
Сказало: встань и отомсти. А я,
Я изощряюсь в жалких восклицаньях
И сквернословьем душу отвожу,
Как судомойка!
Тьфу, чёрт! Проснись, мой мозг!.. (220)
(акт II, сцена вторая).
И в этот момент у него возникает мысль: может быть, надо проверить? Я не хочу сказать, что Гамлет не хочет поверить, – он с готовностью поверил бы, и это важно. Но это не главная причина его бездействия. Он сам ищет эту причину и вот наконец находит. Она открывается ему в ходе размышлений – а не то, чтобы эта причина его останавливала. Он и сам поначалу не знает, почему всё-таки колеблется, всё время пытается ответить себе на этот вопрос. Один из ответов Гамлет дает в конце: может быть, за всем этим стоит Дьявол? Надо проверить. А другой ответ звучит в монологе «Быть или не быть»…
Гамлет хотел бы покончить с собственной жизнью. Я ещё к этому вернусь. Но пока его занимает вопрос: что останавливает, удерживает человека от этого шага? Гамлет отвечает на этот вопрос так: «Когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Вот если бы знать! Неизвестность страшнее всего… Это одна из главных тем «Гамлета»… Это касается даже вопроса, ответа на который не существует: что ждёт человека после смерти? Гамлет не может действовать, не зная, чем всё это закончится. Может, все произошло по наущению Дьявола? Вот что хочет знать Гамлет. И когда появляется шанс узнать, он действует без колебаний. Например, после встречи с Призраком он ни минуты не медлит. Хотя друзья его уговаривали: не ходи один, неизвестно, что там такое. Но действие без знания Гамлета пугает. Он хочет знать последствия того, что может совершить.
Это касается и проблемы самоубийства. Если Гамлета что-то и останавливает, так это – неизвестность. Может быть, это не единственная причина, но, по крайней мере, о ней он говорит определенно.
В эпоху «Гамлета» современником Шекспира Кристофером Марло была создана драма, в основу которой положена немецкая легенда о Фаусте. Герой драмы Фауст хочет познать мир и для этого заключает договор с чёртом. Главное устремление Фауста – знать. Такова, во всяком случае, мотивировка: чёрт должен открыть Фаусту знание, за которое тот заплатит душой. Оба героя, и Фауст и Гамлет, хотят знать, но Фауст хочет жить для того, чтобы знать, а Гамлету нужно знать для того, чтобы жить.
Но того, что хочет знать Гамлет, никому знать не дано.
В Средние века самоубийство считалось величайшим грехом. В «Божественной комедии» Данте самоубийцы представлены гораздо большими грешниками, чем убийцы: они находятся в седьмом круге Ада. А Гамлет говорит о праве человека покончить с собой. Вообще, с этого начинается человек Нового времени: с утверждения своего права распоряжаться собственной жизнью.
Уже в первой сцене первого акта, как только уходят королева и Клавдий, Гамлет произносит:
О, если б ты, моя тугая плоть,
Могла растаять, сгинуть, испариться!
О, если бы предвечный не занёс
В грехи самоубийство! Боже! Боже!
Каким ничтожным, плоским и тупым
Мне кажется весь свет в своих стремленьях! (221)
(акт I, сцена первая).
Гамлет считает, что жизнь должна иметь смысл и человек сам за этот смысл отвечает. Если создаётся ситуация, при которой смысл утрачивается, продолжать прежнее существование нельзя. Человек сам определяет смысл своей жизни – не Бог это делает, а он сам. Вот, собственно, вопрос, который стоит перед Гамлетом. «Быть» для Гамлета значит, что его жизнь имеет смысл. Почему он говорит, что готов покончить с собой? Потому что
…кто снёс бы униженья века, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! (222)
(акт III, сцена первая).
То, что Гамлет видит при дворе Клавдия, его не устраивает. Этого он не может принять. Та жизнь, которая его окружает, смысла лишена. И для Гамлета это означает – «не быть».
Но есть разные формы «не быть». Первая – самоубийство, вторая – признать эту жизнь с её законами и жить, как все. Но вот именно этого Гамлет и не может допустить. Чем жить так, лучше уж не жить вообще. Однако есть и другой вопрос. С этого монолог начинается:
…Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними?.. (223)
(акт III, сцена первая).
И здесь сразу следует – «умереть». Гамлет понимает, что дело не в Клавдии. Эта трагедия появилась после «Юлия Цезаря». «Цезарь» был написан Шекспиром в 1600-м году, «Гамлет» – в 1601-м. Реминисценции из «Юлия Цезаря» встречаются в этой трагедии неоднократно. Уже в самом первом акте говорится о том, что на небосводе вновь то же самое расположение звёзд, что и в ночь убийства Цезаря. Об этом говорит стража, и с этого трагедия начинается. Полоний рассказывает, что ему приходилось играть роль Юлия Цезаря и Брут убивал его в Капитолии. Но не на сцене, а в жизни Полония убивает Гамлет. Он и есть Брут этой трагедии. Но только в отличие от исторического Брута он понимает, что можно сразить Цезаря, но нельзя изменить время. Поэтому он заключает: «Покончить с… морем бед». Вот что Гамлета на самом деле волнует! Его главный вопрос – «быть или не быть?» Отомстить Клавдию ничего не стоит. Но ему мало мести. Ему нужно связать распавшиеся времена, ведь он – наследник престола, будущий король Дании. Он должен взять на себя всю полноту ответственности за то, что происходит в королевстве. Он должен стать новым Гамлетом, но чувствует свою неспособность сделать это. Мир изменился.
Вопрос в том, что достойнее? И с этого начинается монолог: «Достойно ль // смиряться под ударами судьбы, // иль надо оказать сопротивленье…» Итак, нет ни одного шанса «быть». Можно покончить с собой, можно примириться с действительностью или же попытаться оказать сопротивленье и всё равно – погибнуть.
Вопрос в том, как достойно «не быть»?
Сцена «мышеловки». Поворотный момент трагедии. У Гамлета больше не осталось никаких сомнений в виновности Клавдия. Тот целиком себя разоблачил. Но сцена к этому не сводится. Дело в том, что Гамлет недаром задумал эту уловку со спектаклем. Он хотел прилюдного разоблачения Клавдия. Ведь Призрак беседовал с ним наедине, и если теперь он сразит нового короля, то окружающие могут воспринять это, как желание захватить трон. Никто ведь не знает о виновности Клавдия. А здесь всем станет очевидно, за что Гамлет ему отомстил.
И вот Клавдий действительно разоблачает себя, но никто этому даже не удивился. Наоборот, все сочли неподобающим поведение Гамлета.
Гамлет не ошибся ни в виновности Клавдия, ни в том, каков мир. Но после сцены с «мышеловкой» кончается бездействие Гамлета. Он переходит к активным действиям. У него больше нет внутреннего оправдания противиться воле Призрака. Хотя Гамлет и понимает, что вряд ли что-либо изменит в этом мире, но, с другой стороны, решает действовать. Наполеон когда-то якобы произнёс фразу: «Надо ввязаться в драку, а там видно будет…».
Итак, Гамлет начинает действовать. От его прежней нерешительности ничего не остаётся. Причём действует он порой успешно, иной раз – нет. Например, сумел подменить бумаги, и отправил на верную смерть Гильденстерна и Розенкранца, и тем самым спас собственную жизнь. А вот, скажем, с убийством Полония все вышло не столь удачно. Это стоило жизни Офелии, которую, если верить Гамлету, он любил, «как сорок тысяч братьев любить не могут». Это очень странная сцена – убийство Полония. Гамлет, такой осмотрительный и осторожный, во всем сомневающийся (даже Призраку не поверил), считающий, что нельзя действовать вслепую, чтобы не оказаться орудием в руках зла, даже не удосужился заглянуть за ковер, посмотреть, кто за ним спрятался. Он ведь не Полония разил, а короля – но не глядя! Он делает так, потому что уже знает главное. Размышления лишь заводят в тупик.
Это ясно выступает в ещё одном двойнике Гамлета – Фортинбрасе. Когда-то отец Гамлета в честном поединке сразил отца Фортинбраса, короля Норвегии. Теперь Норвегия вновь объявила Дании войну – кстати, в финале новым королём Дании вместо Гамлета становится именно Фортинбрас, так что внутренне образы связаны. Гамлет встречает войска Фортинбраса, которые направляются в Польшу. Он спрашивает капитана:
ГАМЛЕТ
Вы движетесь к границе или внутрь?
КАПИТАН
Сказать по правде, мы идем отторгнуть
Местечко, не заметное ничем.
Лишь званье, что земля. Пяти дукатов
Я б не дал за участок, да и тех
Не выручить Норвегии и Польше,
Отдай они в аренду этот клад. (224)
(акт IV, сцена четвертая).
И вот, встретив войска Фортинбраса, Гамлет произносит важный монолог:
Всё мне уликой служит, всё торопит
Ускорить месть. Что значит человек,
Когда его заветные желанья -
Еда да сон? Животное – и всё.
Наверно, тот, кто создал нас с понятьем
О будущем и прошлом, дивный дар
Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.
Что тут виной? Забывчивость скота
Или привычка разбирать поступки
До мелочей? Такой разбор всегда
На четверть – мысль, а на три прочих –
трусость.
Но что за смысл безумолку твердить,
Что это надо сделать, если к делу
Есть воля, сила, право и предлог?
Нелепость эту только оттеняет
Всё, что ни встречу. Например, ряды
Такого ополченья под командой
Решительного принца, гордеца
До кончиков ногтей. В мечтах о славе
Он рвётся к сече, смерти и судьбе
И жизнью рад пожертвовать, а дело
Не стоит выеденного яйца.
Но тот-то и велик, кто без причины
Не ступит шага; если ж в деле честь,
Подымет спор из-за пучка соломы.
Отец убит, и мать осквернена,
И сердце пышет злобой: вот и время
Зевать по сторонам и со стыдом
Смотреть на двадцать тысяч обречённых,
Готовых лечь в могилу, как в постель,
За обладанье спорною полоской,
Столь малой, что на ней не разместить
Дерущихся и не зарыть убитых. (225)
(акт IV, сцена четвертая).
Отношение Гамлета к Фортинбрасу двойственно. С одной стороны, его восхищает решительность Фортинбраса. С другой стороны, Гамлет понимает, что дело, за которое тот ведёт битву, не стоит выеденного яйца.
В чём же отличие Гамлета от Фортинбраса? Фортинбрас, сражаясь за «обладанье спорною полоской» земли, не думает, что цель ничтожна, а усилия тщетны. Он уверен, что совершает великое дело, ради которого «и жизнью рад пожертвовать». Гамлет же понимает, что наказать Клавдия необходимо, но «дело не стоит выеденного яйца». Можно уничтожить Клавдия, но мир не изменишь. А ведь он хотел именно этого: изменить мир, связать распавшиеся времена. Поэтому действующий Гамлет не менее трагичен…
Нанеся Полонию смертельный удар, Гамлет не чувствовал никакого раскаяния. Он даже назвал Полония «крысой», считая, что тот получил по заслугам. Но, узнав, что это погубило Офелию, он испытал глубокое раскаяние. Он понимает, что подобная стремительность действий обернулась весьма плачевно. И в Гамлете наступает ещё одна, последняя перемена. Первый его этап – размышления; второй – активные действия, и вот, наконец, третий, заключительный, этап…
Гамлет явно сожалеет о происшедшем. И вот этот заключительный момент перед поединком – это, пожалуй, единственный эпизод во всей трагедии, когда нам кажется, что мы знаем больше Гамлета… Дело в том, что король вместе с Лаэртом замыслили поединок, в котором шпаги будут отравлены и Гамлета ждет неминуемая гибель. И вот нам кажется, или может показаться, что мы знаем то, чего Гамлет знать не может и потому соглашается сражаться. Может показаться, что мы знаем больше Гамлета. Но это иллюзия.
Ведь Гамлет не должен был принимать этот вызов. У него не было никаких заблуждений в отношении Клавдия не только в том смысле, что тот – убийца его отца. Это само собой разумеется. Но Клавдий и самого Гамлета собирался отправить на смерть в Англию, и тому лишь чудом удалось этого избежать. Так что Гамлет всё понимает и тем не менее решает сразиться с Лаэртом. Зачем? Гамлет, конечно, не знает наверняка, что его ждёт, но у него очень сильная интуиция. Он предчувствует, что всё закончится плохо. Даже Горацио, который куда менее осмотрителен, чем Гамлет и менее склонен разбираться в обстоятельствах, советует не испытывать судьбу. А Гамлет ему отвечает:
– Ни в коем случае. Надо быть выше суеверий. На всё Господня воля. Даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит этого не придётся дожидаться. Если не сейчас, всё равно этого не миновать. Самое главное – быть всегда наготове. Раз никто не знает своего смертного часа, отчего не собраться заблаговременно? Будь что будет! (226)
(акт V, сцена вторая).
Теперь Гамлет решает довериться судьбе. Быть готовым встретить любой её удар – вот новая жизненная позиция Гамлета. Он чувствует, что близится развязка. Какая? Неизвестно… Но он жаждет развязки!
Чтобы стало более понятно это состояние Гамлета, хочу привести пример хорошо известный. Пушкин, отправляясь на дуэль с Дантесом, тоже прекрасно понимал, что это будет развязка. Может, он застрелит Дантеса, а может, и сам погибнет. Если умереть выпадет Дантесу, семью вышлют в деревню, и столь мучительному положению придет конец. А если пуля настигнет его самого – тем более. Вот так же примерно считает и Гамлет: как-то всё должно разрешиться. Но больше это не может продолжаться!
И вот финал этой трагедии. Это как бы модель всей трагедии в целом, тут всё обнажено. В трагедии очень часто, начиная с первого акта, упоминается давний поединок между старым Гамлетом и старым Фортинбрасом. Это было честное рыцарское состязание: встретились два героя, два короля, скрестили шпаги, и в результате разрешился спор двух держав. Поединок Гамлета и Лаэрта – это и не поединок вовсе, от личной доблести здесь абсолютно ничего не зависит. Шпаги отравлены, любое прикосновение станет для Гамлета роковым. А кроме того, на всякий случай, приготовлено отравленное питьё. Гамлет не с Лаэртом здесь сталкивается, а с системой. Он обречен.
У Гамлета нет ни одного шанса «быть». Ни единого. Он не может выйти из этого поединка живым. Поэтому перед ним встает только один вопрос: как достойно «не быть»? Это и есть главное в ситуации Гамлета.
Гамлет сумел достойно «не быть», оказался готовым к этому. Даже получив смертельную рану, он всё-таки наказал Клавдия. Всё, что мог, он сделал…
Для Гамлета это, наверное, был счастливый исход. Он не желал взять в руки корону, не хотел принять на себя эту ношу – стать королём Дании. Он чувствовал, что не в силах изменить мир. Наверное, он ещё раз убедился в этом здесь, в этом последнем поединке. Ведь даже после всего, что случилось, когда уже умерла королева, отравленная Клавдием, когда раскрыл свои козни Лаэрт и Гамлет сразил Клавдия, как реагируют на это придворные? В тексте есть такая примечательная ремарка: сказано «все», не кто-то, а именно «все» кричат «предательство!» Может Гамлет ими править? Нет. И поэтому не случайно он отдаёт свой голос Фортинбрасу. В Дании нет никого, кому бы он мог доверить трон. Это, конечно, ужасно для Гамлета – знать, что на датский престол взойдет чужеземец, но ведь вокруг – никого!
Бог избавил Гамлета от того, чего он более всего боялся, так настойчиво стремился избежать – ему не пришлось стать королём Дании. Он остался датским принцем и как принц выполнил свой долг. Он сумел достойно не быть…
Теперь хочу вернуться к трактовкам «Гамлета», предложенным Тургеневым и Гёте. Почему они неточные, мы уже говорили. А сейчас хотелось бы ответить на другой вопрос: почему они великие? В них всё-таки уловлены какие-то важные черты этой шекспировской трагедии. Гете был прав, утверждая, что Гамлет не в силах справиться с той задачей, которая ему выпала. Это и есть основа трагедии Гамлета – ощущение, что задача непосильна. Только он неточно её сформулировал, конечно, не сам автор, а его герой, Вильгельм Мейстер. В романе Гёте эта задача предстает как необходимость отомстить за смерть отца: убить Клавдия. Но это как раз вполне по плечу Гамлету. Невыполнимо для него другое – связать распавшиеся времена. Перед этой задачей Гамлет чувствует себя бессильным, и в этом – источник его трагедии.
И по-своему был прав Тургенев. Трагедия Гамлета – это во многом трагедия рефлексирующей мысли. Но только не в том смысле, как понимал это Тургенев, считавший, что Гамлет непрерывно размышляет, такова особенность его натуры – бесконечная рефлексия, которая нередко была присуща и героям самого Тургенева. Это не совсем так. Гамлет во второй половине трагедии действует необыкновенно, даже чрезмерно активно и никакой рефлексии не проявляет, это не черта его натуры. Однако в одном Тургенев всё же был прав: трагедия Гамлета в том, что он не может связать мысль с действием. Когда он действует – не раздумывает, а размышляя, не действует. Он или размышляет, или действует, а соединить и то и другое, чтобы действие выражало его мысли, у него не получается. Мысль и действие у Гамлета, действительно, не совпадают.
По сравнению с хрониками, в трагедии «Гамлет» резко изменилось отношение Шекспира к логике исторического развития. Как бы ни старались люди сохранять из века в век какие-то основополагающие, важнейшие ценности, ход времени к ним всё равно оказывается враждебен. Человек, личность бессильны это изменить. Этот мотив звучал уже в исторических хрониках и в трагедии «Юлий Цезарь». Но в «Гамлете» сам герой это осознаёт. Прежние шекспировские герои тоже были бессильны, но не осознавали, что им не дано изменить время, а Гамлет это понимает.
Но всё же, хотя личности и не дано изменить ход времени, ей дано другое, и это не так уж и мало. Ей дано осмыслить время, понять его суть. Сила Гамлета как раз в том и заключается, что он сумел осмыслить своё время.
Хотелось бы завершить разговор о шекспировской трагедии известным стихотворением Давида Самойлова «Оправдание Гамлета»:
Врут про Гамлета,
Что он нерешителен.
Он решителен, груб и умен.
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителем
И глядит в перископ времен.
<…>
Гамлет медлит,
Глаза прищурив
И нацеливая клинок,
Гамлет медлит.
И этот миг
Удивителен и велик.
Миг молчания, страсти и опыта,
Водопада застывшего миг.
Миг всего, что отринуто, проклято.
И всего, что познал и постиг.
Ах, он знает, что там, за портьерой,
Ты, Полоний, плоский хитрец.
Гамлет медлит застывшей пантерой,
Ибо знает законы сердец,
Ибо знает причины и следствия,
Видит даль за ударом клинка,
Смерть Офелии, слабую месть её,—
Всё, что будет потом,
На века. (227)
Гамлет медлит, и этот миг и есть – великий миг Гамлета. В это мгновение он постигает мир, в котором живёт. Но изменить этот мир ему не дано…
«Король Лир» (1605-1606) - одна из самых сложных трагедий Шекспира, быть может, даже более сложная, чем «Гамлет». Хочу сразу пояснить, в чём эта сложность заключается. Ещё в самом начале трагедии, давая перечень действующих лиц, Шекспир уточняет: «Место действия – Британия, время действия – легендарно относимое к IX веку до н.э (3105 от сотворения мира, по Голиншеду». То есть, представьте себе для сравнения: поэмы Гомера – это примерно VIII век до н.э., а действие трагедии «Король Лир» относится к IX веку до н.э. Это глубочайшая, ещё языческая древность. Правда, Шекспир, видимо, плохо знал кельтскую мифологию и потому использовал имена античных богов. Но по ходу действия мы движемся к современности Шекспира.
В «Гамлете» тоже стянутое время, и, скажем, между временем, на которое приходится правление отца Гамлета, прежнего короля Дании, и временем Клавдия прошли века. В образе старого Гамлета представлен эпический образ короля, а Клавдий – это уже современник самого Шекспира. Реальное время в трагедии обозначено вполне определенно: это примерно два месяца, прошедшие с момента, когда Гамлет узнает от призрака об убийстве, совершенном Клавдием, и до финальной развязки. Здесь события довольно быстро разворачиваются, буквально в течение дней.
В «Короле Лире» действие охватывает период с IX века до н.э. вплоть до эпохи Шекспира, поэтому все образы приобретают особый, символический характер. Ничего подобного нет ни в одной другой шекспировской трагедии, и в этом, возможно, заключается главная сложность.
В этой связи хочу обратить внимание на одну деталь. Это возраст героев. Здесь представлены как бы три поколения. Старшее – это король Лир и Глостер. Затем следует поколение их старших детей – это старшие дочери Лира, их мужья и старший сын Глостера – Эдгар. И третье поколение, младшие – это Корделия, младшая дочь Лира, и Эдмунд, незаконнорожденный младший сын Глостера. Реальный возраст героев, конечно, существен в этой драме, но он имеет и более широкий смысл. Это люди разных исторических эпох, ибо здесь действует сложное, стянутое время.
Немного поясню. Дело в том, что, конечно, существует биологический возраст человека. Это очевидно. Но, кроме того, существует и исторический возраст. С этой точки зрения современному человеку свыше двух тысячелетий, если считать от Рождества Христова, таков его исторический возраст, и он не совпадает с биологическим. Дети могут быть старше своих родителей. Физиологически, конечно, это невозможно, но исторически родители живут в прошлом, а дети – в настоящем. Мало кому дано преодолеть свой исторический возраст, но многие до него так никогда и не дорастают. Обычно в юности люди ещё не успевают дотянуться до своего исторического возраста, а в старости начинают от него отставать и живут фактически прошедшей эпохой, представления которой им кажутся нормой.
Разные поколения героев Шекспира – это разные исторические возрасты. Время Лира в первых актах трагедии – это ещё Британия IX века до н.э., глубоко архаичный, языческий мир. Второе поколение – это, может быть, уже Средние века. Шекспир мыслит огромными временными периодами. А младшее поколение – Эдмунд и Корделия – это современники самого Шекспира. Мы ещё к этому вернемся, в ходе изложения это, надеюсь, станет более понятно.
Итак, завязка трагедии. Старый король Лир выдает замуж свою младшую дочь Корделию. Две старшие, Гонерилья и Регана, давно в браке. Незамужней осталась лишь младшая, самая любимая его дочь. За Корделию борются два жениха – бургундский герцог и французский король, оба претендуют на её руку. Но Лир не просто хочет выдать замуж Корделию в этот день – он решает разделить королевство на три равные части. Пока Корделия была не замужем он, видимо, не считал возможным это сделать. Часть королевства он отдает младшей в качестве приданого, а старшие дочери тоже получат свое. Себе он оставляет лишь титул короля, власть же и земли вручает дочерям. Таков его замысел. Но прежде Лир хотел бы выслушать каждую из них.
Я уже говорил об этом в свое время, но напомню еще раз: средневековая жизнь была крайне ритуализирована. Существовали строгие предписания, определявшие поведение людей в той или иной ситуации. Конечно, такие события, как свадьба или раздел королевства, – очень важны. Здесь должны быть соблюдены все требования ритуала. Лир ждет, что каждая из дочерей, как и положено, выскажет ему слова благодарности и любви. Так принято… Но младшая дочь, Корделия, молчит. Праздник испорчен. Лир так готовился к этому дню, ждал его, а любимая дочь так с ним поступила!
Почему Корделия молчит? Дело в том, что старшие дочери, Гонерилья и Регана, с легкостью произносят то, что требуется, говорят Лиру, как они его любят, уверяют, что отец им дороже всего на свете. Корделия понимает, что все эти слова – пустые, ровным счетом ничего не значат, и ей стыдно повторять вслед за сестрами те же самые фразы. Она не хочет в этом участвовать, потому что это уже не ритуал, а спектакль.
И Лир в гневе прогоняет Корделию. Когда за нее пытается вступиться Кент, король и своего приближенного гонит прочь. Лир решает разделить королевство не на три, а на две части и объявляет, что отныне будет гостить поочередно у каждой из двух старших дочерей. Такова завязка трагедии.
Что стоит за этой завязкой? Во-первых, Лир выступает здесь в двух ипостасях. Он – король, недаром трагедия носит название «Король Лир», мы ещё к этому вернемся, и одновременно отец, который делит королевство меж дочерьми. Его отцовское чувство особенно уязвлено поведением младшей и самой любимой дочери Корделии. Прежде всего, хотелось бы отметить, что король и отец – в некотором роде синонимы. Король – это как бы отец своих подданных. Достаточно вспомнить, к примеру, как в России называли правителей? Царь-батюшка, отец народов…
Теперь следующий вопрос: почему Лир всё отдает, но оставляет себе титул короля? Потому что он убежден, что король – титул неотъемлемый, такой же, как и отцовство. Он король, потому что это нечто неотделимое от него самого. Корону отдать нельзя.
Кроме того, он – старик. Карлу Великому в «Песне о Роланде» тоже было за двести лет. Старость – характерная черта образа короля. Кстати, в финале трагедии Лиру, хотя он и очень многое пережил, всё же хватило сил справиться с палачом, погубившим Корделию. В его старости нет никакой дряхлости. Старик, король и отец – это как бы три ипостаси единого образа. Лир не может перестать быть стариком, не может перестать быть отцом и не может перестать быть королем.
Есть один очень важный мотив, который многократно повторяется в этой трагедии – раздевание. Скажем, в третьем акте Лир снимает с себя одежды буквально. И в четвертом акте… Раздевание здесь носит символический характер. Собственно, первая завязка трагедии – это своего рода раздевание. Лир отказывается от королевства, все отдает. А вот то, чего нельзя «с себя сбросить», – перестать быть отцом, королем – этого он отдать не может. Лир отказывается от королевства, но не от звания короля. Впоследствии, мы еще к этому вернемся, шут ему скажет: «Король без королевства это ноль без цифры». Когда есть цифра, ноль – величина, а без цифры, будь хоть сто нолей, это ничто. Ноль есть ноль. Так вот, король – это ноль, при королевстве он ещё что-то значит, а без королевства – просто ноль. Ноль без цифры.
В этой трагедии развиваются параллельно две сюжетные линии. Первая – линия Лира, а вторая – линия Глостера, у которого два сына. Один – законный Эдгар, старший; другой – незаконнорожденный Эдмунд. История Глостера как бы поясняет, подчеркивает историю Лира. Недаром вторая сцена первого акта открывается монологом младшего сына Глостера, Эдмунда:
Природа, ты моя богиня! В жизни
Я лишь тебе послушен. Я отверг
Проклятье предрассудков и правами
Не поступлюсь, пусть младше я, чем брат.
Побочный сын! Что значит сын побочный?
Не крепче ль я и краше сыновей
Иных почтенных матерей семейства?
За что же нам колоть глаза стыдом?
И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче
Передают наследственность тайком,
Чем на прискучившем законном ложе,
Основывая целый род глупцов
Меж сном и бденьем. Да, Эдгар законный,
Твоей землей хочу я завладеть.
Любовь отца к внебрачному Эдмунду
Не меньше, чем к тебе, законный брат.
Какое слово странное: «законный»!
Ну ладно, мой законный. Вот письмо,
И если мой подлог сойдет успешно,
Эдмунд незнатный знатного столкнет.
Я в цвете сил. Я подымаюсь в гору.
Храните, боги, незаконных впредь! (228)
(акт I, сцена вторая).
Он хочет во что бы то ни стало завладеть богатством отца. Ради достижения этой цели он клевещет на брата, обвиняет его во всевозможных преступлениях. Отец прогоняет своего единственного любящего сына Эдгара. Он поверил Эдмунду:
Отец поверил, и поверил брат.
Так честен он, что выше подозрений. (229)
(акт I, сцена вторая).
Эдмунд играет на доверчивости отца, доверчивости брата. Но даже этого ему мало. Он предаёт отца, который поддерживает Лира, и ослепляет его. Не своими руками, – это совершает герцог Корнуэльский, но, собственно, способствует этому. Эдмунд лишён каких бы то ни было чувств к отцу и считает, что тот пожил достаточно, теперь – его черёд.
История Глостера отчасти напоминает историю Лира. Лир прогнал свою любимую дочь Корделию, всё отдал Гонерилье и Регане, которые с ним так жестоко поступили. А Глостер прогнал любящего сына Эдгара и всё вручил Эдмунду, который тоже, в конце концов, его предал. Есть известная схожесть в этих историях. Это, отчасти, бросает свет на завязку трагедии, придавая типичность тому, что произошло с Лиром. Ситуация как бы повторяется в другом варианте, по-своему её освещая. Глостер очень доверчив, и Лир тоже доверяется словам, которые ничего не значат, обманывается видимостью вещей. Однако есть существенные различия… Во-первых, там – три дочери, а здесь – сыновья. Там женщины, здесь – мужчины. Но дело не в том, что плохи женщины или плохи мужчины, хочет сказать Шекспир. Таковы вообще человеческие нравы.
Кроме того, есть ещё один важный момент. У Лира старшие дочери – плохие, а младшая – хорошая, а здесь – наоборот. Но если мы учтем, что за возрастом героев стоит определенный исторический период, я уже говорил об этом, то поймем, что Шекспир относится к истории двойственно. Младшие герои его трагедии – это самая лучшая, Корделия, и самый худший, Эдмунд. Прогресс – это прогресс добра, но и прогресс зла одновременно.
Теперь об образе Эдмунда. Эдмунд чем-то напоминает Яго, одного из центральных героев трагедии «Отелло». Он играет на доверчивости отца, брата, как Яго играл на доверчивости Отелло. Однако есть принципиальное различие между Эдмундом и Яго. Очень сложно определить, какие мотивы движут Яго. Отелло так и не понял, зачем Яго всё это совершал. Вообще, герои Шекспира, как правило, загадочны. Мы никогда не поймем их до конца, они всегда сложнее, чем наше о них представление. А вот Эдмунд – абсолютно понятен. Чего тут непонятного?
Природа, ты моя богиня!..
<…>
Твоей землёй хочу я завладеть.
Вообще, тема природы играет важную роль в этой трагедии. Вначале мы видим ещё языческую Британию. Когда поднимается буря (это третий акт трагедии), Лиру кажется, что это боги разгневались на его дочерей. Дети идут против законов природы, прогоняя из дома отца, – Лир этим потрясен. Он клянется богами… Природа здесь – это еще некий богоустроенный, одухотворенный космос.
А что вкладывает в свои слова Эдмунд, провозглашая природу своей богиней? О какой природе здесь идёт речь? Главное, что им движет, – это его аппетиты, желания… Он стремится разбогатеть! Завладеть землёй брата – вот все его мотивы. Никакой тайны в этом нет, всё элементарно. И ни в какие нравственные установления он не верит, считая, что наступило его время: «…Я отверг // Проклятье предрассудков и правами // Не поступлюсь…». Предрассудки в его понимании – это всякие нравственные установления. Не важно, что он побочный сын. Он любой ценой возьмёт своё! Ослепит отца, вступит в любовную связь с сёстрами – старшими дочерьми Лира. Решая, на ком жениться, он исходит исключительно из соображений собственной выгоды. Обе женщины в него влюблены, одна сестра из ревности убивает другую, а он думает лишь о том, как бы выгоднее поступить. В финале трагедии он совершает даже некий добрый поступок. Зная, что умирает и теперь ему уже ничего не нужно, он скажет: «Освободите Лира и Корделию, я велел с ними покончить». Но это только потому, что сам уже при смерти. Не потому, что он раскаивается в чём-либо. Он не злодей. Яго – злодей, которому доставляет удовольствие творить зло, а Эдмунд – прагматик, следующий лишь соображениям пользы, стремлению удовлетворять собственные потребности. Он вообще вне нравственности, если выражаться современным языком. Им руководят лишь самые примитивные побуждения.
Теперь о том, как развиваются события. Поделив королевство, Лир сперва поселяется у Гонерильи. Но к нему уже не относятся с прежним почтением. Он привык к подобострастию окружающих, ведь он – король. А теперь, спрашивая дворецкого Гонерильи: «Кто я такой?», Лир слышит в ответ: «Вы отец госпожи моей». Он уже не король для него, а отец госпожи Гонерильи.
Есть один важный вопрос, который, видимо, занимает Лира. Почему он решил всё отдать? Он ведь не чувствовал себя настолько старым, чтобы быть не в силах управлять королевством. Скорее он решил провести некоторый эксперимент. В чём его тайный замысел? То, что Лир – старик, существенное обстоятельство, но, как и все в этой трагедии, это тоже надо понимать не только буквально. Я уже говорил о символичности возраста шекспировских героев… Гамлет – юноша, хотя ему, согласно указаниям автора, тридцать лет, но по сути он – юноша, потому что мысль его устремлена в будущее. Его волнует, что впереди. Вот он убьёт Клавдия, а что дальше? Гамлета всё время это занимает, и он чувствует свою ответственность за то, что будет. А Лир – старик, его интересует то, что было. Прежде все его уважали, ценили, лебезили перед ним, клялись в любви и преданности. А вот если он всё отдаст, откажется от власти и богатства, как к нему станут относиться? Кто он сам такой, в конце концов? Он задаст шуту этот вопрос:
Кто я, сударь, по-вашему?
<…>
Я действительно хочу знать, кто я.
Ш у т
Ты был довольно славным малым во время оно… А теперь ты нуль без цифры. <…> Тень Лира. (230)
(акт I, сцена четвертая).
Король без королевства – ноль без цифры…
Поскольку Лиру не оказали должного почтения в доме Гонерильи, он решает отправиться ко второй дочери – Регане. Они же договорились, что отец будет жить поочередно то у одной, то у другой. Но и Регана его не принимает, говорит, чтобы возвращался к Гонерилье, поскольку не прошёл ещё условленный срок. В страшную бурю Лира выгоняют в степь. Он думал, что король – это титул прирождённый, неотъемлемый. Но, оказывается, Лир теперь не только не король, но и не отец. Разве так обращаются с отцом? Оказывается, не только король без королевства ничего не значит, но и отец без богатства…
Третий акт – это первая кульминация трагедии. Сцена бури в степи – первое прозрение Лира, и первый ответ на вопрос всей трагедии: что такое человеческая личность? Прежде Лир обожествлял природу, но вот началась страшная буря, подул ветер, и Лиру кажется, что это гнев самих богов, вызванный поступком его дочерей. Однако он не может не заметить, что очень странно действуют силы природы. Буря, конечно, разразилась, но страдают от неё невинные – Лир и те, кто решил разделить с ним его горькую участь, а дочери укрыты от разбушевавшейся стихии за стенами своих домов. Почему-то кара обрушивается на добрых, а не на злых. И первое разочарование Лира – это пришедшее вдруг понимание, что природа, видимо, не добра и не зла. Это – безразличная к человеку сила…
В степи Лир встречает Эдгара, которого прогнал отец, оклеветал брат. Вообще, образы Лира и Эдгара занимают особое место в этой трагедии. Это герои, которые пытаются понять то, что с ними происходит. Остальные просто действуют, страдают или преуспевают, но не размышляют над собственной жизнью, а Лир и Эдгар пытаются её осмыслить. Эдгар изгнан, и он решает переодеться в нищего. Таким он предстаёт в степи перед Лиром.
Эдгар думает:
Лицо измажу грязью, обмотаюсь
Куском холста, взъерошу волоса
И полуголым выйду в непогоду
Навстречу вихрю. Я возьму пример
С бродяг и полоумных из Бедлама.
Они блуждают с воплями кругом,
Себе втыкают в руки иглы, гвозди,
Колючки розмарина и шипы
И, наводя своим обличьем ужас,
Сбирают подаянье в деревнях,
На мельницах, в усадьбах и овчарнях,
Где плача, где грозясь. Какой-нибудь
«Несчастный Том» ещё ведь значит что-то,
А я, Эдгар, не значу ничего. (231)
(акт II, сцена третья).
Судьба несчастных, о которых идёт речь, характерна для множества людей эпохи Шекспира. Когда происходило огораживание земель, крестьяне, лишённые своих наделов, часто превращались в бродяг, вынужденных жить на подаяния. Образ такого нищего, бедного Тома, и решает примерить на себя Эдгар:
«Моё имя – бедный Том! Он питается лягушками, жабами, головастиками и ящерицами. В припадке, когда одержим злым духом, не гнушается коровьим помётом, глотает крыс, гложет падаль и запивает болотной плесенью. Он переходит из села в село, от розог к розгам, от колодок в колодки, из тюрьмы в тюрьму. У него три камзола на заду, шесть рубашек на теле, лошадь в конюшне и меч на боку». (Акт III, сцена четвертая). (232)
Эта встреча в степи необыкновенно важна в трагедии. Лир скажет бедному Тому:
«Лучше было бы тебе лежать в могиле, чем подставлять своё голое тело под удары непогоды. Неужели вот это, собственно, и есть человек? Присмотритесь к нему. На нём всё своё, ничего чужого. Ни шёлка от шелковичного червя, ни воловьей кожи, ни овечьей шерсти, ни душистой струи от мускусной кошки. Все мы с вами поддельные, а он настоящий. Неприкрашенный человек и есть именно это бедное, голое двуногое животное, и больше ничего. Долой, долой с себя всё лишнее! Ну-ка, отстегни мне вот тут». (Акт III, сцена четвертая). (233)
И Лир срывает с себя одежды.
Итак, первый ответ на вопрос, что такое человек, дан. Человек – это бедное двуногое животное, всё остальное – лишь внешние покровы. Скинь их и окажешься лишь существом, у которого нет «…ничего чужого». Таков первый ответ на поставленный в трагедии вопрос.
Художники Ренессанса недаром любили изображать обнажённое человеческое тело. В Средние века одежда отражала социальный статус. Сразу можно было сказать, кто перед тобой: рыцарь, крестьянин, священник… Человек не выбирал костюм. Внешний облик был продиктован социальным положением, которое воспринималось как нечто неотделимое от личности. Дворянином рождаются, крестьянином рождаются. Священником, конечно, становятся. Но, кстати, принимая духовный сан, человек менял и имя – это было своего рода новое рождение. Он не мог носить прежнее имя, которое было у него в миру.
Но недаром в одной из новелл Боккаччо монах скажет: «Когда я сброшу рясу, <…> вы увидите, что я… такой же мужчина, как и все прочие».
Ренессанс считал: когда человек сбрасывает с себя то, что не является его природой, остаётся прекрасное, совершенное создание. Открывается божественность. А всё остальное, в том числе и социальные атрибуты, несущественно. Но Шекспир понимает и другое: человек в этом мире ничего не значит без определенного социального статуса. Вне общественной роли это лишь бедное двуногое животное… Когда человек сбрасывает с себя одежды, вовсе не божественность проступает. Это уже не ренессансное видение. Этот мотив, кстати, в какой-то мере присутствует уже в «Гамлете». Титулы выступают в трагедии как бы сами по себе. Можно быть ничтожеством, как король Клавдий, но все будут пред тобой пресмыкаться. Но если ты лишён значимой роли в обществе, ты – ничто. Эта тема получит особое развитие в литературе ХХ века. В известной новелле Ф. Кафки «Превращение» герой, престав быть чиновником, начинает ощущать себя насекомым. Вне чина он уже не человек.
Лир считал, что сам по себе чего-то стоит. Но король без королевства – это тоже всего лишь «бедное двуногое животное». Однако смысл сцены к этому не сводится. Эдгар не случайно принял образ нищего, и то, о чём он здесь говорит, вовсе не чуждо главной его идее. Шекспир изображает здесь уже христианскую Европу. А в Средние века, вообще, было очень распространено добровольное нищенство. Люди считали, что только бедные могут рассчитывать на спасение души. Чтобы замолить грехи, многие добровольно начинали скитаться и жить подаяниями, надеясь, что таким образом, возможно, удастся заслужить прощение на том свете. Конечно, Эдгар знает, что его оклеветал брат, никаких иллюзий на этот счёт у него нет. Но, в то же время, он считает, что достаточно согрешил в жизни. Недаром на вопрос Лира: «Кем ты был?» он отвечает: «Гордецом и ветреником. Завивался. Носил перчатки на шляпе. Угождал своей даме сердца. Повесничал с ней. Что ни слово, давал клятвы. Нарушал их средь бела дня. Засыпал с мыслями о удовольствиях и просыпался, чтобы их себе доставить. Пил и играл в кости. По части женского пола был хуже турецкого султана. Сердцем был лжив, легок на слово, жесток на руку, ленив, как свинья, хитер, как лисица, ненасытен, как волк, бешен, как пес, жаден, как лев». (Акт III, сцена четвертая). (234)
Теперь он – бедный Том, но во всём случившемся ощущает и свою собственную вину: возможно, в его несчастьях заключена некая божественная кара, которую следует принять со смирением.
Все виноваты! Этот мотив присутствует и в рассуждениях Лира. Глядя на бедного Тома, Лир восклицает:
Бездомные, нагие горемыки,
Где вы сейчас? Чем отразите вы
Удары этой лютой непогоды,
В лохмотьях, с непокрытой головой
И тощим брюхом? Как я мало думал
Об этом прежде! Вот тебе урок,
Богач надменный! Стань на место бедных,
Почувствуй то, что чувствуют они
И дай им часть от своего избытка
В знак высшей справедливости небес. (235)
(акт III, сцена четвертая).
Лир тоже чувствует свою вину. «Бездомные, нагие горемыки…» Теперь он сам стал одним из них, разделил их участь.
Но есть одно принципиальное отличие Лира от других героев этой трагедии. Он – король и, значит, в ответе за всё, что творится в королевстве. Никогда прежде он даже не вспоминал об этих несчастных.
Если Гамлет размышляет о будущем, то Лира волнует прошлое. Он всегда полагал, что в королевстве всё в порядке, а, оказывается, столько бедствующих, обездоленных вокруг. Поэтому, когда Лир снимает с себя царское облачение, это своеобразное покаяние…
Однако особенность этой трагедии в том, что в ней есть и вторая кульминация. Обычно в трагедии Шекспира – только одна кульминация, приходящаяся на третий акт. В этой трагедии их две. Вторая – это кульминация четвертого акта. Мы ещё вернёмся к этой сцене, а пока хочу отметить: Лир произносит монолог, который столь же весом, играет такую же важную роль в этой трагедии, как, скажем, монолог «Быть или не быть…» в «Гамлете».
На протяжении первых трех актов трагедии основная проблема, главный вопрос, волнующий героев, – это «иметь или не иметь». Лир всё отдал. У Эдгара всё отняли. Эдмонд хочет во что бы то ни стало завладеть принадлежащим брату…
Лир тоже когда-то пользовался властью, уважением. Но когда всё это ушло из его жизни, он не только перестал быть королём, а перестал быть отцом. Оказался нищим и теперь сравнивает себя с бедным Томом, который тоже всего лишился. Но уже с конца третьего и в четвертом акте эта тема начинает звучать гораздо острее. Это уже не вопрос «иметь или не иметь», а вопрос «быть или не быть».
Над всеми героями трагедии нависает смертельная угроза. Глостер вначале пытается спрятать Лира, а старшие дочери и, в особенности, муж Реганы, герцог Корнуол, стремятся во что бы то ни стало отыскать Лира и взять его под стражу. Они не знают, где находится Лир, и ослепляют Глостера, который отказывается им это открыть. А Эдмонд предаёт отца, и это тоже выходит за границы проблемы «иметь или не иметь»… Зло становится настолько велико, что грозит всё вокруг разрушить.
Но добрые, наконец, приходят к сопротивлению… Эдгар снимает с себя облачение бедного Тома. Он встречает ослеплённого отца, и то, что он испытывает, – это уже не просто ощущение свершившейся несправедливости, а что-то более ужасающее. Действие происходит в Дувре. Дувр – это край земли. Кент, который выступал против Лира, когда тот прогнал Корделию, теперь отправляется во Францию, чтобы призвать Корделию на помощь. В Британию вступают войска французского короля. Такова внешняя канва событий четвертого акта.
Мы снова видим Лира. Он впал в безумие. Эта сцена безумия Лира и есть вторая кульминация трагедии. Глостер и Эдгар видят Лира, причудливо убранного полевыми цветами, и Эдгар скажет: «Умалишённый – видно по наряду».
Но не менее безумна и его речь.
Л и р
Нет, они не могут запретить мне чеканить деньги. Это моё право. Я ведь сам король.
Э д г а р
О, душу раздирающая встреча!
Л и р
Природа в этом отношении выше искусства. – Вот тебе солдатское жалованье. Этот малый держит лук, как воронье пугало. Оттяни мне тетиву на всю длину стрелы. Смотрите, смотрите – мышь! Тише, тише. Мы её сейчас поймаем на этот кусочек поджаренного сыра. – Вот моя железная рукавица. Я её бросаю в лицо великану. Принесите алебарды. – Хорошо слетала, птичка! В цель, прямо в цель! – Говори пароль. (236)
(акт IV, сцена шестая).
Безумный, или притворяющийся безумцем Лир произносит здесь свой знаменитый монолог. Это второй центральный монолог в этой трагедии:
Ты уличную женщину плетьми
Зачем сечёшь, подлец, заплечный мастер?
Ты б лучше сам хлестал себя кнутом
За то, что втайне хочешь согрешить с ней.
Мошенника повесил ростовщик.
Сквозь рубища грешок ничтожный виден,
Но бархат мантий прикрывает всё.
Позолоти порок – о позолоту
Судья копьё сломает, но одень
Его в лохмотья – камышом проколешь.
Виновных нет, поверь, виновных нет:
Никто не совершает преступлений.
Берусь тебе любого оправдать,
Затем что вправе рот зажать любому.
Купи себе стеклянные глаза
И делай вид, как негодяй политик,
Что видишь то, чего не видишь ты. (237)
(акт IV, сцена шестая).
Этот монолог, с одной стороны, как будто бы перекликается с тем, что говорил Лир в монологе третьего акта. Настоящий человек – это лишь бедное двуногое животное, все прочее – покровы. Здесь звучит та же тема: «Сквозь рубища грешок ничтожный виден, // Но бархат мантий прикрывает всё. // Позолоти порок – о позолоту // Судья копьё сломает, но одень // Его в лохмотья – камышом проколешь». Всё определяется богатством, «одеждами», нищий в этом мире бессилен.
Однако есть одно существенное отличие. В третьем акте главным мотивом была тема вины, речь шла о том, что все в мире – виноваты, а Лир виновнее других, поскольку, как король, несёт ответственность за то, что творилось в его королевстве. Тема вины есть и у Эдгара, – то же ощущение, что в бедствиях, обрушивающихся на людей, возможно, вершится некая высшая справедливость. Но здесь – другой мотив. «Виновных нет, поверь, виновных нет: // Никто не совершает преступлений. // Берусь тебе любого оправдать, // Затем что вправе рот зажать любому». Там звучало: все виноваты, особенно я, поскольку был королём. А здесь, наоборот: виновных нет. Всё определяют власть, богатство, а виновных – нет. Виновато несправедливое устройство мира, а не люди.
Позолоти порок – и всё будет в порядке. Эта тема получит дальнейшее развитие в литературе, начиная уже с XVIII, но особенно в XIX веке. Виноваты не люди, а социальный порядок, ставящий жизнь человека в зависимость от его положения в обществе. Создайте равные, благоприятные условия для всех, и наступит, наконец, счастливое время. Лев Толстой, который, кстати, не очень любил Шекспира, не случайно одну из своих програмных статей назвал словами его трагедии: «Нет в мире виноватых». Шекспир здесь действительно в чём-то предвосхищает мысль литературы XIX века.
Но если нет виноватых, значит, нет и правых. Значит, не существует человеческого бытия. Вообще, этот монолог нельзя читать в отрыве от целого, как я его сейчас привёл. Его нужно рассматривать в контексте всей сцены, а это сцена шутовства и безумия Лира.
Важнейший образ этой трагедии – образ шута. Он, правда, присутствует лишь в первых трёх актах и исчезает со сцены в четвёртом. Некоторые исследователи объясняли это тем, что в шекспировском театре роли шута и Корделии исполнял один и тот же актёр, и поскольку в четвёртом акте на сцене появляется Корделия, то, соответственно, шут исчезает. Кроме того, женские роли всегда исполнялись мужчинами, женщины в театральных постановках в то время не участвовали. Этим, может быть, объясняется, почему нет шута в первой сцене трагедии, где действует Корделия. Но всё же это не отражает сути.
Если бы Шекспиру понадобился в четвертом и пятом актах шут, он, наверное, нашёл бы на эту роль другого актёра. Но, начиная с четвёртого акта, шут ему уже не нужен. Он просто утрачивает свою роль. Сам Лир становится шутом. Его поведение здесь – это чистое шутовство.
Вообще, шуты занимают очень важное место в драматургии Шекспира, особенно в его комедиях. Правда, обычно у них есть имена, здесь же шут никак не назван. И это не случайно: Шекспиру важно было подчеркнуть, что это шут вообще. Что такое роль шута? Она заключалась в том, чтобы смешить короля. Это главное, что требовалось. Шут должен был говорить всякие глупости и нелепости. Королю это нравилось. Он чувствовал себя очень умным, смеясь над своим шутом. Самая простая форма подобного шутовства – это всё представлять шиворот-навыворот.
Но дело в том, что шут живёт в мире, в котором и так всё перевернулось, и поэтому это горький шут. Шут понимает, насколько безумно поступил Лир, прогнав Корделию и отдав всё своё богатство, все свои земли старшим дочерям. Но всё вокруг стало шиворот-навыворот. Уже в третьем акте в сцене в степи Лир скажет:
Когда попов пахать заставят,
Трактирщик пива не разбавит,
Портной концов не утаит,
Сожгут не ведьм, а волокит,
В судах наступит правосудье,
Долгов не будут делать люди,
Забудет клеветник обман
И не полезет вор в карман,
Закладчик бросит деньги в яму,
Развратник станет строить храмы,-
Тогда придёт конец времён,
И пошатнется Альбион,
И сделается общей модой
Ходить ногами в эти годы. (238)
(акт III, сцена вторая).
А пока все мы ходим на голове, остаёмся в перевёрнутом мире…
Кстати, в английском языке слово «шут» имеет три значения. Английское слово «fool» значит «шут», «дурак» и «безумец». У шута дурацкий колпак. Он говорит то, что вызывает смех. Конечно же, шут – не дурак. Но он играет роль дурака:
Ш у т
…Ты валяешь дурака, если заступаешься за опального. Нет, правда, держи, брат, нос по ветру, а то простудишься. Бери мой колпак. Видишь, этот чудак прогнал двух своих дочерей, а третью благословил против своей воли. Служить ему можно только в дурацком колпаке. – Ну как, дяденька? Жаль, нет у меня двух колпаков и двух дочерей!
Л и р
Для чего, дружок?
Ш у т
Состояние я отдал бы дочерям, а колпаки оставил бы себе. Вот один у меня, а другой выпроси себе у дочек.
Л и р
Берегись, каналья! Видишь плётку?
Ш у т
Правду всегда гонят из дому, как сторожевую собаку, а лесть лежит в комнате и воняет, как левретка.
<…>
Ш у т
Хочешь, куманёк, выучить изречение?
Л и р
Ладно.
Ш у т
Слушай, дяденька:
Наживайся тайком,
Не мели языком,
Меньше бегай пешком,
Больше езди верхом,
Не нуждайся ни в ком,
Не водись с игроком,
Не гуляй, не кути,
А сиди взаперти:
Двадцать на двадцати
Сможешь приобрести.
Л и р
Это вздор, дурак!
Ш у т
Бесполезный, как слова адвоката, не получившего за свою речь платы. А скажи, дяденька, можно из ничего извлечь какую-нибудь пользу?
Л и р
Нет, голубчик, из ничего ничего и не получается.
<…>
Ш у т
А ты знаешь, куманёк, какая разница между злым дураком и добрым дураком?
Л и р
Нет, братец. Научи меня.
Ш у т
Кто дал тебе совет,
Отдать свой край другим,
Тот от меня, сосед,
Умом неотличим.
Я злой дурак – и в знак
Того ношу колпак,
А глупость добряка
Видна издалека.
Л и р
Ты зовёшь меня дураком, голубчик?
Ш у т
Остальные титулы ты роздал. А это – природный.
<…>
Надо быть ослом, чтобы не понять, что тут всё шиворот-навыворот:
яйца курицу учат. Просто загляденье! (239)
(акт I, сцена четвертая).
На вопрос Лира: «Скажите, кто я?», шут отвечает: «Тень Лира». Король без королевства – это «нуль без цифры».
Однако, всё прекрасно понимая, шут все же уходит вместе с Лиром в степь, а не остается в доме Реганы.
Того, кто служит за барыш
И только деньги ценит,
В опасности не сохранишь,
И он в беде изменит.
Но шут твой – преданный простак,
Тебя он не оставит.
Лукавый попадёт впросак,
Но глупый не слукавит. (240)
(акт II, сцена третья).
Шут понимает:
Отец в лохмотьях на детей
Наводит слепоту.
Богач – отец всегда милей
И на ином счету.
Судьба продажна и низка
И презирает бедняка. (241)
(акт II, сцена третья).
Прекрасно осознавая всё это, он уходит вместе с Лиром, потому что – дурак. Был бы умным – остался. Он знает, что ничего хорошего их в степи не ждёт…
А кто умный в этой трагедии? Лир – тоже дурак, он всё отдал. Кто же умный? Эдмунд, который понял, что надо любой ценой приобрести богатство. Оклеветал брата, предал отца…
Отец поверил, и поверил брат.
Так честен он, что выше подозрений.
Их простодушием легко играть.
Я вижу ясно, как их обморочить.
Не взял рожденьем, так своё возьму
Благодаря врождённому уму. (242)
(акт I, сцена вторая).
Он, действительно, лишь берёт. А Лир – дурак. И шут – дурак, хотя это его профессия….
Но в то же время недаром понятия «шут» и «безумец» выражаются в английском языке одним и тем же словом. Вообще, у Шекспира есть два героя, которые отчасти безумны, а отчасти притворяются безумцами – это Гамлет и Лир. Конечно, Гамлет больше притворяется, чем безумен на самом деле, а Лир скорее безумен, хотя и притворяется в какой-то степени. Разница тут в мере. У Шекспира эта грань трудно уловима.
С чем это связано? Мы к этому привыкли, но для сознания шекспировского героя это просто невыносимо – понимать, что существуют две истины: истина того, что должно быть, и того, что есть на самом деле. Отсюда возникает раздвоенное сознание: с одной стороны, мы знаем, как должно быть вообще, по идее. Но нам известно и то, что в жизни всё далеко не так. А где же тогда правда? Непонятно. Действительность – это то, что должно быть, или то, что есть на самом деле? Отелло и Макбет не знают подобной раздвоенности. Отелло убивает Дездемону, чтобы восторжествовала эта идеальная, единственная, существующая для него правда. Он не понимает, как могут уживаться две правды. Для него это невыносимо. Макбет поверил ведьмам и считает, что никакой иной правды быть не может. А вот Лир и Гамлет воспринимают мир иначе. Они понимают, что так быть не должно, но так есть. Реальная жизнь – это одно, а идеальное о ней представление – совсем другое. Это болезненное, раздвоенное сознание.
Теперь вернёмся к сцене четвертого акта. Это сцена безумия Лира. А может быть, он играет безумного, играет шута, здесь трудно отделить одно от другого. Главный вопрос, который звучит в этой сцене: король он или не король?
«Нет, они не могут запретить мне чеканить деньги. Это моё право. Я ведь сам король. <…> Природа в этом отношении выше искусства». (243)
(акт IV, сцена шестая).
Лир – прирождённый король, тут ничего не скажешь. Но дальше начинается шутовство.
… Вот тебе солдатское жалованье. Этот малый держит лук, как воронье пугало. Оттяни мне тетиву на всю длину стрелы. Смотрите, смотрите – мышь! Тише, тише. Мы её сейчас поймаем на этот кусочек поджаренного сыра. – Вот моя железная рукавица. Я её бросаю в лицо великану. Принесите алебарды. – Хорошо слетала, птичка! В цель, прямо в цель! – Говори пароль. (244) (акт IV, сцена шестая).
Сначала он говорит: «Я – король», а потом, вероятно, разыгрывает шутовскую сцену… Какой же он король?! А потом вновь:
Король, и до конца ногтей – король!
Взгляну в упор, и подданный трепещет.
Дарую жизнь тебе. – Что ты свершил?
Прелюбодейство? Это не проступок,
За это не казнят. Ты не умрешь.
Повинны в том же мошки и пичужки. -
Творите беззакония. С отцом
Сын Глостера побочный был добрее,
Чем дочери законные – со мной.
Рожайте сыновей. Нужны солдаты… (245)
(акт IV, сцена шестая).
Он – «король, и до конца ногтей – король». Но никто перед ним уже не трепещет. Он и сам над собой смеется… И вот Лир говорит Глостеру:
…Чтобы видеть ход вещей на свете, не надо глаз. Смотри ушами. Видишь, как судья издевается над жалким воришкой? Сейчас я покажу тебе фокус. Я всё перемешаю. Раз, два, три! Угадай теперь, где вор, где судья. Видел ты, как цепной пёс лает на нищего? <…> А бродяга от него удирает. Заметь, это символ власти. Она требует повиновения. Пёс этот изображает должностное лицо на служебном посту. (246)
(акт IV, сцена шестая).
Далее следует монолог, который я уже приводил: «Ты уличную женщину плетьми, зачем сечешь, подлец, заплечный мастер?» Итак, что же такое власть? Любой пёс сойдет за короля, если в его распоряжении окажется власть, никаких личных качеств и достоинств для этого не требуется. Поэтому «виновных нет, никто не совершает преступлений». Кстати, Лир здесь приходит к истине Эдмунда, который убеждён, что надо лишь суметь присвоить земли брата и всё. Никаких преступлений не существует. Есть богатство – есть власть. Какие преступления? Всё это болтовня. Виновных нет. Лир прежде считал, что он – король и потому виноват во всём. Ему было стыдно за то, что прежде он так мало думал о несчастных и обездоленных вокруг. Теперь же он приходит к выводу: никакой он не король, просто у него была власть. Всё дело в этом. А человека в лохмотьях и камышом проткнёшь. Никакой он не король и никогда им не был.
Лир как бы дорастает до эпохи Шекспира, открывает для себя эту новую историческую истину. Но он не может её принять. Он, как и Гамлет, не в силах с этим смириться и потому приходит в состояние безумия. Лир и на самом деле «ранен в мозг». Сосуществование двух противоположных истин ввергает его в безумие. А с другой стороны, он играет этой раздвоенностью, как шут.
Наконец появляется придворный. Приехала Корделия, и это один из её придворных. Он обращается к Лиру почтительно, как к королю:
Вот он. Не упускайте. – Государь,
Дочь любящая ваша…
Л и р
Нет, спасенья?
Я пленник? Да, судьба играет мной.
Не делайте вреда мне. Будет выкуп.
Я попрошу врача. Я ранен в мозг.
П р и д в о р н ы й
У вас ни в чём не будет недостатка.
Л и р
Опять мне всё сносить? Я превращусь
В солёный столб – весь век слезами землю,
Как из садовой лейки, поливать.
П р и д в о р н ы й
Мой государь…
Л и р
О, я умру без жалоб,
Как юноша! Не надо унывать.
Да, да. Ведь я король, не забывайте!
Вы помните ли это, господа?
П р и д в о р н ы й
Вы – повелитель наш. Мы вам послушны.
Л и р
Тогда другое дело. Чтобы поймать счастье, надо уметь бегать. Прыг, прыг, прыг…(247)
(акт IV, сцена шестая).
Так король он или не король? Ведь трагедия не случайно называется «Король Лир». Но, может быть, только потеряв всё, Лир и становится настоящим королем. Он поднимается над системой, а раньше был внутри неё. Теперь, правда, он бессилен что-либо изменить в этой системе, и в этом смысле он – не король. Но теперь он стоит над ней. Он король в той степени, в какой каждый человек – король, если сумел подняться над данностью.
Дальнейший ход трагедии – это встреча Лира с Корделией. Корделия – самая безупречная героиня этой драмы. Она приезжает на помощь отцу, Лир излечивается от безумия. Чувство, которое он испытывает теперь к Корделии, – это чувство стыда. Лиру стыдно… Это очень важный мотив, который носит, как и всё в трагедии Шекспира, символический характер. Дело в том, что у Лира нет вины перед Корделией по одной простой причине. Лир её, конечно, прогнал, но жизнь Корделии сложилась не так уж и плохо. Хотя бургундский герцог и не захотел брать в жены бесприданницу, французскому королю так понравилось, как держалась Корделия, что он решил жениться на ней и увезти во Францию. А это гораздо лучшая партия. Её любят, она счастлива. Так что никакой вины нет. Но Лиру стыдно за свой поступок. Это очень важный этап в его жизни....
Стыд – это, может быть, главное, что отличает саму Корделию от других. В первой сцене, собственно, завязке трагедии, она не смогла сказать Лиру тех слов любви и благодарности, которые тот от неё ждал. Она видела, что сёстры лицемерят, и ей было стыдно. Вернувшись в Британию из Франции, она узнала, как ужасно сёстры поступили с отцом, и вновь испытала это чувство. Ей вновь стало очень стыдно за них. Лир тоже после этой встречи с Корделией испытывает стыд.
Что такое стыд? Конечно, мы не знаем, когда человек впервые испытал это чувство, но некоторый изначальный образец представлен в Библии. Вкусив от древа познания добра и зла, Адам и Ева устыдились своей наготы. Вины в этом никакой не было. Вина заключалась в другом: они нарушили запрет Бога. А вот то, что ходили голыми, – какая тут вина? Но они впервые испытали чувство стыда. Что такое здесь стыд? Это чувство собственного несовершенства.
Приведу ещё один пример. Это реакция немецкого писателя Томаса Манна на взрыв атомной бомбы, произведённый американцами в 1945 году. Многие из его современников испытали в тот момент ужас. Это был только первый опыт, и никто не знал, способно ли это новое оружие в дальнейшем обернуться крупномасштабными войнами и что вообще станет с планетой. Томас Манн писал тогда, что люди дошли до состояния, позволяющего уничтожить всё то, что было создано человечеством на протяжении тысячелетий. «Если это произойдёт, будет очень стыдно», – заключил Томас Манн. Он никакого отношения не имел к появлению атомного оружия. Он не физик, не учёный. Эйнштейн, скажем, мог чувствовать свою вину. Он, может, и не хотел подобного, но косвенно всё-таки был причастен к этому опасному открытию. Как и многие другие исследователи, которые работали над атомной энергией как теоретической проблемой. И вот к чему это привело: вслед за первым испытанием последовали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. У физиков, у политиков, безусловно, могли быть основания ощущать за собой вину, а Томас Манн – писатель. Но ему было стыдно за Человека вообще. Неужели люди дошли до подобного, и уже не стихийные бедствия, не природные катастрофы – потопы, землетрясения и прочее, а они сами собственными руками готовы всё разрушить…
Так вот, Лир тоже испытывает чувство стыда. Не только перед Корделией. Корделия – воплощение этого начала. У Лира раньше было чувство вины, ему казалось, что он был плохим королем, слишком мало думал об обездоленных. В третьем акте он даже кается. А в четвёртом заключает: «Нет в мире виноватых». Виновата система, в которой он был только орудием. И всё-таки любая система создается людьми. Конечно, может, отдельный человек и бессилен что-либо в ней изменить, но определенную ответственность за происходящее всё же несет. И потому главное чувство, которое испытывает теперь Лир, – это стыд человека за несовершенный мир, который его окружает…
Лир больше не хочет принимать участия в делах этого мира, потому что ничего хорошего это не приносит…. Ему противно всё. Когда, по распоряжению Эдмунда, его и Корделию отправляют в тюрьму, он, в общем-то, мало об этом сожалеет. Ему даже кажется, что это не так уж и плохо:
…Пускай нас отведут скорей в темницу.
Там мы, как птицы в клетке, будем петь.
Ты станешь под моё благословенье,
Я на колени стану пред тобой,
Моля прощенья. Так вдвоем и будем
Жить, радоваться, песни распевать,
И сказки сказывать, и любоваться
Порханьем пестрокрылых мотыльков.
Там будем узнавать от заключённых
Про новости двора и толковать,
Кто взял, кто нет, кто в силе, кто в опале,
И с важностью вникать в дела земли,
Как будто мы поверенные Божьи.
Мы в каменной тюрьме переживём
Все лжеученья, всех великих мира,
Все смены их, прилив их и отлив. (248)
(акт V, сцена третья).
Лир грезит, как они вдвоём с Корделией станут смотреть на всё происходящее со стороны. Однако и это оказывается иллюзией, потому что именно в этот момент Эдмунд отдаёт приказание умертвить Лира и Корделию.
И вот финал этой трагедии. Как и в «Макбете», добрые наконец приходят к сопротивлению – слишком велико стало зло. Эдгар, сын Глостера, убивает Освальда, а затем вызывает на поединок и сражает клинком Эдмунда. Слуга герцога Корнуэльского, потрясённый тем, как тот поступил с Глостером, убивает своего господина. Гибнут Гонерилья и Регана: одна сестра травит другую, а потом и самою себя. Вроде бы, торжествуют добрые. Остаются герцог Альбанский, муж Гонерильи, благожелательный человек, один из немногих в этой трагедии, и Эдгар. Им кажется, что зло наконец побеждено.
Но Шекспир здесь использует один приём, к которому обычно редко прибегают драматурги. И делает это, конечно, не случайно. Эдгар рассказывает герцогу Альбанскому историю своих мытарств. Но дело в том, что зрителю обо всём этом уже известно. Обычно, и таков закон драматического жанра, герой повествует лишь о том, что происходит за сценой. Время трагедии ограничено, и поэтому любой рассказ всегда касается лишь тех моментов, которые остаются скрыты от зрителя. Здесь же герой повторяет то, о чем зритель уже знает. Шекспир хорошо понимал законы театра, поэтому вряд ли это могло возникнуть случайно. Он хотел, чтобы зритель почувствовал затянутость. Скучно слушать о том, что уже знаешь. А в это время умирающий Эдмунд говорит: «Что вы тут разговариваете? Я ведь дал распоряжение убить Лира и Корделию, так освободите же их». Но поздно. Лира они спасти успели, а вот Корделия оказалась уже мертва.
И вот появляется Лир с мёртвой Корделией на руках:
Вопите, войте, войте! Вы из камня!
Мне ваши бы глаза и языки –
Твердь рухнула б!.. Она ушла навеки…
Да что я, право, мёртвой от живой
Не отличу? Она мертвее праха.
Не даст ли кто мне зеркала? Когда
Поверхность замутится от дыханья,
Тогда она жива. (249)
(акт V, сцена третья).
В какое-то мгновение Лиру кажется, что Корделия может быть ещё жива:
Ах, если это правда, – этот миг
Искупит всё, что выстрадал я в жизни.
Но это лишь «перо пошевелилось»…
Л и р
<…>
Пропадите!
Убийцы, подлецы! Я б спас её,
А вот теперь она ушла навеки. -
Корделия, Корделия, чуть-чуть
Повремени ещё! Что ты сказала?-
Ах, у неё был нежный голосок,
Что так прекрасно в женщине. – Злодея,
Тебя повесившего, я убил.
О ф и ц е р
Да, господа, он это, правда, сделал.
<…>
Мою
Бедняжку удавили! Нет, не дышит!
Коню, собаке, крысе можно жить,
Но не тебе. Тебя навек не стало.
Навек, навек, навек, навек, навек! –
Мне больно. Пуговицу расстегните…
Благодарю вас. Посмотрите, сэр!
Вы видите? На губы посмотрите!
Вы видите? Взгляните на неё! (250)
(акт V, сцена третья).
Здесь звучат очень важные слова: «навек» – навек не стало Корделии, и слово «смотрите». Лир не в силах вынести происшедшее. Кстати, Глостер тоже умирает, когда в своём проводнике вдруг узнаёт сына Эдгара, явившегося к нему переодетым. После всех пережитых мучений этой радости Глостер выдержать уже не смог. Так что здесь тоже звучит некоторый повтор…
Однако гораздо более существенно другое. Лир умирает, но он многое понял в ходе трагедии. Вначале он был полон иллюзий, к финалу трагедии никаких иллюзий у него не осталось. Рухнула даже последняя, что они с Корделией смогут укрыться от мира, пусть и в тюремном заточении. А оказалось, что и это было невозможно. Так что он утратил все иллюзии в жизни. Он во многое верил, и каждый раз эта вера рушилась…
И всё-таки Лир умирает с иллюзией. Ему кажется, что Корделию ещё можно вернуть к жизни. Это важная мысль Шекспира. Люди в ходе истории, может, и прозревают, на многое начинают смотреть трезвее, но всё-таки они всегда сохраняют и какие-то иллюзии. Без иллюзий жить невозможно. Такова сущность человека. Он до самого конца продолжает во что-то верить.
Но призыв Лира: «Смотрите!» имеет и другой смысл в трагедии. Он обращён к зрительному залу, который иначе воспринимает то, о чём говорит Лир. Корделия мертва! Её больше нет! А ведь она была самой лучшей и ни в чем не виновата…
Конечно, тема трагедии Шекспира – ход истории. И Лир как бы проживает, преодолевает весь этот грандиозный исторический путь от древних времён к современности Шекспира. Он понимает, что есть некий идеальный мир, в который он по-прежнему продолжает верить, и мир реальной действительности, не имеющей никакого отношения к этим идеальным представлениям. И это прозрение вызывает в нём только ужас. Ему хотелось бы, может, остаться в стороне, не участвовать в делах этого мира, но, оказывается, и это невозможно. Зло настолько всесильно, что всё равно настигнет. От него не укроешься. У Шекспира нет абсолютного пессимизма в оценке хода истории, но и оптимизма он тоже не испытывает. Я уже говорил, что младшие в этой трагедии – это Корделия – воплощение самых светлых, лучших начал в человеке, самая благородная, безупречная героиня, и самый худший – Эдмунд. А это – люди одного поколения. Сама история – это прогресс добра, но и прогресс зла одновременно. Только зло в человеческой действительности оказывается куда более могущественным, поэтому у Шекспира нет оптимизма, как нет и абсолютного пессимизма. Скорее, есть чувство тревоги за будущее…
Пожалуй, лучше и точнее всего об этой трагедии сказал Александр Блок. В своей статье, посвящённой «Королю Лиру» Шекспира, он так выразил её смысл: «Трагедии Ромео, Отелло, даже Макбета и Гамлета могут показаться детскими рядом с этой.
Здесь простейшим и всем понятным языком говорится о самом тайном, о чём и говорить страшно, о том, что доступно, в сущности, очень зрелым и уже много пережившим людям.
Всё в этой трагедии темно и мрачно, или, как говорит Кент:
…не может быть
Здесь радости: всё горько и печально.
Чем же она нас очищает? Она очищает нас именно этой горечью. Горечь облагораживает, горечь пробуждает в нас новое знание жизни…»
Шекспир, по словам Блока, «как бы повторяет древние слова: "Страданием учись"».
В этом, пожалуй, заключена главная мысль. Само историческое развитие, по убеждению Шекспира, глубоко трагично. Именно благодаря страданиям Лир начинает постигать мир, в котором живёт. В первом акте он был благополучен, ни в чем не нуждался, ни о чём не задумывался, и только пройдя через суровые испытания, открывает для себя некую истину. История, если и учит человека, то чаще всего именно таким образом. И Блок правильно это подметил: только от самих людей зависит, вынесут ли они урок из пережитого.
А иначе – всегда будет торжествовать Эдмунд и всегда будет гибнуть Корделия.
Сам Шекспир, и таков закон его трагедии, не хочет верить во всесилие зла. Но и не строит иллюзий по поводу всеобщей победы добра…
Сервантес
Испания в самом начале Средневековья была завоёвана маврами… И вся испанская история в этот период – непрерывная борьба за возвращение утраченных территорий, получившая название Реконкиста. С этим сюжетом связан и весь испанский эпос, и знаменитая «Песнь о моём Сиде» (ок. 1140 г.), (Герой поэмы – кастильский рыцарь, полководец Родриго Диас де Бивар). Многолетнее противостояние с эмиратами, стремление отвоевать у мусульман свои земли привели к тому, что в Испании рано возникло централизованное абсолютистское государство. Однако в отличие от других европейских стран, где становление государства было связано с развитием буржуазных отношений, в Испании почва оставалась в целом военно-феодальной.
К началу Ренессанса Испания стала наиболее могущественной державой в военном отношении. Это обеспечило ей ведущую роль в эпоху великих географических открытий. Колумб, как известно, прибыл к берегам нового континента на испанском корабле, да и по сей день большинство стран Латинской Америки говорит на испанском.
Испания пожала первые плоды покорения Нового Света: вывезла огромное количество золота. Карл Маркс считал это важным условием для развития европейского капитализма. Возможно, он был прав. Но в самой Испании этот приток богатств не привёл к экономическому подъёму, к становлению промышленности, как, может быть, в других европейских державах, более развитых в экономическом плане, а только ускорил разложение старых феодальных порядков, слом традиционного жизненного уклада.
Результатом стала так называемая «революция цен», повлекшая за собой обнищание самых широких масс крестьянства и значительной части рыцарства. Кроме того, в Испании в тот период ещё не возникло той социальной силы, которая могла бы вложить эти новые ресурсы в производство.
Конечно, приток золота, захват земель Нового Света вызвали перемены. Испания пережила короткий период подъёма в эпоху Возрождения. Однако этот подъём был изначально чреват упадком. Очень скоро Испания потерпела сокрушительное военное поражение в противоборстве с английской короной – погиб испанский флот, Непобедимая Армада. Страна не только уступила Англии статус «владычицы морей», но и вступила в полосу глубочайшего кризиса, преодолеть который стремилась затем в течение многих веков.
Испания не стала классической страной Ренессанса. Напротив, она стала классической страной кризиса Ренессанса, культуры барокко. И всё же именно Испания выдвинула крупнейшего писателя европейского Возрождения, вторую по значимости фигуру после Шекспира, – Сервантеса.
Мигель де Сервантес Сааведра родился в 1547 году в Кастилии, в семье обедневших, давно потерявших свое состояние дворян, умер в один год с Шекспиром, в 1616. Писатель прожил достаточно бурную жизнь: служил солдатом испанской морской пехоты в Италии, принимал участие в экспедициях флота, был ранен, побывал в плену… Его биография, кстати, очень хорошо описана в романе Франка Бруно «Сервантес», переведённом на русский язык и много раз переиздававшемся…
Сервантес сыграл очень важную роль в истории испанской литературы. Он создал первую испанскую драму, положил начало расцвету испанского театра в XVII веке. Это была его историческая драма «Нумансия», посвященная героическому сопротивлению иберийского города во время завоевания римлянами во II веке до н.э… Он издал первый сборник новелл, каких не знала прежде испанская литература. Этот сборник получил название «Назидательные новеллы». Но все-таки самое важное, что создал Сервантес, – это его «Дон Кихот».
Роман «Хитроу́мный ида́льго Дон Кихо́т Лама́нчский» состоит из двух томов. Первый вышел в свет в 1605 году, и, видимо, Сервантес собирался на этом поставить точку. Хочу подчеркнуть – надо полагать, поскольку в заключение автор описывает смерть главного героя книги…
Однако, спустя десятилетие, в 1615 г. Сервантес опубликовал второй том, который завершился уже «окончательной» смертью Дон Кихота. Причина возникновения второго тома спустя десятилетие была связана с тем, что появилось продолжение романа, созданное неизвестным автором, скрывавшимся под псевдонимом Авельянеда. Кто на самом деле сочинил это продолжение «Дон Кихота», до сих пор не установлено… Известно лишь, что Сервантесу оно не понравилось, и в полемике с Авельянедой он написал собственный второй том.
«Дон Кихот» Сервантеса представляет собой пародию на рыцарский роман. Это может показаться странным, поскольку расцвет рыцарского романа в Европе падает на XII-XIII века, а «Дон Кихот» написан в начале века XVII. Зачем создавать пародию на книги, которые уже столетия как ушли в прошлое? Но это не совсем так. Рыцарский роман получил новое развитие в эпоху Сервантеса. В особенности популярным был цикл об Амадисе Гальском, который часто упоминается на станицах «Дон Кихота». Первая редакция «Амадиса Гальского» появилась еще в 1508 году: вышли в свет четыре книги, «исправленные и улучшенные славным и доблестным рыцарем Гарси Родригесом де Монтальво». С тех пор эти романы десятки раз переиздавались и пользовались необыкновенным успехом у читателей. А потом возникло продолжение сказания, где действовали уже потомки Амадиса. До пятидесяти таких романов вышло в одной только Испании в то время. Один из последних был издан в 1602 году, как раз за несколько лет до появления первой части «Дон Кихота».
Что представляли собой эти новые рыцарские романы? Во-первых, есть одна внешняя особенность этой поздней рыцарской литературы – она возникла уже после появления книгопечатания. Прежние романы писались стихами и существовали лишь в рукописном виде. Новые романы были в прозе и печатались в типографиях, в связи с чем имели гораздо более широкий круг читателей, поскольку печатный станок позволял их широко тиражировать. Вся грамотная Испания могла читать эти романы.
Кроме того, обращение к рыцарской тематике вообще было характерно для литературы позднего Ренессанса. Скажем, это проявилось в Итальянском Возрождении: были созданы поэма Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд», поэма Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Одна связана с образом легендарного рыцаря Роланда, другая – с событиями Первого крестового похода, завершившегося взятием Иерусалима и основанием первого на Ближнем Востоке христианского королевства.
Вообще, рыцарский роман отвечал некоторым важным особенностям эпохи Возрождения. Он воплощал идеал, представление о безграничных возможностях человека. Человек, творец собственной судьбы, совершает великие подвиги – именно эта главная ренессансная вера и находит свое отражение в рыцарских романах.
Правда, есть одна особенность литературы позднего Ренессанса: все, что описывается в произведениях этого периода, воспринимается как нечто весьма далекое от действительности. Здесь обязательно подчеркнуто, что действие разворачивается в условном прошлом, что это вымышленный мир и некая идеальная вера.
Жанр плутовского романа был своего рода противоположностью рыцарскому роману. Этому жанру ещё только предстояло широко заявить о себе. Но первый его образец, роман «Ласарильо из Тормеса», возник ещё до книги Сервантеса, и в «Дон Кихоте» есть на него ссылки… Это произведение неизвестного автора много раз переиздавалось, и в частности, на русском языке. Упоминается оно и Сервантесом…
Излюбленный персонаж плутовского романа – пикаро (социальный и литературный типаж, от исп. pícaro – плут, мошенник, хитрец, а также – изгой, бродяга). И в этой книге главное действующее лицо – деревенский мальчик Ласарильо, который выброшен из привычной жизненной колеи, предоставлен самому себе и ему приходится как-то выживать в этом мире.
Роман состоит из ряда эпизодов. Первый – это служба у слепого. Нужда заставляет мать Ласарильо, вдову мельника, погибшего на войне с маврами, отдать сына в услужение. Мальчик становится поводырем странствующего слепца, промышляющего чтением молитв, знахарством и гаданием..
Ласарильо – наивный ребенок, жизни не знает. И здесь он впервые сталкивается с неприглядной действительностью. К примеру, слепой подводит его к камню, просит наклонить голову и прислушаться, а сам ударяет лбом… Зачем? А чтобы парень не был столь доверчив… Это своего рода посвящение в рыцари наизнанку. Слепой даёт герою суровый жизненный урок.
Кроме того, хозяин оказался чрезвычайно скуп и морит мальчишку-слугу голодом. Вообще, тема голода занимает важное место в этом романе. Чтобы выжить, Ласарильо вынужден прибегать ко всякого рода хитростям. И какое-то время это ему удается. Всё-таки он имеет дело со слепым, поэтому с легкостью его обманывает. Допустим, хозяин пьёт, а Ласарильо берёт соломинку и тоже потягивает его питье время от времени; хозяин принимается за колбасу, а он пристраивается к ней с другого бока. Но, в конце концов, слепой замечает эти уловки и избивает Ласарильо. Решив бежать от скупого хозяина, мальчик решает прежде его проучить. Он поступает со слепым примерно так же, как когда-то тот обошёлся с ним: подводит к каменному столбу и говорит, что впереди ручеек, который нужно перепрыгнуть, чтобы не промочить ноги…
Следующим хозяином Ласарильо становится священник. Он принимает мальчика вроде бы более доброжелательно, но на самом деле положение только ухудшилось. А хуже оно стало потому, что прежний хозяин был слеп, а новый – зрячий, его труднее провести. Единственная возможность поесть для героя – это когда кто-нибудь из прихожан умирает. Тогда священника и его юного алтарника зовут на поминки, где кормят. Это своеобразная метафора всего романа в целом: Ласарильо только и ждёт чьей-нибудь смерти, усердно молит Бога сниспослать как можно больше покойников. Но не каждый день в городке умирают, не каждый день зовут на поминки…
Хозяин прячет полученную от прихожан провизию в сундуке под замком. Ласарильо сумел подобрать к нему ключ. Но он понимает, что если будет брать из него еду, хозяин станет его бить. Поэтому он обставляет дело так, будто это мыши таскают. Хозяин обивает сундук железом, чтобы как-то справиться с убытками, но ничего не помогает. Тогда он начинает подозревать, что мыши тут ни при чём. Ложась спать, Ласарильо прячет заветный ключ во рту. Но однажды во сне ключ всё же выпал. Хозяин страшно избил Ласарильо. Этим завершился второй жизненный урок героя. Кстати, на этот раз он не стал убегать от священника, поскольку теперь-то уже знал, что следующий господин может быть только хуже.
Наконец, третий эпизод, на который хотелось бы обратить внимание. Ласарильо поступает на службу к идальго. Тот одет как аристократ, правда, комната, которую занимает, покрыта паутиной и совершенно пуста, да и накормить слугу ему тоже нечем. Но идальго делает вид, будто живёт в роскоши. Ласарильо же к тому времени жизнь кое-чему научила: он выпрашивает подаяние на улицах, иногда что-то крадёт и этим кормится. Новый хозяин с жадностью смотрит на жующего Ласарильо и говорит: «Знаешь, я ем изысканную пищу, а люблю простую…» Мальчик делится с идальго хлебом. И возникает такая парадоксальная ситуация: слуга кормит своего господина, голодного идальго, у которого и денег-то нет. Кроме того, новый хозяин не платит за жилище. Герои видят, как к дому приближается какая-то процессия. Идальго посылает Ласарильо узнать, куда она направляется. Оказывается, это похоронная процессия. На вопрос Ласарильо, куда идут эти люди, ему отвечают витиевато: дескать, туда, где ничего не едят. На кладбище то есть. А Ласарильо говорит господину, что это, похоже, к ним! Здесь тоже – своего рода перевертыш. Идальго, безумно испугавшись, говорит владельцу дома, что у него крупная монета, которую нужно разменять. А сам, поскольку денег и не было, просто убегает. На этот раз не слуга скрывается от хозяина, а хозяин бежит от слуги.
Плутовской роман представляет собой некоторый антипод жанру романа рыцарского. Это как бы небо и земля одной и той же исторической действительности. Если в рыцарском романе изображается некий идеализированный мир, то в плутовском персонажи действуют в реальной действительности. Главный герой рыцарского романа совершенно отрешён от всего мирского. Его отличия – храбрость и пренебрежение собственной жизнью перед лицом опасности. В плутовском романе он, наоборот, целиком погружен в повседневность, приземлен, его главная забота – не умереть с голоду. Изображение материальной, бытовой сферы жизни занимает здесь центральное место.
Герой рыцарского романа сам творит свою судьбу, в плутовском – целиком формируется под влиянием внешних обстоятельств. Как говорит Ласарильо, он черпает силы из собственной слабости. Образ слуги здесь – своеобразная мифологема…
Два типа романа – рыцарский и плутовской – являют собой два разных типа литературы. В первом представлено вообще характерное отношение к искусству в Средние века. Не искусство должно походить на жизнь, а жизнь должна быть подобной искусству. Искусство изображает некую высшую, идеальную правду. И нет проблемы соответствия книги и реальной действительности. Рыцарский роман создавал идеальный образ рыцаря, и рыцарь должен был следовать этому идеалу, а не наоборот. Он не отражал реальность. Дама тоже должна была соответствовать тому, что написано о дамах в романах. Это было главное в книге, которую читали в Средние века. Это книга, которая давала людям некие идеальные образцы, примеры, на которые нужно было равняться. Она не преследовала цели отражать действительность. А плутовской роман – принципиально другой. Он изображал реальную жизнь. Его правда – это соответствие написанного тому, что человек видел вокруг. То есть это два разных типа произведений. А роман Сервантеса стоит на грани, глубоко связан с обеими традициями.
«Дон Кихот» Сервантеса – пародийное сочинение. Пародийность эта бросается в глаза с самого начала и присутствует в нём до конца. Главный герой книги Дон Кихот предстаёт читателю немолодым, тощим идальго. Его конь со звучным именем Росинант – старая кляча, оруженосец – неграмотный крестьянин Санчо Панса, а Дульсинея Тобосская, если она на самом деле существует, вовсе не знатная дама. И столь же пародийны рыцарские подвиги героя. Дон Кихот принимает ветряные мельницы за великанов, стадо баранов – за войско, в трактирах ему видятся зачарованные замки. Его копье – это палка, шлем – бритвенный таз… Пародийность произведения более чем очевидна.
И всё же это не обычная пародия. Прежде всего потому, что всякая пародия живёт отражённым светом. Она интересна лишь тогда, когда известно, на что она обращена. К примеру, если читал произведение, то может быть любопытна и пародия на него. Иначе даже не понять, о чём речь. Но к рыцарским романам давным-давно никто не обращается, а роман «Дон Кихот» читают уже который век. Он живёт не отражённым, а собственным светом. Кроме того, что-то важное в книге Сервантеса не спародировано. И в этом смысле Дон Кихот – идеальный рыцарь. Главные качества рыцаря в нём сохраняются. Во-первых, он и в самом деле храбр. Никто не может отказать ему в доблести. Он готов сразиться даже со львом. Другое дело, что лев этого сражения его не удостоил, повернулся задом, но это уже другой вопрос. Он по-настоящему отважен и терпит поражения, как правило, лишь сталкиваясь с превосходящим его по силе противником.
Да и оруженосец Санчо Панса не так уж плох. Во всяком случае, он сохраняет верность своему сеньору до конца. И даже дама… Дульсинея вполне отвечает своей роли. В финале второго тома описывается, как Дон Кихот вступает в поединок с рыцарем Белой луны (правда, на самом деле, это был переодетый бакалавр Самсон Карраско). Герой терпит поражение, но восклицает: «Вонзай своё копье, рыцарь, Дульсинея Тобосская всё равно – самая прекрасная женщина в мире!» Он готов умереть с именем Дульсинеи на устах. Что-то главное в героях Сервантеса не имеет никакого отношения к пародии…
Больше того, скажу: если человек читал в детстве «Дон Кихота», то его представление о том, каким должен быть рыцарь, связано именно с этой книгой.
Роман Сервантеса, несомненно, представляет собой своеобразный контрапункт двух типов романа – рыцарского и плутовского. Он обращён к реальной действительности – такого прежде не было в рыцарской литературе. Когда Сервантес описывает жизнь Дон Кихота в самом начале повествования, до того, как тот решил стать рыцарем, он подробно описывает его быт, вообще, реальное положение дел в его замке…
Надо понять, почему Дон Кихот стал рыцарем. Он начитался рыцарских романов. Но их читает вся Испания, и в этом смысле герой Севантеса не представляет собой исключения. Но окружающие Дон Кихота другие любители рыцарских романов в отличие от него понимают, что это всего лишь книги, а жизнь на них не похожа. А вот Дон Кихот верит в истинность написанного. Он хочет на самом деле стать странствующим рыцарем, живущим в борении со всевозможными опасностями и несправедливостями. Главная его задача – заступаться за слабых и обиженных. Он стремится изменить окружающий мир, мечтает возвратить на землю Золотой век, как скажет Санчо Панса. Но все его подвиги, как правило, никакой пользы не приносят. Взять, к примеру, хотя бы его попытку защитить пастушка от побоев хозяина. Стоило Дон Кихоту уехать, хозяин даже ещё больше стал беднягу избивать, и с тех пор тот только и мечтал, чтобы рыцари ему больше не помогали…
Подвиги Дон Кихота почти абсолютно бессмысленны. Но это происходит по одной простой причине: Дон Кихот, как выразился однажды В. Белинский, «лишён такта действительности». Он не понимает реальности, живёт в некоем воображаемом мире, и поэтому все его свершения не приносят никакого практического результата.
Но есть в них нечто гораздо более важное, чем польза. Это вера в безграничные возможности человека. Такова главная ренессансная тема. Начитавшись рыцарских романов, Дон Кихот пришёл к убеждению, что может повторить подвиги книжных героев в реальной жизни. Он верит в свои безграничные возможности, верит в идеальную правду романов. Дон Кихот искренне считает, что может сравниться с героями прочитанных им книг. Прежде всего, он убеждён, что нужно подражать идеальному образцу. Для него знаменитый Амадис Гальский был не просто одним из самых доблестных рыцарей, а единственным, превосходящим всех, существовавших когда – либо на свете.
Вообще, «художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своём роде художников, и правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие, и оттого всякий, кто желает прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и подражает Одиссею, в лице которого Гомер, описав претерпенные им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, подобно как Вергилий в лице Энея изобразил добродетели почтительного сына и предусмотрительность храброго и многоопытного военачальника, при этом оба изображали и описывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, каковы они должны были быть» (Глава XXV). (251)
Нужно подражать идеальным образцам. Как художник подражает явлению реальности, так и всякий человек должен стремиться следовать некоему идеальному образцу. Эта вера, которая движет героем Сервантеса, присутствовала всегда, во всех рыцарских романах. С другой стороны, Дон Кихот допускает, что его жизнь не очень-то похожа на книжную. Нельзя сказать, чтобы он совсем этого не понимал, это было бы несправедливо.
Однако он правильно относится к рыцарским романам. «Коли это ложь, значит, не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни Двенадцати Пэров Франции, ни короля Артура Английског». Так можно дойти до того, что «покажутся выдумкой и поиски святого Грааля», и «любовь Тристана и королевы Изольды, равно как Джиневры и Ланцелота». (Глава XLIX). (252)
Тогда вообще нет ничего истинного на свете – всё выдумка. Но Дон Кихот верит, что всё это было на самом деле и правда существует. И когда Санчо говорит ему о Дульсинее, что «она девица не целомудренная, а весьма любвеобильная», гулящая девка, одним словом, Дон Кихот ему на это отвечает, что достаточно верить и воображать: Альдонса «прекрасна и чиста». «Неужели ты думаешь, что разные эти Амарилис, Дианы, Сильвии, Филисы, Галатеи, Филиды, коими полны романы, песни, цирюльни, театры, что все они и правда живые существа, возлюбленные тех, которые их славили и славят поныне? Разумеется, что нет, большинство из них выдумали поэты, чтобы было о ком писать стихи и чтобы самих их почитали за влюбленных и за людей, достойных любви. Вот почему мне достаточно воображать и верить, что добрая Альдонса Лоренсо прекрасна и чиста, а до её рода мне мало нужды, – ведь ей в орден не вступать, значит, и незачем о том справляться, словом, в моём представлении это благороднейшая принцесса в мире» (Глава XXV). (253)
Итак, Дон Кихот вполне осознанно доверяется некоей идеальной правде и считает, что если её не существует на свете, то и жить не стоит. Он хотел бы сравниться с героями прочитанных им книг. Во второй части романа Дон Кихот встречает дона Дьего де Миранда, который признается, что не верит в существование странствующих рыцарей и в их подвиги. «Я не могу поверить, чтобы в наши дни кто-либо покровительствовал вдовам, охранял девиц, оказывал почет замужним, помогал сиротам» (Глава XVI). (254) Он вообще не верит ни в какую идеальную правду. А Дон Кихот в неё верит. Для него это – подлинное…
Вообще, в положении Дон Кихота есть, конечно, элементы игры. Этим объясняется успех книги у детского читателя, хотя это совсем не детская книга. Дети тоже любят играть в книжных героев. Дон Кихот играет в рыцаря. Это игра. Но потом он замечает, что все играют в этой жизни, только другие притворяются, а он играет всерьез, безо всякого притворства. Оказавшись в горах Сьерра Морены, он решает безумствовать от любви – биться головой о скалы. Санчо ему советует делать это поосторожнее, «как будто бы». А Дон Кихот на это отвечает, что будет проделывать все свои безумства всерьёз. «Разве делать одну вещь вместо другой не то же самое, что лгать? Вот почему удары головой об камни должны быть подлинными и крепкими и полновесными. Без всякой примеси фальши и притворства». (Глава XXIII).
Игра остается игрой, когда человек может из неё выйти в любой момент, когда он знает границы – различает игру и жизнь. А Дон Кихот разницы между ними не ощущает. Поэтому его игра порой переходит в безумие. И в глазах многих он предстает безумцем, поскольку искренне верит в идеальный мир. Он живёт в этом идеальном мире, не способен выйти из состояния игры и понять, где же реальность, а где игра. Но это не совсем безумие… Дон Кихот верит, что простой крестьянин Санчо Панса может стать губернатором. Да и Альдонса, хоть и не благородных кровей, годится на роль прекрасной дамы не хуже любой сеньоры. Он верит в безграничные возможности человека. Не только в свои собственные, но и вообще любого человека. И поэтому его безумие – не какое-то клиническое помешательство, а выражение той веры в идеальное, которая вообще была свойственна Ренессансу. Правда, уже в эпоху Сервантеса она стала восприниматься как нечто весьма далёкое от реальности, даже устаревшее.
Хотелось бы сразу отметить, что в этом безумии Дон Кихота есть две важные черты. Одна – чисто субъективная… Он действительно живёт в воображаемом мире. И есть объективная сторона, которая связана с характером той действительности, в которой действует герой Сервантеса, где эта вера утрачивает всякий реальный смысл. Однажды Дон Кихот испугался. Это случилось, когда он впервые столкнулся с огнестрельным оружием. И вот что он по этому поводу замечает: «Благословенны счастливые времена, не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, коих изобретатель, я убеждён, получил награду в преисподней за своё дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеро, – он полон решимости и отваги, этот кавальеро, той отваги, что воспламеняет и воодушевляет храбрые сердца, и вдруг откуда ни возьмись шальная пуля (выпущенная человеком, который, может статься, сам испугался вспышки, произведенной выстрелом из этого проклятого орудия, и удрал) в одно мгновение обрывает и губит нить мыслей и самую жизнь того, кто достоин был наслаждаться ею долгие годы». (Глава XXXVIII). (255) Он сожалеет, что избрал поприще странствующего рыцаря «в наше подлое время».
Дело в том, что огнестрельное оружие – это крайне отчужденная форма. Рыцарь сражается копьём и мечом, и это лишь увеличивает силу его руки, в отличие от огнестрельного оружия, которое действует автоматически. Человек лишь запускает смертоносный механизм. Личная доблесть здесь никакой роли не играет. Можно ведь вообще стрелять из укрытия… Карл Маркс был абсолютно прав, когда утверждал, что появление огнестрельного оружия убило рыцарство. Так к рыцарству не вернуться. Дон Кихот сожалеет, что личная доблесть теперь мало что значит.
С этим мотивом перекликается другой эпизод, не по сюжету, а по смыслу. Дон Кихот останавливается на постоялом дворе, который принимает за замок… Покидая его, он в знак признательности просит хозяина назвать имена своих друзей: где бы они ни встретились, он обязательно отблагодарит их за оказанное гостеприимство. А хозяин постоялого двора ему на это отвечает: «Я хочу одного – чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег на моём постоялом дворе, то есть за солому и овёс для скотины, а также за ужин и за две постели». (Глава XVII). Вот и все. В этих условиях представление о мире, которое несёт в себе Дон Кихот, просто обречено на провал. И дело не только в том, что он не видит реальной действительности. Сама действительность изменилась настолько, что все идеальные представления о ней больше никуда не годятся.
Тут возникает один сложный вопрос: как Сервантес относится к своему герою? Каждым своим подвигом Дон Кихот утверждает идеал, и в то же время, каждый его подвиг этот идеал опровергает. Отношение Сервантеса к Дон Кихоту неоднозначно. В нем всегда присутствует и «да», и «нет». Скажем, тот же эпизод со львом. Героизм Дон Кихота сведён здесь к нулю равнодушным, даже презрительным поведением зверя, который, не обратив внимания на ребяческий задор противника, повернулся и показал нашему рыцарю, как пишет Сервантес, свои задние части. Вообще, в герое Сервантеса присутствует некая двойственность. Так Санчо скажет Дон Кихоту, что его советы – это навоз, который удобряет почву. С одной стороны, навоз есть навоз, но, с другой, он действительно обогащает почву, делает её плодородной. И в самом деле, мы ещё к этому вернемся, Санчо меняется к концу романа. Иной раз Дон Кихот дает Санчо прекрасные советы, только он их записывает, а Санчо не знает грамоты.
Или такой вопрос: таз или шлем служит рыцарю доспехами? Ну, конечно, смешно, когда вместо шлема водружается на голову бритвенный таз. Но, с другой стороны, вовсе не шлем делает человека рыцарем.
Эта двойственность особенно заметна во втором томе романа. Своеобразной кульминацией здесь становится эпизод с герцогом. Я уже говорил об этом, продолжение романа написано Сервантесом в полемике с сочинением Авельянеды. Теперь уже все знают о странствующем рыцаре. И вот герцог приглашает Дон Кихота в свой замок. С одной стороны, это осуществленная мечта. До сих пор все только смеялись над Дон Кихотом, теперь же – принимают в замке, оказывают ему всяческие почести. А с другой стороны, это наивысшее унижение Дон Кихота, потому что до сих пор он обманывался сам, теперь же обманывают его. Его пригласил скучающий читатель, для того чтобы позабавиться, и Дон Кихот здесь выступает в роли шута, который должен развлекать публику. Такого унижения Дон Кихот еще никогда не испытывал.
Но даже в такой ситуации Дон Кихот оказывается выше всей этой любопытствующей светской черни. Точка его падения становится также и точкой возвышения. Эта двойственность всё время присутствует в романе Сервантеса.
Надо сказать, во втором томе Дон Кихот всё больше и больше нас озадачивает. Образ главного героя меняется по сравнению с тем, каким мы видим его в начале книги. Во втором томе Дон Кихот очень разумно рассуждает. И все удивляются тому, как замечательно и ясно он выражает свои мысли. На вопрос герцогини о Дульсинее, Дон Кихот отвечает: «Одному богу известно, существует ли Дульсинея на свете или нет, воображаемое ли она существо или не воображаемое. В конце концов это и не так важно. Во всяком случае я представляю себе свою даму женщиной, украшенной всеми добродетелями, прекраснейшей из прекрасных, серьезной без надменности, приветливой, вежливой и благовоспитанной…». Тут даже герцогиня вынуждена признать: «Вы меня убедили: отныне я и сама буду верить и заставлю поверить всех окружающих, что Дульсинея Тобосская существует и <…> достойна того, чтобы ей служил такой знаменитый рыцарь, как сеньор Дон Кихот. Я не могу придумать для неё большей похвалы…» (Перевод Энгельгардта.) «Добродетели делают кровь благородной», и если не формально, а по сути, то Дульсинея, безусловно, исполнена величайших достоинств.
Или, например, о своей встрече со львом Дон Кихот скажет: «Я хотел, чтобы ваша милость поверила, что я не такой безумец, не такой помешанный, как может вам показаться. Я, конечно, понимаю, что бессмысленно было сражаться со львом. Но я хорошо знаю, что храбрость есть добродетель посредине между двумя крайностями – трусостью и безрассудством. И я предпочитаю безрассудство». Он прекрасно понимает, что поставил перед собой невыполнимую задачу – воскресить угасшее звание рыцаря. «Уже много дней я живу и спотыкаюсь в одном месте, падаю в другом, низвергаюсь и поднимаюсь»… Однако есть камень преткновения: Дон Кихот по-прежнему слепо верит в рыцарские романы. Беседуя с Дон Кихотом, люди замечают, какой он мудрый, благородный. Но как только речь заходит о рыцарях… Он не способен посмотреть реальности прямо в лицо.
И вот финал… Вообще в романе есть как бы два финала. Первый – это самое позорное событие из тех, что происходят с Дон Кихотом. Его топчет стадо свиней. Даже сам герой вынужден признать, что ни один рыцарь на свете никогда прежде не терпел столь унизительного поражения… Но в то же время, этот эпизод как бы включает в себя весь роман в целом. Действительность, которая словно растаптывает Дон Кихота, уподобляется стаду свиней, и Дон Кихот оказывается единственным человеком в этом окружении.
Уступив в поединке с рыцарем Белой луны, которым на самом деле оказался переодетый бакалавр Самсон Карраско, Дон Кихот окончательно возвращается домой и излечивается наконец от своего безумия. Но здесь тоже всё не так однозначно. С одной стороны, если бы он умер в тот момент, когда, как ему казалось, в него вонзалось копье, со словами, прославляющими Дульсинею Тобосскую, «всё равно самую прекрасную женщину на свете», то ушёл бы из жизни счастливым. Но узнать, что всё, во что верил, чему служил, оказалось лишь плодом воображения, – это куда более горько. Не случайно врач скажет, что Дон Кихот умирает от тоски и печали. В этом смысле это полный крах героя.
Однако это не совсем так…
Когда Дон Кихот впервые вышел навстречу своим будущим подвигам, казалось, он мало на что годен. Но каждый раз мы убеждались, что он способен на нечто значительное. Единственное, что оказалось ему не под силу, – это увидеть действительность такой, какая она есть. Дон Кихот отказывается видеть оборотную сторону жизни. Но в финале он и до этого дорастает. Значит, он может всё. Поэтому у Сервантеса нет абсолютного разочарования в вере Дон Кихота. И поэтому его роман ещё принадлежит эпохе Возрождения. Идеальная правда, которой привержен Дон Кихот, – это, конечно, не полная правда жизни, но всё-таки у неё тоже есть свои основания. Она не целиком опровергается Сервантесом. Кроме того, эта вера в безграничные возможности человека нашла отражение не только в образе Дон Кихота, но и в его оруженосце, втором центральном персонаже книги.
Часто подчеркивают диаметральность образов Дон Кихота и Санчо Пансы. Разница действительно бросается в глаза. Дон Кихот – рыцарь, Санчо – крестьянин. Дон Кихот – высокий, худой, его оруженосец – приземистый, пузатый, само его имя «Панса» по-испански означает «полный». Дон Кихот словно отрешен от всего материального, Санчо практичен, никогда не забывает поесть сам и накормить своего Серого. Дон Кихот бодрствует, Санчо любит поспать. В отличие от Дон Кихота, увлеченного рыцарскими романами, Санчо не прочитал в жизни ни одной книжки… Контраст достаточно очевидный. Это так. Но из этого делались разные выводы. Дон Кихот – это идеалист, его оруженосец – воплощение здравого смысла. Или, Дон Кихот – это уходящее рыцарство, а Санчо Панса – поднимающееся третье сословие. И всё-таки все эти трактовки недостаточно верны…
И Дон Кихот и Санчо выпадают из окружающей действительности. Можно сказать, Дон Кихот лишь однажды не ошибся – это когда выбрал своим помощником Санчо Пансу, другого такого он не нашёл бы во всей Испании. Да и Санчо не отличается особым здравомыслием. Обладай он действительно здравым смыслом, не отправился бы странствовать вместе с Дон Кихотом. Как заметил один исследователь, неизвестно ещё, кто больший безумец: Дон Кихот или его оруженосец. Конечно, Санчо Панса не верит, что ветряные мельницы – это великаны, стадо баранов – войско, а трактир – зачарованный замок. В это он не верит. Но вот в рассказы Дон Кихота он верит, и даже в то, что может стать губернатором… Однако мир, в котором живут герои, далеко не волшебный…
В образе Санчо, несомненно, присутствуют черты земледельца. Он, действительно, что называется «из села». Но он не патриархальный крестьянин, поскольку его влекут странствия. Во втором томе романа даже описывается, как Санчо сам побуждает Дон Кихота вновь отправиться в путь, рассуждает о том, как «хорошо в дальнем путешествии скакать на скалы, посещать замки, останавливаться в каких угодно постоялых дворах и при этом ни черта не платить за ночлег». В Санчо, как и в Дон Кихоте, всё время обнаруживается нечто неожиданное. По словам Дон Кихота, «Санчо Панса самый потешный из всех оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям. Его наивные выходки бывают необычайно остроумны: иногда он так лукав, что его можно счесть плутом, иногда так бестолков, что выглядит тупицей. Он во всем сомневается и всему верит; когда мне кажется, что он свалился на самое дно глупости, он вдруг взлетает под облака».(Перевод Энгельгардта)
Что такое образ Санчо в романе? Это образ разбуженного Ренессансом народа. Однако эта вера эпохи в безграничные возможности человека у Санчо приобретает несколько иной, народный характер. «Что из того, что мне хочется остров? Мне хочется вещей и того похуже. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а знаешь, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим Папой, а мой господин может завоевать не один остров, а столько, что и управлять ими будет некому. Управлять своими владениями я буду не хуже вассала короля». Он, конечно, плутоват, но ведет себя удивительно бескорыстно.
В конце первого тома описывается, как священник и цирюльник переоделись для того, чтобы попытаться возвратить Дон Кихота домой. Рыцарь их не узнает, он живет в мире своего воображения. Но вот Санчо их раскусил тут же: «Ах, сеньор священник, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнаю? Неужели вы полагаете, что я не пронюхал и не смекнул, к чему клонятся все эти новые волшебства? Как вы там ни лукавьте, все равно я раскусил все ваши хитрости». То есть, он смотрит на вещи более чем трезво, однако тут же добавляет: «Ведь если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микомикон, и я, по меньшей мере, был бы теперь графом». (Перевод Энгельгардта). В этом смешении вся его натура. Он, конечно, понимает, что Дульсинея – на самом деле скотница Альдонса, тут его не обманешь, и даже иногда подшучивает над идальго. Но, главное, он верит в Дон Кихота. В одном из эпизодов в финале первого тома романа Санчо покажется, что Дон Кихот мертв, и он так скажет о своем господине: «О честь своего рода, краса и гордость всей Ламанчи и всего мира, каковой после твоей смерти наполнится злодеями, ибо все их злодеяния отныне будут оставаться безнаказанными! О ты, более щедрый, нежели все Александры на свете, ибо всего только за восемь месяцев, что я у тебя прослужил, ты пожаловал мне лучший из островов, омываемых и окруженных морем! О ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, – то есть я хотел сказать наоборот, – смотрящий опасности прямо в глаза, не унывающий в бедах, влюбленный ни в кого, подражатель добрым, бич дурных, гроза подлецов, – одним словом, странствующий рыцарь, ибо этим все сказано!» (Глава LII. Перевод Н. Любимова).
Исключительная особенность образа Санчо Пансы – обилие пословиц и поговорок в его речи. Это народная мудрость, которой он владеет. И, кстати, он всегда произносит их некстати. У Дон Кихота это вызывает восхищение. А Санчо ему признается: «У меня в голове пословиц больше, чем в книжках, и стоит мне заговорить, как они сразу лезут мне на язык и наперебой норовят выскочить все разом, тогда я хватаю первую попавшуюся и уже не думаю, кстати она или некстати. Ведь никакого другого достояния у меня нет, как только пословицы, да еще раз пословицы. Вот в эту минуту мне лезут в голову несколько штук и все они такие подходящие, такие важные, прямо, как груши в корзине. Однако их не скажу и вам».
В финале мы с удивлением обнаруживаем, насколько духовно близки Дон Кихот и его оруженосец. Кстати, Дон Кихот оказался хорошим рыцарем. Он, может, и бессмысленно, но все же сумел проявить те возможности, которые в нем таились. То же самое можно сказать и о Санчо Панса. Став губернатором, хотя, конечно, это было всего лишь забавой для назначившего его на эту роль герцога, он проявил необыкновенную мудрость. В этих эпизодах романа Сервантес использует мотивы библейских притч. Рассуждения Санчо взяты из притч Соломона, который прослыл великим мудрецом и необыкновенно справедливо судил о вещах. Санчо оказался прекрасным губернатором, так что его вера в собственные силы, как и вера в него Дон Кихота вполне оправдались. Постепенно герои все больше и больше становятся похожи друг на друга.
В одной из заключительных сцен второго тома романа Санчо скажет Дон Кихоту: «Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства; спасибо тому, кто изобрел сон – этот плащ, покрывающий все людские мысли, эту пищу, прогоняющую голод, эту воду, утоляющую жажду, этот огонь, согревающий стужу, этот холод, умеряющий жар – одним словом, эту единую для всех монету, эти единые весы, равняющие пастуха и короля, дуралея и мудреца. Одним только плох крепкий сон: говорят, он очень смахивает на смерть и что разница между спящим и мертвым не слишком велика». Санчо Панса размышляет очень возвышенно, и Дон Кихот не может этого не отметить:
– Никогда еще, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ты не произносил такой изящной речи. Это только подтверждает пословицу, которую ты любишь повторять: не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился.
– Ага, сеньор хозяин! – воскликнул Санчо. – Теперь уже я не нанизываю пословицы: они слетают с уст вашей милости не хуже, чем у меня. Правда, разница в том, что ваши пословицы приходятся кстати, а мои – ни к селу ни к городу…
Таким образом, Санчо Панса начинает говорить возвышенным языком, бредить рыцарскими романами, а Дон Кихот – сыпать пословицами, как прежде делал его оруженосец. Санчо – это своеобразный мост между реальной действительностью и Дон Кихотом. С одной стороны, он очень тесно связан с окружающим миром, глубоко укоренен в нем, особенно это ощущается в начальных главах книги, а к финалу все больше и больше начинает походить на Рыцаря печального образа.
В романе есть одна очень выразительная сцена. Дон Кихот произносит речь о Золотом веке, «…ему захотелось поделиться своими размышлениями с козопасами, а те слушали его молча, с вытянутыми лицами, выражавшими совершенное недоумение. Санчо также помалкивал; он поедал желуди…» А кто ест желуди? Свиньи. Повторю, это центральный символ, которым завершается роман. Этот образ – олицетворение действительности, противостоящей Дон Кихоту. Но вслушаемся в его речь: «Для того, чтоб добыть себе дневное пропитание, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли…» (Глава XI). А чем плодоносит дуб? Теми же самыми желудями… Так что, с одной стороны, Санчо, казалось бы, тоже уподобляется свинье, а в то же время он – человек Золотого века.
В финале романа Дон Кихот, во всем разочаровавшийся, больше не верящий в идеалы рыцарства, знающий, что Дульсинея Тобосская – всего лишь скотница из деревни Тобоса, да к тому же еще и не слишком целомудренная, не ошибся в одном – он не ошибся в выборе оруженосца, не ошибся в Санчо Панса. «Если будучи безумным, я помог ему получить в управление остров, то, находясь в здравом уме, я отдал бы ему целое королевство. Это заслуживает его простая душа и верное сердце».
Что касается романа в целом, это итог не только испанского, но и всего европейского Ренессанса. Испанское Возрождение – это подъем, чреватый упадком. Это была чистая демонстрация возможностей, в реальности почти ничего не осуществилось. Очень скоро испанское Возрождение вошло в полосу кризиса. И в этом смысле «Дон Кихот» – итог эпохи. Но это и итог всего европейского Ренессанса, который тоже оказался демонстрацией возможностей, лишь немногие из которых смогли воплотиться в реальности. Недаром наиболее полно эта эпоха выразилась именно в искусстве – в игре, в некоем вероятном, вымышленном мире. Она лишь демонстрировала потенциалъ…
В «Дон Кихоте» нашли отражение важные стороны ренессансных идеалов. Позвольте мне сделать сравнение с человеком, который на первый взгляд является прямой противоположностью Дон Кихоту. Это Никколо Макиавелли. Герой книги Сервантеса – фантазер, а Макиавелли – реальный исторический деятель, политик, философ, историк и военный теоретик, один из самых влиятельных представителей своей эпохи. В трактате «Государь» Макиавелли доказывает, что человек сам определяет горизонты и смысл собственной жизни. И главное, что требуется от личности, способной на суверенные действия, – это доблесть, дерзость, готовность рисковать, идти наперекор обстоятельствам, проявлять безрассудство. Но это вполне можно отнести и к Дон Кихоту. Создавать себя самого, по какой тебе угодно форме – вот что требуется от человека. Лучше быть напористым, чем осторожным. «Фортуна, как всякая женщина, благоволит к дерзким, а не к осмотрительным». И, наконец, последнее: нужно следовать великим образцам. Макиавелли утверждает, что Александр Македонский подражал Ахиллу, Цезарь – Александру, и подлинный властитель тоже должен выбрать себе образец. В его представлениях об идеале много общего с Дон Кихотом. Прежде всего это та же вера в безграничные возможности человека, которая составляет главный пафос эпохи Возрождения. В этом смысле роман Сервантеса – ее итог.
Есть в нём и прямая связь с произведениями Шекспира – это ощущение разрыва двух истин, идеального и реального. Такие герои, как Гамлет или король Лир понимают, что реальность и идеал не совпадают, и это приводит их к безумию. Но безумие Дон Кихота основано на ином: он верит лишь в одну идеальную правду и больше ни во что. Этот разрыв между реальным и идеальным, который так остро выступает в произведениях Шекспира, составляет главную основу образа Дон Кихота. Только в отличие от героев Шекспира он вообще не хочет замечать действительность, считает, что это нечто заколдованное, подложное, что это волшебники все испортили, а на самом деле мир устроен иначе.
Дон Кихот оказался если и «не вечным спутником человечества», то достаточно долго сопровождал его – почти четыре столетия. В каждой культуре возник свой вариант этого образа. Русским Дон Кихотом стал князь Мышкин, герой романа «Идиот». Достоевский вообще необыкновенно высоко ценил книгу Сервантеса и даже утверждал: окажись человечество на краю гибели и должно будет предстать перед высшим судом, чтобы доказать Творцу, что не зря существовало на земле, – для оправдания людям будет достаточно «Дон Кихота» Сервантеса…
Но, надо сказать, все великое в истории создавалось людьми, которые верили в высокие идеалы и, главное, в свою способность эти идеалы осуществить. Так было, во всяком случае, вплоть до наступления XXI века.
Однако вера в себя, вера в идеал легко переходят в недооценку действительности, и поэтому любому герою грозит опасность превратиться в Дон Кихота, если он станет переоценивать собственные силы, слишком слепо верить в желаемое, и отказываться видеть реальное положение дел. Ситуация Дон Кихота – это комическая сторона всякой героической ситуации, и обывателям она не страшна. Однако хочу сразу подчеркнуть: есть эпохи, когда Дон Кихоты оказываются особенно востребованы – это эпохи общественных спадов. В период подъемов обычно появляется некоторая почва для веры в идеал и в возможности его воплощения. Вдруг что-то да получится! А во времена спадов Дон Кихоты становятся действительно центральными фигурами. Герцен, кстати, писал, что история движется между героями и Рыцарями печального образа. Не случайно «Дон Кихот» Сервантеса возникает именно на исходе Ренессанса. Такие эпохи рождают два человеческих типа – это Гамлеты и Дон Кихоты. Недаром Тургенев в своей известной статье противопоставляет Гамлета, который принимает этот разрыв между идеальным и реальным, который не переоценивает идеал, трезво смотрит на окружающий мир и чувствует, что не в силах его изменить, и Дон Кихота, который ослеплён собственными идеалистическими устремлениями, пытается что-либо предпринять, но всё это оказывается лишь схваткой с ветряными мельницами… Гамлет бездействует, потому что не хочет быть Дон Кихотом.
Коснусь ещё одной важной стороны вопроса. Эта проблема возникла в XX веке. У испанского философа Мигеля де Унамуно есть работа о Сервантесе («Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно»). В этой книге Унамуно признается, что ему очень дорог и близок герой Сервантеса Дон Кихот, но он не может согласиться с автором романа, который сделал его смешным. Судьба Дон Кихота – это судьба всякого человека вообще. Человек всегда должен ставить перед собой труднодостижимые цели, в этом – залог его духовного величия. Нельзя представлять подобное смешным, как это сделал Сервантес. Кстати, в известном советском фильме режиссера Г. Козинцева Дон Кихот в исполнении Н.Черкасова перестаёт быть смешным, он всерьёз исповедует философскую концепцию романа.
Здесь есть две стороны, на которые следует обратить внимание. Одна – более общая. Дело в том, что если бы Дон Кихот не был смешон, он был бы страшен. Он прекрасен именно потому, что вызывает улыбку, потому что то, что он делает, безобидно, а если бы он и в самом деле начал сокрушать всё вокруг, то не дай Бог. Но есть и другая сторона концепции Сервантеса. Дон Кихот начитался рыцарских романов, и как бы сам сошёл с их страниц. Однако действует он не в мире рыцарства. Сама историческая действительность скорее изображается Сервантесом в духе испанской плутовской новеллы. Но то – роман, а это – жизнь, то был некий идеальный мир, а здесь – реальность, только Дон Кихот её не понимает, и отсюда возникает смех Сервантеса.
Не буду останавливаться на этом подробно, прошу лишь обратить внимание: речь идёт о вставных новеллах первого тома романа. Герои этих новелл – пастухи, влюблённые – чем-то напоминают Дон Кихота. И это не случайно: перед нами вроде бы тот же самый реальный мир, в чём-то соприкасающийся с миром идеальным. Но более важен второй том. В том, что делает здесь Сервантес, для литературы нашего времени, конечно, нет ничего удивительного. Мы привыкли к литературной игре, на нас это уже не производит особого впечатления. Но в эпоху Ренессанса это звучало необыкновенно ново и неожиданно.
Дело в том, что герои второго тома «Дон Кихота» читали том первый. Этот приём в эпоху Сервантеса явился настоящим открытием. Кроме того, здесь присутствует полемика с подложным продолжением книги, созданным Авельянедой, обсуждается, где всё описано правдиво, а где – нет. Герои Сервантеса встречаются с персонажами, сошедшими с её страниц… Сервантес играет границами реальности, кажущимся и действительным.
Итак, что получается? Существовал рыцарский роман, в сравнении с которым то, что написал Сервантес, правда. А потом, когда появился второй том его произведения, именно он стал казаться правдивым, а первый превратился в выдумку. Всё закончилось вторым томом, но Сервантес вполне мог бы создать и третий, и четвёртый, и всякий раз предыдущая книга воспринималась бы по отношению к последующей как вымысел, а новая – как правда…
Это новое понимание взаимоотношений между искусством и жизнью. В реальности осуществляются далеко не все возможности, которые потенциально бесконечны. Любое произведение – лишь частичное её отражение, никогда её не исчерпывает.
Культура XVII века
Эпоху Возрождения принято рассматривать как переходную от Средневековья к Новому времени. Но что такое новоевропейская культура, каковы наиболее значимые её параметры, которые позволили сосуществовать самым разным, порою противоположным явлениям?
Первое, самое существенное, – субъектом культуры становится личность. Второе – десакрализация мира. Это не означает утраты веры в Бога – религия сохраняет ведущую роль в духовной жизни людей; в XVII веке, как и в эпоху Возрождения, религиозные идеи окрашивают наиболее важные общественные движения. Отметим, что XVII век – это последний великий век церковной архитектуры. Однако с десакрализацией мира возникает почва для развития науки и технической цивилизации.
«Это был век, – писал Ортега-и-Гассет, – когда основатель новой физики Галилей не счёл для себя постыдным отречься от своих взглядов, ибо католическая церковь суровой догматической рукой наложила запрет на его учение. Это был век, когда Декарт, едва сформулировав принцип своего метода, благодаря которому теология превратилась в ancilla philosophiae, стремглав помчался благодарить Матерь Божью за счастье такого открытия. Это был век победы католицизма и вместе с тем век достаточно благоприятный для возникновения великих теорий рационалистов, которые впервые в истории воздвигли могучие оплоты разума для борьбы с верой».
Несомненно, культурный горизонт предыдущей эпохи не включал в себя научного знания. Весь европейский Ренессанс по природе своего мышления ещё мифологичен. Так натурфилософия позднего Возрождения являет собой причудливый сплав античного платонизма и народного волшебства. Недаром Парацельс называл себя белым магом. Весьма показательна для культуры Возрождения такая фигура, как Фауст. Имеется в виду герой народной книги, который сначала был учёным-теологом, а затем отказался от теологии, стал мирским человеком и с тех пор именовал себя доктором медицины, астрологом, математиком, пользовался халдейскими, персидскими, арабскими, греческими письменами и заклинаниями.
Натурфилософия Возрождения исходит из представления о космосе как замкнутом одушевлённом целом, о подобии микрокосма (человека) и макрокосма (мира). Джордано Бруно писал: «Природа есть Бог в вещах». Автор известной речи «О достоинстве человека» Пико делла Мирандола заключает: «Глубоко изучив гармонию Вселенной… и уяснив сродство природы вещей, воздействуя на каждую вещь особыми для неё стимулами, он (человек) вызывает на свет чудеса, скрытые в укромных уголках мира, в недрах природы, в запасниках и тайниках Бога, как если бы сама природа творила эти чудеса».
Природа воспринимается как особый текст, который надо уметь читать и истолковывать – так же, как толкуют и комментируют Священное писание. «Весь внешний видимый мир есть знак или фигура внутреннего духовного мира. Это произнесённое слово, божественная телесность, которыми рождены и осуществлены все вещи. Внутреннее держит перед собой внешнее как зеркало» (Я. Бёме). Форма существования вещи есть и форма её значения. Ренессансному мышлению ещё присуща мифологическая неразличимость знака и вещи. Парацельс говорил: «Воля Бога не в том, чтобы сотворённое им для человека пребывало скрытым. Если он даже скрыл определённые вещи, он всё равно не оставил без видимых внешних знаков». На этом основании он считал, что орех, который внешне подобен голове, может быть использован как лекарство: зелёные части для лечения костей черепа, а сердцевина – для лечения мозга.
Символически-магическое значение имеет и сам язык. Все языки мира вместе образуют форму креста: европейские языки читаются слева направо, древнееврейский и арабский справа налево, китайский и японский сверху вниз, а языки Нового Света снизу вверх. Между природой и культурой нет принципиального различия. Понять смысл того или иного явления природы – значит понять, как оно участвует в человеческой судьбе. Отсюда интерес к хиромантии, астрологии и т.д.
Вот названия глав описания Змеи у ученого-натуралиста XVII века Улисса Альдрованди. «Экивок; синонимы; этимологические различия; форма и описание; анатомия; природа и нравы; темперамент; совокупление и рождение потомства; голос; движение; места обитания; питание; физиономия; антипатии; симпатии; способы ловли; смерть и ранения, причиненные змеей; способы и признаки отравления; лекарства; эпитеты; наречия; чудеса и предсказания; мифология; аллегории и мистерии; эмблемы и символы; поговорки; монеты; чудесные истории; загадки; девизы; геральдические знаки; исторические факты; сны; изображения; использование в медицине; разнообразное применение». С нашей точки зрении, здесь смешаны самые разнородные категории, и собственно зоологические сведения теряются в общем культурном контексте. Но всё дело в том, что Альдрованди ещё не различает культуру и природу, предмет и его знаковый смысл.
Энгельс назвал эпоху Возрождения величайшим переворотом. Но переход от Возрождения к XVII веку тоже был грандиозным переворотом. Нечто существенное изменилось в самой картине мира. Земля перестала мыслиться центром мироздания – она оказалась точкой в огромном пространстве Вселенной, а человек – атомом, песчинкой на общем лоне сущего. Ренессансное и средневековое представления о человеке рухнули. Вначале это воспринималось трагически. Английский поэт Джон Донн восклицал:
Всё в новой философии – сомненье:
Огонь былое потерял значенье.
Нет солнца, нет земли – нельзя понять,
Где нам теперь их следует искать.
Все говорят, что смерть грозит природе,
Раз и в планетах и на небосводе
Так много нового; мир обречён,
На атомы он снова раздроблён,
Всё рушится, и связь времён пропала,
Всё относительным отныне стало… (256)
Бесконечность, которая мыслилась атрибутом всемогущего Бога, теперь стала восприниматься как свойство сотворённого им мира. В XVII веке природа открывается как безмерность, некая глухая мощь, противостоящая культуре и всему культивируемому. Она разверзается перед человеком подобно бездне (один из ключевых образов эпохи). Человек в XVII веке остро ощутил свою конечность, не в том смысле, разумеется, что смертен – это он знал всегда, – он почувствовал свою несоизмеримость, затерянность в этом бесконечном и разумом до конца не постигаемом мире. В эпоху Возрождения он считал себя венцом всего живущего, почти равным Богу. Теперь же человек стал ощущать себя крошечной частицей этой безмерной, рационально непостижимой природы. Кроме того, он вдруг обнаружил природную силу в себе самом.
У порога Нового времени стоят два мыслителя – Ф. Бэкон и М. Монтень. Оба они ещё тесно связаны с предшествующей ренессансной культурой и лишены логико-философской основательности, присущей последующим философам и ученым XVII века. Для Бэкона природа – нечто грандиозное, подлежащее трудному и внимательному познанию. Человеческому разуму надо приспособиться к мерам самой природы. «Пусть люди, – говорил Бэкон, – прикажут себе отречься от своих понятий и пусть начнут свыкаться с самими вещами». Человеческий ум Бэкон уподобляет неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, «отражает вещи в искривленном виде. Он нуждается в исправлении, и средством этого исправления является бесконечный опыт, при помощи которого ум познает существующую вне ума и по своим собственным законам природу». Вся философия Бэкона проникнута пафосом познания открывшейся перед ним, ещё неведомой, недоступной познанию природы. А Монтень занят самим собой. Он убежден, что нет ни одной вещи на свете, которая была бы ясна человеческому уму. В его доме были выгравированы слова Плиния Старшего: «Нет ничего достоверного, кроме самой недостоверности».
Человек имеет дело не с природой, а с культурой, привычками, обычаями, нормами своей страны и эпохи, и образы мысли и формы воображения он принимает за саму действительность. У разных народов разные обычаи, и каждый считает свою манеру жить и думать естественной и разумной. «Ты, – обращается Монтень к человеку, – видишь в лучшем случае только устройство, порядок того крохотного мирка, в котором живешь… Ты ссылаешься на местный закон и не знаешь, каков закон всеобщий». Не приближают нас к природе и различные философские системы, в них человек встречается лишь с самим собой – это выдуманные миры. Другими словами, природа для Монтеня – то, что не совпадает ни с одним миром, осмысленным человеком. Она по ту сторону.
Что касается науки XVII века в целом, отличительная её особенность – близость к философии. Расцвет математики связан с именами философов Декарта и Лейбница, естествоиспытатель Галилей пишет философские трактаты, а Линней называет свой классический труд «Философия ботаники». Это, разумеется, не случайно. Чтобы возникла наука, нужен был новый взгляд на природу, согласно которому во Вселенной существует порядок, и все события происходят не произвольно, а имеют причину. Но поскольку природа выступает как нечто, выходящее за рамки культурного сознания, то возникает вопрос, как можно изучать внесистемное и в этом смысле хаотическое.
В основе научного знания в XVII веке лежит новое отношение к знаку. Он перестаёт быть естественным проявлением вещей или их подобием, каким он был в эпоху Возрождения. Отношение между обозначающим и обозначаемым становится условным, и свой смысл знак обретает лишь в соотношении с другими знаками в знаковой системе. Знак становится инструментом анализа, а знаковая система – способом упорядочить явления природы, сеткой, посредством которой природа открывает человеку свои законы.
Роль такой знаковой системы играла таксономическая таблица тождеств и различий. Она легла в основу классификации растений у Линнея. Он предлагал сначала с максимально возможной полнотой описать один объект, а затем описывать остальные и вычитать всё то, что в них не совпадает. Так определяется тождество, которое становится каркасом таблицы: индивидуальные особенности каждого вида, любые обозначения должны вступить в определённые отношения со всеми другими обозначениями, должны восприниматься в системе. Распознавать то, что принадлежит индивиду, значит располагать классификацией или возможностью классификации.
Но особое значение для науки XVII века имела математика, принцип универсального счисления. Открытия в этой области прежде всего связаны с именем Р. Декарта. Подобно Монтеню, Декарт начинает с сомнения, но он использует сомнение как методологический принцип, чтобы найти абсолютное и достоверное. Изучая труды самых выдающихся умов, он приходит к выводу, что в них нет ни одного положения, которое нельзя было бы оспаривать и, следовательно, сомневаться в нем. Поэтому Декарт решил бросить книжную науку и не искать иного знания, кроме того, какое можно найти в себе самом и в великой книге мира.
Правило Декарта для руководства ума гласит: «Нужно заниматься такими предметами, в которых наш ум кажется способным достичь достоверных и несомненных знаний». К ним относятся арифметика и геометрия, ибо они лишены всего ложного или недостоверного. «Они не нуждаются ни в каких предположениях, которые опыт может подвергнуть сомнению, но всецело состоят в последовательном выведении путём доказательств». Опираясь на математику, Декарт выдвигает идею mathesis universalis – универсальной науки о всём сущем.
Основная логическая установка науки – путь математической дедукции. Этот принцип пронизывает всё научное знание XVII века. Галилей называет природу книгой, алфавитом которой являются геометрические фигуры. Спиноза строит свою «Этику» в форме теорем и доказательств. Лейбниц пытается понятия выразить геометрическими фигурами. Эту особенность науки XVII века Свифт высмеял в третьей книге «Путешествий Гулливера». Он, в частности, пишет, что, желая описать красоту женщины, лапутяне используют ромбы, эллипсы и другие геометрические фигуры.
Наука XVII века не связана с непосредственным наблюдением. Галилей говорил, что вся сила Коперника в том, что он не смотрел на небо, иначе бы никогда не пришёл к выводу, что Земля вращается вокруг Солнца. Видимость вещей не отвечает их сути. Вселенскую гармонию и строгий порядок, выраженный математикой, не увидишь простым зрением, они могут открыться лишь взору разума, и в этом смысл интеллектуальной интуиции Декарта. Это виденье особого рода. Оно в чём-то близко тому, что в Средние века называли созерцанием. Созерцатели у Данте находятся в Раю, на седьмом небе. Они способны созерцать иной, божественный мир. У Декарта речь идёт не о потустороннем, а об идеальной основе нашей реальной действительности.. Её можно обнаружить при помощи эксперимента. Эксперимент – это не наблюдение, а искусственное испытание природы, стремление заставить её открыть скрытые от нас законы. На основе этих законов совершается человеческое творчество. Искусственное, сотворённое человеком, то, на чём лежит печать его разума и воли, выше стихийного творчества природы – таково убеждение XVII века. Природа не способна создать самый обычный предмет. Она не знает ни прямой, ни круга, ни другой правильной геометрической фигуры. И если созданное человеком существует и работает, значит, оно ближе к идеальным основам мира.
Искусство XVII века представлено двумя ведущими художественными направлениями – это барокко и классицизм, которые во многом противоположны и в то же время внутренне родственны, поскольку глубоко связаны с самой изменившейся картиной мира. Оба направления, кстати, возникли в Италии, но в классической форме проявились в других странах. Классической страной барокко стала Испания, страной классицизма – Франция.
Подобно тому, как Ренессанс выразил себя в живописи, а XIX век в романе, XVII век полнее всего выразил себя в театре. Почему так? Сам мир во многом стал восприниматься как театр. С одной стороны, театр – это прежде всего иллюзорный, обманчивый мир, он делает ощутимой иллюзорность самой окружающей нас действительности. Такова, например, испанская комедия. У Мольера она сложнее, но и его комедии являются миром видимости. С другой стороны, театр – явление культуры, создание искусственное, плод сознательного творчества и, следовательно, нечто более высокое, чем сама обыденная реальность. Поэтому театр может быть образцом для жизни. Театральность, к примеру, пронизывала всю действительность Франции XVII века – в обществе нельзя было вести себя естественно, существовал целый свод правил, норм этикета, строго соблюдался сложный придворный церемониал. Это был не ритуал, а сплошное театральное представление…
Классицизм стремился к устойчивости, гармонии и ясности, но и ему тоже была присуща внутренняя противоречивость мироощущения, роднящая его с барокко. Родовое и индивидуальное, цивилизация и природа, разум и чувство в классицизме поляризованы, и гармония определяет лишь формальную структуру художественного целого. Классицизму присущ взгляд на произведение как на создание искусственное, сознательно сотворённое. Оно призвано явить идеальную стройность мироздания, логику, скрытую за видимым хаосом и беспорядком…
В искусстве барокко, напротив, мир предстаёт лишённым устойчивости, находящимся в состоянии беспрестанных перемен, закономерности которых непостижимы в силу их иррациональности.
Мироощущение барокко остро дисгармонично. К примеру, в драме немецкого поэта XVII века Грифиуса «Екатерина Грузинская» мы находим такие строки: «О вы, что ищете меня в этой юдоли печали, среди горя и вздохов и высохших костей, где всё падает и рушится, где вы сами (буквально – «ваше что») обращаетесь в ничто, и ваши радости в горькие слёзы» (монолог Вечности). Подобные мотивы встречаются и у писателей испанского барокко (у Алемана: «Гляжу на фиалку, а вижу в ней отраву. На снегу мне мерещатся грязные пятна; блекнет и вянет свежая роза, едва до неё коснётся моя мысль»). Само время стало восприниматься исключительно как разрушительная, враждебная человеку сила…
Вообще, это сложный вопрос, но есть точка зрения, утверждающая, что уже поздние произведения Шекспира и роман Сервантеса несут в себе черты эпохи барокко, ибо в них остро ощущается этот разрыв идеального и реального. Это справедливо, поскольку действительности, разумеется, жёсткой границы между историческими периодами не было. И всё же: для позднего Возрождения ещё оставался незыблем идеал, возникало лишь сомнение в возможности его осуществления, а барокко отказывается от идеала. Люди перестали верить в сам идеал. И в этом, собственно, главное различие.
По-своему это новое видение мира проявилось и в барочной архитектуре. В отличие от строго тектонической архитектуры Ренессанса, где используются преимущественно прямые линии и циркулярные, т.е. гармонически завершённые кривые, архитектура барокко тяготеет к пластической разомкнутости, включает эллипсовидные, параболические кривые, отмеченные повышенной динамикой. В ней сочетаются подчеркнутая материальность тяжёлых масс и одухотворённый порыв облегчённых и усложнённых форм, растворяющий в себе следы всякой тектоники. Архитектура барокко, тесно связанная с окружающим пространством, вовлекает зрителя в своё силовое поле.
Особенность живописи барокко – принцип резкой светотени. Это отличительная черта барочных картин – резкие контрасты, чего не знало Возрождение. А художники барокко очень любят сталкивать свет и тень…
Театр испанского барокко
дал миру три великих фигуры – это Лопе де Вега, Тирсо де Молина и Кальдерон.
Творчество его основоположника – Лопе де Вега – носит переходный характер, возникает на стыке эпох. Лопе де Вега родился в 1552 году, умер в 1635. Он прожил очень бурную жизнь. Это была натура, ещё близкая писателям Ренессанса, правда, в конце концов, он принял религиозный сан, но это мало отразилось на образе жизни. Лопе де Вега создал такое количество пьес, которое целиком никто прочесть не может – свыше 1500. Не случайно его именовали «Чудом природы», «Океаном поэзии», «Колумбом поэтических Индий». Уже в юности, когда Лопе де Вега ещё только начинал литературную деятельность, его произведения стали превращаться в сценические постановки. Писал он очень легко, быстро, мог работать в самых неблагоприятных условиях: например, одну из своих комедий сочинил, находясь на корабельной палубе в тот самый момент, когда происходила гибель испанского флота – Непобедимой армады.
Произведения Лопе де Вега заложили основы всех важнейших жанров испанского театра, последующие драматурги лишь развивали начатое им. Первый жанр – это, так называемая, драма народной чести, второй – комедия плаща и шпаги, третий – трагедия чести и четвертый – религиозная драма, или аутос.
Хочу познакомить вас с тремя драмами Лопе де Вега, представляющими наиболее ярко основные жанры. Что касается религиозных драм, автор, повторю, был лишён настоящего религиозного чувства, и поэтому они малоинтересны. Кроме того, я попытаюсь построить разбор таким образом, чтобы стал ощутим сам этот переход от мироощущения Ренессанса к эпохе барокко, столь ярко отразившийся в творчестве испанского драматурга.
«Фуенте Овехуна» («Овечий источник») – наиболее известный образец драмы народной чести. В этой пьесе, написанной около 1612 г., есть нечто общее с историческими хрониками Шекспира. Лопе де Вега здесь тоже обращается к прошлому – это историческая драма. Действие происходит в XIV веке. Как и в шекспировских хрониках, это период формирования единого национального государства, в Испании связанный с правлением, так называемых, «католических королей» – Фердинанда и Изабеллы.
Однако принципиальное отличие драмы Лопе де Вега от шекспировских хроник состоит в том, что главный герой в ней – крестьянин. И показаны в драме не столько взаимоотношения мятежного феодала дона Фернандо Гомеса с верховной властью, сколько жизнь простых людей. У Шекспира народные сцены никогда не стоят в центре событий. Для него это проходные эпизоды, фон произведений, в которых действуют короли, принцы, полководцы и т.д. У Лопе де Вега крестьянин становится центральной фигурой.
Чем это объясняется? Прежде всего, Шекспиру крестьянин как герой никак не подходит, поскольку не может быть абсолютно независимым. Это связано не с аристократизмом Шекспира, а с тем, что его целью было показать свободную личность. У Лопе де Вега задача другая. Во-первых, в Испании не было крепостной зависимости, и поэтому крестьянин оставался свободным человеком. Важнейшее понятие для испанского самосознания – это понятие чести. Поэтому герой Лопе де Вега – это свободный человек, остро чувствующий всё, что касается вопросов чести. И второе: у Лопе де Вега в центре стоит не отдельная личность, а народная общность.
Итак, действие драмы разворачивается в маленьком селении, которое носит название «Фуенте Овехуна», что в переводе означает овечий источник, овечий ключ. Дон Гомес, командор этого селения, старается превратить всех живущих здесь женщин и девушек в своих любовниц. И они, в общем-то, бессильны противиться своему господину. Иногда он пытается соблазнить красавицу какими-нибудь подарками, иногда прибегает попросту к силе. Но большинство жительниц селения сами готовы ему угождать. И лишь одна из них, главная героиня драмы, Лауренсья, в которой особненно развито чувство женской чести, ни за что не желает попасть в лапы командора. Она восклицает:
А я не потерплю позора.
Как много девушек вокруг
Польстилось на его слова,
И вот их участь какова.
А ты уйдёшь из хищных рук?
Ты веришь в чудо? Превосходно!
– отвечает ей другая.
Нет, ты напрасно судишь так.
Ведь скоро месяц как мой враг
Меня преследует бесплодно.
Ортуньо, хитрая лиса,
И сводник Флорес – тоже зелье! –
Мне приносили ожерелье,
Корсаж и гребень в волоса;
Такого мне наговорили
Про господина своего,
Что я теперь боюсь его.
Но, сколько он ни трать усилий,
Я никогда не соблазнюсь. (257)
(Действие первое, явление II)
В героиню влюблён юноша Фрондосо. Но и с ним она холодна, вообще никому не доверяет. Выше всего Лауренсья ставит своё женское целомудрие.
Но вот однажды на берегу реки, где в этот момент находился и Фрондосо, появляется командор и пытается силой овладеть Лауренсьей. У крестьянского сына достало смелости выхватить у командора оружие и пригрозить ему смертью. Командор был вынужден отступить. Конечно, он не простил этого оскорбления ни Лауренсьи, ни Фрондосо. Но отношение героини к Фрондосо резко изменилось. Если до сих пор она была к нему равнодушна, то теперь оценила его решительность и храбрость.
Я презирала всех мужчин,
Но мне открыл тот миг один,
Как ложно я на них смотрела.
Фрондосо – истинный храбрец!
Он может жизнью поплатиться. (258)
(Действие второе, явление VII)
Лауренсья соглашается стать женой Фрондосо. Но на празднестве командор Гомес приказывает схватить жениха, а потом силой забирает и Лауренсью, и все собравшиеся покорно наблюдают за происходящим. Спустя какое-то время героиня возвращается к гостям с растрёпанными волосами:
Мужчины, я могу законно
Принять участье в вашем сходе:
Мне право голоса не нужно,
У женщины есть право стона.
Узнали вы меня?
Её отец, Эстебан, восклицает:
О, небо!
Лауренсья? Ты?
Лауренсья
Я на себя
Сейчас настолько непохожа,
Что вы не знаете, кто это.
Эстебан
Лауренсья, дочь моя!
Лауренсья
Я больше
Тебе не дочь.
Эстебан
Как? Почему,
Дитя моё?
Лауренсья
Причин довольно,
И главная причина та,
Что ты насильникам позволил
Меня украсть и не отмстил,
Меня у хищников не отнял.
Я не успела выйти замуж,
Я не была женой Фрондосо,
И потому не он, а ты
За честь мою вступиться должен.
Пока справляемая свадьба
Не завершилась брачной ночью
Отец невесты, а не муж,
Её защитник по закону.
Ведь если я купила жемчуг,
Но мне он на руки не отдан,
Не я ответственность несу,
Когда его похитят воры.
Меня на ваших же глазах
Увёл к себе Фернандо Гомес.
Напуганные пастухи
Овечку уступили волку.
Каких я зверств не насмотрелась!
Как мне кинжалом грудь кололи!
Каких злодей не измышлял
Угроз, насилий, слов жестоких,
Пытаясь чистотой моей
Насытить низменную похоть!
По волосам моим судите!
По этим вот кровоподтёкам,-
Смотрите, вот! – по этой крови!
И вы кичитесь благородством,
Отцы и родичи мои?
И ваша грудь не разорвётся
От сострадания и от боли
Перед моей великой болью?
Вы – овцы, и Овечий Ключ
Вам для жилья как раз подходит! (259)
(Действие третье, явление III)
Лауренсья требует, чтобы жители селения вступились хотя бы за Фрондосо, которому угрожает гибель. Героиня призывает их к протесту. Затем она обращается к женщинам:
Смотрите: вот они идут,
Чтобы покончить с командором!
Мужчины, юноши, мальчишки
Бегут свершить кровавый подвиг.
Так неужели в этой чести
Мы им уступим нашу долю?
Ведь разве женщины не меньше
Страдали под его господством?
Хасинта
Чего ж ты хочешь? Говори.
Лауренсья
Хочу, чтоб мы, построясь к бою,
Свершили небывалый подвиг,
Который изумит народы.
Хасинта, ты настолько тяжело
Оскорблена, что смело можешь
Стать во главе отряда женщин.
Хасинта
И ты оскорблена жестоко.
Лауренсья
Паскуала – будь знаменосцем!
Паскуала
Позволь, я сбегаю проворно
Прибить полотнище к копью.
Увидишь, я свой долг исполню.
Лауренсья
На это времени не хватит.
К тому же можно сделать проще:
К оружью привязав косынки,
Мы их подымем, как знамёна.
Паскуала
Давайте выберем вождя.
Лауренсия
Не надо!
Паскуала
Почему?
Лауренсья
Довольно,
Что с вами я. Ни Родамонт,
Ни Сид со мной не поспорят. (260)
(Действие третье. Явление IV)
В селении происходит восстание, народ убивает командора. А дальше начинается поиск виновного. Король, хотя командор и выступал против его власти, всё же не может допустить, чтобы крестьяне и впредь расправлялись с законными правителями. Это неслыханный произвол, так быть не должно! Конечно, командор противостоял королю, но он был правителем этого селения, и крестьяне не смели лишать его жизни. От крестьян требуют ответа на один-единственный вопрос: кто убил командора. А они все как один отвечают: «Фуенте Овехуна».
В этой драме очень важную роль играет образ Менго, который с самого начала утверждал, что вообще-то существует лишь одно чувство на свете – это любовь человека к самому себе. В другое он не верит:
Естественной любви и я
Не отрицаю. Нет, ничуть.
Любовь такая существует,
И ей вся жизнь подчинена,
И всё, что видим мы, она
Между собою согласует.
Я первой отрицать не стану,
Что есть у каждого в крови
Естественный запас любви,
И в ней находит он охрану.
Моя рука всегда отбросит
Удар от моего лица,
Нога с проворством беглеца
Всё тело от беды уносит.
Когда зрачку грозит увечье,
Смыкает веки, хмурит бровь
Моя природная любовь.
Паскуала
Так в чём у вас противоречье?
Менго
Я говорю: любовь бывает,
Но только к самому себе. (261)
(Действие первое. Явление IV)
И вот Менго тоже пытают, даже особенно сурово. Но так же, как и все остальные селяне, на вопрос о виновном он отвечает: «Фуенте Овехуна».
Нет, – говорит судья. – Я не встречал ещё таких!
Им пытка ничего не стоит.
Я думал – этот всё откроет,
А он упрямей остальных.
Освободить их, я устал.
А Фрондосо скажет Менго:
Друг Менго! За тебя сейчас
Я так боялся, что за нас
Я и бояться перестал. (262)
(Действие третье. Явление XVIII)
Узнав о том, как стойко и достойно ведут себя жители «Овечьего источника», король и королева решают их простить и обещают, что больше в этом селении не будет власти командоров, а подчиняться они станут лично монархам.
Эта драма ещё близка к литературе эпохи Возрождения. Прежде всего, в ней гармоничный финал: победа крестьян над вероломным правителем, свадьба Фрондосо и Лауренсьи. Счастливые финалы редки в барочных драмах. Кроме того, здесь ещё как бы сплетаются воедино личное и общественное: с одной стороны, торжество крестьян, с другой – воссоединение главных героев. Кстати, сам образ короля тоже ещё близок ренессансным представлениям. Властитель, который обращает внимание на народные чаяния, – это идея, которая звучала и в творчестве Шекспира. Таким он представлял себе будущего правителя Генриха V, выступающего в исторической хронике «Генрих IV» в образе принца Гарри. Шекспир не успел застать в реальности его царствование, но идея народного короля вообще характерна для Ренессанса.
Однако в этой драме присутствуют и новые черты, которые резко отличают её от произведений предшествующей эпохи. Здесь нет доверия к отдельной личности. Сам образ командора представлен резко отрицательно: это человек, который не признает никакой морали и подчиняется лишь голым инстинктам. Таково его понимание свободы. Что касается главных героев драмы – крестьян, то важно следующее: это не индивидуальности. Все они говорят и действуют как одно целое. Может быть, каждый из них в отдельности и сдался бы, уступил: сам по себе человек слаб. Кстати, именно так поступали жительницы селения – уступали, подчинялись воле командора. А вот как коллектив они – сила. Не случайно на вопрос о виновном селяне все как один отвечают: «Фуенте Овехуна». И даже Менго, как и все остальные, даёт тот же ответ.
Итак, Лопе де Вега уже не верит в индивидуальную свободу человека, и это резко отличает его драму от произведений эпохи Возрождения. Для него гораздо более важной категорией становится народная честь, в которой нашли свое воплощение лучшие стороны человеческой общности. Кроме того, само это восстание возникает из-за того, что задета честь, а это главная ценность. «Фуенте Овехуна» – это честь жителей селения, которые ощущают себя членами единого коллектива. И в этом смысле драма прекрасно иллюстрирует переход от литературы Возрождения к литературе XVII века.
Теперь о комедии «плаща и шпаги». Таких комедий очень много у Лопе де Вега. В их число входит одна из наиболее популярных – «Собака на сене». Может показаться, что она близка к комедиям Ренессанса. Главная её тема – это любовь знатной дамы Дианы к секретарю Теодоро. На пути героев к браку стоит дворянская честь: они принадлежат к разным сословиям. Молодая вдова Диана – графиня, Теодоро – человек, не имеющий знатного происхождения, и понятие дворянской чести мешает им соединиться. В конце концов всё приходит, как и положено в комедии, к счастливой развязке – женитьбе героев. Социальные преграды, которые мешают их чувствам, рушатся. Точно так же в комедиях Ренессанса: нет преград, которые бы остановили любящих. В комедиях Шекспира это царство свободы символизирует собой лес, куда бегут герои, поскольку там действуют законы природы и бессильны законы общества. Однако отличия этой комедии от произведений Ренессанса очевидны. Диана говорит о Теодоро:
Я столько раз невольно замечала,
Как Теодоро мил, красив, умен,
Что если бы он знатным был рожден,
Я бы его иначе отличала.
Сильней любви в природе нет начала,
Но честь моя – верховный мой закон;
Я чту мой сан, и не допустит он,
Чтоб я подобным мыслям отвечала. (263)
(Действие первое. Явление XI)
Прежде всего, привлекает внимание одно важное обстоятельство: любовь вырастает из ревности. У Шекспира ревность вырастает из любви, а у Лопе де Вега, наоборот, любовь – из ревности. Поначалу Диана была равнодушна к Теодоро, но как только узнала, что тот влюблён в её служанку Марселу и даже собирается жениться, ощутила страсть:
Но зависть остаётся в глубине.
Чужим добром не трудно соблазниться,
А тут оно заманчиво вдвойне.
Собственно говоря, вся комедия построена на том, что любовь питается ревностью: не было бы ревности – не было бы и любви. Это первый мотив, который здесь возникает.
Кроме того, Теодоро – тоже совсем иной тип героя, отличающийся от героев Шекспира. Он любил Марселу, а потом, когда госпожа проявила к нему благосклонность, его страсть обратилась к Диане. Такая быстрая перемена чувств довольно часто встречается в произведениях Шекспира. Так, Ромео, едва встретив Джульетту, тут же забыл Розалину. На этом, кстати, построен и сюжет комедии «Сон в летнюю ночь», где глаза героя окропляют волшебным нектаром, и он тут же влюбляется в ту, которую видит первой. Поэтому то обстоятельство, что Теодоро сначала любил Марселу, а потом обратил свои чувства к Диане, нисколько не противоречило бы характеру шекспировской комедии. Вообще, согласно представлениям Ренессанса, чувство стихийно. Оно может вспыхивать и исчезать внезапно, поскольку это игра самой природы. Герой Шекспира забывает ту, которую любил раньше. Он её уже не помнит. Ромео никогда не вспоминает Розалину. Он влюбляется, и тут же прежнее чувство уходит. А здесь Теодоро держит Марселу про запас: стоит Диане чуть охладеть к нему, он вновь готов вернуться к Марселе.
Чем его привлекает Диана? Для Теодоро важно, что она – знатная дама. Нельзя сказать, что он по расчету хотел бы вступить в брак с Дианой, хотя такие мотивы у него тоже, конечно, есть. Он влюблён в неё, но прелесть Дианы в её знатности. Не будь она графиней, не была бы для него столь привлекательной. Он, впрочем, этого и не скрывает. Теодоро всё время ощущает, что неравенство положения препятствует их любви:
Кто знал подобное несчастье!
Кто видел взбалмошное решенье!
Кто глубже испытал превратность!
Так вот они, мои порывы
Взлететь! О, Солнце, пусть твой пламень
Испепелит мои крыла,-
Уже расщеплены лучами
Не в меру дерзостные перья,
Те, что взманил прекрасный ангел!
Диана обманулась тоже…
О, как я мог так безоглядно
Поверить ласковому слову!
Давно известно – меж неравных
Не уживается любовь.
Но разве можно удивляться,
Что этот взгляд меня опутал?
Ведь он бы мог завлечь обманом
И хитроумного Улисса.
Я никого винить не вправе;
Лишь я виновен. И потом –
Что я в конце концов теряю?
Скажу себе, что у меня
Был дивный приступ лихорадки
И что, пока она тянулась,
Я бредил чем-то очень странным.
И только. Гордая мечта,
Простись с надеждой невозвратной
Стать графом де Бельфор; направь
К знакомым берегам свой парус;
Люби, как встарь, свою Марселу;
С тебя вполне Марселы хватит. (264)
(Действие второе. Явление XIV)
Но стоит Теодоро вновь обратиться к Марселе, тут же вспыхивает страсть Дианы. Сама она не собирается за Теодоро замуж, поскольку это ставит под угрозу её дворянскую честь, но и не может допустить, чтобы он женился на другой. Теодоро даже признается Диане однажды:
Увы, приходится сказать,
Что в рассужденьях ваших больше
Бывает светлых промежутков,
Чем в вашем разуме, сеньора
(Простите, если я невежлив).
Вам было некогда угодно
Внушить мне страстные надежды,
Взманившие меня настолько,
Что я не вынес груза счастья
И был, как вам известно, болен,
Лежал в постели целый месяц.
К чему все эти разговоры?
Чуть я немножечко остыну,
Вы загораетесь соломой,
А чуть я снова загораюсь,
Вы льдом становитесь холодным.
Ну, отдали бы мне Марселу!
Так нет: вы, точно в поговорке,
Собака, что лежит на сене.
То вы ревнуете, вам больно,
Чтоб я женился на Марселе;
А чуть её для вас я брошу,
Вы снова мучите меня
И пробуждаете от грёзы.
Иль дайте есть, иль ешьте сами.
Я прокормиться неспособен
Такой томительной надеждой.
А не хотите – мне недолго
Влюбиться в ту, кому я мил.
Диана
Нет, Теодоро. Знайте твердо:
Марселы больше быть не может,
Бросайте взор куда угодно,
Но только не сюда. Марсела
К вам не вернётся.
Теодоро
Не вернётся?
Иль ваша милость пожелает
Остановить своею волей
Любовь Марселы и мою?
Или я должен, вам в угоду,
Пленяться тем, что мне противно
И подчинять мой вкус чужому?
Нет, я Марселу обожаю,
Она – меня, ей нет позора
В такой любви.
Диана
Мошенник, дрянь!
Я бы должна убить такого!
Теодоро
Но что вы делаете? Что вы?
Диана
Я негодяю и пройдохе
Даю пощёчины. (265)
(Действие второе. Явление XXVII)
Но и Марсела не намного лучше, у неё тоже есть поклонник Фабио, с которым она играет так же, как Диана с Теодоро: то говорит ему, что любит, то прогоняет, как только её вновь поманит Теодоро… Итак, перед нами уже другой мир, другой тип людей, отличающихся от людей эпохи Ренессанса.
Комедия имеет счастливую развязку. Диана в конце концов станет женой Теодоро, Марсела выйдет замуж за Фабио. Но каким образом достигается такой финал? Важную роль здесь играет образ Тристана, слуги Теодоро. Он придумал, в общем, довольно расхожее: выдать Теодоро за сына знатного вельможи, которого тот якобы потерял, когда Теодоро был ещё ребенком. Вельможа поверил, что Теодоро – его пропавший некогда сын, и Теодоро разом обрел и отца и знатный титул. Теперь браку героев ничто уже не мешает, нет больше главного препятствия. Однако Теодоро решает открыться Диане. Он не хочет ее обманывать. Во-первых, ложь может в конце концов обнаружиться А, во-вторых, он не хочет строить отношения на обмане. Теодоро рассказывает Диане все как есть. Но как Диана принимает эту правду? Главное, по ее мнению, что все вокруг будут считать Теодоро сыном знатного вельможи.
Всё это и умно и глупо.
Умно – что ваша откровенность
Явила ваше благородство;
Но глупо думать, в самом деле,
Что буду глупой также я
И брошу вас, когда есть средство
Возвысить вас из низкой доли.
Ведь не в величье – наслажденье,
А в том, чтобы душа могла
Осуществить свою надежду.
Я буду вашею женой. (266)
(Действие третье. Явление XXVI)
Итак, оказывается, что честь – это уже не нечто глубинное, не суть человеческой натуры, а озабоченность тем, что скажут другие, как всё будет выглядеть со стороны.
Однако есть ещё один существенный момент. Диана хочет избавиться от Тристана, единственного свидетеля, знающего об обмане:
А чтобы нашего секрета
Тристан не выдал никому,
То я, как только он задремлет,
Велю его схватить и бросить
В колодец. (267)
(Действие третье. Явление XXVI)
Герой Шекспира обычно был благодарен своему слуге, который помогал ему достичь желанной цели. А здесь героиня желает расправиться с помощником своего возлюбленного. Этого, конечно, не происходит, иначе комедия не могла бы иметь счастливой развязки. Тристан случайно узнаёт о намерениях графини, и ничего плохого с ним не происходит. Но в своем порыве Диана достаточно красноречива.
Итак, внешне эта комедия похожа на ренессансную, но если присмотреться внимательнее к характерам героев, то станет очевидным уже нечто совсем иное. Во-первых, это люди, которые живут в обществе и никогда не смогут отступить от его законов. Они готовы эти общественные установления обойти, пойти на любые уловки, хитрости, но в лес не побегут, как это делали герои Шекспира. Диана выйдет замуж за Теодоро, если все вокруг будут думать, что её избранник знатен. Прелесть Дианы для Теодоро в том и заключается, что она – графиня, хотя нельзя сказать, что им движет корысть. И, наконец, есть ещё один существенный мотив, с которым связано само название пьесы, – запретный плод сладок. Люди живут в обществе, в котором слишком много запретов и ограничений, это заставляет их изворачиваться. Перед нами уже совершенно изменившийся мир.
Но по-настоящему черты эстетики барокко выступают в других произведениях Лопе де Вега, и в частности, в драме «Звезда Севильи». Это уже настоящая барочная трагедия. Действие происходит в Севилье, куда прибывает новый король. Когда он проезжает со своей свитой по улицам города, жители радостно его приветствуют и просят лишь об одном:
Одно условие сперва:
Ты должен сохранить народу
Его священную свободу,
Его старинные права. (268)
(Действие первое. Явление I)
Однако у главного советника короля, дона Ариаса, на этот счёт – иное мнение. Он считает, что воля короля – закон, король – абсолютный властитель, и потому имеет право на всё, что угодно. Среди приветствовавших король заметил одну девушку, которая поразила его своей красотой. Её зовут Эстрелья, что по-испански значит «звезда». Отсюда само название этой драмы «Звезда Севильи». У девушки есть брат, Бусто Табера, который заменил ей отца и будет опекать, пока та не выйдет замуж. Король хотел бы добиться благосклонности Эстрельи:
«Осыпьте милостями брата:
Как ни была бы честь горда,
В ней можно брешь пробить всегда, – говорит ему Дон Ариас. –
Власть всемогуща и богата…
За всякий дар нужна расплата.
Коль примет – справитесь вы с ним.
Он воспротивится едва ли.
Долг королю неизгладим,
Как будто вы его вписали
Резцом на медные скрижали. (269)
( Действие первое. Явление II)
Дон Ариас предлагает Бусто очень высокий пост при дворе, думая, что в таком случае брат не станет противиться тому, чтобы Эстрелья стала возлюбленной короля. Бусто вначале принимает назначение, даже польщён тем, что ему оказана такая честь. Но очень скоро приходит понимание, какую цену за это придётся заплатить. А он не может поступиться честью, которая для него дороже всего.
У Эстрельи есть жених, главный герой этой трагедии, дон Санчо Ортис, друг Бусто Табера. Узнав, что король пожаловал Бусто придворный пост, он сразу заподозрил недоброе:
Кто выдержит такие испытания?
Кто может вынести подобные страданья?
Король! Сюда явился ты затем,
Чтоб мне закрыть дорогу к счастью…
Тиран! Народ перед тобою нем,
Все твоему покорны самовластью.
Пусть Санчо Смелого прозванье,
Монарх, ты заслужить успел, -
Под ним скрывается жестокость тёмных дел,
И им судьба готовит наказанье. (270)
(Действие первое. Явление Х)
Бусто признаёт правоту Санчо и отказывается от предложения короля.
Тогда дон Ариас предлагает другой способ добиться расположения Эстрельи. Вместе с королем они решают навестить Бусто, но Бусто их не принимает под тем благовидным предлогом, что его дом якобы не готов к визиту столь важного гостя. Королю не удалось повидаться с Эстрельей, но дон Ариас договорился со служанкой, обещавшей, что вечером, когда Бусто не будет на месте, она впустит короля в дом. Но Бусто почему-то вернулся раньше обычного и застал в доме незнакомца в маске. По испанским законам там, где живёт молодая незамужняя девушка, нельзя находиться постороннему мужчине, если рядом нет родственников. Это нарушает законы чести. Бусто готов сразить незваного гостя:
Кого приводит чести дело,
Тот не стыдится, тот несмело,
Как вор, не прячется в углах.
Меч обнажи! Во имя чести!
Иль смерть тебе!
Король восклицает:
Безумец, стой!
Бусто:
Иль меч мой справится с тобой,
Иль я останусь здесь на месте!
И обнажает меч. Король решает, что должен открыться, чтобы сохранить свою жизнь.
Брось сопротивленье!
Король перед тобой!
Но Бусто ему не верит:
Ложь!
Король? Один? Украдкой?.. Лжёшь!
Король принёс мне посрамленье?
Не может быть! И ты, злодей,
Позоришь короля напрасно?
Темнишь ты свет величья ясный
Преступной клеветой своей?
Нет, подданных своих не станет
Король бесчестием грязнить,
Он их доверья не обманет!
Вдвойне мой долг тебя казнить.
Себе я снёс бы оскорбленье,
Досаде замолчать веля,
Но, оскорбляя короля,
Ты совершаешь преступленье!
Ты знаешь, что закон нам дан,-
Он даже тех сурово судит,
Кто хоть помыслит, что забудет
Король божественный свой сан. (271)
( Действие второе. Явление V)
Король в растерянности, он не знает, как поступить. Повторяет: «Я король». Но Бусто стоит на своём:
От этой лжи меня уволь.
Ведь королевские деянья
Несут нам только честь и свет,
Ты ж внёс позор к нам!
«Дело трудно… – бросает король в сторону, – как дерзко и как безрассудно…»
Но Бусто на самом деле и не сомневается в том, кто скрывается под маской:
Король, король, сомненья нет…
Мне выпустить его придётся,
Потом узнать, какой урон
Им нашей чести нанесён.
От гнева дух во мне мятётся…
Но ждать, как арендатор ждёт,
Пока тяжёлого расхода
Ему сторицею природа
Земли плодами не вернёт!..
Он говорит незнакомцу:
Ступай, кто б ни был ты, но помни:
В дальнейшем клеветой своей
Ты короля пятнать не смей!
И что быть может вероломней?
Творя позорные дела,
Ты королём посмел назваться,
Тем, кем испанцы все гордятся,
Чья слава рыцарски светла!
Он милость мне свою поведал,
Свой ключ доверил мне потом,
И, верно б, не вошёл в мой дом,
Пока б ему ключа я не дал.
Укрылся ты, как жалкий тать,
За именем его священным,-
Считаю долгом неизменным
Пред этим именем смолчать.
Так не дрожи, иди свободно,
Свой гнев, свой меч я удержу,
Тебя за имя пощажу,
Что так светло и благородно.
Пред ним я опускаю меч,
Но впредь не нарушай закона!
Король – вассала оборона,
Он должен честь его беречь. (272)
(Действие второе. Явление VI)
Король тоже понимает, что Бусто его узнал, и теперь у него не остаётся другого выхода – он обнажает меч. Но в этот момент входят слуги. Король спешно покидает дом. Он чувствует себя оскорблённым и должен отомстить Бусто.
Служанку, которая дала королю ключ, Бусто повесил неподалеку от королевского дворца, чтобы у короля не было сомнений: его узнали. Король размышляет, как ему теперь быть, как смыть позор. И дон Ариас дает ему совет: повелеть какому-нибудь честному испанцу сразиться с Бусто, чтобы наказать его в честном поединке. Причём, не надо сразу говорить, в чём дело, а просто взять обещание – отомстить за короля. Пусть сначала даст слово, а потом узнает имя противника.
В качестве защитника королевской чести должен выступить друг Бусто и жених Эстрельи – Санчо Ортис. Санчо обещает королю наказать обидчика. Но, покинув дворец, он получает письмо от Эстрельи, в котором та сообщает, что Бусто наконец дал согласие на их брак:
«…Мой милый брат своим согласьем дал
Мне – жизнь, тебе – твою Эстрелью.
Спеши, мой друг, тебя он ищет с целью
Назначить свадьбы час, спеши
И не теряй часов». Звезда моей души!
Сбылась мечта, сон светлый мой!
(Действие второе. Явление III)
Это счастливый миг Санчо Ортиса.
А потом он открывает вторую записку от короля, где сказано, кто должен быть сражён его рукой:
«Табера Бусто должен быть убит».
О, боже мой, что я прочёл?
Вся наша жизнь – игра азарта…
Кто стасовал, кто чем пошёл…
Одна невыгодная карта –
Источник горестей и зол.
Жизнь, жизнь, жестокая игра!
Блаженство было мне открыто…
Миг – и судьба, как ночь, темна…
Один лишь ход – и карта бита…
И с нею жизнь моя убита! (273)
(Действие второе. Явление XIII)
Итак, это уже мироощущение барокко. Кстати, и Эстрелья, немного забегаю вперед, позже тоже скажет своей служанке:
День счастливый навсегда
Я запомню, Теодора,
Вот она, моя звезда! (274)
(Действие второе. Явление XVII)
А через минуту она узнает, что брата убил её жених Санчо Ортис:
Горе, горе –
вот она – моя звезда!
<…>
День ужасный навсегда… (275)
(Действие второе. Явление XIX)
Бытие двойственно: день прекрасный в одно мгновение оказывается ужасным, а миг счастья оборачивается горем. Такое мироощущение характерно для барокко.
Перед Санчо встаёт сложная проблема. Он понимает, что Бусто ни в чём не повинен, но он дал слово королю:
Что делать мне?
Ведь с королём я клятвой связан!..
<…>
Пощады нет его вине,
Исполнить клятву я обязан,
Так мне и долг и честь велят.
Он, он – её любимый брат!
Какой удар моей невесте!
Но короля приказ ведь свят,
Его исполнить – дело чести…
Однако можно ли забыть
Всей жизни золотую нить?
Всю дружбу и любовь былую?
Нет, нет, я Бусто жизнь дарую!
Он должен жить! Он должен жить!..
Но неужели же нарушу
Я клятвы чести королю,
Его величье оскорблю?
Нет! Погублю я жизнь и душу,
Но чести я не погублю!
Любовь и честь… О, как жестоко
В борьбе изнемогает дух!
Как выбрать мне одно из двух?..
Люблю я страстно и глубоко,
Но – честь должна быть без упрека.
Быть может, Бусто жизнь оставить,
А самому свой путь направить
В чужие, дальние края,
Где королю служил бы я?
Но нет, к чему с собой лукавить!
Ведь короля приказ гласит…
(Перечитывает.)
«Тобера должен быть убит».
Зачем его убить он хочет?
Мне ум недоброе пророчит:
Эстрелья! Гибель ей грозит.
Король пленен звездой моею,
И вот, со своего пути
Он хочет Бусто отмести.
Но отказать ему посмею,
Эстрелью я хочу спасти.
Хочу? Но я хотеть не смею!
Я рыцарь долга, чести раб!
Я должен, да, и я сумею
Расстаться с волею своею…
< …>
Ведь слово короля – закон,
Хотя б несправедлив был он…
Увы! мой долг – повиновенье,
Я быть убийцей принуждён.
Я должен быть его орудьем.
Король велел – свершай скорей!
Он прав всегда, хоть будь злодей. (276)
(Действие второе. Явление XIII)
Он вызывает на поединок и сражает Бусто. Правда, сам приходит в ужас от того, что пришлось совершить:
Боже правый!
Что сделал я! Какой отравой
Мой дух сожгло безумье вдруг?
Тебя я ранил, брат мой, друг?
Рассеялся туман кровавый…
Возьми свой меч, меня убей!
Вот грудь моя – вонзи скорей!
Открой дорогу, умоляю,
Душе истерзанной моей!
А Бусто перед смертью скажет:
Тебе сестру я поручаю.
Прощай! (277)
(Действие второе. Явление XIV)
Санчо Ортиса берут под стражу: он должен предстать перед судом. Судьи пытаются выяснить причины происшедшего:
Я убил Таберу Бусто
И, хотя б ценой свободы
Не нарушу данной клятвы.
Над собою я – король.
То, что обещал, я сделал,
Пусть же и другой исполнит,
Что решился обещать.
Говорить другой тут должен,
Я же должен лишь молчать. (278)
(Действие третье. Явление VI)
Он так ничего и не скажет судьям. Но в тюрьме происходит разговор Санчо с самим собой, своего рода диалог с честью, во имя которой был повержен его рукой Бусто Табера:
Честь! Безумец благородный
Хочет быть твоим рабом
И служить твоим законам!
– Плохо, друг, ты поступаешь…
Нынче истинная честь
В том, чтоб клятвы не держать.
Что же ты меня здесь ищешь?
Я ведь умерла давно,
Протекли с тех пор столетья.
Друг, ищи ты лучше денег, –
Деньги, деньги, вот в чём честь.
Что же сделал ты? – Хотел я
Клятву данную сдержать.
– Клятву держишь? Ах, безумец!
В наше время благородно
Данной клятвы не держать.
– Клятву дал я, что убью
Человека, и в безумьи
Друга лучшего убил.
– Плохо! Плохо! (279)
(Действие третье. Явление VI)
Эстрелья, потерявшая брата, по испанским законам имеет право сама наказать убийцу. Она является в тюрьму и предлагает Санчо бежать. Она понимает, что произошло что-то ужасное и Санчо невиновен. Но когда тот спрашивает, согласна ли Эстрелья стать его женой, она отвечает отказом. Она не может стать женой убийцы своего брата. Но она предлагает ему свободу. Санчо говорит: «Нет».
Решить судьбу Санчо должны судьи, но король хотел бы для него оправдания, ведь Санчо исполнял его волю. Главный советчик короля во всех вопросах, Дон Ариас, говорит, что судьи должны подчиниться воле короля:
Не смеет рассуждать вассал,
Он должен знать повиновенье,
Всё исполнять без рассужденья, –
Так высший долг нам приказал. (280)
(Действие третье. Явление Х)
Король объявляет судьям, что хотел бы, чтобы Санчо был оправдан, но его приговаривают к смертной казни. Судьи объясняют свою позицию так:
Как вассалы – мы покорны,
Но как судьи – неподкупны… (281)
(Действие третье. Явление ХVI)
И тогда королю не остается ничего другого, кроме как признаться судьям, что это он велел убить Бусто. Конечно, король не раскрывает истинных причин происшедшего, но, во всяком случае, признается, что Санчо Ортис действовал по его указанию:
Говорю c тобой, Севилья!
Ты меня должна казнить!
Я – виновник этой смерти,
Я его убийцей сделал!
Он невинен. С вас довольно? (282)
(Действие третье. Явление ХVIII)
А Санчо на это скажет:
Только этого и ждал я,
Чтоб всемерно оправдаться.
Мой монарх меня послал
На убийство, я иначе
Не свершил бы злодеянья.
Король
Подтверждаю, это – правда. (283)
(Действие третье. Явление ХVIII)
Суд оправдывает Бусто: раз он выполнял волю короля, то не несёт ответственности. Король испытывает угрызения совести и хочет соединить Санчо и Эстрелью.
«Я люблю его навеки,» – признается Эстрелья. И Санчо вторит её словам…
Король недоумевает:
Так чего же не хватает?
Дон Санчо
Только твоего согласья.
Эстрелья
Мы в согласии жить не можем:
Не могу с убийцей брата
Я делить и кров и ложе.
Возвращаю твоё слово.
Те же слова произносит и Санчо:
Да! Тебя я понимаю!
Возвращаю твоё слово.
Тяжело и мне ведь было б
Видеть ту, чей брат любимый,
Друг мой, мною был убит.
Эстрелья
Значит, оба мы свободны.
Дон Санчо
Да.
Эстрелья
Прощай же!
Дон Санчо
И прости!
Король пытается их удержать: «Но одумайтесь, постойте!».
Государь, убийца брата
Мне не может быть супругом.
Хоть его боготворю я,
Хоть люблю его навек, – заключает Эстрелья и уходит.
А Санчо скажет:
Государь, любя её,
Признаю, что справедливо
Это горькое решенье. (284)
(Действие третье. Явление ХVIII)
Король потрясён столь глубоким благородством героев. Он обещает, что впредь будет чтить старинные устои. Таково содержание трагедии.
Тема чести является едва ли не важнейшей в трагедии эпохи барокко. Для героев честь, в общем-то, единственная форма сопротивления всесилью правителей. Поскольку в Испании не было никаких иных способов ограничить верховную власть, честь – это всё, что человек мог противопоставить произволу, хотя уже и понятие чести стало терять свою значимость, как вынужден был признать Санчо. Бусто противостоит королю, потому что для него главный закон – это закон чести. И для Санчо это столь же важно, хотя мотивация его поступков более сложная. Но то, что делает Санчо, – это ведь что-то очень неразумное. Зачем он убивает Бусто? Это неразумное выполнение долга. Конечно, он дал слово королю, но это же безумие: он разрушил своё личное счастье, счастье Эстрельи, убил лучшего друга. Он совершил что-то глубоко ужасное и бессмысленное. Но в трагедии барокко высший героизм как раз и состоит в выполнении неразумного долга, в том, что герой остаётся верным самому себе и своим принципам даже в такой бесконечно жестокой и бессмысленной ситуации. Мир, кажется, столь иррационален, что остаётся только это – в любых обстоятельствах и независимо от них…
Второе, что хотелось бы отметить: если бы перед нами была шекспировская трагедия, то Эстрелья не смогла бы жить без Санчо, а Санчо без Эстрельи, они бы покончили с собой, умерли бы в ту же минуту. Здесь же влюблённые расстаются, покидают друг друга навсегда. У Шекспира трагедии всегда заканчиваются гибелью героев, а здесь они продолжают жить, но это даже более пессимистично, чем гибель, потому что за гибелью героев стоит всё же вера во что-то высшее, а здесь уже не остаётся никакой веры. Это ощущение жизни как страдания и осознание неизбывности этого страдания в столь неразумно устроенном мире. Таково мироощущение барокко.
Но классическим драматургом и поэтом барокко был всё-таки не Лопе де Вега, а Кальдерон. Педро Кальдерон родился в Мадриде в 1600, умер в 1681. Своё образование, как представитель знатного семейства, он начал в иезуитской коллегии, обучался праву и теологии в испанских университетах. Однако около 1620 года Кальдерон поступил на военную службу, которую в течение многих лет совмещал с литературной деятельностью: писал для сцены, прежде всего для придворного театра короля Филиппа IV. В 1642 году по состоянию здоровья Кальдерон оставил армию, принял сан католического священника и в последние годы жизни служил почётным королевским капелланом и настоятелем братства св. Петра.
Кальдерон создал во много раз меньше произведений, чем Лопе де Вега, но тоже очень много по нашим меркам, около двухсот. Он творил в тех же самых жанрах, что и Лопе де Вега. У него есть драмы народной чести (например, «Саламейский алькальд»), трагедии чести («Врач моей чести»), комедии плаща и шпаги. Но есть и ещё один жанр, основоположником которого считается именно Кальдерон, – это религиозно-философская драма. К этому жанру относится самое значительное его творение – драма «Жизнь есть сон».
Надо сказать, Кальдерон – автор очень тенденциозный, уже в самом названии его пьес всегда выражена главная их идея: «Стойкий принц», «Великий театр мира» и т.д. Заглавие «Жизнь есть сон» тоже само по себе значимо. Некоторые смыслы бросаются в глаза: жизнь – это нечто иллюзорное, подобное сновидению, в ней всё призрачно, лишь мерещится, представляет собой некую видимость. Обычно подобием сна считается смерть. Провожая в последний путь покойника, говорят: «спи спокойно!» и т.д. А в драме Кальдерона жизнь и смерть поменялись местами. Жизнь – сон. Ещё один мотив, который хотелось бы отметить: во сне мы ведём себя безответственно, ни за что не отвечаем. Нельзя упрекать человека за поведение во сне. И последнее. Не могу это утверждать, поскольку каждый видит сны по-своему, но всё же: во сне мы нередко видим себя как бы в третьем лице, за исключением моментов, когда смотрим на своё отражение в зеркале: видим, как ходим, разговариваем… Таким образом, мы видим себя как бы вне себя, со стороны. То есть, возникают два «Я»: то, которое видит сон, и то, которое действует во сне.
Драма Кальдерона состоит из трёх действий, так называемых хорнад. События охватывают три дня, каждый – отдельное действие. В таком трёхчастном делении, в сущности, присутствует гегелевская триада: первое действие – тезис, второе – антитезис, и заключительное – синтез. Конечно, можно справедливо возразить: Кальдерон не читал Гегеля и о триаде не знал. Это так, но совсем не обязательно читать Гегеля, чтобы ощутить эту глубинную закономерность. Принцип триады был известен с незапамятных времён: это триединый образ – жизнь, смерть и новое рождение; принцип круговорота – день, ночь, за которой обязательно следует наступление нового дня.
Вообще, Кальдерон сознательно полемизирует с идеями своих предшественников. Его драма «Жизнь есть сон» – это прямая полемика с идеями Возрождения. И она ведётся на очень высоком уровне. Я хотел бы пояснить, что имею в виду. Бывает полемика, избирающая слабые места оппонента, а Кальдерон касается самых сильных сторон Возрождения и полемизирует по существу. Он обращается к основополагающим принципам предшествующей эпохи и пытается их опровергнуть.
Действие драмы происходит в Польше, или Полонии, как называет её Кальдерон. Собственно говоря, единственная польская примета здесь – имя главного героя, Сехизмундо, все остальные имена испанские – Росаура, Эстрелья, Астольфо и т.д. Кстати, упоминается здесь и Россия, которую Кальдерон именует Московией. Астольфо – князь Московии. Из Московии же приезжает главная героиня, Росаура, которую связывают с Астольфо узы юношеской любви…
Почему Кальдерон избрал местом действия Польшу? Он никогда там не был, в его драме нет никакого польского колорита, это философское, довольно условное произведение…
Вообще, трагедия требует некоторой отстранённости, либо пространственной, либо временной. Шекспир переносит действие в далёкое прошлое, он никогда бы не стал изображать современность, в трагедии это невозможно. И для Кальдерона Польша – это тоже какой-то очень далёкий мир. Если учесть возможности транспортного сообщения в те времена, Польша – своего рода край света. Кроме того, Кальдерон был видным религиозным и церковным деятелем, и для него Польша – это граница католической Европы.
Итак, первая хорнада. Некогда у польского короля Басилио должен был родиться сын, наследник престола. Вычислив положение звёзд на небе, он узнал, что мальчику, подобно Эдипу, уготована страшная судьба: он принесёт смерть матери, сокрушит власть отца, а сам окажется очень жестоким и несправедливым правителем – всю жизнь будет сеять вокруг себя раздоры и разрушения. Первая часть предсказания сбылась: когда Сехизмундо родился, мать умерла, само его появление на свет стоило ей жизни. Поэтому Басилио поверил, что и остальное может исполниться.
Но Польша – христианская страна, поэтому король не лишает сына жизни. Решив не ставить под угрозу трон, отечество и собственную безопасность, он заточает Сехизмундо в башню, расположенную в безлюдной горной местности. Королевский сын вырос втайне (все вокруг считают, что Сехизмундо умер в младенчестве) под бдительной охраной и наблюдением Клотальдо…
В первой хорнаде мы застаём уже взрослого Сехизмундо. Он в заточении, но в нём живёт страстная жажда свободы. Вот первый монолог, который произносит герой, одетый в звериную шкуру:
О горе, горе мне! О я, несчастный!
Разрешите мои сомненья,
Небеса, и дайте ответ:
Тем, что родился на свет,
Я разве свершил преступленье?
Но всё же, по размышленьи,
Я мог и сам убедиться,
Что грозная ваша десница
Меня покарать должна:
Ведь худшая в мире вина –
Это на свет родиться.
Всё же я знать хочу,
Чтоб не терзаться вечно
(Хоть я признаю, конечно,
Что за рожденье плачу),
За что я свой век влачу,
В вечную тьму погружён?
Я разве один рождён?
Ведь родились и другие…
В чём их права такие,
Каких я был лишён?
Родится птица, и, богатой,
Своей красотой блистая,
Она – лишь ветка живая
Или цветок пернатый,
Когда свой полёт крылатый
Мчит в высоту она
Тепла гнезда лишена,
Одной быстротой согрета…
Зачем же мне, в ком больше света,
Свобода меньшая дана?
Родится зверь, и на него
Надета цветная шкура,
Он – лишь звезды фигура
(Кисти лихой мастерство);
Люто его естество,
Когда защита нужна;
С людьми глухая война
Требует много искусства…
Зачем же мне, в ком больше чувства,
Свобода меньшая дана?
<…>
Дойдя до такой тоски,
Словно вулкан загораюсь,
И сердце вырвать стараюсь
И разорвать на куски.
Зачем так цепи тяжки?
За что такая потеря,
Что, бед глубину измеряя,
Люди того лишены,
Что создал бог для волны,
Для рыбы, для птицы, для зверя? (285)
(Действие первое.Явление третье)
Этот первый монолог и первая хорнада относятся ещё как бы к Средневековью. Это мир накануне Ренессанса. Герой истово рвётся из оков и считает, что любое другое живое существо, у которого меньше разума, чувств, чем у него, – куда более свободно. Любой зверь, птица, рыба… А он, человек, лишён всего того, что дано каждому родившемуся на свет. Почему такая несправедливость? Он проклинает свою судьбу. За всю свою жизнь он видел лишь старика-тюремщика. И вдруг, он впервые встречает женщину – Росауру. Правда, она предстаёт перед ним в необычном обличье: в мужском платье, переодевшись в которое и прибыла в королевство, а затем, заблудившись в ночи, случайно забрела в башню, скрывающую Сехизмундо. Никогда прежде ему не приходилось видеть женщин. Он покорён женской красотой: «…бог, сотворив мужчину, // Сотворил земли половину, // Но, женщину создавая, // Создал он половину рая».
Король Басилио уже стар и должен думать о наследнике престола. Вообще, он собирался свою племянницу Эстрелью выдать замуж за герцога Московии Астольфо и передать им королевство, но всё-таки его мучают сомненья. Может не надо было верить предсказаниям и следует объявить подданным, что Сехизмундо жив и готов принять власть.
Так вот легко поверить
В предначертанья неба:
Хотя бы свирепость нрава
Толкала сына к пороку,
Мог бы его избежать он,
Ибо самые злые силы,
Самые дикие страсти,
Самые жгучие звезды
Лишь влияют на душу и разум,
Но их изменить не могут.
И, предавшись этим раздумьям,
Рассудивши эти причины,
Я пришёл к такому решенью,
Что вас в изумленье повергнет. (286)
( Действие первое. Явление второе)
А решение вот какое: опоив сонным зельем, переместить узника во дворец, а когда Сехизмундо проснётся, объявить ему, что он – царский сын. Король хочет посмотреть, как Сехизмундо будет себя вести. Выдержит испытание, проявит добрые намерения – станет новым правителем, а если нет, как это и было предсказано, тогда его снова заточат в башню и скажут, что всё, что с ним произошло, было сном.
Второе действие. Сехизмундо на свободе. Он просыпается во дворце. Это уже как бы Ренессанс. Герой обрел ту свободу, к которой стремился, теперь он – принц. Но ведёт себя Сехизмундо, руководствуясь принципом:
И быть не может по праву
То, что мне не по нраву. (287)
Росаура, которую он видел лишь переодетой мужчиной, теперь является в женском одеянии. Тем не менее, он ее узнает – она по-прежнему кажется ему прекрасной, и он тут же пытается ею овладеть. Слугу, который посмел перечить, он сбрасывает с балкона в море. А когда к нему подходит Басилио и спрашивает, как он смел так поступить, отвечает:
Подумай, что ты мне даришь?
Душитель моей свободы,
Затем, что ты слаб и стар,
Умирая, даёшь мне в дар
У меня отнятые годы?
Ты мой король и отец,
Однако по праву рода
Дала мне сама природа
Богатство твоё и венец.
Хоть буду я презрен всеми,
Не жди от меня привета,
Потребую я ответа
За моё погибшее время,
За каждый свободный миг.
И будь благодарен, что долго
С тебя не взымал я долга,
Потому что ты – мой должник! (288)
(Действие второе. Явление восьмое).
Осознав себя властителем, Сехизмундо творит бесчинства, словно вырвавшийся из клетки зверь. Он, кстати, жаждет убить Клотальдо, который был его тюремщиком. Единственное, чего он не может понять: почему Клотальдо, который всегда относился к нему с пренебрежением, теперь так подобострастен, ведь ничего не изменилось. Всем ясно, что Сехизмундо необходимо как можно скорее возвращать на место. И его, спящего, переносят обратно в башню. «Проснёшься ты, где просыпался прежде», – такова воля короля.
В момент пробуждения рядом с Сехизмундо – Клотальдо и отец. Они хотят посмотреть, каким он будет на этот раз. Во сне Сехизмундо произносит:
Принц благочестен тот,
Пред коим дрожат тираны:
Клотальдо умрёт от раны,
Отец мне в ноги падёт. (289)
( Действие второе. Темница принца в башне. Явление второе)
Клотальдо скажет: «Он смертью мне угрожает». И король не сомневается в том, что правильно поступил:
У ног меня видеть мечтает…
Сехизмундо (во сне)
Пусть на просторе играет
На виду у целого света
Грозная сила эта,
И, в довершенье мести,
На королевском месте
Потребую я ответа. (290)
( Действие второе. Темница принца в башне. Явление второе)
Сехизмундо просыпается и видит, что снова в заточении. Ему говорят, что всё, что было с ним прежде, пригрезилось…
Как к этому относится Сехизмундо? Поверил ли он этим словам? На этот вопрос нет однозначного ответа. Когда ему об этом сообщает Клотальдо, Сехизмундо вот как реагирует:
Я спал,
Я и сейчас не проснулся.
Клотальдо! Я убеждён,
Что всё ещё вижу сон,-
И, верно, не обманулся.
Если то, чего я коснулся,
Только пригрезилось мне,
Наяву я грежу вдвойне.
И я бы не удивился,
Что сплю, когда пробудился,
Раз жил я только во сне. (291)
(Действие второе. Темница принца в башне. Явление второе)
Он приходит к выводу, что, в общем-то, между явью и сном нет особых различий. И, может быть, сама жизнь – это сон.
Жизнь только снится людям,
Пока не проснутся от сна,
Снится, что он король, королю,
И живёт он, повелевая,
Разрешая и управляя,
Думая: «Славу не разделю»,
Но славу вручает ветру-вралю.
Но славу его потом проверьте,
В пепле смерти её измерьте.
<…>
Снится кому-то, что всё умеет,
Снится кому-то, что всех превышает,
Снится кому-то, что всех унижает.
И каждый в мире собой обольщен,
И каждый только лишь видит сон,
И никто об этом не знает. (292)
(Действие второе. Темница принца в башне. Явление третье)
<…>
Я делал всё, что хотел,
И всем я жестоко мстил.
Но женщину я любил…
Уж это мне, верно, не снилось:
Ведь всё другое забылось,
Лишь это я не забыл. (293)
(Действие второе. Темница принца в башне. Явление второе)
В драме «Жизнь есть сон» Кальдерон выдвигает на первый план одно очень важное соображение: вот человек прожил жизнь, потом его настигает смерть (её срока, конечно, никто не знает), но есть предсмертный момент. Что человек может почувствовать, достигнув этой роковой черты? А то, что вроде никогда и не жил по-настоящему, что всё мелькало. Вот жил-жил, а вспомнить нечего.
Сехизмундо так и говорит: «Всё другое забылось». Вроде бы что-то и происходило, но по-настоящему ничего не помнится, промелькнуло бесследно. Герцен когда-то, незадолго до смерти, подсчитал, что в жизни своей по-настоящему жил часов пять. Это была жизнь, которую он мог назвать подлинной. А ведь умер он в весьма преклонном возрасте, и это была чрезвычайно содержательная жизнь, однако за все свои годы всего пять-шесть часов насчитал…
Так что хочет сказать Кальдерон устами Сехизмундо? А то, что всё в мире призрачно:
Снится богатому, что он богатеет,
Хитростью наживая злато,
Снится бедному, что всегда-то
Он и бедствует и потеет…
Сехизмудно не может постичь эту иллюзорность. Кажется, Клотальдо совсем недавно разговаривал с ним более чем почтительно. Разве что-то изменилось? Но все лишь привиделось. А что было подлинным? Пока Сехизмудно может сказать определенно только одно: «Женщину я любил». Это единственное, что осталось в памяти. Всё остальное забылось, а это он помнит…
Третье действие. Весть о том, что корону Польши Басилио готов передать князю Московии, в то время, когда наследник престола жив и заточен в башню, привела к тому, что народ поднял восстание и освободил Сехизмундо. И теперь это уже не мнимое, как было раньше (когда его ради эксперимента перенесли спящим во дворец, а потом, спящим же, вернули в темницу), а подлинное освобождение. Сехизмундо вначале ощущает растерянность:
Вы хотите, чтоб грезил я властью,
Которую время отымет? (294)
(Действие третье. Темница. Явление третье)
То, что было во сне, – было лишь неким смутным предчувствием того, что произошло теперь наяву. Но он всё же решает встать во главе поддержавшей его армии. Войска под его предводительством побеждают сторонников Басилио, и даже сам король готов смириться со своей участью. Но Клотальдо не желает присягать Сехизмундо. Принц требует, чтобы тот ему покорился, но слышит в ответ:
На отца ты идёшь войной!
Он – король мой, тебе ни делом,
Ни советом помочь не могу.
У ног твоих я простёрся,
Убей же меня! (295)
(Действие третье. Темница. Явление пятое)
Клотальдо остаётся верен королю Басилио. Сехизмундо кричит ему: «Предатель!». Однако про себя произносит другое:
Но должно сдержать мой гнев.
Если б его и убила
Рука моя, не отымешь,
Что верен он сердцем: за это
Не заслужил он смерти.
О, сколько приступов гнева
Сдержу я этой уздою!
Какими я путами связан,
Зная, что должен проснуться
И лишиться всего на свете! (296)
(Действие третье. Темница. Явление пятое)
И он отпускает Клотальдо. А затем и сам припадает к стопам короля Басилио как верный подданный и сын. Благородство берёт в нём верх. Сехизмундо преображается, так до конца и не осознав – сон это или явь, но теперь приходит к такому неожиданному для него самого выводу:
Но, правда ли, сон ли, равно
Творить добро я намерен,
…
Когда придётся проснуться. (297)
(Действие третье. Темница. Явление пятое)
Драма эпохи классицизма.
Классицизм – это три единства: места, времени и действия – положение, известное любому школьнику, даже никогда не читавшему ни одной драмы классицистов.
Установление строгих правил – одна из характерных черт эстетики эпохи, хотя сами по себе правила свойственны всякому творчеству. Однако в классицизме правила чётко сформулированы, словесно закреплены. Художественное произведение мыслится как создание искусственное, сотворённое по определенному плану, с определенной задачей и целью.
Сами классицисты в строгом соблюдении эстетических законов и правил видели истинный способ подражания природе. Считая объективным источником красоты гармонию Вселенной, они требовали, чтобы художник эту гармонию привносил и в изображаемую им действительность, превращая природу в «прекрасную природу», театр – в идеальное зеркало жизни.
В театре классицизма находит выражение общее устремление эпохи к созданию знаковой системы, способной упорядочить хаос жизни и обнажить её внутренние законы. На сцене только разговаривают, театр классицизма – театр слова, в нём представлено только то, что осознано, осмыслено, упорядочено. Пьеса дробится на акты, сцены, картины, явления…
За всем этим скрывается новая концепция времени, отличающаяся от той, что господствовала в Средние века и отчасти в эпоху Возрождения.
В Средние века время ещё воспринималось людьми конкретно-вещественно, не существовало вне того, что происходит во времени. И лишь в XVII веке совершается отчуждение времени от его бытийного содержания. Время впервые становится универсальной абстрактной категорией, существующей как бы независимо от людей и явлений, – «как нечто потустороннее им». «Все явления могут исчезнуть, – скажет позднее Кант, – самое же время… устранить нельзя». Став независимым от человека, время начинает господствовать над ним, навязывает ему свой ритм, подчиняет себе.
В отличие от Средневековья, когда время ощущалось непрерывным, сплошным, время в XVII веке становится дискретным, точечным. Такой характер времени находит своё объяснение в возникшей необходимости его механического измерения, что невозможно без дробления на равновеликие отрезки. Недаром Средневековье не знало точного измерения времени. Но дело обстоит ещё сложнее. Механистичность входит в само восприятие мира человеком XVII столетия. Мир впервые предстаёт как объект, бытие противополагается сознанию, и время, которое раньше было неотделимо от самого человека, являлось фактом его переживания, теперь становится тоже внешним объектом, таким же, как и пространство.
Время распадается на отдельные мгновения, каждое из которых уходит в небытие. Это ощущение времени пронизывает поэзию XVII века, но наиболее ярко, пожалуй, выразилось в мифе о Дон Жуане, для которого жизнь сводится к простому сложению моментов, между собою внутренне не связанных. Время воспринимается как нечто убегающее, убывающее, его полюс – ничто. Категории становления, развития, прогресса XVII столетию неизвестны. Но ничто – не единственный полюс времени. Есть и другой его антипод – вечность.
Ничто и вечность – не только две крайности, стоящие за пределами времени, они находятся и внутри него самого. По Декарту, угроза небытия каждое мгновение нависает над миром, и если мир существует как нечто устойчивое, то лишь потому, что во время прорывается вечность. Вечность и ничто придают времени, ставшему уже во многом нейтральным, ценностную окраску. Ценностью обладает лишь непреходящее, устойчивое, то, над чем не властна разрушительная сила времени.
Это лежит в основе понимания прекрасного в искусстве классицизма. Его художественным идеалом является античная классика, тяготеющая к изображению общего, устойчивого и отвлекающегося от всего чрезмерно индивидуального и изменчивого. Но природа устойчивого в античном искусстве и в классицизме различна – она покоится на разной концепции времени.
В отличие от циклического времени, свойственного античному сознанию, время в классицизме движется не по кругу, а вытянуто в прямую линию, а потому незыблемое возможно здесь лишь как промежуток времени, изъятый из общего потока, заключённый в раму. Такой рамой, останавливающей время, и являются двадцать четыре часа, в которые развёртывается действие классической трагедии. В этот короткий срок должна быть полностью явлена сущность изображаемого, его вечные, неизменные черты: в драме классицизма здесь и теперь совпадает с тем, что было всегда и везде.
Этим определяется тяготение классицизма к мифическому сюжету, но сам миф трактуется иначе, чем в античности, – не как вечно повторяющийся архетип, а как образ, в котором жизнь остановлена в некоем идеальном, неподвластном времени облике. С этой точки зрения закон единства времени означает вторжение вечности во время, мифа в историю. Но вечность для классицистов – синоним разума и порядка, и единство времени поэтому становится формой художественной организации, торжеством разумной воли над хаосом жизненного материала.
Хочу сразу отметить, что подражание Античности, восприятие её как нормы, впервые возникшее в эпоху Возрождения, сохраняется вплоть до конца XVIII века. Но для XVII века этот принцип был наиболее важен, под самим термином «классицизм» всегда подразумевалась глубинная связь с античной эпохой. Античные памятники устояли в борьбе со временем, сохранились в веках и уже поэтому могли, по убеждению классицистов, выступать как образец.
Классицизм обращает внимание не столько на индивидуальное, сколько на родовое. Человек живёт очень короткий срок, и, собственно, индивид вообще есть нечто преходящее. Родовые же особенности человека проявляются на протяжении веков, и они неизменны. Люди, начиная со времен Античности и до наших дней, в общем-то, мало изменились. Поэтому надо изображать не индивидуальное, а родовое.
Классицисты, как правило, обращались либо к античным мифам, либо к событиям древней истории. Конечно, они пытались в своих трагедиях отразить те проблемы, которые волновали современников, но всё же отражали их в зеркале античных сюжетов. Это зеркало позволяло им увидеть в современности то, что было актуально и в Античности. Они выбирали такие двадцать четыре часа, в которые проявились бы типические, сущностные черты того или иного явления.
Что касается единства места, нельзя сказать, что оно строго соблюдалось. Дело в том, что театр эпохи классицизма вообще был достаточно условным. Действовало правило: желательно, чтобы всё происходило в одном доме, максимально – в одном городе. Никаких особых декораций не предусматривалось, поэтому единство места не становилось такой уж проблемой, как, допустим, единство времени, требовавшее, поскольку драма – временное искусство, уложить происходящее в сутки.
Ещё один важный момент в эстетике классицизма – теория жанров. Строгое определение жанра резко отличает классицизм от искусства Нового времени, особенно XIX века и тем более века XX. Там писателя не волнует жанр, его интересует некая ситуация, а в какую жанровую форму выльется её описание – в комедию ли, трагедию, – не так уж и важно. Автор исходит главным образом из жизненного материала. А в XVII веке, впрочем, это было характерно и для эпохи Шекспира, существовало жанровое понимание произведения. Художник определяет жанр заранее, с самого начала.
В эпоху классицизма не регламентируется выбор сюжета, но законы жанра тверды. Во-первых, жанры делятся, речь сейчас идёт о драме, на высокие и низкие. К высоким относится трагедия, к низким – комедия. Каковы правила высокого жанра? Первое – современность не может изображаться в трагедии. Героями должны быть короли, принцы, легендарные полководцы, религиозные подвижники, но никак не простые смертные. Содержанием трагедии являются судьбы народа, судьбы государства. Трагедия обязательно состоит из пяти актов. И, наконец, текст трагедии должен писаться стихом, причём это обязательно должен быть особый александрийский стих, своего рода французский вариант латинского гекзаметра.
Низкий жанр – комедия. Здесь всё гораздо свободней: комедия может обращаться к реальной действительности, её сюжеты – из современности. Героями комедии являются обыкновенные люди, кроме того, она пишется вольным стихом и даже прозой.
Однако между трагедией и комедией есть определенная связь. Дело в том, что зритель в театре классицизма никогда не ставится на уровень того сюжета, который изображён. Почему в низком жанре допускается проза, вольный стиль и не столь жестки правила? Потому что, чем выше жанр, тем больше действует различных ограничений и тем труднее задача автора. Комедийный жанр предоставляет больше творческой свободы. Но в трагедиях зритель возвышается над своей повседневной жизнью, он не видит на сцене обыденности, не видит своих современников. Перед ним предстают легендарные античные герои, цари, полководцы, великие исторические деятели, которые вершат судьбы народов, и потому он как бы поднимается над действительностью. В этом главная задача трагедии – возвысить зрителя. В комедии же он видит своих современников, здесь часто изображается быт. В общем, зритель вполне может узнать в комедийном представлении самого себя. Но это – комедия, поэтому она вызывает смех, а смех тоже всегда ставит нас над тем, над чем мы смеёмся. Поэтому в классицизме зритель никогда не смотрит на сцену вровень. Это взгляд или снизу вверх, или сверху вниз. Но всё равно даже комедия зрителя возвышает: смеясь, он поднимается над обыденностью.
И последнее. Никакого смешения трагического и комического не допускается в театре классицизма. Жанр должен быть чистым.
Начнём с трагедии эпохи классицизма. Основоположником её был французский поэт и драматург, член Французской академии Пьер Корнель. Он родился в 1606 году, умер в 1684. Жизнь Корнеля охватывает практически весь XVII век. Однако его особое влияние на историю театра приходится на первую половину столетия. Этот этап творчества Корнеля завершается 1651 годом, когда была написана трагедия «Никомед». Затем наступает длительный период, в который Корнель отходит от театра. В 60-е и особенно в 70-е годы он попытается вернуться к созданию драм, соревнуясь с другим, тогда только появившемся на культурном горизонте трагическим поэтом Ж. Расином. Но из этого ничего не вышло. Всё наиболее значительное было создано Корнелем в первую половину века.
Первой пьесой Корнеля, которая принесла ему славу и которая до сих пор не сходит со сцен французских театров, стала трагикомедия «Сид» (1636). Не случайно, например, великий французский актёр ХХ века Жерар Филипп был похоронен в костюме Сида, роль которого он исполнял. Вообще, для раннего периода французской драмы характерно обращение к испанской теме. Испанская драма оказала значительное влияние на становление французского театра. И «Сид» Корнеля тоже обращён к испанскому сюжету. Не к античному, а именно к испанскому, который занимает особое место в театре французских классицистов. Сид – национальный герой Испании Родриго Диас, прославленный участник Реконкисты (борьбы испанцев за земли, захваченные маврами-мусульманами), о котором в XII веке была сложена эпическая поэма «Песнь о моём Сиде». Но источником для произведения Корнеля стала драма испанского драматурга Гильена де Кастро, современника Лопе де Вега и Кальдерона, которая носила название «Молодость Сида». Корнель использовал этот сюжет в своей первой драме. Поэтому она несёт в себе такую связь с испанским театром: действие происходит в Испании, и главное действующее лицо – национальный испанский герой.
Теперь о том, почему Корнель назвал своё произведение трагикомедией? С точки зрения классицизма, смешение трагического и комического – вещь невозможная, и у Корнеля никакого смешения жанров не было. «Сид» называется трагикомедией по другой причине. Данте, скажем, тоже назвал свою поэму «Божественной комедией», хотя там тоже ничего смешного не было. Так и корнелевский «Сид» – это трагикомедия, поскольку имеет счастливый финал.
«Сид» во многом напоминает «Звезду Севильи» Лопе де Вега и вообще испанскую драму чести. Начинается всё из-за ссоры отцов. Главный герой, дон Родриго, влюблён в Химену. Конфликт любви и чести, важнейший конфликт испанской драмы, присутствует и здесь. Дело в том, что король назначил воспитателем наследника престола отца Родриго, дона Дьего. А этим очень недоволен граф Гормас, отец Химены. Дон Дьего уже не принимает серьезного участия в отвоевывании земель, а граф Гормас ощущает себя защитником Испании, национальным героем, и то обстоятельство, что король поручил дону Дьего, а не ему столь ответственную и почетную миссию, он воспринимает как личную обиду.
Между героями вспыхивает ссора, и, чтобы унизить дона Дьего, граф Гормас дает ему пощечину. Это единственная пощечина в театре французского классицизма. Дон Дьего, естественно, глубоко оскорблен. Он вроде бы хватается за меч, чтобы принять брошенный ему вызов, но понимает, что стар и уже не в силах сражаться. И тогда он просит своего сына Родриго вступиться за его честь. А Родриго любит Химену. Такова изначальная ситуация драмы…
Родриго ещё никогда не использовал оружия, а граф Гормас – воин, главная опора Испании. И всё же дон Дьего говорит:
Лишь кровью можно смыть такое оскорбленье.
Умри – или убей. Но знай, я не таю:
Тебе я грозного противника даю.
Я видел, весь в крови, покрытый ратным прахом,
он разметал войска, охваченные страхом;
Я видел, не один ломал он эскадрон.
Но мало этого: не только рыцарь он,
не только светлый вождь, громящий рвы и стены,
Он…
Дон Родриго
Умоляю вас, кто он?
Дон Дьего
Отец Химены.
Дон Родриго
Отец…
Дон Дьего
Не отвечай. Я знаю всё, что есть.
Но мы не вправе жить, когда погибла честь.
Чем лучший оскорбил, тем глубже оскорбленье.
Ты знаешь мой позор, в твоей руке отмщенье:
Я всё тебе сказал. Наш мститель – ты один.
Яви себя врагу как мой достойный сын,
А я предам мой дух скорбям, меня сломившим.
Иди, беги, лети – и возвратись отмстившим. (298)
(Действие первое. Явление пятое)
Завязка «Сида» напоминает «Звезду Севильи». Там дон Санчо Ортис должен был наказать Бусто Таберу, брата своей возлюбленной Эстрельи, здесь же Родриго предстоит сразиться с отцом своей возлюбленной Химены. Это характерный конфликт испанской драмы, и он представлен у Корнеля.
Но прежде, чем перейти к дальнейшему, хотелось бы обратить внимание на одну внешнюю особенность драмы. Это удивительное сочетание динамики и статики. В «Сиде» огромное количество событий, которые плохо умещаются в отведённые двадцать четыре часа. Корнель был вынужден нарушить правила и растянуть действие до тридцати часов, за что его, впрочем, порицали. Ссора отцов, дуэль Родриго и графа Гормаса, главный подвиг Родриго: он отражает ночное нападение мавров и становится национальным героем Испании. Затем происходит его поединок с Санчо, возлюбленным Химены, и, в конце концов, примирение Родриго и Химены. Как видите, даже для тридцати часов этого многовато, и такая драма должна была бы быть предельно динамичной. Но у Корнеля большая часть событий происходит за сценой, а сами эпизоды статичны, ибо предметом изображения здесь становится внутренний мир человека и те решения, которые герой должен принять. Поэтому две дуэли, сражение с маврами – всё это происходит не на наших глазах. Герои бегут за сцену, а на сцене они произносят монологи. Дон Дьего говорит Родриго: «Иди, беги, лети – и возвратись отмстившим». А завершают действие знаменитые слова Родриго:
Я медлю, недвижим, и смутен дух, невластный
Снести удар ужасный». (299)
(Действие первое. Явление шестое)
Родриго должен принять решение, и в этой минуте раздумий заключено главное событие драмы Корнеля. Внешние же события вынесены за рамки действия. Отсюда такое парадоксальное сочетание динамики и статики.
Итак, стансы дона Родриго:
До глуби сердца поражен
Смертельною стрелой, нежданной и лукавой,
На горестную месть поставлен в битве правой,
Неправой участью тесним со всех сторон.
Я медлю, недвижим и смутен дух, невластный
Снести удар ужасный.
Я к счастью был так близок наконец, -
О, злых судеб измены!
И в этот миг мой оскорблен отец,
И оскорбившим был отец Химены!
Я предан внутренней войне;
Любовь моя и честь в борьбе непримиримой.
Вступиться за отца, отречься от любимой!
Тот к мужеству зовёт, та держит руку мне.
Но что б я не избрал – сменить любовь на горе
Иль прозябать в позоре,-
И там и здесь терзаньям нет конца.
О, злых судеб измены!
Забыть ли мне о казни наглеца?
Казнить ли мне отца моей Химены?
Отец, невеста, честь, любовь,
Возвышенная власть, любезная держава!
Умрут все радости или погибнет слава.
Здесь – я не вправе жить, там – я несчастен вновь.
Надежда грозная души благорожденной,
Но также и влюбленной,
Меч, мне к блаженству преградивший путь,
Суровый враг измены,
Ты призван ли мне честь мою вернуть?
Ты призван ли меня лишить Химены?
Пусть лучше я не буду жив
Не меньше, чем отцу, обязан я любимой:
Отмстив, я гнев её стяжаю негасимый;
Её презрение стяжаю, не отмстив.
Надежду милую отвергнуть ради мести?
Навек лишиться чести?
Напрасно мне спасенья вожделеть:
Везде – судьбы измены.
Смелей, душа! Раз надо умереть,
То примем смерть, не оскорбив Химены. (300)
(Действие первое. Явление шестое)
Не надо забывать, что Родриго – рыцарь и для него любовь к женщине и честь – понятия равновеликие. Поэтому он чувствует безысходность. Это выражено в самой структуре стиха. «Сид» очень хорошо переведён на русский язык М. Лозинским, который попытался передать эту особенность французского текста: стих делится как бы на две половины, между которыми – пауза, создающая равновесие.
Вступиться за отца, отречься от любимой
Тот к мужеству зовёт, та держит руку мне.
<…>
Умрут все радости или погибнет слава.
Здесь – я не вправе жить, там – я несчастен вновь. (301)
(Действие первое. Явление шестое)
Родриго понимает, что Химене он обязан не меньше, чем отцу. Таким образом, складывается неразрешимая ситуация. Но здесь возникает одна важная особенность, которая резко отличает драму Корнеля от произведений испанского театра.
У Декарта есть знаменитая философская формула: Cogito, ergo sum (лат. – «Мыслю, следовательно, существую»). В этой формуле отражена очень важная особенность мышления человека XVII века: существуют как бы два «Я» – мыслящее и существующее. Декарт утверждает, что, мысля, человек становится на некую абсолютную точку зрения. Его мыслящее «Я» отличается от «Я» индивидуального. Разум поднимает человека до некоей абсолютной, высшей истины, которая едина для всех. Мыслящее «Я» – это нечто всеобщее, то высшее «Я», которое позже станет именоваться трансцендентным субъектом.
XVII век – это век рационализма. Но эта идея просуществовала вплоть до XX века: размышляя, человек оперирует абсолютными категориями… Главное, что отличает Родриго от его предшественников, героев испанского театра, – он ищет разумного решения, перебирает возможности. Он как бы сперва мыслит, а потом – существует. Сначала он должен принять некое рациональное решение, сделать выбор. И первый вывод, к которому он приходит: единственная возможность избежать исполнения мести – умереть самому. Однако уже здесь появляется ещё один важный мотив. Если он не отомстит, то вызовет презрение Химены: он не вступился за честь отца, а, значит, не достоин её любви. А если совершит месть, вызовет её гнев. Так, может быть, гнев лучше, чем презренье?
Но умереть с таким стыдом!
Чтобы открылась мне бесславная могила
И чтоб Испания за гробом осудила
Не защитившего свой оскорбленный дом!
Покорствовать любви, которую, я знаю,
Я всё равно теряю!
Ужели же я мог бы предпочесть
Постыдный путь измены?
Смелей рука! Спасём хотя бы честь,
Раз всё равно нам не вернуть Химены.
Я был в рассудке помрачён:
Отцу обязан я первее, чем любимой;
Умру ли я в бою, умру ль, тоской томимый,
Я с кровью чистою умру, как был рожден.
Моё и без того чрезмерно небреженье;
Бежим исполнить мщенье;
И, колебаньям положив конец,
Не совершим измены:
Не всё ль равно, раз оскорблён отец,
Что оскорбившим был отец Химены! (302)
(Действие первое. Явление шестое)
Итак, это длинное рассуждение. Первая строфа этих стансов начинается словами: «И в этот миг мой оскорблён отец, // И оскорбившим был отец Химены!» Кончается же всё словами: «Не всё ль равно, раз оскорблён отец, // Что оскорбившим был отец Химены».
Хотелось бы обратить внимание: Родриго размышляет, но это размышления иной природы, чем, допустим, раздумья Гамлета. Родриго размышляет для того, чтобы действовать. Не случайно, кстати, здесь звучит: «бежим исполнить мщенье». Бежим! И он убивает графа Гормаса.
Каждый раз, когда возникает какая-то сложная ситуация, герой Корнеля должен найти решение, соответствующее некой идеальной норме. И в этом смысле он, как актёр на сцене.
Кроме того, как любой актёр, он должен представлять себя вовне. Недаром отец ему скажет: «Яви себя врагу, о, мой достойный сын». «Яви» здесь – ключевое слово. Родриго должен показать, что он достойный сын своего отца; Химена – доказать Родриго, что она его стоит, и т.д. «Montrer» (показывать, являть) у Корнеля – синоним «etre» (быть), ибо для него только явленное действительно.
Быть – значит показывать. И, как всякому актёру, ему нужны зрители, он ждёт аплодисментов:
Но умереть с таким стыдом!
Чтобы открылась мне бесславная могила
И чтоб Испания за гробом осудила
Не защитившего свой оскорбленный дом! (303)
(Действие первое. Явление шестое)
Ему необходимо признание всей Испании! Поэтому Родриго принимает решение убить графа Гормаса.
Кстати, это стремление героя всегда поступать разумно определяет ещё одну важную особенность драмы Корнеля. Это обилие афоризмов. Вообще, «Сид» разошёлся на афоризмы и пословицы, подобно «Горю от ума» А. С. Грибоедова. Афоризмов в драме множество: «Но мы не вправе жить, когда погибла честь»; «Превыше страсти честь, а страсть превыше жизни»; «Теченье времени не раз узаконяло // То, в чём преступное нам виделось начало» и т.д. А что такое афоризм? Это изречение, которое способно жить независимо от контекста, поэтому любители афоризмов, к примеру, могут выписывать их в отдельные тетрадки. У Шекспира нет афоризмов. Единственное выражение, которое, может быть, похоже на афоризм, – это слова Гамлета: «Быть или не быть, вот в чём вопрос». Но это – вопрос, а афоризм – это всегда ответ.
Совершив убийство, Родриго является к Химене. Возникает вторая сюжетная линия – линия героини этой драмы Химены. Родриго приходит к ней, исполнив свой долг мести, и теперь Химена, в общем-то, вольна сделать с ним всё, что угодно, он в её власти. Жизнь ему не дорога, раз нет любви. Химена, с одной стороны, не может простить Родриго. Но она понимает, что он защищал свою честь и честь отца. И в то же время, чтобы быть достойной Родриго, она должна ему отомстить. «Достойному меня долг повелел отмстить; // Достойная тебя должна тебя убить». (304)
Родриго готов заплатить своей жизнью. А Химена отвечает – нет. Он погубил её отца, но она любит Родриго. Химена предлагает другое: пусть он бежит, а она будет его догонять, хотя сама признается: «Но я бы всё-таки счастливою была, // Когда бы ничего исполнить не могла». (305) И это не лицемерие с её стороны.
Химена считает, что именно такое поведение отражает суть положения, в котором она оказалась. Она вроде бы преследует Родриго, потому что выполняет свой долг перед погибшим от его руки отцом, но лишать его жизни она и не думала. Тем самым Химена демонстрирует, с одной стороны, верность своему долгу, а с другой – любовь к Родриго. Все должны видеть, как она преследует его и не может настигнуть, как она его любит и как верна долгу. Она действительно даже обращается к королю, чтобы тот наказал Родриго. Сама мстить она не в силах, но требует кары. Ситуация приобретает неразрешимый характер, тем более что Химена не хочет его гибели, а догонять можно бесконечно.
Но происходит третье важное событие – сражение с маврами. Дело в том, что прежде дон Гормас был главным защитником Испании. Но он мёртв, и теперь Родриго сам должен отразить нападение. Кроме того, возможно, это примирит его с Хименой. И вот Родриго, не дожидаясь распоряжения короля, по собственной инициативе вступает в бой. Ночь – это сражение с маврами, из которого он выходит победителем. После победы Родриго получает славное прозвище – Сид (от народного арабского «сиди» – «господин»).
Здесь есть момент, который хотелось бы подчеркнуть. Дело в том, что честь имени (речь идёт, конечно, об аристоратическом имени), необходимо отстаивать. В драме Корнеля это выступает наглядно: Родриго будет именоваться Сидом, потому что он это заслужил, удостоился, благодаря собственной доблести. Это не переданное по наследству. Король, который вначале хотел судить Родриго, приходит к выводу, что теперь это неуместно. Родриго стал национальным героем, он нужен Испании. Все уговаривают Химену отказаться от преследования Родриго, который искупил свою вину. А Химена говорит, что Испания, может, на это и согласится, но не она. И объявляет, что выйдет замуж за того, кто сразится с Родриго за её честь.
И вот влюблённый в Химену Санчо бросает вызов. Химена, правда, желает, чтобы многие сражались с Родриго, но король даёт разрешение только на один поединок. Родриго говорит Химене: «Ты не волнуйся, я уступлю, будь счастлива с Санчо». А та отвечает: «Нет». И объясняет это: «Тем самым Родриго унизит её отца! Он сразил самого дона Гормаса, а погибнет от руки Санчо». Родриго возражает: отец Химены доказал свою храбрость в боях, этого достаточно. Он – могучий воин, и в этом ни у кого сомнения нет. Просто все поймут, что Родриго не может жить без Химены, и потому выбирает смерть. Когда Химена видит, что все её доводы бессильны, она говорит так: «Но ты ведь знаешь, что я выйду замуж за победителя, поэтому должен одержать верх…»
Как бы она поступила в дальнейшем, неизвестно, но когда появляется Санчо с мечом Родриго в руках, Химена, решив, что Родриго мёртв, даёт волю слезам. На самом деле это была ошибка: Родриго отдал Санчо меч, чтобы тот вручил его Химене. Но с этого момента она больше не может требовать мести, слезами она явила свои чувства. Все вокруг увидели, как она любит Родриго. Правда, она не может тотчас же выйти за него замуж, её отца ещё не похоронили, прошло только 30 часов. Но Родриго отправляется сражаться за Испанию, и через год, когда вернётся, Химена обещает стать его женой. Этим завершается трагедия.
«Сид» Корнеля вызвал резкое недовольство кардинала Ришелье, который даже вынудил Французскую академию выступить с пространным осуждением драмы. Оно заключало в себе множество мелких придирок и замечаний: действие охватывает 30 часов вместо 24, неподобающее поведение главной героини – ещё отца не похоронила, а уже дала согласие на брак и прочее. Но единственная причина недовольства кардинала состояла в другом: он ощутил в «Сиде» дух вольности. Тем, кто читал романы Дюма, известно, что Ришелье осуждал дуэли, а в драме Корнеля – это первый подвиг Родриго. Кроме того, даже главное своё деяние герой совершает не по воле короля, а по своему собственному усмотрению. В общем, в «Сиде» слишком силён был дух вольности, и кардинал это почувствовал. Родриго опирается лишь на себя самого, король здесь не играет существенной роли. Да и Химена для Родриго, в какой-то мере даже более серьёзный мотив, чем интересы государства. В финале драмы слова Родриго в русском переводе звучат так: «Для славы короля, для власти над любимой, // Чего я не свершу рукой неодолимой» (Действие пятое. Явление седьмое). (306) Но во французском оригинале на первом месте стоит Химена.
В этой драме Корнель сумел запечатлеть ещё не укрощённую свободолюбивую Францию, и кардинал Ришелье понял, что в людях типа Родриго ему будет весьма трудно найти опору. Дело в том, что прототипом образа Родриго был принц Конде, легендарный полководец, герой Тридцатилетней войны. Корнель не ошибся в выборе героя: уже после смерти Ришелье именно принц Конде возглавил Фронду, дворянское движение против абсолютизма. Но всё же автора очень огорчило осуждение «Сида».
Корнель вернулся в свой родной город Руан и на какое-то время оставил творчество. А спустя четыре года появились две новые трагедии, написанные уже на римский сюжет – это «Гораций» и «Цинна». Трагедию «Гораций» (1640 г.) Корнель посвятил кардиналу Ришелье. В основу её лег сюжет истории древнего Рима, описанный Титом Ливием. Это ещё старый, легендарный Рим – история борьбы Рима и Альбы. По описанию Тита Ливия, противостояние двух городов закончилось поединком между братьями Горациями и братьями Куриациями. Горации одержали верх над Куриациями, ознаменовав тем самым победу Рима. Этот сюжет лёг в основу трагедии.
Но Корнель связал семьи Горациев и Куриациев узами дружбы, любви и родства. Гораций женат на сестре Куриация Сабине. Один из братьев Куриациев является женихом сестры Горация Камиллы. Гораций и Куриаций – друзья. Таким образом, дружба, любовь и родство связывают семьи, а Рим и Альба объявили друг другу войну. Отсюда возникает двоемирие: в сфере частной жизни герои дружат, а в государственной, общественной – сражаются.
Но в конце концов Рим и Альба предложили решить конфликт поединком. Римляне выбрали в качестве своих представителей трёх братьев Горациев, а на защиту Альбы выступят братья Куриации, теперь Горации и Куриации должны столкнуться друг с другом в судьбоносном поединке. Правда, и римляне и жители Альбы готовы изменить свой выбор, зная, как тесно связаны две семьи, но ни те, ни другие этого не хотят. Таким образом, конфликт обострен. Здесь резко противостоят два начала – государство и формы личных связей: дружба, любовь, родство. Люди связаны между собой множеством нитей, а государство выступает как сила, разделяющая, противостоящая этим связям.
В отличие от «Сида» в этой трагедии Корнеля существенно меняется роль женских образов. Там Химена – это женский вариант Родриго, она действует примерно так же, как рыцарь. Здесь же роль женщин иная. В самом начале Сабина, жена Горация, когда ещё не было известно, что Рим и Альба будут сражаться друг с другом, но война уже была объявлена, скажет:
Я не была за Рим, за Альбу не стояла,
Равно о них скорблю в борьбе последних дней,
Но буду лишь за тех отныне, кто слабей.
Когда же победят другие в ратном споре,
От славы отвернусь, я буду там, где горе.
Среди жестоких бед, о, сердце, уготовь
Победе – ненависть, поверженным – любовь. (307)
(Действие первое. Явление первое)
Итак, мужчин влечёт победа, Сабина же всегда оказывается на стороне побеждённых. В этом конфликте она выражает его трагическую, а не героическую сторону. Кто бы ни одержал победу… Если восторжествует Альба – она будет скорбеть о судьбе Рима, поскольку – жена Горация, если же Рим, то будет оплакивать участь Альбы, ведь это её родина, где остались братья.
Главный герой этой драмы – Гораций, один из братьев. Он не хочет, чтобы римляне изменили свой выбор, наоборот, видит в этом необыкновенную честь.
Судьбою нам дано высокое заданье,
И твердость наших душ взята на испытанье.
А беды эти рок поставил на пути,
Чтоб меру доблести могли мы превзойти.
В нас необычные провидя мощь и волю,
Нам необычную он предназначил долю.
Сражаться за своих и выходить на бой,
Когда твой смертный враг тебе совсем чужой –
Конечно, мужество, но мужество простое;
Нетрудно для него у нас найти героя:
Ведь за отечество так сладко умереть,
Что все конец такой согласны претерпеть.
Но смерть нести врагу за честь родного края,
В сопернике своем себя же узнавая,
Когда защитником противной стороны –
Жених родной сестры, любимый брат жены,
И в бой идти, скорбя, но, восставая всё же
На кровь, которая была своей дороже, -
Такая доблесть нам недаром суждена:
Немногих обретёт завистников она.
И мало есть людей, которые по праву
Столь совершенную искать могли бы славу. (308)
(Действие второе. Явление третье)
Героическое здесь равняется трагическому. За родину готов умереть каждый, а вот когда ты знаешь, что на стороне противника твой друг, жених твоей сестры, брат твоей жены, но ради Рима жертвуешь тем, к чему по-человечески глубоко привязан, – вот это и есть высшая доблесть.
Решающий поединок происходит за сценой. На сцене мы видим лишь старика Горация и женщин. Камилла и Сабина спорят о том, чья участь трагичнее. Любой исход для обеих будет ужасен, но Сабина считает, что ей хуже, поскольку она – жена Горация, а Камилла убеждена в обратном, потому что она – лишь невеста Куриация. Героини, подобно мужчинам, хотят принять на себя всю тяжесть обстоятельств. Только мужчинам выпадает их героическая сторона, а женщинам – трагическая.
Сначала приходит весть, что двое из братьев Горациев убиты в поединке, а третий подло бежал с места сражения, и тут их отец произносит фразу, которая стала крылатой: «Лучше бы он умер». Но, оказалось, что на самом деле это была уловка: Гораций только сделал вид, что покинул поединок, чтобы вернуться и сокрушить Куриациев. И вот победителем Гораций возвращается в Рим.
Здесь возникает конфликт между ним и его сестрой Камиллой. Камилла оплакивает жениха. Она плачет (как впрочем, и Сабина, но та спряталась), а Гораций требует, чтобы она ликовала. Хочу сразу отметить, что Камилла отстаивает вовсе не право на счастье, она не мыслит своего счастья ценой поражения Рима. Она отстаивает своё право на горе, на слёзы, право оплакать погибшего. А Гораций отказывает ей в этом. Он требует, чтобы сестра радовалась, раз восторжествовал Рим. Но Камилла не может это принять:
О да, я покажу, я ныне всем открою,
Что не должна любовь склониться пред судьбою,
Пред волей тех людей, неправедных и злых,
Которых почитать должны мы за родных.
Мою хулишь ты скорбь. Но чем упреки строже,
Чем больше ты сердишься, она мне тем дороже. (309)
(Действие четвертое. Явление четвертое)
Об этом она ещё отцу говорила. Но Гораций, видя на лице Камиллы слёзы, восклицает:
О, недостойная! О, вызов нестерпимый!
Как! Имя недруга, что мной повержен в прах,
И в сердце у тебя и на твоих устах?
Неистовство твоё преступно мести жаждет,
Уста о ней твердят, и сердце горько страждет? (310)
(Действие четвертое. Явление пятое)
Тогда она называет Горация «варваром» и проклинает бесчеловечный Рим:
Рим, ненавистный враг, виновник бед моих!
Рим, жертвой чьей погиб мой милый, мой жених!
Рим, за который ты так счастлив был сразиться!
Кляну его за то, что он тобой гордится. (311)
Слыша подобные упреки в адрес Рима, Гораций закалывает сестру. Это наивысшая трагическая точка драмы. Убийство Камиллы совершается, конечно, в состоянии аффекта, но оно – продолжение битвы. Гораций должен был подавить в себе все человеческие чувства. Он видел в Куриациях не брата своей жены, не друга, не жениха своей сестры, а лишь представителей враждебного лагеря. Он подавил в себе все человеческие чувства, без этого он не смог бы сразить Куриациев. И теперь он видит в Камилле не сестру, не невесту, которая оплакивает жениха, а недостойную римлянку, которая сокрушается над поверженным врагом отчизны.
И вот финал этой драмы. Суд над Горацием. Гораций приходит в ужас от совершенного. Одно дело – убить врага, другое – сестру за то, что рыдает. Но он не кончает жизнь самоубийством. Он убеждён, что его жизнь принадлежит Риму, и только Рим вправе ею распоряжаться. Так же, как в Средневековье считалось, что Господь дал жизнь, и только он может её отнять, так и Гораций убеждён, что только Рим вправе лишить его жизни, поскольку он всецело – слуга Рима. И народ осуждает Горация за убийство Камиллы.
В этом – принципиальное различие между трагедиями «Гораций» и «Сид». Родриго – национальный герой, Гораций в глазах народа заслуживает лишь осуждения. Народное сознание не может принять убийство сестры. «Надежда и любовь простых людей и знати», – так сказано о Родриго, но ничего подобного нельзя сказать о Горации. Отец говорит ему: «Не важно, что думает народ, важно, что думает правитель, Тул, он – выше». Влюблённый в Камиллу Валерий перед Тулом осуждает Горация за убийство сестры. Но Тул оправдывает поступок Горация по двум причинам: он нужен Риму, а кроме того, Гораций совершил это преступление, потому что любил Рим и был ему предан. А чтобы как-то успокоить, примирить с этим решением народное сознание, он решает: пускай Куриаций и Камилла будут похоронены вместе со всеми почестями, пусть смерть их соединит.
«Гораций» – это образцовая трагедия классицизма. В её основе – римский сюжет: для главного героя высшей ценностью является государство. Для него нет ничего дороже – даже родную сестру ради государства не пощадил. Ришелье, может быть, это понравилось. Однако в трагедии Корнеля, несомненно, звучит и другой голос – голос Камиллы. Это голос протеста. В трагедии Корнеля возникают разные рифмы. И прежде всего: римское – человеческое. На этом противопоставлении строится вся драма: на контрасте Рима и отдельной человеческой личности. Корнель всё время играет в стихе. Видно, поэт хотел показать, что Гораций оправдан, но в то же время он чувствует и противоположную правду, без этого трагедии бы не существовало.
Теперь вопрос, связанный с античным сюжетом. В трагедии «Гораций» нет ощущения конкретной исторической реальности. Это римский сюжет. Скажем, в образах «Сида» угадываются исторические прототипы. Я уже говорил, что прообразом Родриго был принц Конде, и вообще в этой драме гораздо больше ощущалась реальность. Здесь же римский сюжет – это как бы проблемы современной жизни, отражённые в зеркале Античности. Это желание уловить нечто устойчивое, извечное в самой текущей действительности.
Хочу привести один пример. Эта трагедия Корнеля шла на сцене с огромным успехом в дни Великой Французской революции, когда был казнён последний король Франции Людовик XVI. Правда, в текст были внесены небольшие поправки: Рим стал республикой, а Тул провозглашен консулом. Но от этого ничего не изменилось в сущности трагедии. Главным оставался конфликт личности и государства, а в какой формации оно предстаёт – монархии или республики, в данном случае не столь уж важно. Римский сюжет позволял придать максимальную обобщённость отражённому в трагедии конфликту, который, по мнению Корнеля, будет сохранять свою актуальность всегда.
Одним из наиболее характерных общественно-политических событий Франции середины XVII века стало движение Фронды. Это была попытка старой феодальной аристократии с помощью смут и междоусобиц сохранить свои права и удержать сословные позиции, на которые вёл наступление кардинал и первый министр Мазарини. Возникла так называемая Фронда принцев. Одновременно выступили и города, которые тоже были недовольны властями.
Но взбунтовавшиеся аристократы вели себя беспринципно и непоследовательно (слишком велика была в этом движении роль личной вражды и личных интересов, слишком разорительным оно оказалось для большинства населения страны). Фронда была обречена. Молодой король Людовик без особых сложностей занял Париж. В 1652-ом году королевская семья с триумфом вернулась в столицу, и началась новая эпоха, не только восстановивщая, но и укрепившая абсолютизм – царствование Людовика XIV. Он действовал иначе, чем его предшественники. К примеру, проявил милосердие по отношению ко всем участникам Фронды. Никаких казней и расправ он не устраивал, но лишил противников политической власти. Во главе провинций Людовик XIV поставил верных ему чиновников, а знать заставил находиться при дворе. Был образован так называемый Королевский Совет, который, однако, никакого политического веса не имел. Реальное управление государством фактически целиком принадлежало королю и его бюрократическому аппарату. Старая знать была сломлена. Все попытки вернуться к прежним свободам, повысить роль личности в жизни страны рухнули. Элита приняла этот новый порядок, даже принц Конде, выступавший некогда во главе Фронды, смирился со своей новой участью.
С гибелью Фронды и окончательной победой абсолютизма исчезла реальная жизненная почва для героического идеала, уходящего корнями ещё в традиции римской гражданской доблести, в представления средневекового рыцарства, сами события Фронды обнаружили его иллюзорность.
Ощущением краха героического идеала проникнуты все значительные литературные произведения 60-х годов XVII века.
Сочинения французских моралистов
наиболее ярко отразили эту новую историческую ситуацию. Их объединяет прежде всего сам жанр, в котором они выразили свою жизненную философию, свои размышления над миром и человеком – жанр афоризма. Интерес к этому жанру, корни которого уходят в Античность, возник ещё в середине XVI века. В течение одного только десятилетия во Франции было опубликовано свыше шестидесяти сборников моральных изречений. Но все сочинения этого типа преследовали прежде всего нравоучительные цели, и только французские моралисты (Ларошфуко, Паскаль, Лабрюйер) сумели сделать афоризм жанром, "в котором отразился век и современный человек". В духовной жизни Франции эпохи классицизма он занимал, пожалуй, не менее важное место, чем театр.
Что такое афоризм как жанр? Первая важнейшая его особенность – это способность существовать вне связи со временем, как своего рода «остановленное мгновение», в котором явлено нечто неизменно важное. Вторая – строгая отточенность стиля, позволяющая в сжатой, изящной форме, в немногих словах выразить многое. Источником прекрасного классицисты почитали форму, а потому особое значение придавалось артистизму, виртуозному мастерству. Выражая общий взгляд классицизма, Вольтер позднее писал: «Никогда не существовало искусства, которое не ценилось бы сообразно его трудностям. Недаром греки поместили муз на вершину Парнаса, – чтобы добраться до них, надо преодолеть множество препятствий». Только в отточенной форме афоризма, в глазах человека XVII века, мысль становилась явлением искусства, более того – фактом культуры, ибо возвышалась над непосредственной хаотически-неорганизованной стихией жизни.
В основе афоризма обычно лежит парадокс. Вот характерные примеры.
У Ларошфуко: "Наши добродетели – это чаще всего искусно переряженные пороки".
У Паскаля: "Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками".
Как известно, любая фраза, даже самая простая, может обладать множеством разных смыслов. Всё зависит от контекста, в котором эта фраза произнесена, он как бы подсказывает нам поясняющее "противослово", которое и придаёт фразе тот, а не другой смысл. Но в афоризме, который представляет собой законченное целое, противослово или само собой разумеется, и тогда афоризм превращается в тривиальность типа "все люди смертны", или оно дается в самом тексте, как в приведённых выше примерах. Здесь это оправдано парадоксальным поворотом мысли, неожиданными отношениями, возникающими между словом и противословом. В афоризме Ларошфуко слово и противослово тождественны (добродетель равняется пороку); в афоризме Паскаля слово и противослово ("праведники" и "грешники") как бы меняются своими значениями. Парадоксальная структура афоризма у французских моралистов не только стилистический приём. Парадокс составляет самое сердце их философии, поэтому афоризм и смог стать органичной формой их мысли.
Сочинения французских моралистов объединяет не только жанр, но и тема. Их волнует проблема человека, тайна его судьбы, его место в обществе и мироздании, его добродетели и пороки, нравственные поиски и падения, вопросы психологические и социальные. Стремясь придать своим мыслям, наблюдениям над собой и своими современниками как можно более широкий, всеобъемлющий смысл, французские моралисты с особенной глубиной выразили истину своего времени и как раз именно поэтому открыли что-то важное, выходящее и за его границы.
Франсуа де Ларошфуко был одним из активных участников Фронды, но затем пережил глубокое разочарование в её идеях, осознав, что у общественно-политических устремлений этого движения не было будущего. Да и сами его представители проявили себя не лучшим образом, руководствовались не заботой о благе страны, не высокими принципами, а скорее мелким честолюбием и страхом за собственные привилегии…
После разгрома Фронды герцог Ларошфуко поселился в Париже, получив прощение, как и все прочие её участники, и обратился к литературному творчеству. "В праздности, вызванной опалой", он пишет свои "Мемуары", касающиеся событий Фронды, где подводит итог этому периоду собственной жизни и целой эпохе в истории Франции.
Однако главное творение Ларошфуко, на котором основана его мировая слава, это книга "Максимы, или Моральные размышления" (первое издание датируется 1664 г.). В этом философско-моралистическом произведении Ларошфуко попытался осмыслить и опыт Фронды и то, что произошло с французским обществом после. Эпиграфом к этой небольшой книжке стали слова: «Наши добродетели – это чаще всего искусно переряженные пороки».(312)
Что Ларошфуко имел в виду, говоря о «добродетели»? Это те нравственные ценности, которые, казалось, были свойственны предшествующим историческим эпохам: великодушие, бескорыстие, храбрость, гражданская доблесть, презрение к смерти. Основой добродетели человека мыслилась его способность творить свою судьбу, следовать велениям разума, умение ставить интересы целого выше личных. Что Ларошфуко имел в виду под «пороком»? Это себялюбие, эгоизм, власть страстей над разумом. Ларошфуко был убеждён – современный человек не способен властвовать над собой, он – игрушка в руках собственных страстей и обстоятельств. Любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо – вот теперь главный двигатель поступков, по мнению писателя.
«Своекорыстие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли – даже роль бескорыстия» (39).
«У большинства людей любовь к справедливости – это просто боязнь подвергнуться несправедливости» (78).
«Люди делают добро часто лишь, чтобы обрести возможность безнаказанно творить зло». (121).
«Ум всегда в дураках у сердца» (102).
Мысль, особенно важная для понимания этой новой ситуации, выражена в следующем знаменитом афоризме Ларошфуко: «Люди стараются казаться иными, чем они есть на самом деле, вместо того, чтобы стать такими, какими они хотят казаться».
Герой Корнеля, к примеру, не притворялся, а действительно старался быть таким, каким хотел казаться. В его сознании существовал некий возвышенный идеал, которому он стремился соответствовать. А теперь люди только делают вид, играют роли, вместо того, чтобы быть такими, какими хотят казаться, заключает Ларошфуко. Им достаточно видимости. Их не интересует, какие они на самом деле.
Противоречие между тем, что кажется, и тем, что есть, между видимостью и сутью – одна из основных философских и морально-психологических проблем XVII столетия. В "Максимах" Ларошфуко она занимает центральное место. Как явствует из эпиграфа книги, за любой добродетелью таится порок, а сама добродетель – лишь маска, прикрывающая себялюбие. Но Ларошфуко не склонен видеть в этом только сознательное лицемерие. Мысль его и тоньше и глубже. Люди вынуждены притворяться, носить маску, казаться не тем, чем они являются на самом деле, потому что живут в обществе. Это означает, что законы общественной жизни не совпадают с законами человеческой природы.
"Маска", о которой идёт речь в "Максимах", – продукт не просто социального бытия, но – социального отчуждения. "Короли чеканят людей, как монету: они назначают им цену, какую заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу", и потому "общество состоит из одних только личин". Но, привыкнув притворяться перед другими, казаться не тем, что он есть, человек начинает притворяться и перед самим собой; люди обманывают не только других, но и себя. Отделить одно от другого порой невозможно; каждый хочет одновременно удовлетворить свое себялюбие и заслужить одобрение окружающих и потому не осмеливается признаться даже самому себе в истинных мотивах своих действий.
Наиболее интересные и глубокие наблюдения Ларошфуко показывают противоречивость душевной жизни. "Смирение нередко оказывается притворной покорностью, цель которой покорить себе других. Это уловка гордости, принижающей себя, чтобы возвыситься, и, хотя у гордости множество личин, она лучше всего маскируется и более всего способна нас обмануть, когда прячется под маской смирения".
Эта максима построена как своеобразное кольцо, что и придаёт ей внутреннюю завершённость. Она начинается словом "смирение" и заканчивается тем же словом. Мысль писателя движется от того, что лежит на поверхности, что только кажется, к тому, что есть, что таится в глубине, а затем прослеживается обратное превращение сущности в явление. При этом всё переходит в свою противоположность: гордость становится смирением, принижается, чтобы возвыситься, притворяется покорностью, чтобы покорить других, и т. д. Низ и верх перестают быть у Ларошфуко устойчивыми неподвижными. В основе возвышенных и благородных поступков лежат нередко низменные и эгоистические мотивы. "Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав лекарств", а "добродетели теряются в своекорыстии, как реки в море". Но при всей зыбкости границ между добродетелью и пороком, добром и злом, истиной и фальшью у Ларошфуко всегда сохраняется расстояние, водораздел между ними. Фальшь может принимать облик истины, искусно рядиться под неё, но от этого она не становится истиной. В психологическом анализе Ларошфуко всегда сохраняется твёрдая нравственная оценка.
Другой французский моралист, Блез Паскаль, тоже в достаточной мере сумел выразить дух Нового времени. Паскаль был моложе Ларошфуко, но умер раньше него. Ларошфуко родился в 1613, умер в 1680. А Паскаль родился в 1623, умер в 1662. Многие его высказывания напоминают рассуждения Ларошфуко («Справедливости нет, есть только видимость справедливости» и т. д.). Однако у него был другой путь, чем у Ларошфуко. Вообще, Паскаль был серьёзным учёным. Его труды остались в истории науки, наверное, каждому школьнику известно его имя. Но он разочаровался в научном знании. В какой-то момент Паскаль понял, что наука не способна дать ответы на мучительно тревожившие его вопросы.
Кроме того, с Паскалем произошёл однажды удивительный случай. Он проезжал через мост в Париже, и вдруг лошади рванулись в реку. Это была верная гибель, но в последний момент постромки чудом оборвались, и повозка удержалась на самом краю. Паскаль остался жить, восприняв случившееся как некое высшее божественное вмешательство. Отчасти разочарование в науке, но главным образом – это глубоко потрясшее Паскаля жизненное происшествие обратили его к Богу. Паскаль поселился при монастыре Пор-Рояль, который являлся на тот момент не только одним из центров французской культуры, но и центром янсенизма – своего рода сопротивления общему нравственному и духовному упадку и, в особенности, учению иезуитов.
В Пор-Рояле Паскаль прожил остаток своей жизни. Здесь были написаны его "Письма к провинциалу", полемическое сочинение, направленное против иезуитов. Здесь была задумана и начата главная книга "Апология христианской религии", оставшаяся в виде связанных в пачки листов бумаги, на которых Паскаль записывал приходившие к нему мысли. Эти фрагменты были собраны после его смерти и опубликованы под названием: "Мысли Паскаля о религии и некоторых других вопросах".
Опыт учёного имел для "Мыслей" Паскаля такое же решающее значение, как политическая деятельность Ларошфуко для его "Максим". В чём заключается главная идея книги? Я уже привёл в качестве примера утверждение Паскаля о том, что «справедливости нет, есть только видимость справедливости». Но он добавляет к этому следующее: «Всё держится на силе, а не на справедливости», однако «сила нуждается в видимости справедливости». Всё-таки на одной силе ничего не построишь. Это – видимость, но почему-то сила нуждается в ней, всегда пытается принять облик справедливости. А нуждается она в ней потому, что в сердце человека живёт стремление к добру. Человек, конечно, очень далёк от того идеального образа, который представляли себе, скажем, люди первой половины века, тот же Корнель, герой которого Родриго соединяет в себе и качества идеального рыцаря "без страха и упрека" и идеального гражданина, для которого "великий государственный интерес" становится высшей нравственной ценностью, но и не сводится к заключениям о человеческой сущности, сделанным Ларошфуко.
Важный момент – отношение Паскаля к разуму. У Паскаля нет такой абсолютной уверенности в возможностях человеческого разума, какая была, скажем, у Декарта. Паскаль считает, что всё-таки главное в человеке не разум, а сердце. С этим связана идея Бога. Как учёный, он утверждает, что есть одинаковое количество аргументов как в пользу того, что Бог существует, так и того, что Бога нет. Он отрицает представление Декарта об умопостигаемом, рационально устроенном мире; картина Вселенной вовсе не говорит о присутствии в ней божественного начала, и вечное молчание её бесконечных пространств страшит Паскаля. "Если бы я не видел в ней ничего отмеченного печатью божества, – говорит Паскаль, – я утвердился бы в неверии; если бы на всём видел печать Творца, успокоился бы, полный веры. Но я вижу слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы преисполниться уверенности…" Разумом нельзя постичь Бога, а можно только сомневаться в его существовании. Но в Бога можно верить. Эта вера заложена не в разуме, а в сердце человека: «Только сердце ощущает Бога».
Однако главное расхождение Паскаля с Декартом – в другом. «Чтобы правильно жить, надо правильно мыслить» – утверждал Декарт. На этом постулате, кстати, построены драмы Корнеля. Герой Корнеля старается правильно мыслить и, соответственно, принимая правильные решения, правильно поступать. Человеку, по словам Декарта, следует во всём слушаться голоса разума, а не голоса страстей, которые толкают его на путь порока: голос разума – это голос Бога.
Паскаль же убеждён, что на разуме не может быть построено здание человеческой морали, ибо разум помрачён страстями, и наши суждения порой зависят от самого ничтожного пустяка. Разум повсюду обнаруживает противоречия, а жизнь требует решимости и воли, определенности и выбора, сопряженного всегда с надеждой и риском. Паскаль парадоксально переворачивает положение Декарта: «Надо правильно жить, и тогда будешь правильно мыслить».
Загадка человека волнует Паскаля не меньше, чем загадка мироздания. Очень выразителен в этом смысле фрагмент "Мыслей", в котором говорится о несоизмеримости человека и Вселенной. Трагичен удел человеческий, ибо человек перестал ощущать себя микрокосмом, он "не более как атом и тень" и живёт на грани двух бездн: "бездны бесконечности и бездны небытия", ему не дано постичь конец сущего и его начало (ибо, "будучи небытием, мы не способны понять начало начал… будучи бытием кратковременным, не способны охватить бесконечность"). Не только мир, но и сам человек для самого себя – непостижимая тайна. Что такое человек? "Небытие в сравнении с бесконечностью, всё сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем".
В утверждении Паскаля о "срединном" положении человека в мироздании заключена скрытая полемика с мыслителями эпохи Возрождения. Итальянский гуманист XV века Пико делла Мирандола утверждал, что именно в силу своего "срединного положения" человек всемогущ: он обладает возможностью "обозреть всё, что есть в мире", "владеть, чем пожелает" и "быть, чем захочет".
Когда же Паскаль говорит, что удел человека "середина", он вкладывает в это другой смысл. Он имеет в виду противоречивость и двойственность природы человека и его положения в мире: "человек не ангел и не животное", он всегда между двумя полюсами; но срединная точка, которую он занимает в мире, неустойчива, она каждую секунду уходит из-под ног. Сама "середина" есть сочетание противоположностей. "Что за химера человек, …какое чудовище, какой хаос, какое вместилище противоречий, какое чудо… судья всех вещей и бессмысленный червь земли, обладатель истины и клоака неуверенности и заблуждений, слава и отброс мироздания".
Парадоксальна не только человеческая природа, но и любая истина. Парадоксы Паскаля лишены всякого элемента игры, они всегда трагически серьёзны. Его мысль повсюду обнаруживает противоречия, он знает, что любое правильное исходное положение может быть дополнено противоположным, столь же правильным. Эти противоречия принимают у него характер непримиримых, но взаимно связанных антиномий: добро и зло, дух и материя, разум и страсти, справедливость и сила, истина и заблуждение. Привести эти антиномии к некоему высшему синтезу, потребность в котором заложена в сердце каждого, не представляется Паскалю возможным. Вот почему, надо полагать, само его сочинение осталось только в форме разрозненных фрагментов.
Человек в глазах Паскаля одновременно велик и ничтожен. Паскаль неоднократно возвращается к этой идее. "Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить… достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его уничтожит Вселенная, человек всё равно возвышеннее, чем она, ибо сознаёт, что расстается с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего не сознаёт" (фрагмент 347). (313)
Величие и достоинство человека в его сознании, в способности не только ощутить границы собственного разума, но и признать существование вещей, уму непостижимых. В конце концов, "величие человека тем и велико, что он сознаёт свое ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознаёт". (314)
В отличие от "Максим" Ларошфуко, "Мысли" Паскаля внутренне диалогичны: писатель всё время спорит со своими воображаемыми оппонентами. Это стоики и скептики, Эпиктет и Эпикур, Декарт и Монтень – его любимые авторы. Но Паскаль однажды заметил: "Во мне, а не в писаниях Монтеня – всё то, что я в них вычитываю". Поэтому "Мысли" – это спор Паскаля с самим собой.
Сочинение Паскаля стоит на грани философии и искусства. Паскаль обладает могучим воображением и часто мыслит поэтическими символами. Таковы образ "мыслящего тростника" или образ "бездны", с которым связывается представление о бесконечности, вечности, а также катастрофичности человеческого бытия. В этих образах-символах отразилось и ощущение непрочности современной Паскалю цивилизации, под которой таится хаос – ощущение, сближающее Паскаля с творчеством великих трагиков эпохи.
Расцвет драмы классицизма
приходится на вторую половину XVII века. С этим периодом связано творчество выдающегося французского поэта и драматурга Жана Расина. Он родился в 1639 году, умер в 1699. Литературная слава Расина связана с десятилетием между 1667-1677 гг. В 1667 появилась его первая значительная трагедия – «Андромаха», в 1677 – самое великое творение, «Федра», после чего последовал длительный перерыв. В 90-е годы Расин вернулся к театру, но отошёл от классицизма, обратился к библейским сюжетам. В этот период была создана драма «Эсфирь»…
За основу своих произведений Расин, как правило, брал трагедии Еврипида. Таковы «Ифигения», написанная на сюжет «Ифигении в Авлиде»; «Федра», опирающаяся на трагедию «Ипполит». Одноименный предшественник «Андромахи» – одна из поздних трагедий Еврипида.
В трагедии «Андромаха» Расин заметно отступает от античной первоосновы.
Начнём с перечня действующих лиц. В трагедии Расина он выглядит так:
Андромаха – вдова Гектора, пленница Пирра.
Пирр – сын Ахилла, царь Эпира. (Он упоминается и в «Илиаде» Гомера, но особую роль играет в «Энеиде» Вергилия, во второй песне поэмы рассказывается о жестокостях Пирра во время осады Трои).
Орест – сын Агамемнона.
Гермиона… В «Андромахе» Еврипида она тоже присутствует, однако у Расина сказано, что Гермиона, невеста Пирра, – дочь Елены и царя Спарты Менелая.
Зачем Расин это делает, ведь даже нашим современникам, не говоря уже о зрителе того времени, известно многое о перечисленных персонажах. Но ему важно подчеркнуть: все главные действующие лица трагедии, кроме Андромахи, – дети великих героев, легендарных участников Троянской войны. Андромаха – единственная, кто в эти рамки не укладывается.
Пришло новое поколение – вот тема, которая волнует Расина в этой трагедии.
Конечно, когда мы сегодня на это смотрим, нам кажется, что Корнель и Расин – современники. Но на самом деле Корнель родился в 1606 году, а Расин в 1639. Это – разные поколения, отцы и дети. Поэтому противопоставление поколений в трагедии касается не только героев, но и отношения самого Расина к творчеству своего знаменитого предшественника.
События «Андромахи» относятся ко времени после окончания Троянской войны. Действие трагедии начинается с того, что в Эпир, где правит царь Пирр, приезжает Орест, который является посланником греков. Повергшие Трою, они возмущены тем, что Пирр поступился своим воинским словом: не только сохранил жизнь, но и укрыл у себя пленников-троянцев – Андромаху, вдову главного защитника Трои – Гектора, и их сына Астианакса. Греки требуют выдать им Астианакса, опасаясь встретить в нём будущего мстителя за гибель Трои. Однако Пирр отказывается это сделать, по той простой причине, что влюблён в Андромаху и хотел бы, чтобы она стала его женой. Он грозит Андромахе выдать сына грекам, если она и дальше будет ему противиться. Что касается Ореста, он надеется: Пирр женится на Андромахе, а у него появится возможность вновь побороться за отвергшую его некогда Гермиону. Царская невеста, она так и не дождалась от Пирра «ни предложения сердца, ни короны».
Сразу бросается в глаза: герои говорят не то, что думают и чувствуют. Орест убеждает Пирра уступить грекам, но в душе мечтает, чтобы этого не случилось. Пирр заявляет, что ребенок не представляет никакой угрозы, ведь Троя разрушена… Но на самом деле им руководят совсем другие мотивы: Астианакс необходим ему как средство давления на Андромаху.
Каждый здесь влюблён в того, кого ему любить не следует. Орест давно и безответно любит Гермиону, Гермиона – Пирра, Пирр – Андромаху… Кажется, это вполне могло бы составить комедийное кольцо, если бы Андромаха не любила по-прежнему погибшего за Трою Гектора. Кольцо здесь разомкнуто, и любовный сюжет существенно осложнен.
«Андромаха» Расина чем-то напоминает корнелевского «Сида». Но оставаясь в рамках одного и того же художественного стиля – классицизма, трагедии разнятся во многом по своему художественному строю.
Интерес Корнеля сосредоточен не на внешнем действии, а на внутреннем, события предстают в восприятии героев. Так поединок Родриго и графа Гормаса показан отражённым вначале в душе самого Родриго, затем Химены, находящейся в состоянии внутренней борьбы. Эта внутренняя борьба недаром обозначается словом «битва» (combat), – она зеркало борьбы внешней. Характеризуя своё душевное состояние, Химена скажет:
Родриго в ней с отцом ведёт единоборство,
Он ломит, он теснит, он гнётся перед ним,
То яростен, то слаб, то вновь неодолим…
(Действие третье, явление третье).
Действие «Сида» протекает в настоящем времени, которое членится на отдельные статичные моменты. Сама структура трагедии подчеркивает прерывистый характер времени. Сцены сменяют друг друга, причем герои, участвующие в одной сцене, в следующей, как правило, уже не появляются. Каждая отдельная сцена – образ мгновения, уходящего в небытие. Мгновение – одно из ключевых слов «Сида». Ссора отцов – миг. «Миг злополучной ссоры, – скажет Химена. – Миг породил её, и миг её потушит» и т.д.
Для героев Корнеля нет вопроса «почему» (область причин – сфера прошлого), а есть только один вопрос – «зачем», вопрос цели. Всё в его драме совершается в первый раз (первая любовь, первая дуэль, первый подвиг).
У Расина концепция времени другая. Как и «Сид», «Андромаха» связана с эпическим сюжетом, вырастает из него. Но если в трагедии Корнеля эпос – это будущее (содержание «Сида», напомню, – рассказ о рождении национального героя Испании), то в «Андромахе» эпический сюжет, Троянская война – в прошлом. Трагедия Корнеля – это пролог эпоса, трагедия Расина – его эпилог. Будущее освещает события «Сида», придаёт им перспективу и новый, высший смысл; а у Расина, напротив, отсвет легендарной Троянской войны ложится на важнейшие эпизоды трагедии. Сам главный конфликт между Андромахой и Пирром является отзвуком борьбы троянцев с греками, сердце Андромахи – последний оплот Трои.
Важно и другое. Герой Корнеля – победитель, героиня Расина – побеждённая. Расин изображает мир, но война составляет его подоснову, это прошлое, живущее в настоящем.
Тема прошлого – важнейшая в «Андромахе». Есть прямая связь между хаосом страстей, в который погружены герои Расина, и жестокостью победителей в разрушенной Трое. Пирр хочет забыть Трою и всё, что с ней связано. Андромаха всё время вспоминает, ей не дано
…Забыть, как вкруг стены влекли окровавленный
Труп мужа моего, всех почестей лишенный?
Забыть, как был убит Приам, великий царь,
И кровью старческой был обагрен алтарь?
О, вспомни, вспомни ночь, что длилась бесконечно,
Став для моей страны последней ночью, вечной!
Забыла ль ты, как Пирр, сверкающ и суров,
Вошёл в сиянии пылающих дворцов,
Сквозь груды мертвецов, шагая всех спокойней,
До самых пят в крови, и призывая к бойне?
Крик победителей и побежденных крик!
Кто гибнет в пламени, кто под мечом поник,
Вокруг меня лишь смерть да зовы боевые, -
Таким передо мной явился Пирр впервые. (315)
(Действие третье, явление восьмое)
На влюблённого, галантного Пирра падает тень той страшной ночи гибели Трои, когда он шествовал «сквозь груды мертвецов». Из памяти Андромахи никогда не уйдут эти воспоминания. Это часть её «Я». И поэтому она принимает решение выполнить условие Пирра, выйти за него замуж, чтобы уберечь сына от расправы, но затем покончить с собой. Правда, этого не происходит: Пирра убивают. Но Андромаха с самого начала знает, чего она не может.
День драмы – последнее звено длинной цепи событий. Это последний день. У Корнеля всё совершается в первый день, а у Расина – в последний, все надежды терпят крах. «Я на него взгляну сейчас в последний раз», – скажет Андромаха о сыне; в последний раз разговаривает Гермиона с Пирром…
Прошлое в трагедии Расина связано с настоящим и в то же время отличается от него, служит ему контрастным фоном. Здесь тоже важное расхождение с Корнелем. В «Сиде» нет противопоставления поколений – цепь времён не оборвана. В своем поведении персонажи трагедии руководствуются одними и теми же незыблемыми, вневременными нормами. А у Расина иначе. Главные действующие лица «Андромахи» – дети великих героев, но они не похожи на своих доблестных отцов. Пирр ради любви к Андромахе готов даже восстановить ненавистную ему Трою и, кажется, позабыл, что является сыном Ахилла. Временами у них возникает желание повторить прошлое, разыграть его вновь. Свою месть Пирру Гермиона уподобляет Троянской войне:
Елена, мать моя, не посулив награды,
На помощь привлекла героев всей Эллады
И видела она за десять лет боёв
Погибель трёх царей, и каждый был ей нов.
А я – я отмстить хочу за оскорбленье,
Влюблённому в меня я поручаю мщенье,
<…>
А он боится мстить, пренебрегает мной!
(Действие пятое, явление второе).
А Орест скажет Гермионе прямо:
Прославим ваш и мой неукротимый нрав,
Я – Агамемноном, а Вы Еленой став.
В Эпире воскресим все муки старой Трои,-
Воспеты будем мы, как прежние герои! (316)
(Действие четвертое, явление третье)
Но это иллюзия. Между прошлым и настоящим контраст. Орест не походит на Агамемнона – он занят только своими чувствами и признается, что желал бы вместо Астианакса похитить «дочь Елены». Не героем, а «убийцей», «предателем», «святотатцем», «страшным чудовищем» предстает он в финале трагедии. Пирр хочет забыть прошлое, Орест его повторить, но и то и другое одинаково невозможно.
Андромаха живёт прошлым, несёт его в себе, оно составляет глубинное существо её «Я». Она – помнит. Поэтому стать женой Пирра для неё означало бы изменить прошлому, а следовательно, и самой себе. Андромаха видит в сыне отражение погибшего Гектора и в то же время знает, что прошлое невозвратимо. Она не мечтает восстановить Трою. Троя – пепел. Что ей Троя, если нет в живых её защитника, Гектора. Троя – люди, герои. А они погибли, и их нет ни в Трое, ни в Элладе. Сын должен помнить отца, «однако мстить… пусть не мечтает он», заявляет она.
У Корнеля внутреннее и внешнее совпадают, возможности его героя явлены в его судьбе, положении, поступках, слове. Поэтому в его трагедии всё открыто, громко, совершается при ярком свете дня. В трагедии Расина видимость и сущность заметно расходятся: в себе его герои совсем другие, чем вовне, для других, когда они вынуждены притворствовать, носить маску. Как художника, Расина интересует неявное в человеке, сокрытое в тайниках его души.
Между текстом и подтекстом в трагедии возникает контраст. Таков, к примеру, разговор Пирра и Ореста (действие первое, явление второе), где сложные личные взаимоотношения героев противоречат их общественным ролям. Гермиона стремится убедить Ореста, что не любовь, а долг привязывает её к Пирру (действие третье, явление второе). Пирр, заявляя о необходимости выдать Астианакса грекам, тоже ссылается на свой долг. Это не просто лицемерие. Общественные роли, которые играют герои Расина, есть нечто не совсем постороннее их личностям. Сам Пирр не знает, в чём его долг. Может, и в самом деле пожертвовать Астианаксом? В отличие от героев Корнеля, которые всегда говорят афоризмами, поскольку убеждены, что знают истину и стремятся следовать ей, герои Расина, когда не притворяются и хотят быть честными с самими собой, обращаются к себе с вопросами, на которые у них нет ответа. Каждый из них выступает для другого и для себя самого в двояком облике. Для Андромахи Пирр и мучитель и спаситель, единственная надежда и опора, в глазах Гермионы он – великий герой и недостойный изменник. Для Ореста Гермиона – желанная, источник радости и счастья, сама жизнь и мстящая ему Эриния. Любовь Гермионы превращается в ненависть, ненависть становится выражением любви. Её месть Пирру, искаженная, но единственно возможная форма проявления её чувства.
Чем трагедия завершается? Гермиона толкает Ореста на убийство Пирра, но потом проклинает его за эту смерть, хотя обещала уехать вместе с ним из Эпира. Орест кончает безумием. Он в ужасе от того, что произошло.
Чего же ради кровь мне руки обагрила?
Итак, предатель я, жестокосердый зверь! (317)
(Действие пятое, явление четвертое)
Вместо новой Троянской войны – подлое убийство Пирра. Кончилась героическая эпоха, эпос остался в прошлом. Нынешние герои не способны подняться до высот прежних. Они – рабы собственных страстей. Страсти владеют ими всецело.
Любопытен Пирр в этом смысле. Этот образ вызывал немало нареканий у последующих писателей и критиков. Расина упрекали в том, что Пирр мало похож на грека древних времен. Он слишком галантен с Андромахой.
Но обратимся к свидетельству известного французского философа герцога Сен-Симона. В своих «Мемуарах» он описывает поведение короля Людовика XIV, для которого вежливость стала одним из средств управления придворными:
"Не было человека, обладавшего более естественной вежливостью, притом с соблюдением определенной меры, строго по степеням, сообразно различиям по возрасту, по заслугам, по сану… Он тонко соблюдал различные ступени при поклонах и принимая реверансы придворных… Он был неподражаем, когда по-разному принимал приветствия перед строем или во время смотров. Но никто не мог равняться с ним в обхождении с женщинами. Никогда не проходил он мимо любого чепца, не приподняв шляпы; я имею в виду горничных, и он знал, что это горничные, – как это часто бывало в Марли. Перед дамами он снимал шляпу, но то издали, то на более близком расстоянии; перед титулованными лицами он снимал её наполовину и держал её несколько мгновений (иногда больше, иногда меньше) в воздухе или возле уха. По отношению к нетитулованным он довольствовался прикосновением руки к шляпе. Для принцев крови снимал её, как для дам. Если вступал с дамами в разговор, то надевал шляпу, только отойдя от них".
Таков был галантный век. Подчеркнуто учтивый со своей пленницей, Пирр был понятен зрителям того времени: именно так полагалось вести себя правителю, именно так, исходя из представлений эпохи, изображён в «Андромахе» царь.
Однако в истории с Пирром, как трактует её Расин, есть и нечто более сложное, что резко расходится с трагедией Еврипида. Разве Андромаха не всецело во власти Пирра? Она же рабыня! Но дело в том, что Пирра не устраивает то, что можно добиться силой. Он хочет, чтобы Андромаха его любила. Поэтому ему важно, как она на него смотрит. Когда Пирр говорит Андромахе: «Ваш гнев сильней, чем гнев всех греков, взятых вместе», – это не просто слова.
В трагедии Расина огромное значение обретают непроизвольный жест, мимика, звук голоса, взгляд. В пятом действии трагедии Гермиона спрашивает служанку Клеону, не видела ли она лицо Пирра, не обращал ли он взор ко дворцу, не покраснел ли, когда заметил её.
Гермиона говорит Оресту о своей ненависти к Пирру:
Какой неслыханный позор,
Коль на фригиянке он остановит взор!
А Орест ей скажет:
И это – ненависть? Признайтесь лучше смело,
Что страсть утаивать – немыслимое дело!
Всё выдает вас: взгляд, молчание и стон.
Чем хуже скрыт огонь, тем ярче вспыхнет он. (318)
(Действие второе, явление второе)
Слово больше не выражает человека, как это было в театре Корнеля. В финале трагедии Пирр объявляет Гермионе о своём решении жениться на Андромахе. И Гермиона обращается к нему с одной-единственной просьбой: отложить свадьбу, чтобы она успела уехать из Эпира. Гермиона не хочет присутствовать на свадебных торжествах:
Но если мой удел – жестокие удары,
И вас влекут другой пленительные чары,
Вступайте в брак; а я прошу лишь об одном –
Не понуждать меня присутствовать при нём!
Сейчас в последний раз меня вы повстречали…
На завтра этот брак переложить нельзя ли?
Молчишь!.. Коварный, ты сейчас мне явен весь! (319)
(Действие четвертое, явление пятое)
Пирра выдаёт не слово, а молчание. Это молчание красноречивее любых слов говорит Гермионе, что надежды нет, что все помыслы Пирра заняты одной Андромахой. Столь же зловещий характер в начале четвертого действия обретает молчание самой Гермионы. Однако это совсем не означает, что слово в трагедии обесценивается. Театр Расина, быть может даже в большей мере, чем корнелевский, остаётся театром слова. В «Андромахе», как и в других трагедиях Расина, отсутствуют ремарки, которые в дальнейшем станут играть очень важную драматургическую роль: о герое мы узнаём только от него самого или со слов других персонажей. Внешние события, происходящие за сценой, предстают как чей-нибудь рассказ, т.е. через чьё-то слово.
Прошлое у Расина определяет настоящее и будущее. Отсюда тема судьбы в его театре. Она звучит не только в образе Ореста – судьба тяготеет над всеми героями трагедии, от неё не уйти никому. У Корнеля будущее творится свободно, определяется волей его героев, а у Расина оно предопределено, заложено в самом прошлом, и потому неотвратимо.
Действие «Андромахи» происходит в Эпире, во дворце Пирра. Но для всех героев трагедии (исключение составляет только сам Пирр) это чужое, враждебное пространство: Андромаха – пленница, рабыня, чужестранка; Гермиона – спартанская царевна, скорее заложница Пирра, чем его невеста; Орест – посланник греков. С самого начала драмы звучит мотив бегства. Кажется, все дороги открыты, а бежать некуда. Орест однажды уже пытался бежать, а оказался в Эпире, где встретил Гермиону – ту, от которой он бежал. Так замыкается круг: Орест тщетно пытался уйти от своего прошлого, от судьбы. Тайна в том, что Эпир – это мир.
Но нельзя бежать и за пределы дня, в который разыгрываются события трагедии. Время замкнуто, и часы до вечера – только отсрочка. Когда Пирр скажет, что назавтра будет сыграна свадьба, это означает – никогда. Ведь завтра нет, есть только сегодня.
К концу дня ход времени в трагедии Расина убыстряется. Отвергнутая, оскорбленная решением Пирра Гермиона требует от Ореста немедленной мести. Эта поспешность приводит его в смятение:
Вам нужно, чтоб погиб столь гордый властелин,
И Вы даете день, нет – час, нет – миг один! (320)
(Действие четвертое, явление третье).
Гермиона торопится – её торопит время, всё должно свершиться к вечеру.
Само слово день (jour) у французских трагиков многозначно: это и день, и жизнь, и свет. Действие «Андромахи» начинается утром, слабым проблеском надежды, что брезжит у прибывшего в Эпир Ореста, а кончается к ночи, которая приобретает второй, символический смысл – смерти, тьмы, безумия (см. последний монолог Ореста), небытия. Тот же образ и в монологах Андромахи, когда та вспоминает страшную гибель Трои. Отметим, что и в драме Корнеля присутствует подобная символика, но в «Сиде» ночь – это победа Родриго над маврами, а завершается действие при свете солнца, победными фанфарами.
День, в который разыгрывается трагедия Расина, имеет два лика. Один обращён в прошлое – это день итога, конца, разрешения тех конфликтов, которые возникли давным-давно, далеко за пределами самой драмы (завязка «Андромахи» – приезд Ореста, по сути, только начало развязки, она не создаёт никакой новой ситуации, а лишь ускоряет ход событий), другой обращён в настоящее: день – это время, в которое перед зрителем развёртывается непосредственное содержание трагедии, и у него есть своя протяжённость, своя динамика, свой ритм. Как и в трагедии Корнеля, время у Расина членится на отдельные мгновения, но природа этих мгновений другая.
У Корнеля мгновение – высший взлет его героя, у Расина – падение в пропасть, обрыв нити времени, когда нет ни прошлого, ни будущего, а есть только миг настоящего, который целиком поглощает героя, ослеплённого своей страстью.
Так, узнав о смерти Пирра, Гермиона проклинает Ореста, хотя мгновением раньше сама призывала его к мести:
Тебя не признаю, и ты противен мне!
Что, варвар, сделал ты? Твоё ожесточенье
Пресекло дней его прекрасное теченье.
<…>
Иль не заметил ты, что гнев меня влечёт
И дух не признает того, что просит рот? (321)
(Действие пятое, явление третье)
В конце драмы Орест восклицает:
То Гермиона ли? Она ль то говорила?
<…>
Но кто же мной убит? И кто я сам теперь? (322)
(Действие пятое, явление четвертое)
В отличие от героев Расина, герой Корнеля всегда знает, кто он в сущности, даже в самые трагические минуты своего бытия.
– Я знаю, кто я есть! – восклицает Химена, раздираемая любовью к Родриго и необходимостью преследовать его за гибель отца.
– Кто я? Что совершила? – вопрошает себя в ужасе расиновская героиня.
Время принадлежит целому, мгновение – индивиду, от него оторвавшемуся. На этом строится контраст двух героинь: Андромахи и Гермионы. Верность Андромахи прошлому – выражение её связи с Троей, с целым. Однако это целое, с которым Андромаха чувствует своё неразрывное единство, на самом деле только образ, воспоминание, живущее в её душе, то есть нечто, что уже не существует; реальное же целое, мир, её окружающий, как и неотделимое от него реальное время столь же отчуждены и враждебны для неё, как и для других героев трагедии.
Расин нарушает неписаный драматургический закон, требующий обязательного появления главного героя в финале. Андромахи в финале трагедии на сцене нет. Мы лишь узнаём, что Пирр убит руками поднятых Орестом заговорщиков, а Андромаха провозглашена царицей, поскольку незадолго до этого всё же стала его женой. На сцене лишь Гермиона и Орест. Гермиона в отчаянии закалывает себя кинжалом, а Орест впадает в безумие. В финале трагедии Расин показывает трагическую судьбу всей цепи: Гермионы, Ореста, Пирра… Та же участь ждёт и Андромаху. Торжество Андромахи – мнимо. Пирр был единственной её защитой, а теперь его не стало. Расин подчеркивает этот всеобъемлющий трагизм.
«Федра» (1677) – последнее выдающееся произведение Расина. Кроме того, это наиболее яркий образец трагедии классицизма вообще.
Трагедия «Федра» написана на сюжет трагедии Еврипида «Ипполит», но в ней есть некоторые важные отступления от античного первоисточника. Первое: Ипполит, сын царя Тесея, пасынок Федры, показан Расином влюбленным. У Еврипида он вообще сторонился женщин, здесь же влюблен в Арикию (Расин ввёл в действие этот новый персонаж). Арикия – царевна из афинского царского рода, фактически пленница Тесея, живущая при его дворе. Второе важное отличие: Федра решается рассказать о своей любви к Ипполиту в тот момент, когда Тесея нет в Трезене. Ходят слухи, что царь погиб, иначе, может быть, и не случилось бы этого признания.
И, наконец, третье отличие: главной героиней у Расина становится Федра. Однако если в трагедии Еврипида любовь Федры – это проявление гнева богини Афродиты, родовое проклятье, то здесь всё сложнее.
Начнем со списка действующих лиц:
Тесей – сын Эгея, царь Афин.
Ипполит – сын Тесея и Антиопы, царицы амазонок.
О Федре, помимо того, что она – жена Тесея, сказано, и это взято из античного мифа, что она – дочь Миноса и Пасифаи. В трагедии Еврипида это обстоятельство не играло существенной роли, Расин же это подчеркивает. Минос – легендарный царь Кносса, который, согласно преданию, был основателем законодательства на Крите, но главное, – это судья в Царстве мёртвых. Он, кстати, изображен и в «Божественной комедии» Данте: указывает новоприбывшим душам круг ада, в который им предстоит спуститься. А вот мать Федры, Пасифая, – та, что влюбилась в быка и родила от него чудовище Минотавра, которого впоследствии сразил Тесей.
Итак, в Федре от рождения заложены два противоположных начала: с одной стороны – унаследованное от отца нравственное чувство, недаром именно Минос вершит посмертный суд над душами, а с другой – порочная кровь матери, поддавшейся некогда противоестественной страсти.
Резко меняется в трагедии и образ Тесея. Он предстаёт у Расина своего рода Дон Жуаном: даже Персефону, жену подземного властителя Аида, сумел соблазнить. И в тот момент, когда разворачиваются события «Федры», он тоже, видимо, погружён в одно из таких любовных приключений: странствует, давно не подавая о себе никаких вестей.
Открывается действие диалогом Ипполита и его воспитателя Терамена. Ипполит сообщает, что решил покинуть Трезен, чтобы отправиться на поиски отца:
Могу ли примирить души моей тревогу
С постыдной праздностью? О нет, пора в дорогу!
Полгода уж прошло, как мой отец, Тесей,
Исчез… (323)
(Действие первое. Явление первое)
Но на самом деле это предлог. Истинная причина его отъезда – бегство от Арикии. Ипполит считает, что не вправе любить. Во-первых, он поклоняется Артемиде, девственной богине-охотнице, а тут влюбился в афинскую царевну. Кроме того, отец никогда не простит ему чувств к сестре свергнутого им правителя: Тесей запретил сыну даже думать об Арикии.
Терамен убеждает Ипполита перестать таиться:
Скрывая свой недуг, ты гибнешь от него. (324)
(Действие первое. Явление первое)
Ипполит молчит, но, в конце концов, все-таки признается Терамену, что влюблен в Арикию.
Тут появляется Федра. Это очень важный момент в трагедии. Ипполит пытается бежать от своей любви, торопится, говорит: «Я уезжаю». А Федра, напротив, медлит. Она знает, что от себя не убежишь, с самого начала понимает, что надежды нет, и готова проститься с жизнью:
Я здесь остановлюсь, Энона, на пороге,
Я обессилела. Меня не держат ноги.
И света яркого не вынести глазам. (325)
(Действие первое. Явление второе)
Федра больна, но поднялась с постели, чтобы, по её же собственным словам, в последний раз обратиться к солнцу, своему мифическому предку. Она устремляется к свету, к солнцу и в то же время боится его, прячется от ярких солнечных лучей. Но, главное, Федра… боится слова.
Вообще, в театре классицизма основное действие протекает за сценой, а на сцене герои, как правило, говорят, а не действуют. Но в «Федре» Расина слово обретает особое значение: вопрос «сказать» – «не сказать» становится важнейшим. Держать невысказанное в себе очень тяжело. Но, кроме того, пока нечто не названо, не выражено в слове, то как бы и не существует.
О причине мучений царицы никто вокруг даже не догадывается: «Таинственный недуг её лишает сна, ей помрачая ум и душу ей тревожа». Ипполит считает, что мачеха его ненавидит, избегает встреч с ним, хотя на самом деле Федра влюблена в сына Тесея с того самого момента, когда впервые его увидела. Федра скрывает свои чувства.
Всё начинается с того, что кормилица и наперсница Энона выспрашивает у Федры, что так её гнетет. И хотя этот разговор с кормилицей – почти что разговор с самой собой, но всё-таки Федра впервые облекает в слова свои чувства:
Я преступлением не запятнала руки.
Но сердце… сердце… В нём причина этой муки!.. (326)
(Действие первое. Явление второе)
Над родом Федры довлеет проклятье:
Вовеки на земле не будут позабыты
Безумства, к коим страсть мою толкнула мать.
<…>
Несчастный этот род богиней проклят гневной.
Последняя в роду, судьбой своей плачевной
Всем показать должна я Афродиты власть. (327)
(Действие первое. Явление второе)
Любовь Федры к Ипполиту – это проявление рока, «ненависть жестокой Афродиты». Во всяком случае, так было в трагедии Еврипида. Однако расиновская Федра скажет Ипполиту:
Ты прав! Я, страстью пламенея,
Томясь тоской, стремлюсь в объятия Тесея,
Но Федрою любим не нынешний Тесей,
Усталый ветреник, раб собственных страстей,
Спустившийся в Аид, чтоб осквернить там ложе
Подземного царя! Нет, мой Тесей моложе!
Немного нелюдим, он полон чистоты,
Он горд, прекрасен, смел… как юный бог!.. Как ты! (328)
(Действие второе. Явление пятое)
Ипполит – воплощение той чистоты, которой ей так не хватает в Тесее. Федра жаждет любви Ипполита, мучается от неразделенного чувства и одновременно страдает оттого, что влюблена в пасынка. Она никогда не помышляла о том, что эта злосчастная любовь может увенчаться успехом, с самого начала не видела для себя никакого выхода.
Но приходит весть, что Тесей мёртв. Этого мотива, кстати, не было у Еврипида, но он существен в трагедии Расина. Энона убеждает Федру: раз Тесея больше нет в живых – не так уж страшна и преступна и её любовь к Ипполиту. Эти слова внушают Федре какую-то смутную надежду. Кроме того, смерть Тесея обязывает Федру поговорить с Ипполитом – его старшим сыном. У Федры ведь тоже есть сыновья: что теперь будет с ними, кто станет править? Слухи о гибели царя вызвали волнения в народе.
Ипполит, который вначале был готов бежать из Трезена, узнав о гибели Тесея, тоже осознал, что это ни к чему. Он ищет встречи с Арикией, чтобы сказать ей, что не станет её преследовать, как это делал отец. Теперь она свободна. Но происходит то, что вообще характерно для трагедий Расина. Решившись заговорить, Ипполит невольно высказывает Арикии свою любовь. И тут всё хорошо: Арикия тоже давно его любит.
Но всё иначе между Ипполитом и Федрой. Федра тоже начинает разговор с судьбы царства, но потом неожиданно для самой себя признается Ипполиту, что любит его:
Двукратно не войти в обитель мертвецов.
Коль там Тесей – не жди пощады от богов.
Ты думаешь, Аид нарушит свой обычай
И алчный Ахерон расстанется с добычей?
Но что я говорю! Тесей не умер! Он —
Со мною рядом… Здесь!… В тебе он воплощён…
Его я вижу, с ним я говорю… Мне больно!
Свое безумие я выдала невольно.
ИППОЛИТ
Поистине, любовь есть чудо из чудес!
Тесея видишь ты, тогда как он исчез.
Как любишь ты!
ФЕДРА
<…>
Таким приплыл на Крит Тесей, герой Эллады:
Румянец девственный, осанка, речи, взгляды, —
Всем на тебя похож. И дочери царя
Героя встретили, любовь ему даря.
Но где был ты? Зачем не взял он Ипполита,
Когда на корабле плыл к побережью Крита?
Ты слишком юным был тогда – и оттого
Не мог войти в число соратников его.
А ведь тогда бы ты покончил с Минотавром
И был за подвиг свой венчан победным лавром!
Моя сестра тебе дала бы свой клубок,
Чтоб в Лабиринте ты запутаться не мог…
Но нет! Тогда бы я её опередила!
Любовь бы сразу же мне эту мысль внушила,
И я сама, чтоб жизнь героя сохранить,
Вручила бы тебе спасительную нить!…
Нет, что я! Головой твоею благородной
Безмерно дорожа, я нити путеводной
Не стала б доверять. Пошла бы я с тобой,
Чтобы твоя судьба моей была судьбой!
Сказала б я тебе: «За мной, любимый, следуй,
Чтоб умереть вдвоём или прийти с победой!» (329)
(Действие второе. Явление пятое)
Федра никогда бы не сделала этого признания, если б не считала, что Тесей мёртв. Ипполит призывает Федру опомниться:
<…> У тебя душа помрачена:
Ведь я Тесею – сын, а ты ему – жена!
Он дает ей возможность отказаться от сказанного:
Тебя не понял я. Меня терзает стыд.
Но Федра больше не в силах молчать:
О нет! Всё понял ты, жестокий!
Что ж, если хочешь ты, чтоб скорбь свою и боль
Я излила до дна перед тобой, – изволь.
Да, я тебя люблю. Но ты считать не вправе,
Что я сама влеклась к пленительной отраве,
Что безрассудную оправдываю страсть.
Нет, над собой, увы, утратила я власть.
Я, жертва жалкая небесного отмщенья,
Тебя – гневлю, себе – внушаю отвращенье.
То боги!… Послана богами мне любовь!…
Мой одурманен мозг, воспламенилась кровь…
Но тщетно к небесам я простираю руки,
Взирают холодно они на эти муки.
Чтоб не встречать тебя, был способ лишь один,
И я тебя тогда изгнала из Афин.
Ждала я, что в тебе укоренится злоба
К твоей обидчице – и мы спасемся оба.
Да, ненависть твоя росла, но вместе с ней
Росла моя любовь. К тебе ещё сильней
Влекли меня твои безвинные мученья;
Меня сушила страсть, томили сновиденья.
Взгляни – и ты поймешь, что мой правдив рассказ.
Но нет, ты на меня поднять не хочешь глаз.
Кто б из живых существ мой жребий счел завидным?
Не думай, что с моим признанием постыдным
Я шла сюда к тебе. О нет, просить я шла
За сына, чтоб ему не причинял ты зла.
А говорю с тобой лишь о тебе… О, горе!
Тобой я вся полна, и с сердцем ум в раздоре.
Что ж, покарай меня за мой преступный пыл. (330)
(Действие второе. Явление пятое)
Федра даёт волю чувствам, с которыми так долго и тщетно боролась. Она понимает, что Ипполит не ответит взаимностью, но уже не может не излить до конца всю свою боль и скорбь, не может не сказать о том, что заставляет её страдать. Ипполит уходит.
Но выясняется, что весть о гибели Тесея оказалась ложной. Тесей жив и уже прибыл в Трезен. И теперь Федра боится: она обнаружила свои чувства к Ипполиту, а Тесей вернулся. С молчаливого согласия Федры, хотя сначала Федра этому противится, Энона решает пойти к Тесею и рассказать, что Ипполит якобы пытался царицу обесчестить. Этот мотив присутствует и в античной драме.
Тесей, выслушав Энону, призывает Ипполита к ответу. Разумеется, Ипполит всё отрицает, но и не хочет говорить правду. В античной драме это связано с клятвой. В трагедии Расина никакой клятвы нет, но он не желает порочить Федру, не рассказывает Тесею о том, что Федра призналась ему в любви. Однако всячески отрицает и собственные на неё посягательства. Чтобы убедить в этом Тесея, он говорит, что любит Арикию, его вина лишь в этом. Его оклеветали! Но Тесей не верит Ипполиту.
То, что сделала кормилица, тревожит Федру. Она приходит к Тесею, чтобы попытаться оградить Ипполита от его гнева.
ТЕСЕЙ
Подробней опиши мне злое преступленье
И гнев мой чересчур холодный подогрей.
Ещё не знаешь ты, что мерзостный злодей
Усугубил свой грех: не совестясь нимало,
Он объявил, что ты его оклеветала,
Что страстью одержим он не к моей жене,
Но к Арикии.
ФЕДРА
Что?
ТЕСЕЙ
Так объявил он мне.
Но мог ли веру дать я отговоркам лживым?
Настигнут будет он возмездьем справедливым.
Не медли, Посейдон! Я поспешу во храм,
И покровитель мой не будет глух к мольбам.
(Действие четвертое. Явление четвертое)
ФЕДРА
Ушёл… Но страшное услышала я слово.
Едва потушенный, пожар пылает снова.
О!… Роковая весть обрушилась, как гром!
Я бросилась его спасать. О нём одном
Я помнила в тот миг, я о себе забыла…
Энона в ужасе рыдала и молила, —
Напрасно. Совести суровой уступив,
Я шла сюда. К чему привёл бы мой порыв?
Быть может, – хоть о том, помыслив, цепенею, —
Быть может, истину открыла б я Тесею?
И вот я узнаю, что любит Ипполит,
Что любит – не меня! Что он принадлежит
И сердцем, и душой не мне, но Арикии!
О боги вечные! О боги всеблагие!…
Гордец отверг меня. И думала я так:
Он враг всем женщинам, самой любви он враг.
Но нет, есть женщина (как я узнала ныне),
Что одержала верх над этою гордыней.
Так, значит, нежное тепло и страстный зной
Ему не чужды? Он жесток ко мне одной?
А я, безумная, спасать его бежала…
(Действие четвертое. Явление пятое)
Да, любит Ипполит! О, нет сомнений в том!
Надменный враг любви, гордец суровый, в ком,
Казалось, пробудить немыслимо участье,
Глухой к мольбам, к слезам, живой пример бесстрастья,
Жестокосердый тигр, – осилен, приручен.
Узнай: хранил себя для Арикии он!
(Действие четвертое. Явление пятое)
Ко всем прочим мукам Федры прибавилась ещё и мука ревности. Она считала, что отвергший её Ипполит – «живой пример бесстрастья», а, оказывается, он любит Арикию. Этого вынести Федра не в силах:
Ведь даже в этот миг – мне сознавать ужасно! —
Их забавляет гнев ревнивицы несчастной.
Разлука им грозит, уже близка беда,
Но все же связаны их судьбы навсегда…
О нет! И мысль одну о счастье их любовном
Встречаю с яростью, со скрежетом зубовным!
Смерть Арикии!.. Смерть!.. Я мужу нашепчу, —
Сестру своих врагов отдаст он палачу.
Ещё опаснее сестра, чем были братья!
Палима ревностью, сумею настоять я… (331)
(Действие четвертое. Явление шестое)
Федра приходит в ужас от охвативших её мыслей и чувств:
Постой!.. Что говорю? Лишилась я ума?
Ревную! И хочу признаться в том сама?
Тесею? Расскажу, как при живом я муже
Горю неистовой любовью… И к кому же?
О!.. Дыбом волосы встают от этих слов.
Нет, переполнилось вместилище грехов!
Я в любострастии повинна неуемном,
В кровосмешении, в обмане вероломном,
И льщу заранее я мстительность свою
Надеждою, что кровь безвинную пролью.
О!.. И земля ещё меня не поглотила?
И смотрит на меня прекрасное светило… (332)
(Действие четвертое. Явление шестое)
И хотя это было лишь мгновенное помрачение, но это мгновение стоило Ипполиту жизни.
Всё развивается фатально. Финал «Федры» в каком-то смысле – отражение трагедии в целом. Тесей тоже пожалел, что изгнал Ипполита, призвав Посейдона ему во след. Но сказанного не вернуть. В трагедии Расина эта мысль обретает как бы наиболее очевидное своё выражение.
Гибель Ипполита происходит за сценой, как и положено в драме классицизма. О случившемся Тесею сообщает Терамен:
А море между тем пузырилось, вскипая,
И вдруг на нём гора возникла водяная.
На берег ринувшись, разбился пенный вал,
И перед нами зверь невиданный предстал:
Зверь с мордою быка, лобастой и рогатой,
И с телом, чешуей покрытым желтоватой.
Неукротимый бык! Неистовый дракон!
Сверкая чешуей, свивался в кольца он
И берег огласил свирепым долгим ревом.
Застыли небеса в презрении суровом,
Твердь вздрогнула, вокруг распространился смрад,
И, ужаснувшись, вновь отпрянула назад
Волна, что вынесла чудовище из моря.
С неодолимою опасностью не споря… (333)
(Действие пятое. Явление шестое)
Ипполита уносит в пучину представшее из вод чудовище. Этот образ отчасти отсылает к античному мифу, но имеет и глубинную связь с самой сутью трагедии. Повторю, слово «чудовище» встречается в «Федре» Расина неоднократно. Когда-то это был бык, в которого влюбилась мать Федры Пасифая. Он, кстати, тоже был послан из морских глубин Посейдоном. Но всё повторяется. Федра была готова войти в лабиринт, чтобы сразиться с чудовищем. Однако она не победила, а скорее вызвала его к жизни, поддавшись разрушительным, тёмным страстям.
Федра знает, что Ипполита уже не спасти. В античной драме является богиня Артемида, которая открывает Тесею правду. А здесь сама Федра, приняв яд, приходит к Тесею, чтобы успеть рассказать ему, что Ипполит не виновен:
О, выслушай, Тесей! Мне дороги мгновенья.
Твой сын был чист душой. На мне лежит вина.
По воле высших сил была я зажжена
Кровосмесительной неодолимой страстью.
Энона гнусная вмешалась тут, к несчастью.
Боясь, что страсть мою отвергший Ипполит
О тайне, что ему открылась, не смолчит,
Она отважилась (уговорив умело
Меня ей не мешать) на ложь. И преуспела.
Когда же я её коварство прокляла, —
Смерть – слишком лёгкую – в волнах она нашла.
Могла б я оборвать клинком свои мученья,
Но снять с невинного должна я подозренья.
Чтоб имя доброе погибшему вернуть,
Я к смерти избрала не столь короткий путь.
И всё ж кончается счёт дням моим унылым:
Струится по моим воспламененным жилам
Медеей некогда нам привезённый яд.
Уж к сердцу подступил ему столь чуждый хлад,
Уж небо и супруг, что так поруган мною,
От глаз туманною закрыты пеленою, —
То смерть торопится во мрак увлечь меня,
Дабы не осквернял мой взор сиянья дня… (334)
(Действие пятое. Явление седьмое)
Высший миг Федры – её последний миг.
Как истинно трагическая героиня, Федра постоянно ощущает над собой небо, откуда на неё взирают боги, а под собой преисподнюю, где её отец Минос судит тени умерших, и от чьего суда не уйти никому. Солнце, к которому она тянется и которого так страшится, – в трагедии это не только источник видимого света, но и невидимого духовного, важнейший символ. Да и собеседники Федры, в сущности, – не Энона, не Тесей, не Ипполит, а всемогущие боги. «Судьба и гнев богов разбудили в ней греховную страсть, которая ужасает, прежде всего, её самою…» – писал Расин о своей героине. Столкновение человека с роком – главная тема античной трагедии, и она присутствует в «Федре».
Однако уже современники Расина ощутили, что он создал не столько античное, сколько христианское произведение. Как говорится в «Евангелии»: важно не только не совершить грех, но и не помыслить о грехе. Собственно, вина Федры в одном: придя, чтобы спасти Ипполита, она поддалась порыву ревности и промолчала. Если бы в ту минуту она всё рассказала Тесею, Ипполит остался бы жив. Она несёт вину за его гибель – ощущает себя величайшей грешницей, которой нет и не может быть прощения. По словам Расина, «здесь… один лишь преступный помысел ужасает столь же, сколь само преступление».
Но в то же время это не совсем христианская трагедия. В «Федре» всё-таки действуют античные боги. Федра помнит, что в царстве мёртвых ей не будет никакой пощады. Она не знает милосердного христианского бога. И здесь возникает ещё один контекст, который необходимо учитывать, рассматривая трагедию Расина, – контекст европейской трагедии в целом.
Дело в том, что трагедия как жанр нуждается в мифе. Если бы не миф, история Федры выглядела бы вполне бытовой историей мачехи, влюбившейся в пасынка. В топографии же трагедии всегда выстраивается некая модель мироздания, система духовных координат. Особенно это характерно для трагедий Шекспира, хотя он и не обращается к мифу непосредственно. Но он пользуется языком мифа. Классицизм – последнее эстетическое направление, для которого миф – ещё естественная форма художественного выражения. В дальнейшем всякие попытки возрождения мифа будут носить искусственный характер, восприниматься скорее игрой с мифом, творческим приёмом, условностью. Расин же ещё чувствует миф глубинно.
В «Федре» Расина, в сущности, даётся ответ на главный вопрос всей европейской трагедии: что такое человек. Вера в то, что человек – венец всего живущего, творец своей судьбы, рухнула в XVII веке. Стало очевидно, что он скорее – игрушка в руках обстоятельств, раб собственных страстей, «дудка под пальцами Фортуны, на нём играющей». Человек не соответствует тому идеалу, который сам для себя избрал.
Энона скажет Федре: «Судьбу не победишь, мы – люди, свойственны нам слабости людские». Что Федра так переживает? «Смертная, подчинись уделу смертных».
В начале трагедии героиня боялась нарушить молчание, боялась света, боялась явить миру охватившее её «чёрное пламя». В финале она обретает внутреннюю свободу и уже не страшится сказать о своей любви. Она открывает Тесею правду и винит не окружающий мир, а самоё себя, принимает на себя всю полноту ответственности, как бы отвечая на поставленный Гамлетом вопрос: да, человек несовершенен, но он велик – в той степени, в какой осознает своё несовершенство, не мирится с ним, с достоинством принимает всё, уготованное судьбой. Уходя в царство вечного мрака, Федра «возвращает свету его чистоту».
Творчество Расина завершает век европейской трагедии. XVII век, действительно, был последним её веком, но не последним веком комедии… Когда знаменитого теоретика классицизма, автора программной поэмы-трактата «Поэтическое искусство» Николя Буало однажды спросили: «Кто более велик – Корнель или Расин», тот ответил: «Мольер».
Комедии Мольера
Создатель классической комедии Жан-Батист Мольер (театральный псевдоним Жан-Батиста Поклена) родился в Париже в 1622 году. Его отец, придворный драпировщик и камердинер Людовика XIII, мечтал о юридическое карьере для сына. Однако изучив правоведение и даже выдержав экзамен, удостоверяющий учёную степень юриста, Жан-Батист избрал творчество и театральные подмостки. Ещё в иезуитском колледже, блестяще освоив латынь, Мольер читал в подлиннике римских авторов и, предположительно, создал французский перевод поэмы Лукреция «О природе вещей».
Со временем он стал писать тексты для театральной труппы, в которой принимал участие не только как драматург, но и как актёр и постановщик. Правда, дела у организованного Мольером «Блестящего театра» шли далеко не блестяще. Из-за долгов и финансовых проблем Мольер дважды попадал в тюрьму. Почти полтора десятка лет, пришедшиеся на годы гражданских распрей и фронды, Мольеру пришлось скитаться с бродячим театром по французской провинции, обогащаясь жизненным опытом и оттачивая профессиональное мастерство. В этот период им было создано немало фарсовых и комедийных пьес, к сожалению, не дошедших до наших дней. Составляя основной репертуар труппы, эти пьесы принесли ей успех и создали репутацию, которая позволила наконец вернуться в Париж. В 1658 году труппа Мольера дебютировала в Луврском дворце в присутствии Людовика XIV. Это выступление перевернуло судьбу Мольера. Король предоставил в его распоряжение придворный театр (сперва Пти-Бурбон, затем Пале-Рояль).
Последующие 15 лет в Париже – чрезвычайно плодотворный период творчества Мольера. Именно в эти годы были созданы лучшие комедии. В 1673 году состоялась постановка «Мнимого больного», одного из самых жизнерадостных и веселых его произведений. Автор, несмотря на тяжелую болезнь, сам исполнил главную роль: блестящее сыграл мнительного Аргана, но прямо на сцене потерял сознание и спустя несколько часов после спектакля в ночь с 17 на 18 февраля умер. Парижский архиепископ запретил хоронить Мольера на освященной земле, поскольку тот не принёс требовавшегося от комедианта покаяния на смертном одре, и только по личному указанию короля величайший драматург Франции был всё-таки предан земле. Во избежание скандала погребение совершилось ночью за церковной оградой…
Сюжет комедии «Скупой» (1668) Мольер заимствовал у Плавта. Это известная комедия «Горшок». Но в отличие от Плавта, герой которого избавляется от своей скупости и отдает горшок с кладом дочери в приданое, у Мольера финал другой. Да и сам главный герой Гарпагон показан в его комедии разнопланово: он предстает не только как отец, но и как влюблённый, который собирается жениться на молоденькой девушке Марианне, невесте сына. Так же, как и в комедии Плавта, у него крадут деньги, это повторяется. Но главное: во всех ситуациях выступает главное качество Гарпагона – скупость…
Хочу, чтобы было понятно следующее. Существует, к примеру, китайская комедия о скупом. Не то чтобы Мольер учился у китайцев или китайцы читали Мольера, просто скупость – это общечеловеческое качество, тема скупости присутствует в любой культуре. В древнем Китае, допустим, был такой обычай: каждый человек должен был заранее приготовить для себя гроб. Вроде бы такая вещь, без которой при жизни можно и обойтись. Но в то же время рано или поздно всё равно понадобится, и поэтому выходит: жить без гроба нельзя. Каждому необходимо было заранее об этом позаботиться. Считалось хорошим подарком, если сын дарил гроб отцу. Предел скупости для китайца – это если человек экономит на таких вещах. Жалеть деньги на гроб – дальше некуда. А для Мольера, как человека французского галантного века, предел скупости – это жадность по отношению к женщине. Так вот: герой Мольера очень богат, но, приглашая Марианну нанести ему визит, даже собираясь на ней жениться, он всё время думает лишь об одном: как бы не потратить лишнего. Он – скупой.
Вообще, герои Мольера – это люди, охваченные какой-то одной-единственной сильной страстью. И страсть эта настолько их поглощает, что ничего другого они уже, кажется, не замечают. Кроме того, надо помнить, что Мольер следует классическому правилу трех единств, – действие его комедий укладывается в сутки. В таких ограниченных временных рамках герой, охваченный страстью, показан именно с какой-то одной, наиболее яркой своей стороны. Это определяет особую живость комедий Мольера.
И последнее, что хотелось бы отметить. Мольер – социальный писатель. Сцены между Дон Жуаном и Диманшем не могут быть поняты, если не знать, что Дон Жуан – дворянин, а Диманш – купец. Без этого комедия не работает. В этом, скажем, главное отличие героя комедии Мольера Гарпагона от Эвклиона, героя Плавта. Эвклион, в сущности, бедняк, скупость – его причуда. Он случайно нашёл горшок с кладом, да и тот умудрился потерять. А Гарпагон – ростовщик, буржуа, в деньгах, в накоплении заключен весь смысл его жизни. Поэтому и финал комедии Мольера таков: Гарпагону не удалось жениться на Марианне, она выходит замуж за его сына Клеанта, зато ему возвращают его шкатулочку. Весь путь главного героя в этой комедии – это путь к обретению заветной шкатулочки, и он не может выйти за эти рамки.
Мольер подходит к социальным проблемам как моралист, а к моральным как социолог. По его мнению, любые человеческие характеры и пороки социально обусловлены, а моральные проблемы – социальны. В этом особенность его комедий.
В XVII веке комедия, как известно, считалась низким жанром. Однако уже современники Мольера ощутили, что его пьесы не могут быть отнесены к этому разряду. Не случайно они стали именоваться «высокой комедией». Это определение, которое дали комедиям Мольера современники. Такова трилогия Мольера: «Тартюф», «Дон Жуан» и «Мизантроп». Эти комедии были написаны одна за другой: «Тартюф» – в 64-м году, «Дон Жуан» – в 65-м, и «Мизантроп» – в 66-ом году. Другое дело, что Мольер много раз переделывал «Тартюфа», и та редакция, которая нам теперь известна, датирована более поздним, 1669 годом. Первая редакция 64-го года не сохранилась.
На примере комедии «Тартюф, или Обманщик» хорошо видны особенности мольеровской комедии в целом. Во многих своих произведениях, особенно ранних, Мольер опирался на традиции итальянской комедии масок. В частности, использовал излюбленный её сюжет, который, в общем, восходит к новоаттической комедии и прежде всего к произведениям римских комедиографов Плавта и Теренция. Как правило, это история молодых влюблённых, которым помогает ловкий слуга. Родители героев противятся их браку, но тем не менее, всё приходит к счастливой развязке. Это очень популярный комедийный сюжет, который встречается в разных вариантах, начиная со времён Античности. В «Тартюфе» он тоже присутствует, как и в «Мещанине во дворянстве», но Мольер переносит смысловой акцент с детей на отцов. В античной комедии в центре была любовная интрига, отцы являлись скорее помехой на пути молодых героев к счастью. А у Мольера главными героями становятся отцы, старшее поколение. К примеру, в «Мещанине во дворянстве», комедии, на которой мы не будем останавливаться, центральный персонаж – это всё-таки Журден. Хотя основная сюжетная канва – любовная история его дочери, которая хочет выйти замуж за молодого человека Клеанта, чему Журден всячески противится. Но акцент всё равно – на образе Журдена, а любовная история играет второстепенную роль.
То же самое в «Тартюфе». В центре этой комедии – Оргон и его взаимоотношения с Тартюфом, а не история молодых влюбленных: дочери Оргона и её избранника, юноши по имени Валер. Это связано с главной темой комедий Мольера – критикой социальных пороков. Дело в том, что социальная обусловленность человека проявляется не в молодости, а, как правило, в более зрелом возрасте. Молодые люди ещё более или менее свободны от установок социума. Младшие в комедии Мольера пытаются противостоять жизненному укладу отцов…
Герой, именем которого комедия названа, Тартюф вступает в действие только с третьего акта. Обычно подобный персонаж присутствует с самого начала, а у Мольера он появляется в середине пьесы. Вначале мы только слышим о Тартюфе:
Явился бог весть кто, неведомо откуда,
В отрепьях нищенских, едва не босиком,
<…>
И до того дошло, что, вопреки рассудку,
Мы все теперь должны плясать под его дудку. (335)
(Действие первое. Явление первое).
Оргон приютил в своём доме незнакомца, который видится ему чудом благочестия. Пока господина нет на месте, домочадцы рассуждают о том, как сильно Оргон изменился под влиянием Тартюфа, точно ослеп:
Тартюф рыгнет, а он: "Во здравье, милый брат!"
Тартюф – его кумир. Всеведущ он и свят.
Что он ни натворит – он "совершил деянье",
Что ни сморозит он – "изрек он прорицанье".
(Действие первое. Явление второе).
Тартюф – это лицемер, который прикидывается святошей. С первой же сцены мы видим, что только мать Оргона, госпожа Пернель, подобно сыну, готова верить пройдохе Тартюфу, видеть в нём исключительно добродетельного, набожного человека:
Вам послан праведник, дабы извлечь, из тьмы
И к истине вернуть заблудшие умы.
(Действие первое. Явление первое).
Все остальные персонажи комедии хорошо понимают, что Тартюф представляет собой на самом деле.
Второе явление – возвращение Оргона. Он расспрашивает служанку Дорину о происходившем в доме, пока он был в отъезде:
Дорина! Расскажи о новостях мне вкратце,
Что вы тут делали, здоровы ль домочадцы?
Дорина
Да вот у госпожи позавчерашний день
Вдруг приключилс жар и страшная мигрень.
Оргон
А как Тартюф?
Дорина
Тартюф? По милости господней
Ещё стал здоровей, румяней и дородней.
Оргон
Бедняга!
Дорина
Так у ней болела голова,
Что госпожа была под вечер чуть жива.
Хоть вышла к ужину, но вовсе есть не стала.
Оргон
А как Тартюф?
Дорина
Тартюф? Наелся до отвала.
С благоговением окинув взором стол,
Двух жареных цыплят и окорок уплёл.
Оргон
Бедняга!
Дорина
Госпожа страдала всё жесточе
И не сомкнула глаз в течение всей ночи:
То жар её томит, а то озноб трясет.
И я с ней маялась всю ночку напролет.
Оргон
А как Тартюф?
Дорина
Тартюф? С трудом прикончив ужин,
Решил он, что покой его утробе нужен.
От всяческих земных тревог себя храня,
В постели пуховой храпел до бела дня.
Оргон
Бедняга!
Дорина
Госпожа, вняв общим настояньям,
Позволила лечить себя кровопусканьем,
И бодрость прежняя к ней возвратилась вновь.
Оргон
А как Тартюф?
Дорина
Тартюф? Когда пускали кровь
(Ей, сударь, не ему), не двинул даже бровью.
Желая возместить ущерб ее здоровью,
За завтраком хватил винца – стаканов пять.
Оргон
Бедняга!
(Действие первое. Явление пятое)
Эта сцена – своеобразный ключ к пониманию комедии в целом. Она разворачивается как бы в нескольких регистрах одновременно. Первый – самый простой. Мольер пользуется элементарными формами комизма. Он хорошо знал законы театра, принципы комедийного жанра, поскольку сам был актером, руководил труппой, писал для сцены.
Существует самая простая форма комического. В своё время французский философ А. Бергсон в книге «Смех» назвал её механической. Пользуясь современным языком, это – отсутствие обратной связи. Подобное всегда вызывает смех. Причем, смешными становятся вещи, которые сами по себе не должны так восприниматься. Однако на этом строится излюбленный смеховой прием. Например, человек спотыкается и падает. Ничего смешного нет в том, что кто-то упал. Но, к примеру, клоуны в цирке без конца падают, вызывая тем самым одобрительный хохот зрителей.
Люди вообще недооценивают роль той сферы познания, которая связана с телом. Мы осваиваем мир разумом, но и телом, конечно. К примеру, ходим и всем телом ощущаем движение, взаимодействуем с окружающим пространством, а если бы только размышляли, то обязательно бы падали. А так: тело реагирует, чувствует. Когда реакции тела нарушаются – человек теряет координацию. Это элементарно. Мольер очень наглядно изображает это отсутствие обратной связи: Дорина рассказывает Оргону про «жар и мигрень» госпожи, а Оргон ему невпопад: ах, бедный Тартюф! И это несоответствие вызывает простую форму смеха. Здесь это выражено с особой очевидностью.
Более глубокий уровень комедии – психологический. Герои Мольера – это люди, ослепленные страстью. Для Оргона кроме Тартюфа, кажется, никого не существует, он совершенно безумен в этом смысле, ослеплен своей страстью.
Вообще, мир Мольера очень театрален, в нём все играют. Прежде всего, играет сам Тартюф. Он изображает святошу. Тема лицемерия, кстати, одна из важнейших в комедиях Мольера. Уже из рассказа Дорины становится понятно, что Тартюф далёк от духовного:
С благоговением окинув взором стол,
Двух жареных цыплят и окорок уплёл…
Он очень толст. С утра уже изрядно пьян. Причём, ни для кого истинное лицо Тартюфа не является загадкой. Один Оргон верит Тартюфу, все остальные домочадцы прекрасно понимают, что он притворяется. Но Тартюфу мало самого Оргона, оказавшегося целиком в его власти. Он подумывает жениться на его дочери Марианне и при этом непрочь соблазнить его жену Эльмиру. Никаких чувств ни к одной из них он не испытывает, просто ему нравятся женщины…
Тартюф разыгрывает перед Оргоном богомольца. Это чистая маска. Здесь возникает очень резкий, почти плакатный контраст между видимостью и сутью. Он играет грубо, между прочим, но от него и не требуется тонкой игры. Оргон верит ему безоглядно и ничего не хочет замечать. Поэтому сказать, что Тартюф обманывает Оргона, нельзя. Тартюф, в сущности, и возникает в ответ на его ожидания. Оргон встретил Тартюфа в церкви, где тот истово молился, притворяясь, что одержим молитвой. Тартюф целиком создан его воображением. Тут нельзя сказать, что один обманывает, а другой – обманут, как, к примеру, в паре: Дон Жуан – Диманш. Нет. Оргон, ослепленный страстью, сам сотворил Тартюфа. Даже когда сын Оргона становится свидетелем того, как Тартюф пытается соблазнить его мать, Эльмиру, Тартюфу удается переубедить Оргона. Он делает вид, что «клеветнику» это померещилось:
Доверие ко мне внушают, милый брат,
Моё открытое лицо, правдивый взгляд,
Но, может статься, вас обманывает внешность,
И в сердце у меня порок, а не безгрешность?
И, добронравием прославясь меж людей,
На деле, может быть, первейший я злодей?
…
Я изверг, лицемер,клятвопреступник, тать,
Убийца, блудодей, – не стану отрицать.
Колени преклонив, стерплю я поруганье
Как по грехам моим от неба воздаянье.
(Опускается на колени.) (336)
(Действие третье. Явление шестое).
В финале сцены, которой завершается третье действие комедии, он заявляет, что готов покинуть дом, где его так не любят. А Оргон на это восклицает:
О нет! Разлуки с вами
Я не переживу. (337)
(Действие третье. Явление седьмое).
А дальше:
Тартюф
Ну хорошо, сдаюсь…
Однако же, дабы не вызывать злоречья,
Намерен избегать с женою вашей встреч я.
Оргон
Да нет, наоборот: я в долг вменяю вам
Не расставаться с ней назло клеветникам.
Признаться, для меня милее нет занятья,
Чем злить глупцов… Легко могу их доконать я
Созревшим только что решением одним:
Я назначаю вас наследником своим.
Помимо всех других! Единственным! Вот как-то!
Немедленно займусь я составленьем акта:
Свое именье в дар хочу вам отписать.
Милей мне верный друг и будущий мой зять,
Чем сын, жена и все… Вы примете даренье?
Тартюф
Могу ль противиться я воле провиденья?
Оргон
Бедняга…Ну, идем! Сей акт я сочиню-
И пусть хоть разорвёт с досады всю родню! (338)
(Действие третье. Явление седьмое).
Так благодаря кому существует Тартюф?
Добродетельность Тартюфа показная, а вера, которая присуща Оргону, фанатична. Его безумие – это безумие человека, который верит слепо. Фанатика нельзя убедить, тем более, что Тартюф умело подыгрывает его ожиданиям.
Тартюф ни в чём не знает удержу, ведь Оргон потворствует любой его прихоти, и в конце концов Тартюф выгоняет Оргона прочь из собственного дома, оставляет его ни с чем. На самом деле главное в нём – всепожирающее брюхо, которое готово поглотить всё вокруг. Никакой аскетичности в нём нет и в помине. Казалось бы, это притворство, но дело обстоит гораздо сложнее: для того, чтобы «быть», он должен «казаться», а если не сможет «казаться», то не сможет и «быть». Он всего добивается лишь благодаря этому умению казаться.
Как, к примеру, Тартюф объясняется с Эльмирой? Святоша, он делает вид, что каждую минуту думает лишь о Господе. Но Эльмира, по его словам, столь прекрасна, что заставляет забыть данные Богу обеты…
А в другой сцене, пытаясь соблазнить Эльмиру уже в присутствии самого Оргона (эта встреча подстроена служанкой Дориной), он высказывает мысль, которая почти искренна: «В поступке нет вреда, в огласке только грех», и «не грешно грешить, коль грех окутан тайной». Грешить открыто – это, конечно, безобразие, а вот тайно – другое дело, тайный грех – не грех.
Оргон, хоть и прятался в этот момент под столом, а всё же смог увидеть всё своими собственными глазами и решил наконец прогнать Тартюфа:
Довольно пустословья!
Вон! Живо! А уж там кривляйтесь на здоровье!
…
Извольте сей же час покинуть этот дом! (339)
(Действие четвертое. Явление седьмое).
Но даже в такой ситуации Тартюф не теряется, находит себе оправдание:
Смотрите, как бы вас не выгнали из дому!
Нельзя по-доброму, так будет по-худому:
Дом – мой, и на него я заявлю права.
Оргон ведь только что сам выдал ему дарственную…
Даже пойманный на обмане, разоблаченный до конца, Тартюф всё-таки не сбрасывает маски:
Вы мне ответите за бранные слова,
Вы пожалеете об этих мерзких кознях,
Замучите себя вы в сокрушеньях поздних
О том, что нанесли обиду небесам
Мне указав на дверь. Я вам за всё воздам! (340)
(Действие четвертое. Явление седьмое).
Тартюф утверждает, что делает всё «во имя неба». Он просто не может стать другим. Это маска лицемера, которую его вынудило надеть на себя общество. Вне этой роли Тартюф вообще ничто. Но мало того, что ему удалось завладеть капиталами и домом своего благодетеля, – Оргон доверил ему кассу Фронды, и теперь ему грозит арест. Оргон восклицает, обращаясь к Тартюфу:
Забыл ты, кто тебя от нищеты избавил?
Ни благодарности, ни совести, ни правил!
А что он слышит в ответ?
Служенье королю есть мой первейший долг.
Да, я обязан вам кой-чем, и если смолк
Признательности глас в душе моей смиренной,
Причина в том, что так велел мне долг священный.
Тут я не пощажу, все чувства истребя,
Ни друга, ни жены, ни самого себя. (341)
(Действие пятое. Явление седьмое).
Тартюф совершенно разоблачён перед Оргоном, казалось бы, больше незачем лицемерить. Но он всё равно продолжает игру.
В каком-то смысле комедии Мольера – ответ Корнелю, в трагедиях которого герой всегда сохраняет маску, но в некий важный момент всё же сбрасывает с себя всё то, что эта маска привносит в его личность. Здесь же Тартюф не может отказаться от маски, потому что без маски его попросту нет.
Как известно, в комедии обязателен счастливый конец – таков закон жанра. Но в «Тартюфе» Мольера не одна, а целых две развязки. Одна: счастливому финалу способствует слуга. В данном случае эту роль принимает на себя Дорина. (Вообще, слуги у Мольера, как правило, наделены здравым смыслом и всячески помогают ослепленным страстями хозяевам). Но этого оказывается недостаточно: Оргон прозрел, но Тартюфу всё равно удалось разорить и выгнать его из дома. И потому здесь следует вторая развязка, своего рода «бог из машины» – вмешательство короля. Казалось бы, всё должно было закончиться плохо, но в последний момент в события вмешался король, и всё благополучно разрешилось: Тартюфа удалось наказать. Конечно, это выглядит искусственным, но Мольер искренне верил в королевскую справедливость, ему самому король не раз приходил на помощь.
Теперь коротко о комедии «Дон Жуан, или Каменный гость». Впервые литературная обработка мифа об обольстителе и повесе Дон Жуане появилась в Испании. Это была пьеса современника Шекспира и Кальдерона, Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость». Затем образ Дон Жуана еще неоднократно возникал в мировой литературе. К нему обращались Пушкин, Байрон, Гофман, Блок в «Шагах Командора»… Однако классическая разработка этого образа принадлежит именно Мольеру. И подобное можно сказать о большинстве его героев…
Скажем, образ скупого впервые был представлен ещё Плавтом, задолго до пьесы Мольера, да и в дальнейшей истории мировой литературы изображено немало скупых: Плюшкин у Гоголя, Гобсек, Гранде у Бальзака и т.д. Тема лицемера, которую, между прочим, открыл Мольер, тоже получит широкое развитие. Достаточно вспомнить Фому Опискина, героя повести Достоевского, Иудушку Головлева Салтыкова-Щедрина… Это если взять лишь русскую литературу. Однако именно мольеровские персонажи и по сей день остаются своего рода художественным и смысловым образцом.
Дело в том, что каждое слово имеет множество разных значений, которые определяются тем или иным жизненным и литературным контекстом. Допустим, слово «игра». Для картежника игра – это одно, для музыканта – другое, для актера – третье. Смысл слова зависит от контекста, само оно многозначно. Но есть и свободное от отступлений и вариаций, непосредственное значение слова… Так вот, образы Мольера это как бы такие прямые, непосредственные значения: скупой вообще, лицемер, соблазнитель… Все остальные упомянутые мной литературные разработки, может быть даже более сложны и значительны, но именно Мольеру удалось содать некие максимально обобщенные художественные типы.
Важная особенность мольеровской разработки образа – выраженная социальная характеристика. Дон Жуан – дворянин, и это очень важно. Уже в первых сценах, которые его представляют, это существенно: «В брак ему ничего не стоит вступить: он пользуется им, как ловушкой, чтобы завлекать красавиц, он тебе на ком угодно женится. Дама ли, девица ли, горожанка ли, крестьянка ли, – он ни одной не побрезгает, и если бы я стал называть тебе всех тех, на ком он женился в разных местах, то список можно было бы читать до вечера». (Действие первое. Явление второе). (342)
Обратите внимание: женщины, привлекающие Дон Жуана, перечисляются согласно их сословной принадлежности: дворянка, крестьянка. Современный человек сказал бы: герою нравятся блондинки и брюнетки, полные и худые, а здесь главное – общественный статус красавицы. Сам Дон Жуан – дворянин, и это очень существенно.
Кроме того, это комедийная разработка. Образ Дон Жуана никогда прежде не был комедийным. Для нас эта комедийность не столь ощутима, но современники Мольера её воспринимали остро – во многом как пародию на образ рыцаря и рыцарскую героику. «Нет ничего более сладостного, – скажет Дон Жуан, – чем одержать верх над красавицей, которая сопротивляется, и у меня на этот счет честолюбие завоевателя, который всегда летит от победы к победе и не в силах положить предел своим вожделениям. Ничто не могло бы остановить неистовство моих желаний. Сердце моё, я чувствую, способно любить всю землю, и я, подобно Александру Македонскому, желал бы, чтобы существовали ещё и другие миры, где бы мне можно было продолжить мои любовные победы». (Действие первое. Явление второе).
Мольер изображает героя с честолюбием завоевателя. Сражаясь за женские сердца, его Дон Жуан уподобляет себя Александру Македонскому. Для зрителя XVII века это звучало комично. Родриго бился с маврами, Гораций отстаивал Рим, а Дон Жуан покоряет красавиц всех возрастов и рангов – от знатных до простолюдинок. Когда приезжает его жена, одна из тех, на ком он в последнее время успел жениться, и обращается к нему с вопросом, почему он её покинул, он направляет её к своему слуге Сганарелю чтобы тот объяснил ей причину: «Сударыня! Завоеватели, Александр Македонский и другие миры – вот причина нашего отъезда» (Действие первое. Явление третье).
Как известно, у каждого рыцаря должна быть дама, которой он посвящает свои подвиги, во имя которой сражается. А для Дон Жуана сами женщины – поля сражения.
Образ Дон Жуана имеет и другую важную особенность, которая тоже связана с дворянским происхождением героя, но касается чего-то более существенного и глубокого. Его отец Дон Луис – человек корнелевского поколения. Он возмущен поведением сына. У дворянина должны быть обязанности: служение родине, идеалам, чести, а Дон Жуан подобных устремлений лишен напрочь. Его единственный принцип – поиск удовольствий. Он ни к чему не относится всерьёз. Когда в четвертом действии комедии Дон Луис принимается поносить сына и взывать к его совести, то в ответ слышит: «Вы бы сели».
Дон Луис в негодовании от таких слов сына: корнелевский герой может произносить свои монологи только стоя. Но это «вы бы сели» подчеркивает, что слова отца для Дон Жуана ничего не значат.
Дон Жуан исповедует известный ренессансный принцип «делаю, что хочу», но только понимает его совершенно буквально.
Он живёт лишь настоящим мгновением, не знает ни прошлого, ни будущего. Известно, что у Пушкина был «донжуанский» список женщин, с которыми он был близок. А герой Мольера не мог бы составить подобный список по одной простой причине – он их просто не помнит. Дон Жуан не помнит прошлого, не помнит, что было минуту назад. Но для него не существует и будущего, и поэтому он не знает страха. Это – единственное качество дворянина, которое в нём ещё присутствует. Дон Жуан – бесстрашен. Но что такое настоящее мгновение, в котором он живёт? Паскалю принадлежит известный парадокс о времени, который объясняет суть мироощущения Дон Жуана. «Прошлого уже нет, будущего ещё нет, настоящее – это нулевая точка между тем, чего уже нет и тем, чего ещё нет». Дон Жуан живёт этой нулевой точкой. Единственное, во что он верит, – это «два плюс два равно четыре», признает только одно действие – сложение. Он складывает. Но складывает – нули…
У Дон Жуана есть одна особенность – он блистательный актер мольеровского театра. Это важное его качество. Тартюф играет плохо, достаточно грубо, а Дон Жуан – великолепный актёр, потому что он одновременно и искренен и притворен. Он вживается в свою роль и в то же время дистанцируется от неё. Соблазняя женщину, в эту самую минуту Дон Жуан верит, что любит, хотя знает, что это игра и через минуту он её оставит. Как настоящий артист, он поглощён игрой и одновременно смотрит на своё исполнение отстраненно. Второе действие целиком – комическое. Дон Жуан жаждет свободы, но живёт в мире, в котором свободы нет. Поэтому у него психология, которая, кстати, присуща и Тартюфу. Почему Тартюфа так влечёт Эльмира? Потому что только запретный плод сладок. Дон Жуан и Тартюф живут в обществе, где действуют сплошные запреты.
Дон Жуан не может вынести никаких ограничений. К примеру, встретил крестьянку Шарлоту. У неё был жених, но Дон Жуана это не остановило. Он соблазняет Шарлоту, обещает жениться. Но тут же появляется другая крестьянка… И вот уже обе держат его за руки и требуют своё.
Кстати, комичность образа Дон Жуана ещё и в том, что почти во всех сценах пьесы Мольера мы видим героя ускользающим от женщин. Здесь довольно ясно это представлено: Мольер выстраивает ситуацию, в которой одно мгновение словно наслаивается на другое. Герой каждый раз бывает искренен, но в то же время он не может перестать быть Дон Жуаном. Всеми героями Мольера владеет какая-то страсть. Страсть Дон Жуана – соблазнять женщин, и он не может без этого. Такова особенность мольеровского героя.
Третье действие комедии – поворотное. Здесь проиходит первое поражение Дон Жуана: его встреча с нищим. Дон Жуан, как всегда, соблазняет. В данном случае он пытается соблазнить нищего. Говорит: побогохульствуй и получишь луидор, а тот отказывается. Дон Жуану это кажется невероятным. Сам он ни во что не верит. Даже когда позже происходит его встреча со статуей и каменная статуя оживает на его глазах, это не вызывает у него никакого удивления. А вот нищий, отказавшийся от луидора, – это для него чудо.
В четвертом действии прошлое точно настигает Дон Жуана, угрожающе надвигается на него со всех сторон. Сначала появляется торговец Диманш, требуя вернуть взятое у него в долг. А Дон Жуан не помнит долгов. Для него вообще не существует прошлого. Какие долги? Затем приходит Эльвира, его первая жена. За ней – отец. И наконец является статуя Командора. В ответ на приглашение Дон Жуана, статуя сама зовет его на ужин. И вот, казалось бы, совершается невероятное – статуя двинулась с места. Но Дон Жуана ничто не способно поколебать. Даже чудо не может заставить его измениться.
Но всё же Дон Жуан меняет образ своего поведения, и в этом суть пятого действия комедии… Встретившись с отцом, он говорит, что многое осознал и теперь, кажется, стал другим. Отец верит в эту внутреннюю перемену, но Дон Жуан тут же украдкой признаётся слуге Сганарелю: «Я рад, что есть свидетель, которому я могу открыть свою душу и истинные побуждения, заставляющие меня действовать так или иначе». (Действие пятое. Явление первое).
На самом деле он лишь надевает на себя маску. «Лицемерие – модный порок, а все модные пороки сходят за добродетели. Роль человека добрых правил – лучшая из всех ролей, какие только можно сыграть. В наше время лицемерие имеет громадные преимущества. Благодаря этому искусству обман всегда в почете: даже если его раскроют, всё равно никто не посмеет сказать против него ни единого слова. Все другие человеческие пороки подлежат критике, каждый волен открыто нападать на них, но лицемерие – это порок, пользующийся особыми льготами, оно собственной рукой всем затыкает рот и преспокойно пользуется полнейшей безнаказанностью. Притворство сплачивает воедино тех, кто связан круговой порукой лицемерия. Заденешь одного – на тебя обрушатся все, а те, что поступают заведомо честно и в чьей искренности не приходится сомневаться, остаются в дураках: по своему простодушию они попадаются на удочку к этим кривлякам и помогают им обделывать дела. Ты не представляешь себе, сколько я знаю таких людей, которые подобными хитростями ловко загладили грехи своей молодости, укрылись за плащом религии, как за щитом, и, облачившись в этот почтенный наряд, добились права быть самыми дурными людьми на свете. Пусть козни их известны, пусть все знают, кто они такие, всё равно они не лишаются доверия: стоит им разок-другой склонить голову, сокрушенно вздохнуть или закатить глаза – и вот уже все улажено, что бы они ни натворили. Под эту благодатную сень я и хочу укрыться, чтобы действовать в полной безопасности. От моих милых привычек я не откажусь, но я буду таиться от света и развлекаться потихоньку. А если меня накроют, я палец о палец не ударю: вся шайка вступится за меня и защитит от кого бы то ни было. Словом, это лучший способ делать безнаказанно всё, что хочешь. Я стану судьей чужих поступков, обо всех буду плохо отзываться, а хорошего мнения буду только о самом себе. Если кто хоть чуть-чуть меня заденет, я уже вовек этого не прощу и затаю в душе неутолимую ненависть. Я возьму на себя роль блюстителя небесных законов и под этим благовидным предлогом буду теснить своих врагов, обвиню их в безбожии и сумею натравить на них усердствующих простаков, а те, не разобрав, в чём дело, будут их поносить перед всем светом, осыплют их оскорблениями и, опираясь на свою тайную власть, открыто вынесут им приговор». (Действие пятое. Явление первое).
Итак, Дон Жуан к финалу комедии превращается в Тартюфа. На самом деле он и не думал меняться, а лишь меняет форму своего поведения. Кстати, Тартюф тоже вёл себя как Дон Жуан по отношению к Эльвире, но это не значит, что герои тождественны. «Лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели». Именно такую дань Дон Жуан и решил заплатить. Общество требует видимости нравственности, оно не может простить Дон Жуану неприкрытости его поведения. Но теперь он становится как все, и то обаяние, которое в нём присутствовало, исчезает. Он был хоть и безнравственный, но внутренне непритворный человек. Теперь он, как и все, надел маску лицемерия. Но Дон Жуан носит её цинично, а не так, как Тартюф. Тартюф не может скинуть маску, а здесь мы видим, как Дон Жуан её примеряет. Приходит брат Эльвиры и говорит, что та уходит в монастырь, «ведь честь наша требует, чтобы она жила с вами». А что скажет ему Дон Жуан?
Дон Жуан. Уверяю вас, это невозможно. Я, со своей стороны, об этом только и мечтал и ещё сегодня спрашивал у неба совета, но тут же услышал голос, возвестивший мне, что я не должен помышлять о вашей сестре и что с нею вместе я, наверное, не спасу свою душу.
Дон Карлос. Неужели, Дон Жуан, вы надеетесь обмануть нас подобными отговорками?
Дон Жуан. Я повинуюсь голосу неба.
Дон Карлос. И вы хотите, чтобы я удовлетворился вашими речами?
Дон Жуан. Так хочет небо.
Дон Карлос. Значит, вы похитили мою сестру из монастыря только для того, чтобы потом её бросить?
Дон Жуан. Такова воля неба.
Дон Карлос. И мы потерпим такой позор в нашей семье?
Дон Жуан. Спрашивайте с неба.
Дон Карлос. Да что же это наконец? Всё небо да небо!
(Действие пятое. Явление третье)
Дон Жуан, конечно же, говорит всё это не всерьез, но он знает, что никто против «воли неба» возражать не станет. Теперь он может действовать безнаказанно.
И вот развязка. В финале мольеровской комедии, как известно, появляется статуя командора. Раздается раскат грома, сверкают молнии, земля разверзается и поглощает Дон Жуана, а из пропасти, в которой только что, на глазах зрителя, исчез главный герой, вырываются языки пламени. Но комедия завершается репликой Сганареля: «Ах, моё жалованье, моё жалованье! (Действие пятое. Явление седьмое).
В чём смысл этой заключительной тирады Сганареля? Первый, самый простой: она вызывает смех. Это последняя реакция зрительного зала, ведь перед нами комедия. Она открывается словами Сганареля о табаке, которые вызывают смех зрителей, и завершается подобной же репликой о жаловании. Иначе люди могли бы принять всё происходящее всерьёз. Герой проваливается в преисподнюю – это мало похоже на комедию.
Однако сцена имеет и более глубокий смысл. В финале «Тартюфа», чтобы восстановить справедливость, в события вмешивался король, а здесь Дон Жуан надевает маску лицемера, и уже никакая сила, кроме всемогущего бога, не смогла бы ему помешать. Но что говорит Сганарель? «Смерть Дон Жуана всем на руку. Разгневанное небо, попранные законы, соблазненные девушки, опозоренные семьи, оскорбленные родители, погубленные женщины, мужья, доведённые до крайности, – все, все довольны. Не повезло только мне». Любой мог бы так сказать: другие довольны, а я – нет. Эти слова произносятся не только от лица Сганареля, но и от лица каждого зрителя в зале.
Ещё после монолога Дон Жуана о лицемерии Сганарель скажет, что не может больше терпеть: «Делайте со мной всё, что угодно: колотите меня, осыпайте ударами, убейте, если хотите, но я должен выложить всё, что у меня на душе, и, как верный слуга, высказать вам всё, что считаю нужным. Было бы вам известно, сударь: повадился кувшин по воду ходить – там ему и голову сломить, и, как превосходно говорит один писатель, не знаю только какой, человек в этом мире – что птица на ветке; ветка держится за дерево; кто держится за дерево, тот следует хорошим советам; хорошие советы дороже хороших речей; хорошие речи говорят при дворе; при дворе находятся придворные; придворные подражают моде; мода происходит от воображения; воображение есть способность души; душа – это то, что даёт нам жизнь; жизнь кончается смертью; смерть заставляет нас думать о небе; небо находится над землей; земля – это не то, что море; на море бывают бури; бури треплют корабль; кораблю нужен добрый кормчий; добрый кормчий благоразумен; благоразумия лишены молодые люди; молодые люди должны слушаться стариков; старики любят богатство; богатство делает людей богатыми; богатые – это не то, что бедные; бедные терпят нужду; нужде закон не писан; кому закон не писан, тот живёт как скотина, а значит, вы попадёте к чертям в пекло». (Действие пятое. Явление второе).
Сганарель, кажется, всё предвидел заранее. Обратите внимание: у него каждая фраза начинается с конца предыдущей, логики в его речи – никакой. Последняя реплика как бы подводит итог всей комедии в целом.
Сганарель играет важную роль. Это один из наиболее ярких образов слуги в комедиях Мольера и в мировой литературе вообще. Дело в том, что подобная ситуация была представлена еще в новоаттической комедии и характерна для многих пьес Мольера: слуга, человек здравого смысла, помогает господину спуститься с небес на землю и в конце концов приводит события к счастливой развязке. Но здесь всё иначе. На протяжении всей комедии Сганарель тщетно пытается увещевать Дон Жуана, но тот к его советам не прислушивается. Да и у Сганареля никакого почтения к своему господину нет. Он откровенно его побаивается. Порой даже готов помочь угодившим в его сети женщинам, открыть им глаза на реальное положение дел, но, видя Дон Жуана, робеет. И только в финале комедии Сганарель осмеливается наконец высказать всё до конца. Но о чём он в этот момент сожалеет? Только о своем жаловании и ни о чём другом: «Ах, моё жалование, моё жалованье». Однако Дон Жуан и здесь сумел ускользнуть.
Литературная пара Дон Жуан – Сганарель в каком-то смысле завершает тему «слуга-господин». Герой Сервантеса Санчо Панса до конца оставался верен своему рыцарю Дон Кихоту, видел в нём образец человека и, потеряв, искренне его оплакивал. А здесь слуга к своему господину не испытывает ничего, кроме страха.
На следующем этапе слуга вступит в противоборство со своим господином Это будет комедия Бомарше «Женитьба Фигаро»…
Культура XVIII века
тесно связана с культурой предшествующего XVII столетия, их часто рассматривают как единое целое. Она тоже проникнута духом рационализма: XVIII век не случайно называют веком Разума.
И в то же время культура XVIII века иная. Рационализм Декарта, Спинозы, Лейбница был невозможен без идеи Бога. Творец – это гарантия рационально устроенного мира. Идеальный мир воспринимается как нечто объективно существующее, как духовная сущность Вселенной. Поэтому общие понятия реальнее, чем единичные предметы. Для XVII века характерно господство целого над частным, родового над индивидуальным, вечного над временным, cogito над sum. Понятие долга, ответственности перед целым (родиной, семьей и т.д.) – важнейшая категория XVII века.
Исходный пункт XVIII века – не целое, а изолированный индивид. Такова новая точка отсчета. За этим стоит новое мироощущение, новая модель массового сознания. Идея робинзонады пронизывает не только литературу, но и политическую экономию и философию XVIII века. Полемизируя с идеей Декарта, Локк утверждал, что в уме нет ничего, чего не было бы в чувствах. Наше сознание, учил он, – чистый лист бумаги (tabula rasa), и всё, что мы знаем, – результат нашего индивидуального опыта. Реальностью обладают индивиды, отдельные предметы, а общие понятия – плод абстракции, результат деятельности ума, который комбинирует простые идеи, полученные от первоначальных ощущений. Так возникают такие понятия, как целое, пространство, время, причина, необходимость, свобода.
Различие между XVIII и XVII веками ярко выступает в их отношении к языку. И Декарт и Лейбниц убеждены в том, что язык – средство выражения мысли, и представление, что у животных есть какие-то формы языка, является ложным. Восклицания и жесты животных связаны, считал Декарт, с определенными импульсами, а человеческая речь свободна и независима. По его убеждению, у животных нет языка и не нужно смешивать речь с естественными движениями, которые выражают страсти. «Разумная душа ни в коем случае не может быть продуктом материальной силы, она непременно должна быть сотворена. Когда знаешь, сколь эти души различны (душа человека и животного), понимаешь гораздо лучше те доводы, которые доказывают, что наша душа имеет природу, совершенно независимую от тела, и, следовательно, не подверженную смерти вместе с ним». Лейбниц тоже убежден, что душа и тело живут по разным законам.
Напротив, XVIII век считает, что язык развивается из непроизвольных возгласов и жестов, свойственных и животным. Язык рождается из страстей, и первые слова – междометия. На этом строятся языковые теории Кондильяка и Руссо. XVII век исходит из противопоставления Разума и Природы, а XVIII век – из их единства, он ищет основу разумного и духовного в природе, в естественном. Всё это определяет новые черты культуры XVIII столетия. Прежде всего это идея права. Локк формулирует три важнейших права человека: право на жизнь, право на собственность и право на свободу. Это естественные права, данные человеку самой природой. И роль государства, основанного на общественном договоре, – охрана этих прав. Впервые государство начинает рассматриваться не как средство ограничения свободы, а как условие её сохранения и расширения.
Принцип права является важнейшим для всей культуры XVIII века, который завершился Декларацией прав человека и гражданина, принятой в эпоху Великой французской революции. Там сказано: «Забвение или презрение прав человека и гражданина суть единственная причина бедствий и испорченности правительства».
Идея права определяет и характер рационализма XVIII века. Следовать разуму для XVII века – долг (разум – абсолютная, высшая духовная инстанция), а для XVIII – право: право действовать на основе собственного разумения.
Не менее важно другое: XVIII век хочет верить, что разумное и естественное не противоречат друг другу, пытается примирить разум и природу. Эти попытки не всегда приводили к отказу от идеи Бога. Важным направлением философской мысли XVIII века был деизм. Деисты признавали существование Бога как высшего верховного разумного существа, которое сообщило материи некое упорядоченное движение, но дальше не вмешивалось в судьбы мира. Деисты отрицали бессмертие души и признавали существование только нашего посюстороннего мира. Французские материалисты, в частности Гольбах, справедливо критиковали деизм за внутреннюю непоследовательность. Религии нет без тайны, веры и авторитета, и она несовместима с рационализмом XVIII века, провозгласившим принцип – всё подвергать сомнению и не признавать никаких авторитетов, кроме собственного разума. Поэтому вполне закономерен путь многих мыслителей XVIII века от деизма к скептицизму и атеизму. Пушкин писал о Дидро: «То чтитель промысла, то скептик, то безбожник». Эти слова могли бы быть отнесены и к Вольтеру, французскому писателю, философу, историку, члену Французской академии. Взор людей XVIII века обращён не к небу, а к земле, и высшая ценность для них – счастье. Законы природы не противоречат законам разума, и, чтобы быть счастливым, надо следовать своим естественным влечениям, соблюдая необходимые разумные нравственные нормы. Обращаясь к Юсупову в стихотворении «К Вельможе», Пушкин писал:
Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живёшь. Свой долгий ясный век
Ещё ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил;
Чредою шли к тебе забавы и чины.
Описанный Пушкиным тип вельможи, образованного мудрого эпикурейца, характерен для XVIII века.
Из единства разума и природы делаются и выводы более широкие: если разумные цели, которые ставит перед собой человек, не противоречат естественным законам природы, значит, может быть создан разумный и счастливый общественный порядок. Это главная идея всего Просвещения. Беда, однако, в том, считали просветители, что до сих пор люди руководствовались не разумом, а предрассудками, и от них надо очистить сознание людей. Важно понять, какое содержание вкладывалось в понятие «предрассудок». Предрассудком считалось всё то, что усвоено на основе традиции и авторитета и не подвергнуто критическому суду разума.
«Изучая человека, – писал Вольтер в «Трактате о метафизике», – я старался поставить себя вне круга его интересов, освободиться от всех его предрассудков, порожденных воспитанием, обычаями страны, и в особенности предрассудков философских».
В XVIII веке складывается новый тип культуры, понятой как образованность, т.е. сумма сознательно усвоенных знаний, а не система традиций – чем культура была в прежние времена. Детищем XVIII века явилась Энциклопедия, и во многом она представляет собой модель культуры этого века. Недаром Вольтер был автором «Философского словаря» – энциклопедии, написанной одним человеком. Как ни исключительна разносторонность Вольтера, она для XVIII века явление типичное. Яркий пример – Казанова. Этот Дон Жуан XVIII века владел латинским, греческим, разбирался хорошо в юриспруденции, философии, химии, музыке, живописи. В старости написал «Опыт критики науки и искусства» с массой сведений исторических, философских, естественнонаучных. XVIII век, по мнению Гегеля, – период мыслительного рассудка, стремится всюду вносить разграничения, обособлять отдельные сферы в нечто самостоятельное, устанавливая между ними скорее внешние, чем внутренние связи. Энциклопедия в этом смысле выражает дух века. Но границы между отдельными сферами ещё не отвердели, и переход из одной сферы в другую совершался естественно и свободно, человеческий ум был ещё способен воспринять каждую из них как особую форму своей духовной деятельности. Поэтому не учёный, как в XIX веке, а философ-энциклопедист – характерная фигура XVIII столетия. Образованность предполагает теперь не столько знание текстов, как это было в Средние века и в эпоху Возрождения, сколько знание и понимание слов, научных понятий, как их даёт и объясняет энциклопедический словарь.
Отвергая авторитеты, подвергая всё разрушительной критике, просветительский разум искал опору, некий абсолют, нечто незыблемое в человеческой природе, доброй и разумной, которую можно обнаружить путем вычитания всех социальных, национальных, исторических и индивидуальных различий, существующих между людьми. Полученный таким образом единый общечеловеческий субстрат был некой абстракцией, пустотой. Эту сторону культуры XVIII века остро ощутил О. Мандельштам. «Восемнадцатый век, – писал он в своей книге «О поэзии», – похож на озеро с высохшим дном, ни глубины, ни влаги – все подводное оказалось на поверхности. Людям самим было страшно от призрачности и пустоты понятий. La Verite, la Liberte, la Nature, la Deite, а особенно la Vertu вызывает почти обморочное головокружение мысли, как призрачные пустые омуты». И всё же эти абстракции в XVIII веке не были бесплодными аллегориями. По верному слову поэта, они – «почти живые лица и собеседники».
Понятие человека вообще, «естественного человека» играет важную роль в культуре Просвещения. Оно служит нормой, мерилом, позволяющим судить и оценивать различные социальные и исторические формы жизни. Такую роль, например, играет у Свифта образ Гулливера – нулевая норма романа, благодаря которой мы воспринимаем лилипутов и великанов, лапутян и иеху как искажения человеческой природы.
«Этот век, – пишет Мандельштам, – который вынужден был ходить по морскому дну идей, как по паркету, – обернулся веком морали по преимуществу». Пожалуй, никогда не говорили столько о добродетели, как в XVIII веке. Дело в том, что построить здание нравственности без опоры на традиции, исходя из права человека на счастье, практически невозможно, и потому ничего не оставалось, как проповедовать. «Человеческая мысль, – говорит Мандельштам, – задыхалась от обилия непреложных истин и однако не находила себе покоя. Так как, очевидно, все они оказались недостаточно действенными, приходилось без устали повторять их».
Важной особенностью культуры XVIII века является не только её полная секуляризация, но и деэтизация. Она становится силой, независимой от государства, и приобретает как бы экстерриториальность. В этом смысле очень показательна личность Франсуа Вольтера, которому удалось добиться этой экстерриториальности, когда, переехав в городок Ферне, расположенный на границе Франции и Швейцарии, он впервые почувствовал себя независимым и свободным. Ферне становится местом паломничества, духовной столицей Европы.
Возникает новая сила – европейское общественное мнение, или, как говорили в XVIII веке, новая держава, во главе с Вольтером (псевдоним Мари Франсуа Аруэ, 1694-1778).
С этой силой вынуждены были считаться европейские монархи. Прусский король Фридрих II, русская императрица Екатерина II, шведский король Густав III и другие вели переписку с Вольтером, добивались его расположения. Настоящим триумфом был приезд Вольтера в Париж в феврале 1778 года, незадолго до его кончины. Фонвизин, который находился в эти дни в Париже, писал графу Панину, что приезд Вольтера в Париж подобен сошествию божества на землю, и, если бы Вольтер захотел преподать современникам новую религию, все бы обратились к ней. Вольтер стал символом независимости мысли и слова, не признающих над собой никаких авторитетов, кроме разума, таланта и справедливости.
Важнейшее место в культуре XVIII века занимает искусство. Оно было прообразом той гармонии искусственного и естественного, культуры и природы, к которой стремился XVIII век. Эстетика как философская дисциплина начинается, собственно, только теперь. XVIII век – первый век эстетики и последний век классицизма, его закатный час.
Что привлекало просветителей в классицизме? Им казались близкими выраженная в классицизме позиция художника, сознательно относящегося к миру и к самому себе, способного действовать на рациональных основах, а также взгляд на искусство как на создание искусственное, творение человеческого духа. Источником прекрасного является форма, в которой выступает разумная творческая воля автора, торжествующая над грубой материей. В художнике ценится артистизм, способность преодолевать трудности, систему ограничений, накладываемых на него эстетическими законами, установленными правилами. Вольтер считал, что никогда не существовало искусства, которое не ценилось бы сообразно с его трудностями… Недаром греки поместили муз на вершину Парнаса. Но просветители пытались снять дуализм разума и природы, присущий эстетике классицизма XVII века. Искусство должно походить на природу. «Прекрасно только то, что естественно», – утверждает Вольтер, отдавая себе ясный отчёт в том, что естественность художественного произведения – всего лишь эстетическая иллюзия, только видимость, и достигается она неустанным трудом, виртуозным мастерством, строгим соблюдением правил. Эта двойственная природа «искусственной естественности» определяет и двоякое её восприятие.
В эстетике XVIII века важнейшее значение приобретает категория вкуса. Вкус – это воспитанное культурой понимание красоты и одновременно непосредственное чувство. «Вкусу мало понимать красоту произведения, – говорит Вольтер, – ему необходимо эту красоту почувствовать». Будучи непосредственным чувством, вкус одновременно аналитичен, это умение отделить сильное от слабого, разбираться в оттенках. Вкус – это чувство, пронизанное мыслью; в нём соприкасаются природа и культура, искусственное и естественное, он своеобразный посредник между ними. Поскольку создается видимость естественности, публика поддается художественной иллюзии и захвачена жизненным содержанием произведения искусства, но истинные ценители, люди, обладающие вкусом, понимают, что жизненность – это только видимость, и ценят в художнике мастерство, виртуозность, способность преодолеть любые ограничения и казаться естественным и свободным. При этом оба плана не исключают друг друга, а присутствуют одновременно, создавая особый художественный эффект.
Проблема вкуса занимает важное место и в эстетике Дидро. Гениальность, утверждает Дидро, – это особый дар, позволяющий непосредственно, интуитивно видеть целое, гений бросает на природу общий взгляд и проникает в её бездны, переживая особое чувство озарения. Но чтобы создать картину, дающую иллюзию реальности, требуется уже не природная одаренность, а вкус. Развитый вкус – плод культуры, результат опыта и труда многих поколений; он требует знания правил предшествующей художественной традиции. Только он способен придать произведению гармоническую завершенность, ибо солнце, что светит на полотне, не то, что светит в небе, и художнику, по словам Дидро, приходится повернуться к природе спиной, следуя системе установленных правил. Гармония гения и вкуса, природы и культуры – таков идеал Дидро. Но гармония эта крайне неустойчива, она всегда «на лезвии бритвы». «Существует лишь один счастливый миг, когда человек обладает вдохновением и свободой, чтобы быть пламенным, и обладает пониманием и вкусом, достаточными для того, чтобы быть мудрым». Искусство требует пыла и одновременно холода, оно должно походить на природу и в то же время отличаться от неё. Особый эффект картин Шардена Дидро усматривает в том, что вблизи они производят впечатление беспорядочного нагромождения красок, но стоит отступить хотя бы на шаг, и они поражают до иллюзии точным воспроизведением натуры.
Другая важная сторона классицизма XVIII века – это отношение к Античности. Вся культура от Ренессанса до XIX века воспринимает Античность как эстетическую норму, что позволяет рассматривать весь период как единый классический век. Разумеется, на протяжении этого большого периода европейская культура претерпела существенные изменения, и на каждом её большом этапе (Ренессанс, XVII век, Просвещение) Античность осмыслялась и переосмыслялась по-новому. Новое отношение было подготовлено «Спором о древних и новых», в ходе которого сложилась отличающаяся от классического канона концепция Античности не как идеального зеркала, а как контраста современной цивилизации, как олицетворения природы, естественности и простоты. Вольтер усматривает связь, родство греческого театра шекспировскому, в котором «природа говорит собственным языком без всякой примеси искусства». «Греки, – писал он, – имели смелость изображать сцены, не менее отталкивающие. Ипполит, разбившись о скалы, считает свои раны и издает крики боли. Филоктет корчится в муках, и черная кровь течет из его язвы. Эдип, выколовший себе глаза и запятнанный кровью, которая каплет из его глазниц, сетует на богов и людей». «Я никогда не устану твердить нашим французам, – пишет Дидро, – Правда! Природа! Древние! Софокл! Филоктет! Поэт показал его на сцене в рваных лохмотьях, лежащим у входа в пещеру. Он катится по земле. Его терзает боль. Он кричит. Издает нечленораздельные звуки». Однако и у Вольтера, и у Дидро отношение к Античности претерпело известную эволюцию. В искусстве древних их начинает привлекать не смелость в изображении раскованных страстей и неприкрытых страданий, а идеальное начало, заложенное в природе как неосуществленная, но заключенная в ней потенция. Вольтер писал: «Истина едина, древние постигли её, потому что они стремились лишь к верности природе, – и далее: – Нельзя отдаляться от древних, не отдаляясь вместе с тем от природы». В этом двойственном отношении к античности проявились противоречия просвещенного вкуса: художественное произведение должно восприниматься одновременно как природа, т.е. нечто естественное, и вместе с тем искусственное, идеальное.
И последнее. Начавшаяся с XVI века секуляризация культуры сопровождалась её отрывом от народной массы, которая продолжала жить старинными представлениями и религиозными верованиями. Стремясь преодолеть этот разрыв, просветители считали необходимым учить, образовывать, просвещать народ, но мысль, что у народа можно учиться, искать у него правду нравственную и художественную, как это будет присуще людям романтической эпохи, им была ещё совершенно чужда. Аристократизм для них входил в само понятие культуры, идеал которой должен быть высок и труден, и классицизм с его системой строгих ограничений и недопущением эмпирической реальности был конститутивным принципом этой культуры.
XVIII век – закат классицизма и начало новой эпохи романа в том широком значении, которое придавал этому понятию М. Бахтин, считавший рождение романа «грандиозным переворотом в творческом сознании человека»: художественный образ впервые начинает строиться в зоне непосредственного контакта с незавершенной реальной действительностью, не получившей ни словесного, ни какого-либо иного оформления.
Вера просветителей в достижимость гармонии между цивилизацией и природой, разумным и естественным находилась в противоречии с реальным ходом вещей, и самые значительные художественные достижения литературы XVIII века возникли там, где обнажалось это противоречие и ощущалось напряжение противоположных полюсов. Таков, например, «Кандид» Вольтера – книга, где противоречие логики разума и жизни определяет саму художественную структуру. Ирония Вольтера обоюдоострая: она над действительностью, к которой не приложимы законы разума, она и над идеей, поскольку та не находит опоры в самой действительности.
Проблема соотношения идеального и реального – предмет постоянных раздумий Дидро. В этом смысле интерес представляет его диалог «Парадокс об актере» и роман «Жак-фаталист», который часто называют парадоксом о романе. Лейтмотив диалога: театр и жизнь – два несоизмеримых мира. Театр – мир идеальный, упорядоченный, где царит ясная и осязаемая связь, разумная воля художника, где нет ничего случайного, где каждое слово, жест, интонация полны значения и смысла. Это определяет и взгляд Дидро на природу актёрского исполнения: никакое вживание в роль невозможно, от актёра требуется не чувствительность, а рассудочность, не пыл, а холод, не жизнь на сцене, а сознательная игра. За противопоставлением театра и жизни скрывается оппозиция культуры и природы, а сам актёр, который, по словам Дидро, одновременно всё и ничто, и именно потому, что он ничто, он может быть всем, становится образом, моделью освобожденного от предрассудков просвещённого сознания человека XVIII века. Для него сама культура выступает как образованность, т.е. сумма сознательно усвоенных знаний. Обладать таким просвещённым сознанием значит быть способным возвыситься над самим собой, играть сознательно любые общественные роли, не совпадая ни с одной из них: недаром Дидро уподобляет спектакль хорошо организованному обществу, а актёра – идеальному гражданину.
Тема «Жака-фаталиста» та же, что и «Парадокса об актёре», – несоизмеримость двух миров – искусства и жизни, но решается она иначе. В «Парадоксе об актёре» речь идёт о том, как должна преобразиться человеческая индивидуальность актёра, чтобы передать условную и идеальную правду театра, а в «Жаке-фаталисте» – о том, как должен преобразиться язык искусства, чтобы адекватно изобразить правду жизни. Дидро стремится показать, как далеко читательское представление о правдоподобии от действительной правды жизни. Рассказ Жака кажется неправдоподобным. Но так было на самом деле. Ничего не поделаешь, если сама жизнь так странна и алогична… Но ведь всё дело в том, что роман – вымысел, и сам отказ от правдоподобия – сознательно избранный приём. Можно ли писать правду? Сам наш язык, считает Дидро, – это система условных знаков, не способных не только передать мир наших чувств, но и быть адекватным выражением нашей мысли. Что же говорить об искусстве, в котором царит воля художника, подчиняющая себе жизненный материал? Приближение к жизненной правде, по убеждению Дидро (в этом он предвосхищает XX век), может быть достигнуто только сознательным разрушением правдоподобия, демонстративным отказом создать художественную вселенную, где все знаки были бы полны смысла и прозрачны для нашего сознания. Художественные условности – только сетка, сквозь которую мы смотрим на жизнь, и её нужно разрушать (а разрушить её нельзя), чтобы соприкоснуться с истиной.
Принцип художественной иллюзии был неотделим от великой иллюзии века – веры в то, что нравственные цели, которые ставит пред собой человек, совпадают с естественными законами бытия, и принцип этот полон внутреннего смысла до тех пор, покуда эта вера жива.
Сентиментализм –
художественное направление середины и второй половины XVIII века, заключительный этап европейского Просвещения. Зародившись в Англии, сентиментализм (собственно, само название связано с произведением английского писателя Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие»), проявился и в других странах, прежде всего – во Франции и в России, где он просуществовал до начала ХIХ века (напомню, выдающимся представителем сентиментализма в русской литературе был Н. М. Карамзин).
В отличие от классицизма, считавшего основой человеческой природы разум, сентиментализм отводил ведущую роль чувствам, душевной жизни человека. Однако было бы неправильным сводить сентиментализм к тому, что мы сегодня называем сентиментальностью.
На протяжении всего XVII и в XVIII веке с понятием чувства был связан целый комплекс различных смыслов. Как известно, в драме классицизма и вообще в искусстве эпохи чувство противостояло разуму. Разум и чувства воспринимались как полюса. Кроме того, с понятием разума связывалось понятие цивилизации. Культура – это то, на чём лежит печать человеческого разума и воли. С чувством же, напротив, соотносилось представление о природном. Может быть, самое главное в сентиментализме – это противопоставление природы и цивилизации. С понятием разума, напомню, было связано также понятие долга перед обществом, перед государством. Разум – это нечто всеобщее, подчиняющееся неким универсальным законам, во всяком случае, так мыслили рационалисты XVII-XVIII веков, а чувство – нечто индивидуальное, поэтому противопоставление разума и чувства – это противопоставление индивидуального и всеобщего.
Но есть ещё один важный момент. С разумом была связана культура, носителем которой являлся образованный, просвещённый слой общества. Народ оставался вне просвещения, но обладал, тем не менее, своей собственной, особой культурой и собственной истиной. Таков в самых общих чертах этот условный комплекс представлений, связанных с понятием чувства…
Самым ярким представителем европейского сентиментализма был французский писатель и философ Жан-Жак Руссо. Не случайно само литературное направление именуется также руссоизом. Руссо родился в 1712, умер в 1778 году. Вообще, биография Руссо изложена достаточно подробно в его «Исповеди». Отмечу лишь некоторые факты, наиболее важные для понимания его творчества. Руссо родился в Женеве. Его предки были французскими эмигрантами: когда во Франции начались преследования протестантов, как и многие французы-протестанты, они уехали в Швейцарию. Отец Руссо был часовщиком, мать, внучка женевского пастора, умерла при родах. Руссо не получил систематического начального образования. Нехватка знаний восполнялась воображением и тонкой чувствительностью. «Чувствовать я начал, – вспоминал позже сам Руссо, – прежде, чем мыслить». Довольно рано научившись читать, он зачитывался всевозможными романами, любил поэмы Овидия, «Жизнеописания великих людей» Плутарха. Однажды, представив себя легендарным римским героем Сцеволой, даже обжегся над жаровней (по преданию, отважный юный патриций, схваченный в стане противника, на глазах у грозивших ему пытками сам положил руку на пылающий алтарь). Литература, в особенности античная, во многом сформировала взгляды Руссо. Подростком он был отдан в протестантский пансион, побывал в учениках у нотариуса, подмастерьем у гравера. Из-за своего пристрастия к чтению, не расставаясь с книгой даже за работой, Руссо не раз попадал в сложные ситуации. В конце концов суровое обращение хозяина заставило шестнадцатилетнего Руссо бежать из родного города…
Да и в дальнейшем ему нередко приходилось претерпевать нужду, скитаться. Руссо служил лакеем, воспитателем, домашним секретарем. Оказавшись в Савойе, Руссо познакомился с привлекательной молодой вдовой из старинного дворянского рода. Госпожа де Варанс оказала значительное влияние на всю его последующую жизнь. Новообращенная католичка, пользовавшаяся покровительством церкви, она убедила Руссо принять католичество и поступить в монастырь, где обучали прозелитов, а позже – в хоровое училище. В этот период Руссо фактически занимался лишь музыкой. Он считал себя музыкантом: некоторые его ранние музыкальные сочинения опубликованы, но такие произведения может писать каждый. В силу целого ряда причин Руссо расстался с госпожой де Варанс и отправился во Францию, намереваясь добиться успеха благодаря придуманной им реформе нотной записи. Тридцатилетний Руссо приезжает в Париж, чтобы предложить ее на рассмотрение академиков.
XVIII век вообще был веком прожектеров, и Руссо здесь не стал исключением. Однако его проект не имел никакого успеха и практически этой системой нотной записи никто никогда не пользовался. Во Франции Руссо зарабатывал на жизнь уроками музыки. В защиту своих идей он издал «Рассуждения о современной музыке», тогда же им была написана опера «Галантные музы», которая принесла наконец некоторую известность. К этому времени относится и его знакомство с Дени Дидро. Это был ранний период творчества философа, когда он еще только собирался приступить к изданию своей знаменитой «Энциклопедии».
Летом 1749 года Руссо навещал Дидро, который находился в заключении в Венсенском замке за свое «Письмо о слепых в назидание зрячим». Однажды Руссо взял с собою в дорогу свежую газету и, пробегая страницы на ходу, натолкнулся на сообщение. Объявлялся конкурс сочинений на тему «Способствовало ли развитие наук и искусств порче нравов, или же оно содействовало улучшению их?». Насколько это достоверно – неизвестно, но Руссо утверждал, что именно в этот момент его осенила идея трактата. «Как только я прочел это,– пишет Руссо,– передо мной открылся новый мир, и я стал другим человеком». Он написал работу и получил за нее свою первую награду – премию Дижонской Академии (1750 г.). С этого рубежа, собственно, начинается деятельность Руссо-писателя. Правда, существует и другая версия, ее высказывали недоброжелатели Руссо, считавшие, что идею трактата ему якобы подсказал Дидро. Но есть свидетельство самого Дидро, утверждавшего, что идея принадлежит Руссо, а он лишь её одобрил.
Итак, первый трактат Руссо. Он несколько расширил заданную тематику. По условиям конкурса речь должна была идти об эпохе Возрождения, а Руссо задался вопросом: способствовало ли вообще развитие наук и искусств улучшению нравов. И ответил на этот вопрос отрицательно: «Приливы и отливы воды в океане не строже подчинены движению ночного светила, чем судьба нравов и добропорядочности – успехам наук и искусств. По мерс того как они озаряют наш небосклон, исчезает добродетель, и это явление наблюдается во все времена и во всех странах». (343)
Руссо, правда, подчеркивал: "Не науку оскорбляю я, а защищаю добродетель перед добродетельными людьми, которым дороже честность, чем учёным образованность". Он не отрицает, что прогресс существует, но люди, по его мнению, в ходе исторического развития не становятся лучше, ибо прогресс связан с разумом, а источником добра являются чувства. Величие человека – в его нравственном достоинстве. Источником нравственного чувства является не разум, а сердце. Науки же на сердце, считал Руссо, никак не влияют. Главное, что составляет сущностную особенность человека, – это совесть. "Совесть, – восклицает Руссо, – божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос; надежный путеводитель существа несведущего и ограниченного, но мыслящего и свободного; непрегрешимый судья добра и зла»; только это чувство и составляет основу человеческой личности, «делает… подобным Богу». Но совесть не разумна, она не прогрессирует в связи с появлением новых научных знаний и технических открытий.
Подобные утверждения Руссо вызвали полемику. Автора трактата спросили, неужели он и в самом деле полагает, что развитие наук и искусств способствовало ухудшению нравов и что всё зло таится именно в них? Руссо на это ответил: «Я не знаю, в чём источник зла, но знаю, что развитие наук и искусств этому злу способствует…»
«В то время как Правительство и Законы обеспечивают безопасность и благополучие объединившихся людей, Науки, Литература и Искусства – менее деспотичные, но, быть может, более могущественные, – покрывают гирляндами цветов железные цепи, коими опутаны эти люди; подавляют в них чувство той исконной свободы, для которой они, казалось бы, рождены; заставляют их любить своё рабское состояние и превращают их в то, что называется цивилизованными народами». Этот трактат 1750-го года сделал Руссо знаменитым.
А в 55-ом году Руссо написал свой второй трактат, тоже для участия в конкурсе. В нём он дал ответ на вопрос: в чём источник зла? Этот трактат назывался «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми». Руссо попытался проникнуть в противоречия исторического процесса, чтобы понять, «какое сцепление чудес привело к тому, что сильный согласился служить слабому». Здесь, собственно, идеи Руссо сформировались окончательно. По его мнению, наиболее счастливым периодом в истории человечества было естественное состояние, которое Руссо представлял как существование одинокого охотника и рыболова, не знающего общества и цивилизации. Первобытный человек жил в гармонии с природой, находя в ней всё необходимое. Его отличала от животных только свободная воля и способность к самосовершенствованию. Постепенно развиваясь, люди сами подготовили почву для возникновения неравенства. «С тех пор, как одни люди начали плавить и ковать железо,– пишет Руссо,– другие должны были кормить их».
Однако по природе своей человек добр – вот главное заключение Руссо.
Хочу сразу сделать одно уточнение, потому что без этого вообще ничего не понять. Рассуждая о природе, Руссо имеет в виду не биологию. Это у нас сейчас под природой подразумевается прежде всего биологическое в человеке, сближающее его с животным. Руссо же имеет в виду антропологию, а это – человеческая природа. Это не биологический, а антропологический взгляд. Руссо никак не подчеркивает животное начало в человеке. Он считает, что человеческая природа это антропология, а не биология. Конечно, в основе человеческого поведения лежит то, что объединяет его с животным миром, прежде всего – инстинкт самосохранения. Каждое живое существо стремится сохранить себя, это свойственно и животному и человеку.
Исходя из этого положения, английский философ ХVII века Т. Гоббс утверждал, что «естественное состояние» являлось, в сущности, борьбой всех против всех, подтверждавшей принцип «человек человеку волк», и что именно эта «всеобщая борьба», по его выражению, и создала потребность в общественном и государственном устройстве, призванном обуздать столкновения между отдельными индивидуумами. Такова концепция Гоббса.
А Руссо говорит: ничего подобного не было. Конечно, в человеке заложен инстинкт самосохранения. Это так. Но в человеческой природе присутствует и ещё один инстинкт, которого животные лишены – это сострадание. А вот разум убивает подобные чувства. Поэтому не было никакой борьбы всех против всех, сострадание всегда умеряло аппетиты индивида. И лишь выдвижение на первый план разума убило этот изначальный сострадательный инстинкт в человеке. «Право сильного» не находило опоры в естественном состоянии. Главным грехопадением человека, по мнению Руссо, стало появление частной собственности, а значит, и неравенства, с приходом которых понадобились законы и государство. Но если просветители до Руссо склонны были рассматривать частную собственность как результат труда, то для Руссо она – результат захвата. «Первый, кто напал на мысль, огородив участок земли, сказать: «Это моё» – и нашёл людей, достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: «Не слушайте лучше этого обманщика, вы погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля – никому!»
Общество возникло, когда возникла необходимость охранять обретенную индивидом собственность, чтобы предотвратить дальнейший её захват и передел, а в естественном состоянии такого не было. Общество – это зло, по мнению Руссо. Он убежден: сначала возникли законы, потом – государство, и каждый новый этап прогресса цивилизации, которого он не отрицает, был прогрессом неравенства. С развитием цивилизации неравенство лишь росло, и самой ужасной формой его утверждения стало современное государство, в котором вся власть сосредоточилась в распоряжении узкой группы людей, а естественная свобода человека оказалась нарушена. Именно в обществе создается почва для всеобщей «борьбы всех против всех», а не в естественном состоянии. «Как бы вы ни восхищались человеческим обществом, всё же остается несомненная истина, что оно неизбежно заставляет людей ненавидеть друг друга, приводя в столкновение их интересы, заставляет их оказывать друг другу призрачные услуги, причинять возможные несчастья. Что вы должны думать о таком обществе, где разум каждого частного лица подсказывает ему правила, прямо противоположные тем, которые подсказывает коллективный разум, который внушает всему общественному союзу, где каждый видит свою выгоду в несчастье другого. Теперь возникла взаимная зависимость людей друг от друга и люди утратили ту свободу, которую они имели в естественном состоянии».
Руссо считает, что в обществе человек утрачивает свою изначальную целостность, становится человеком-дробью. Внешне он, казалось бы, усиливает свою индивидуальность, а на самом деле он её утрачивает. «Кроме того, естественный человек стремится удовлетворить свои естественные потребности, а общественный ценит неабсолютную, относительную, знаковую сторону вещей. Богачи наслаждаются богатством, потому что народ страдает в нищете, каждый видит свою выгоду в несчастье другого. В обществе человек смотрит на себя и на окружающих чужими глазами. Но когда приходится смотреть чужими глазами, приходится и хотеть чужой волей. Общественный человек как бы живёт в мнении других и из одного этого мнения получает ощущение собственного существования. Место устойчивой морали занимает одна видимость – всё становится притворным, человек начинает носить маску не только с другими, но и перед самим собой».
Выход в свет этого трактата Руссо тоже вызвал полемику. Его упрекали в том, что он зовёт человечество назад, в прошлое. На это Руссо отвечал: «Было бы убийственно, если бы мы теперь отказались от цивилизации и попытались вернуться в естественное состояние. Это – невозможно. Я просто хочу, чтобы люди задумались о том, что они потеряли».
Главный вопрос, на решение которого направлена мысль Руссо: как достичь равновесия, избавиться от той испорченности нравов, которую принесло с собой современное общество? И поскольку Руссо был человеком XVIII века, то должен был дать на него ясный ответ. Таким ответом явился трактат «Об Общественном договоре, или Принципы политического Права» (1762). Руссо заявляет: «Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоянии какой-либо принцип управления, основанного на законах, и надежного, если принимать людей такими, каковы они, а законы – такими, какими они могут быть». (344)
Итак, первая мысль, высказанная Руссо в этом сочинении, заключается в том, что вернуться к естественному состоянию невозможно. Конечно, природа – мать, а общество – мачеха, и никакая мачеха не может заменить мать. Но если мать умерла, то хорошо, когда находится хорошая мачеха. Как наилучшим образом развить общество? Первая проблема здесь – это проблема собственности. Частная собственность является незыблемой основой общественного порядка, но это должна быть собственность, основанная на личном труде человека. В этом смысле идеал Руссо – это крестьянин, который сам обрабатывает участок земли, или ремесленник, который собственноручно производит товары.
Важнейший принцип – равенство. Государство должно таким образом регулировать общественные отношения, чтобы не возникало неравенства среди людей. Руссо был противником парламентской демократии (выражается в том, что граждане участвуют в политике не напрямую, а через своих представителей, депутатов), которая возникла в тот период в Англии и воспринималась большинством французских просветителей как образец общественного устройства. Он выступал за прямую демократию, когда каждый имеет возможность лично участвовать в управлении.
Но дальше возникает самое главное противоречие. Руссо различает волю всех и общую волю. Заключая общественный договор, люди поступаются частью своих суверенных естественных прав в пользу государственной власти, охраняющей эти права и выражающей тем самым их общую волю. Общая воля – это нечто, что выражает единство коллектива, а воля всех – это сумма частных интересов. Поэтому не должно существовать никаких партий. Руссо – противник любых партийных образований, и его не устраивает парламентская демократия. Обществу следует быть подобным живому организму, его законы должны отражать не волю большинства, а ту единую волю, которая составляет основополагающие интересы целого, единого целого. Общество вправе повелевать каждым своим членом так же, как человек имеет право распоряжаться собственными пальцами. Но как эту общую волю установить? Большинство голосов не является отражением общей воли. Мало ли за что проголосуют? В идеале, считает Руссо, хорошо, когда появляется боговдохновлённая личность, способная понять эту общую волю и повести за собой других, указуя путь. Правда, Руссо здесь делает одну существенную оговорку. Он считает, что у такого лидера не должно быть никакой исполнительной власти. Он должен лишь определять цели и устанавливать законы.
Но что такое «общественный договор» в его реальном выражении? Руссо стремился представить некую идеальную модель общества, но, по сути дела, явился создателем модели тоталитарного государства. Никакой иной системы, кроме тоталитарной, на такой основе возникнуть не может. Кстати, это подтвердила Французская революция в период якобинской диктатуры. Подобный путь вел в тупик. Вольтер, полемизируя с Руссо, утверждал, что никакой иной демократии, кроме парламентской, в действительности существовать не может.
Значительных художественных произведений у Руссо два. Роман «Юлия, или Новая Элоиза» (1757-1760) пользовался необычайным успехом у современников, выдержал множество переизданий. Пушкинская Татьяна воображала себя его героиней. Торговцы брали почасовую плату за возможность почитать книгу Руссо.Огромный объем никого не останавливал. Существует история, связанная с именем знаменитого философа Канта. Он славился своей педантичностью. Жители города Кенигсберг, где он жил и преподавал в Университете, сверяли часы по времени его прогулок. И, якобы, только однажды Кант опоздал на лекцию: в тот день он зачитался «Новой Элоизой» Руссо.
Сегодня этот роман кажется устаревшим.
Но вот вторая книга, «Исповедь», над которой Руссо работал в период между 1765 и 1770 гг., и по сей день воспринимается с живым интересом. Она была издана уже после смерти автора.
Вообще, XVIII век стремился к псевдодокументальности. К примеру, «Новая Элоиза» – это роман в письмах, которые пишут друг другу главные герои, Юлия и её возлюбленный Сен-Пре. Этот эпистолярный жанр был введён в культурный обиход Ричардсоном и получил развитие у Руссо. Скажем, «Робинзон Крузо» – это тоже псевдодокументальное повествование: рассказ о событиях в нём ведётся как будто бы от имени самого героя.
Однако «Исповедь» Руссо – не псевдодокументальный роман. Это действительно документальная книга, в которой Руссо рассказывает о самом себе, герой которой – он сам. Автор ничего не выдумывает. Он хочет рассказать правду. Это не псевдодокументальность. Вообще, документальные вещи имеют в этом смысле преимущество, поскольку в них заключена точно сама жизнь, а не конструкции, которые создает автор. «Новая Элоиза» – это конструкция, которую придумал Руссо, а здесь, в «Исповеди», он стремился отразить свою жизнь.
Это не мемуары, хотя Руссо и рассказывает здесь личную историю достаточно подробно и откровенно. В книге действует ряд реальных исторических лиц, многие из которых нам известны: к примеру, Дидро и другие энциклопедисты, с которыми автор сталкивался в действительности. Вообще, Руссо ничего не придумывает в своей книге, но это не мемуары, потому что главная цель мемуаров – рассказать о тех событиях, свидетелем которых был, о людях, которых знал. Центр же романа Руссо – он сам. Это книга о нем самом, о его собственных переживаниях, а другие присутствуют в ней постольку, поскольку как-то влияли на автора.
Прежде всего, это желание рассказать о своём внутреннем мире, поэтому Руссо уточняет: «Я не ручаюсь, я мог ошибиться в фактах, которые я излагаю, может быть, будет опровержение и будет не так, как я описал. Я не ручаюсь, что всё было так, я ручаюсь только за одно – я так переживал. Так что, если какие-то современники будут недовольны, может быть, я что-то наврал, но что касается себя, я говорил правду».
Но перед нами – роман XVIII века, и задача, которую ставил перед собой Руссо, не сводилась к желанию просто рассказать о себе. Вот как начинается его «Исповедь»:
«Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдёт подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы – и этим человеком буду я.
Я один. Я знаю своё сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь.
Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно – я предстану пред Верховным судией с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал её такою, какою ты видел её сам, всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека». (Часть первая. Книга первая). (345)
Руссо обращается к Богу, как и положено в исповеди. Но здесь сразу же обнаруживается главное противоречие, которое составляет особенность этой книги. «Я хочу показать одного человека во всей правде его природы – и этим человеком буду я». Руссо убежден, что рассказать о человеке вообще можно, лишь рассказав о самом себе. Других мы не знаем так, как знаем себя. Обычно мы проецируем собственные переживания на других людей, а если нет, то внутренний мир другого остаётся от нас скрытым. Поэтому Руссо выбрал себя как объект исследования. Он поставил перед собой задачу: рассказать правду о человеке, такова задача художника, но в качестве объекта исследования избрал самого себя. И поэтому для него главное – то, что происходит внутри его собственной личности.
С этим связан ещё один важный момент. Это отбор фактов, событий, которые Руссо изображает в своей книге. Они тоже важны не объективно, а субъективной своей стороной. Например, Руссо описывает одно из своих детских переживаний. Однажды его несправедливо наказали, обвинив в том, что он будто бы сломал гребешок. Наказали не очень серьезно. Но вот как Руссо об этом вспоминает: «И сейчас ещё, когда пишу эти строки, я чувствую, как учащается мой пульс; эти минуты будут всегда у меня в памяти, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Первое ощущение насилия и несправедливости так глубоко запечатлелось в моей душе, что все мысли, связанные с ним, будят во мне и прежнее волнение; и это чувство, в своем истоке относившееся лично ко мне, так упрочилось и так отрешилось от всего личного, что при виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости, над кем бы и где бы ее ни совершили, – моё сердце так горит негодованием, как будто я сам являюсь жертвой. Когда я читаю о жестокостях свирепого тирана, об изощренном коварстве лицемера-священника, я охотно пустился бы в путь, чтобы заколоть этих презренных, хотя бы при этом мне пришлось сто раз погибнуть. Я часто вгонял себя в пот, стараясь догнать или попасть камнем в петуха, корову, собаку, всякое животное, на моих глазах мучившее другое животное единственно потому, что было сильнее. Это чувство, возможно, у меня врожденное, и думаю, что это так; но впечатление от первой несправедливости, испытанной мною, было столь долго и крепко с ним связано, что значительно усилило его». (Часть первая. Книга первая).
Это, может быть, объективно незначительный эпизод, но он был важен для автора. И этот принцип определяет всю структуру книги.
Руссо говорит: «Хочу показать человека во всей правде его природы». Но одновременно всячески подчеркивает свою собственную неповторимую индивидуальность: «Я не похож на других, может быть, есть лучше меня, может быть, есть хуже, но таких, как я, – нет, природа разбила форму, в которой меня отлила». Как сочетаются эти два момента? С одной стороны, стремление открыть правду о человеке как таковом, а с другой – показать уникальность.
Дело в том, что люди в обществе носят маски: Руссо это всячески подчеркивает. Он понимает: социальное поведение человека – всегда маска. И это не обязательно лицемерие, скорее общепринятая форма поведения, без которой не обходится никакое общество.
Люди общаются друг с другом поверхностно, лишь на уровне социальных ролей, так сказать, тех масок, которые они, как правило, используют в обществе. Руссо же стремится сбросить маску и рассказать о самом интимном в себе. Причем он рассказывает не просто о дурных поступках и мыслях, а порой о вещах постыдных. «Я сделал первый, самый тягостный шаг в тёмном и грязном лабиринте моих признаний. Труднее всего признаться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно», и он в этом признается.
Вообще, для понимания человеком самого себя обязательно нужен другой. Без другого себя не понять. Это как некое зеркало, которое нам дано. Руссо так говорит по этому поводу: «Пусть каждый познает самого себя через кого-либо другого, этим другим буду я».
Когда мы смотримся в зеркало, то видим себя со стороны, тоже смотрим на своё отражение будто бы глазами другого человека. Другой необходим нам для понимания самих себя. Поэтому в книге Руссо открывается правда о человеке вообще, хотя он и рассказывает о собственной жизни. Но попробуйте взглянуть на себя так, как это сделал он! Руссо как бы хочет дать пример другой глубины общения между людьми, не той, поверхностной, к которой они привыкли, а чтобы люди открывали другому душу, хотя бы перед самими собой пытались быть честными. Поэтому обе задачи здесь образуют неразрывное целое.
Что же такое, по мнению Руссо, эта подлинная сущность человека, которую он пытается исследовать? Прежде всего, она есть нечто, не поддающееся рационализации, её нельзя понять разумом. Человек – существо очень противоречивое, и любые рациональные подходы бессильны перед истиной человеческой души. Руссо всячески подчеркивает в себе эту противоречивость. Приведу пример. Это произошло после выхода в свет его оперы «Деревенский колдун». Она была хорошо принята публикой. Руссо объявили, что король готов его принять и даже обещал назначить ему денежное содержание. Руссо очень нуждался в деньгах. Литературная работа не кормила, зарабатывал он в основном переписыванием нот, и поэтому получить пенсию от короля было бы огромной удачей. Однако Руссо отказывается её принять. Как он мотивирует свой отказ? «Я терял, правда, пенсию, в некотором роде предложенную мне, но избавлялся от ига, которое она на меня наложила бы. Прощай, истина, свобода, мужество! Как осмелился бы я после этого говорить о независимости и бескорыстии? Приняв пенсию, мне оставалось бы только льстить или молчать; да и кто поручился бы, что мне стали бы её выплачивать?» (Книга восьмая).
Но есть и другая причина, которая заставила Руссо так поступить. Он страдал болезнью мочевого пузыря. «Этот недуг был главной причиной, мешавшей мне посещать собрания и задерживаться у женщин. Мне делалось дурно от одной лишь мысли о том положении, в какое эта потребность поставила бы меня. Я предпочел бы умереть, чем пережить такой скандал. Только те, кому знакомо подобное состояние, могут представить себе, с каким ужасом я думал об этой опасности. Кроме того, я рисовал себе, как я буду стоять перед королем, как меня представят его величеству, как он соблаговолит остановиться и заговорить со мной. В ответах нужны точность и находчивость. По своей проклятой застенчивости я смущаюсь перед каждым ничтожным незнакомцем, и разве эта робость покинет меня перед королем Франции…?» (Книга восьмая). Таковы были причины – высокая и довольно приземленная.
В своей книге Руссо упоминает о смерти некоего Анне, который служил управляющим в доме госпожи де Варанс и очень хорошо относился к Руссо. Он завещал Руссо свой костюм. Конечно, Руссо очень огорчился его уходу из жизни, но и обрадовался одновременно тому, что обрел костюм, и даже рассказал об этом госпоже де Варанс. Та пришла в изумление: как можно радоваться костюму, если только что скончался Анне? Но для Руссо это вполне сочеталось между собой.
Его взаимоотношения с женщинами, рассказ о которых занимает важное место в книге, также не укладываются ни в какие общепринятые представления. Вообще, это смесь робости и воображения. «Те, кто это прочтёт, посмеются, конечно, над моими любовными приключениями, увидев, что после долгих предисловий самые смелые из них кончаются поцелуем руки. О мои читатели! Не заблуждайтесь! Любовь, завершившаяся поцелуем руки, приносила мне, быть может, больше радостей, чем вы когда-нибудь испытаете от своей любви, начав по меньшей мере с этого». (Книга четвертая).
К примеру, его связь с госпожой де Варанс. Она была старше Руссо. Поначалу, по возвращении из туринского монастыря, он был очень влюблён в свою покровительницу. Это была любовь, которая питалась исключительно воображением…
А спустя некоторое время у Руссо завязывается другой роман – с госпожой де Ларнаж. «Я никогда не любил её так, как любил г-жу де Варанс, но, может быть, поэтому обладал ею во сто раз полнее. Возле маменьки удовольствие всегда омрачалось грустью, тайным сердечным трепетом, который я преодолевал не без труда: вместо того чтобы радоваться тому, что обладаю ею, я упрекал себя за то, что унижаю её. Возле г-жи де Ларнаж, наоборот, гордясь тем, что я мужчина и счастлив, я отдавался чувственности с радостью, уверенно; я разделял впечатление, которое производил на её чувственность; я достаточно владел собою, чтобы с тщеславным восторгом наблюдать свой триумф и извлекать из него то, что могло его удвоить». (Часть вторая. Книга шестая).
Однако когда госпожа де Ларнаж предлагает ему поехать вместе с ней в её дом, он отказывается. Почему? Руссо узнал, что у неё есть взрослая дочь. «Да и дочь её, о которой я против воли думал больше, чем нужно, беспокоила меня: я боялся влюбиться в неё – и был уже наполовину влюблён из-за этого страха. Неужели я еду для того, чтобы в отплату за доброе отношение матери обольстить её дочь, завязать отвратительную интригу, внести в семью раздор, бесчестие, скандал и ад? Эта мысль привела меня в ужас, я твердо решил бороться с собой п победить себя, в случае если б моя несчастная склонность обнаружилась. Но зачем ввергать себя в эту борьбу? Что за жалкое положение – жить с матерью, которой я уже пресыщен, и пылать страстью к дочери, не смея открыть ей своего сердца! Что за нужда стремиться к подобному положению, идти навстречу несчастий, обид, угрызений совести, из-за удовольствий, самую большую прелесть которых я уже испробовал? Несомненно, прихоть моя уже потеряла первый свой пыл; вкус к наслаждению ещё остался, но страсти уже больше не было. К этому ещё примешивались мысли о моём положении, о моих обязанностях, о доброй, великодушной маменьке: уже обремененная долгами, она делала для меня безумные траты, разорялась ради меня, а я так недостойно её обманываю». (Часть вторая. Книга седьмая).
Но, кроме того, он не мог изменить госпоже де Варанс. Какой мотив здесь являлся решающим, понять до конца невозможно. Это сложное их переплетение.
Или взаимоотношения Руссо с Терезой. Она стала своего рода заместительницей госпожи де Варанс. «Я увидел, что достиг большего – нашёл себе подругу. Немного привыкнув к этой превосходной девушке и поразмыслив о своём положении, я понял, что думал только о своем удовольствии, а встретил счастье. Мне нужно было взамен угасшего честолюбия сильное чувство, которое наполнило бы мое сердце. Нужно было, если уж говорить до конца, найти преемницу маменьке: раз мне не суждено было жить с ней, мне нужен был кто-нибудь, кто стал бы жить с её воспитанником и в ком бы я нашёл простоту, сердечную покорность, которую она находила во мне. Надо было, чтобы отрада честной и домашней жизни вознаградила меня за отречение от помыслов о блестящей судьбе». (Часть вторая. Книга седьмая).
Но вот что он скажет позднее о своих чувствах к Терезе: «Что же подумает читатель, если я признаюсь ему со всей искренностью, что с первой минуты, как я увидел её и до сих пор, я не разу не почувствовал к ней ни малейшей искры любви, что я желал обладать ею так же мало, как и госпожой Варанс, и что чувственная потребность, которую я удовлетворял с нею, была у меня только потребностью пола, не имевшего ничего общего с личностью? Он подумает, что я устроен иначе, чем другие люди и, видимо, неспособен испытывать любовь, раз она не имела отношения к чувствам, привязывающим меня к женщинам, которые были мне всего дороже.
Первая же моя потребность, самая большая, самая сильная, самая неутолимая заключалась всецело в моем сердце: это потребность в тесном общении, таком интимном, какое только возможно; потому-то я нуждался скорей в женщине, чем в мужчине, скорей в подруге, чем в друге. Эта странная потребность была такова, что самое тесное соединение двух тел ещё не могло быть для неё достаточным; мне нужны были две души в одном теле, без этого я всегда чувствовал пустоту.
И вот мне казалось моментами, что больше я пустоты не ощущаю».
Может быть, самой сильной привязанностью Руссо стало его чувство к госпоже д'Удето. Эта женщина во многом – прототип Юлии, героини романа «Новая Элоиза». «На сей раз, – пишет Руссо, – это была любовь – любовь во всей своей силе и во всём своём исступлении». Но и она оказалась довольно странной. Дело в том, что у госпожи д'Удето был любовник, маркиз Сен-Ламбер, и для Руссо это было неразделенное чувство. По словам Руссо, эта любовь «была одинакова с обеих сторон, хотя и не взаимна. Мы оба были озарены любовью, она к своему возлюбленному, а я к ней».
Личность Руссо не укладывается в обычные представления и рациональные рамки, и он действительно очень откровенен в своем рассказе.
Обратимся к описанию эпизода, вероятно, одного из самых неприглядных в его жизни. Руссо служил лакеем в одном аристократическом доме. У графини была девушка-служанка Марион, которая ему нравилась, между прочим. Но вот что рассказывает сам Руссо: «Жестокое воспоминание порой так волнует и мучает меня, что во время своих бессонниц я вижу, как бедная девушка приходит и упрекает меня в этом преступлении, как будто оно было совершено только вчера. Пока я жил без тревог, это воспоминание меньше меня мучило, но среди жизненных бурь оно отнимает у меня самое сладкое утешение невинно преследуемых: оно заставляет меня глубоко почувствовать то, о чём я, кажется, уже говорил в одном из своих произведений, – что угрызения совести дремлют в дни благополучия и пробуждаются в несчастье. И всё же я никогда не мог решиться облегчить своё сердце признанием на груди друга. Самая тесная близость никогда не могла заставить меня сделать это признание кому бы то ни было, даже г-же де Варане. Всё, на что я мог решиться, это сказать, что на моей совести лежит ужасный поступок; но я никогда не говорил, в чём он состоит. Таким образом, тяжесть эта, ничем не облегчённая, осталась на моей совести до сего дня, и я могу сказать, что желание как-нибудь освободиться от неё много содействовало принятому мною решению написать свою исповедь». (Книга вторая).
Так что же он совершил? Руссо украл у госпожи ленту, чтобы подарить её Марион. А когда эту «ленту, розовую с серебром», обнаружили у него, Руссо сказал, что получил её от Марион. Девушку прогнали. Как она ни просила Руссо рассказать правду, он ни в чём не признался. Слава воровки, да к тому же ещё и соблазняющей молодого человека подарками, – неизвестно, чем для Марион всё это закончилось. Руссо ничего не слышал о дальнейшей её судьбе. Это был ужасный поступок: для того, чтобы оправдать себя, Руссо оклеветал невинного человека ни за что ни про что. Но как он это объясняет? «Я чистосердечно признался в своём преступлении, и, наверно, никто не скажет, что я стараюсь смягчить свою страшную вину. Но я не выполнил бы своей задачи, если бы не рассказал в то же время о своём внутреннем состоянии и если бы побоялся привести в своё оправдание то, что согласно с истиной. Никогда злоба не была так далека от меня, как в ту ужасную минуту; как ни странно, но это правда. Я обвинил эту несчастную девушку потому, что был расположен к ней. Я всё думал о ней и ухватился за первое, что пришло мне на ум. Я приписал ей то, что сам собирался сделать; сказал, что она дала мне ленту, потому что у меня самого было намерение подарить эту ленту ей. Когда она вошла, мое сердце чуть не разорвалось на части, но присутствие стольких людей действовало на меня так сильно, что помешало моему раскаянию. Наказания я не очень боялся, – я боялся только стыда, но стыда боялся больше смерти, больше преступления, больше всего на свете. Мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю; неодолимый стыд победил всё; стыд был единственной причиной моего бесстыдства, и чем преступнее я становился, тем больше боялся в этом признаться и тем бесстрашнее лгал. Я думал только о том, как будет ужасно, если меня уличат и публично, в глаза, назовут вором, обманщиком, клеветником. Всепоглощающий страх заглушил во мне всякое другое чувство. Если бы мне дали прийти в себя, я непременно сознался бы во всем. Если бы г-н де Ларок отвёл меня в сторону и сказал: «Не губите эту бедную девушку; если вы виноваты, признайтесь», – я тотчас бросился бы к его ногам, совершенно в этом уверен. Но меня только запугивали, когда надо было ободрить. Надо принять в расчёт и мои годы, ведь я только что вышел из детского возраста, вернее – ещё пребывал в нём». (Книга вторая).
Хочу подвести некоторые итоги. Эта книга Руссо, и сегодня поражающая нас своей откровенностью, вызывала упреки в лицемерии. Было две позиции, выражающие разное отношение к его «Исповеди». Толстой очень любил Руссо и даже носил его портрет на груди вместо креста. А Достоевский упрекал Руссо в неискренности, считая «Исповедь» отвратительно лицемерной книгой. Почему? Потому что Руссо, по мнению Достоевского, вовсе не кается, а всё время старается себя оправдать. Прав ли был Достоевский в своей критике? И в самом деле, книга Руссо вовсе не покаянная, ибо главная её идея в том и заключается, что человек по природе своей – добр, и Руссо хочет показать это на собственном примере. Кроме того, это не совсем исповедь. Исповедь – это покаяние перед Богом. Что касается Руссо, то он не кается, а раскрывает себя. Он убеждён, что ни в чем не виновен. Виновато общество, которое калечит человека. Он был честным и добрым мальчиком, но, попав в подмастерья к ювелиру, научился лгать, красть, притворяться. Как и всякий человек, он – продукт общества. Общество с самого начала коверкало его. В эпизоде с лентой Руссо призывает читателя проявить снисходительность к его неблаговидному поступку: да, конечно, весьма дурно, что он оклеветал девушку, это один из самых низких поступков в его жизни. Но описывая его, автор проводит здесь психологический анализ, который напоминает подходы Фрейда. Первое – он приписывает другому то, что хотел совершить сам. Но гораздо важнее другой вывод Руссо: «стыд был единственной причиной… бесстыдства».
Кстати, весь пафос «Исповеди» заключается в том, чтобы попытаться отказаться от ложного стыда. Теперь Руссо, как автор книги, открылся своим читателям, а там, в тот момент, когда всё это происходило, он стыдился, хотя и не надо было стыдиться. Его беспокоило то, как на него посмотрят другие. Кроме того, Руссо призывает принять во внимание его юный возраст в тот момент. А, в общем-то, главная идея «Исповеди» в том, чтобы заставить читателей заглянуть в свою собственную душу, посмотреть на себя самого, прежде чем осуждать другого. Руссо точно хочет сказать читателям: вы, возможно, и не совершали подобного, но могли бы оказаться в такой ситуации. Поэтому постарайтесь меня понять.
Карамзин так отозвался о книге Руссо: «…хотя и не с благоговением, но по крайней мере с тихим чувством удовольствия, прочитав „Confessions", полюбил Руссо более, нежели когда-нибудь. Кто многоразличными опытами уверился, что человек всегда человек, что мы имеем только понятие о совершенстве и остаемся всегда несовершенными, – в глазах того наитрогательнейшая любезность в человеке есть мужественная, благородная искренность, с которою говорит он: „Я слаб!"» (346)
Руссо признается в собственной слабости и несовершенстве, но призывает не судить его слишком сурово: «Слабый и увлекаемый своими наклонностями, как мог бы он быть добродетельным; ведь им руководит только его сердце, никогда долг или разум». Он добр, потому что таким создала его природа. Он делает добро, потому что это ему приятно. Но если б ради исполнения долга ему понадобилось бы проститься с самыми дорогими своими желаниями, растерзать собственное сердце, поступил бы он подобным образом? Уверенности в этом нет.
Человек – вовсе не добродетелен, нет. Но если копнуть глубже, то обнаружится добрая основа. Человек естественный – добр, хотя нередко и поступает плохо. Таков главный вывод Руссо. А кроме того, он убеждён, что прежде чем судить другого, следует попытаться честно посмотреть на себя самого …
Иоганн Вольфганг Гёте –
великий представитель Просвещения в Германии, один из основоположников немецкой и мировой литературы Нового времени, родился 28 августа 1749 года во Франкфурте-на-Майне. Его отец, юрист, хотя и не занимал никакой общественной должности, состоял в звании имперского советника; мать – дворянка, дочь франкфуртского старейшины и судьи, высшего сановника старинного вольного города.
С ранних лет развитие Гёте было гармоничным и разносторонним. Он проявлял способности к науке, языкам: в семь лет уже знал несколько языков; благодаря имевшейся в доме библиотеке, читал в оригинале поэмы Вергилия, Овидия, Гомера, а также сочинения поэтов-современников. Благодаря матери, нежно любившей своего первенца, в детстве Гёте было много игр, песен, творчества… Именно она привила интерес к сказкам, легендам, народной поэзии, а, главное, к сочинению историй. Уже в эти годы Гёте начал писать свои первые стихи и пьесы, которые разыгрывал затем с друзьями в подаренном ему на Рождество игрушечном кукольном театре. Знакомству с драматической литературой и сценой способствовало и то обстоятельство, что в годы Семилетней войны в доме, где жила семья Гёте, квартировала известная театральная труппа.
В 1765 году Гёте по настоянию отца отправляется изучать юридические науки в Лейпцигский университет, а в 1770 году завершает образование в университете Страсбурга, где защищает диссертацию на звание доктора права. Однако юриспруденция мало привлекала Гёте, гораздо больше он интересовался медициной и филологией. В студенческие годы Гёте посещал лекции писателя Х. Геллерта, одного из самых почитаемых авторов того времени, познакомился с известным искусствоведом И. Винкельманом, идеи которого, по словам самого Гёте, дали ему больше, чем обучение в Университете. Произошедшая в Страсбурге встреча Гёте с критиком и мыслителем Г. Гердером оказала огромное влияние на его мировоззрение, взгляды на культуру и осознание себя как поэта. В Страсбурге Гёте решает связать дальнейшую жизнь с литературой, сближается с молодыми писателями и поэтами и сам становится участником движения «Бури и натиска» (возн. в Германии в нач. 70 г.), главный мотив которого – протест против рационалистических догм эпохи классицизма.
Гете возвращается в родной Франкфурт и посвящает себя литературной работе, которую поначалу из уважения к отцу совмещает с юридической практикой. В этот период он сочиняет пьесу в духе шекспировских исторических хроник «Гец фон Берлихинген, рыцарь с железной рукой» (1771-1773), которая становится своего рода манифестом «Бури и натиска».
В 1774 г. Гёте создает своё первое значительное произведение, принесшее ему литературную славу в Германии и мировую известность, роман «Страдания юного Вертера».
Уже в этой книге драматические личные переживания главного героя, Вертера, показаны на фоне исторической действительности. Спустя годы Гёте признается своему другу и биографу И.Эккерману: «Я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие мировые события, и они не прекращались в течение всей моей длинной жизни, так что я – живой свидетель…. Поэтому я пришёл к совершенно другим выводам и взглядам, чем это доступно другим, которые сейчас только родились и которые должны усваивать эти великие события из непонятных им книг.»
История Вертера во многом автобиографична: в ней отчасти отразилась безответная любовь самого Гёте к невесте своего приятеля Шарлотте Буф, с которой он познакомился во время прохождения юридической практики в суде города Вецлара на одном из танцевальных вечеров. Пленившая Гёте своей искренностью, она стала прообразом Лотты, героини романа.
Вертер – юноша, бросающий вызов миру, не желающий мириться с нравами, царившими в Германии, он предпочитает умереть, но не уподобиться напыщенным, лицемерным, тщеславным бюргерам.
Тема обреченности возникает в романе Гёте ещё до того, как у Вертера вообще появляется мысль о смерти. Эта тема начинает звучать уже в первой части романа, правда, разговор о самоубийстве носит ещё сугубо теоретический характер. Это разговор Вертера с Альбертом, женихом Лотты, который высказывает довольно отвлеченную мысль о том, что самоубийство есть выражение слабости. Человек оказывается неспособным вынести те жизненные невзгоды и трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, и добровольно обрывает собственную жизнь. Вертер возражает Альберту. По его мнению, самоубийство вовсе не свидетельство слабости. Всё дело в силе страстей, которые овладевают человеком. Если это слабые чувства, он их подавляет, а если чувства действительно сильны, то беспомощен перед ними.
Вертер сталкивает, казалось бы, не связанные между собой сферы жизни. Для него они образуют неразрывный узел. Он сравнивает девушку, которая от несчастной любви кончает жизнь самоубийством, потому что в этой любви заключался весь смысл её жизни, с восставшим народом, который рвёт цепи рабства. «О, рассудительные люди, – страсть, безумие, вы спокойно и безучастно смотрите на всё. Вы гордитесь своей нравственностью, браните пьяниц, испытываете отвращение к безумству, вы проходите мимо как жрецы и благодарите Бога как фарисеи, что он не создал вас подобными этим. Я понял по-своему, что все исключительные люди, создававшие нечто великое и невозможное, считались опьяненными и безумными. Стыдитесь вы, трезвые, стыдитесь вы, разумные!».
С самого начала Вертер говорит о том, что единственное ощущение свободы, которое у него есть и которое он так высоко ценит, – возможность в любой момент жизнь оборвать. Для него это значит быть хозяином собственной жизни. Кстати, самоубийство Вертера следует за сценой, в которой он впервые сближается с Лоттой. «О, я знал, что ты любишь меня, знал с первого же задушевного взгляда, с первого пожатия руки, и всё же, когда я уходил, а Альберт оставался возле тебя, я вновь отчаивался и томился мучительным сомнением. <…> Всё проходит, но и вечность не охладит тот живительный пламень, который я выпил вчера с твоих губ и неизменно ощущаю в себе! Она меня любит! Мои руки обнимали её, мои губы трепетали на её губах, шепча из уст в уста бессвязные слова. Она моя! Да, Лотта, ты моя навеки. Пусть Альберт твой муж! Что мне в том? Он муж лишь в здешнем мире, и значит, в здешнем мире грех, что я люблю тебя и жажду вырвать из его объятий и прижать к себе. Грех. Согласен, и я себя караю за него; во всём его неземном блаженстве вкусил я этот грех, впитал с ним жизненную силу и крепость. И с этого мгновения ты моя, моя, о Лотта! Я ухожу первый! Ухожу к отцу моему, к отцу твоему. Ему я поведаю своё горе, и он утешит меня, пока не придешь ты, и тогда я поспешу тебе навстречу и обниму тебя, и так в объятиях друг друга пребудем мы навеки перед лицом предвечного. Я не грежу, не заблуждаюсь! На пороге смерти мне всё становится яснее. Мы не исчезнем! Мы свидимся!» (Перевод Н.Касаткиной). (347)
«Здесь – невозможно, там – возможно». Вертер понимает, что идеал человеку не дан. Но он не хочет мириться с действительностью, которая его не устраивает, и самоубийство героя здесь – это своеобразный взрыв страстей.
В романе есть два образа, которые как бы сопровождают Вертера, очерчивая смысловой диапазон всего романа. Первый – это крестьянский парень, который рассказывает о чувствах, которые он испытывает к своей госпоже. Брат хозяйки, не желая, чтобы та выходила замуж, прогнал работника. Но когда она взяла другого работника и решила выйти за него замуж – парень его убил. Теперь его судят. Но Вертер его не осуждает, он скажет: «Ему нет спасения, нам нет спасения». Он ценит в человеке этот стихийный взрыв страстей, хотя и понимает, и в этом он согласен с Альбертом, что парень должен быть наказан: общество не сможет существовать, если будут безнаказанно убивать. У него самого возникает желание уничтожить Альберта, но он, конечно, никогда этого не сделает. Он может выстрелить лишь в самого себя. Но сам этот порыв кажется ему чем-то более значительным, чем спокойствие и размеренность бюргеров, которые его окружают. Они разучились так же сильно любить и ярко чувствовать.
А второй – это образ Христа. Христос, как известно, в Гефсиманском саду молил Бога о том, чтобы его «миновала чаша сия». Так почему же Вертер должен терпеть? Таков диапазон, в котором развёртывается трагедия Вертера.
Что такое самоубийство героя, и почему в Германии после выхода в свет книги Гёте последовала волна самоубийств? Сам автор, конечно, не хотел подобного. Гёте считал, что причина такой реакции – в преувеличенных требованиях, которые немецкие юноши предъявляли к самим себе и к миру. «Причина этой книжки была великая даже в самом главном, потому что она вышла как раз в подходящее время. Как крошечной искры достаточно, чтобы взорвать могучую мину, так и взрыв в молодой публике был так силен только потому, что молодой мир успел подкопаться под себя сам. Сотрясение было особенно значительным, поскольку у каждого готовы были взорваться преувеличенные требования, неудовлетворенные страсти и воображаемые страдания».
«Вертер», если хотите, это роман о несостоявшейся революции в Германии. Молодые люди не желали принимать ту действительность, которая их окружала. Они были полны революционного максимализма и не могли мириться с реальностью, которая не отвечала их идеалам. Таково было общее настроение, которое во Франции вылилось в события революции. А в Германии для этого не было объективных предпосылок, поэтому молодым людям не оставалось ничего иного, кроме как стреляться. Изменить существующее положение вещей они не могли, но и мириться с ним не хотели. Это был всеобщий стихийный протест, который во Франции вылился в то, что молодые люди пели «Марсельезу» и штурмовали Бастилию, а в Германии – кончали с собой. Впрочем, Гёте не случайно дал такое название своему роману: «Страдания юного Вертера». Это была юность Германии, а юности вообще свойственны преувеличенные требования к жизни. Юности присущ максимализм. Позже, с годами, люди начинают осознавать, что не все их мечты осуществимы. Для тех же, кто отказывался взрослеть, отказывался принимать жизнь такой, какая она есть, оставался только один выбор: именно такой выбор делает Вертер…
Сам же Гёте остался жить. Правда, признавался впоследствии: «Трудно понять, как человек может ещё сохранять существование в этом мире, который явился ему таким абсурдным уже в юности». Но он не просто остался жить. Вообще, роман Гёте во многом предвосхитил европейский романтизм. Достоевскому приписывают фразу, которую он, кажется, никогда не произносил: «Мы все вышли из гоголевской «Шинели». Европейские романтики могли бы с полным основанием сказать о себе, что все они «вышли из гётевского «Вертера». В «Вертере» сосредоточилось немало черт романтического сознания. И, прежде всего, это ощущение разрыва между миром идеальным и реальным, разлада между устремлениями человеческой души и действительностью.
Нежелание мириться с данностью, признание права человека на взрыв страстей – всё это было свойственно романтикам. Но есть одно существенное различие между «Вертером» и романтизмом. Роман Гёте – это выражение предреволюционного сознания. Романтики же выразили сознание послереволюционное. Им выпало жить в состоянии глубочайшего трагического разлада. Он мучителен для них, но они в нём живут. Этот разлад они признают законом самой жизни. Поэтому романтическое сознание – всегда расколотое, делящее мир на «здесь» и «там», на «идеалы» и «жизнь». Но романтики понимают, что идеалы неосуществимы, это лишь некий возможный, желаемый мир, а Вертер не хочет с этим мириться. Они – живут, а он – стреляет в себя.
Гёте тоже остался жить, хотя этот разрыв он считал крайне болезненным. «Я бы назвал романтическое сознание последствием болезни», – писал он. Быть может поэтому Гёте принимает приглашение Саксен-Веймарского герцога Карла Августа переехать в Веймар. Он станет сперва тайным советником, а затем и первым министром этого крошечного немецкого княжества. Прочтя «Вертера», Герцог совсем другим представлял себе автора, но, увидев перед собой почти олимпийского бога, тут же пригласил молодого писателя на придворную службу. Гёте дал согласие, решив попытаться воздействовать на мир с помощью практической деятельности.
Но расставание с идеалами юности оказалось мучительным. Вначале Гёте проявляет невероятную политическую активность. Как министр, он принимает ряд законов, но всё это в масштабах крошечного княжества, и по большому счёту, вся деятельность Гёте на посту министра оказывается малозначительной. Но, что самое страшное, – Гёте почти утрачивает способность творить. Ему трудно при Веймарском дворе. Он поступил на службу к герцогу в 1775 году и десять лет практически ничего не писал. А это очень много. У него есть планы, но осуществить их ему не удается. Гёте задыхается в атмосфере Веймарского двора, в конце концов не выдерживает и уезжает в путешествие по Италии.
В Италии Гёте провел три года, с 1786 по 1789. Здесь, вдали от придворной жизни, среди памятников искусства, он оживает и вновь обретает способность творить. Произведения, задуманные в Веймаре, были наконец написаны в Италии. Из Италии Гёте вернулся обновленным. Отныне он вновь занят исключительно литературой. Правда, официально он всё ещё носит титул министра. Но он прекращает политическую деятельность. К этому времени, в 1789 году, во Франции происходит революция. Как автора «Вертера», подобно Шиллеру, автору поэмы «Разбойники», Гёте провозглашают почетным гражданином молодой французской республики. Пушкин, кстати, довольно точно определил суть гетевского Вертера, назвав его «мученик мятежный». Но французская революция увидела в нём прежде всего мятежника.
Гёте никак не откликнулся на события во Франции: казалось, он их не заметил. Но это не совсем так. В 1792 году произошла знаменитая битва при Вальми, – молодая французская республика одержала победу, столкнувшись с силами феодальной коалиции, к которой, между прочим, примкнул и Веймарский герцог Карл Август. Гёте пожелал лично взглянуть на театр военных действий. Он записал тогда в своем дневнике: «Мы присутствовали при рождении новой эры». Гёте понял, что французская революция – это важный, поворотный момент в истории всей Европы. Однако он не хотел, чтобы подобное произошло в Германии. Особенно неприязненным его отношение к революции стало в период якобинской диктатуры.
В 1790 году Гёте впервые опубликовал произведение, которое называлось «Фауст. Фрагмент». Писать его он начал ещё до «Вертера». В Италии Гёте переделал свое юношеское произведение, а затем издал этот доработанный вариант, включавший основные события первой части будущей трагедии. Над «Фаустом» Гёте продолжал работать и дальше, и в 1808 году была опубликована первая часть.
Затем Гёте продолжил работу над второй частью и закончил её в 1831 году, буквально за год до своей смерти, которая произошла 22 марта 1832 года в Веймаре. При жизни Гёте был издан третий акт второй части «Фауста» – эпизод с Еленой, но в целом вторая часть не была опубликована. Гёте запечатал текст в конверт, который просил открыть лишь после своей смерти.
Легенда о Фаусте имеет свою предысторию и историю. Начнем с предыстории. Это миф о продаже души. Вообще этот мотив – договор с дьяволом, согласно которому человек предлагал свою душу в обмен на какие-то блага (возвращение молодости, обретение богатства, власти и т.д.) – был широко распространен в западной культуре еще со времен Средневековья. Средневековый человек воспринимал свою краткую земную жизнь как своеобразный пролог к жизни вечной, которая ожидает его после смерти. Требовалось так прожить земную жизнь, чтобы попасть затем, по крайней мере, в Чистилище. Рай, конечно, мало кому по силам. Но, главное, не оказаться в Аду. Вообще, земная жизнь – это лишь подготовка. А вот Фауст, герой мифа, готов отдать всё это посмертное бытие за счастье земной жизни. Он продаёт душу, но взамен тот короткий промежуток времени, который ему сужден, дьявол поможет ему прожить во всей возможной полноте. Это мечтание временного о вечном – первый важный мотив мифа о Фаусте.
Второй мотив связан с отношением к знаниям. Дело в том, что в Средние века существовала только одна наука – наука о Боге, теология. И сама мысль о том, что возможно подчинить себе силы природы, считалась греховной. Человеку не дано властвовать над природой, над миром, сотворенным Богом. Но в то же время в человеке всегда жило стремление к запретному знанию, которое открывало бы силы природы. Это знание носило сокровенный, магический характер. Люди, которые обращались к таким тайным учениям, считались продавшимися дьяволу – они жертвовали душу, но за это обретали знание о мире и о скрытой природе вещей.
Миф о Фаусте возник в эпоху немецкого Возрождения. Фауст – реальное историческое лицо. Такой человек действительно жил в Германии в XVI веке. Известно, что он был философом, магом, астрологом, алхимиком, хиромантом. Говорили, что ему было известно тайное средство, которое скрепляло и разрушало узы брака и любви. Кстати, нынешние колдуны, размещающие объявления о себе в газетах, предлагают чаще всего именно эту услугу. Кроме того, Фауст мог совершать те же чудеса, которые совершал Спаситель. Главным его помощником и слугой была собака, которая всюду его сопровождала. Другие маги относились к Фаусту с презрением, называли бродягой, пустословом, мошенником, говорили, что он лишь хорошо и умело выманивает у простаков деньги, а церковь видела в нём человека, сошедшегося с чёртом. Умер Фауст около 1540 года, а в 1587 году вышла «Народная книга о Фаусте», напечатанная во Франкфурте-на-Майне Иоганном Шписом. Это была литературная версия биографии, в которой черты Фауста реального соединились с тем, что о нём рассказывалось, что было рождено народной молвой. Согласно этой книге, Фауст заключил договор с чертом сроком на 24 года. В этот отрезок времени черт обязывался не только удовлетворять все его прихоти и желания, но и отвечать на любые волнующие Фауста вопросы. Одним словом, чёрт должен был помочь ему обрести всю полноту знаний и жизненных наслаждений. Но когда истекут условленные годы, в назначенный согласно договору срок душа Фауста попадёт в руки дьявола. Правда, в конце, когда приблизился момент расплаты, Фаусту вроде бы стало страшно, и он пожалел, что пошёл на подобную сделку, но ему уже ничто не могло помочь: он был отправлен в Преисподнюю. Таково краткое содержание легенды о Фаусте.
В этой легенде, в самом образе Фауста, каким он изображен в «Народной книге», ощутимы черты ренессансного идеала человека. Жажда знания, желание осуществить всё заложенное, предпочтение земного небесному. Недаром эта легенда возникла в эпоху немецкого Возрождения.
Первая драматическая разработка легенды о Фаусте принадлежала английскому писателю, современнику Шекспира, которому одно время даже приписывали его произведения, Кристоферу Марло. Фауст показан в этом произведении как человек Ренессанса, и главная его тема – жажда познания. Фауста в трактовке Марло прельщают не столько соблазны и удовольствия, сколько тайны мироздания, стремление познать которые и заставляет героя продать душу черту. Позже эта драма пришла и в Германию, возникло множество театрализованных представлений о Фаусте, литературных версий, театральных постановок, вплоть до кукольных.
Вообще легенда о Фаусте в Германии была очень популярна. В своё время Лессинг хотел написать собственную обработку «Фауста», сохранился фрагмент, в котором он изложил концепцию, но этот замысел не был воплощен. А вот другой немецкий писатель, Ф. Клингер, автор знаменитой драмы «Буря и натиск», которая дала название литературному движению, написал роман о Фаусте. Были и другие разработки этой легенды. Тема Фауста у движения «Бури и натиска» была очень популярна, и Фауст во многом воспринимался как излюбленный её герой…
Разумеется, Гёте хорошо знал легенду о Фаусте, множество её вариантов и литературных обработок. Но возникает вопрос: почему он так долго писал своего «Фауста»? Почему всю жизнь работал над этим произведением? Первый план, и это относится ко всем литературным творениям Гёте, – автобиографический. Немецкие комментаторы, кстати, установили почти все прототипы «Фауста», и даже прообраз Мефистофеля. Но в произведении Гёте, конечно, нашла отражение не столько жизненная, сколько его внутренняя биография, и духовные искания Фауста – это во многом искания самого Гёте. Фауст, стоящий в финале поэмы на краю могилы, – это и сам Гёте 1831 года. Обращаясь к легенде о Фаусте, Гёте хотел осмыслить и свою собственную жизнь и действительность своего времени. «Я разрабатывал только те легенды, в которые мог вложить свой собственный духовный опыт и опыт всего европейского сознания», – писал он.
Не случайно Гёте не хотел публиковать «Фауста» при жизни. Он, конечно, чувствовал приближение своей кончины и, вероятно, считал своё произведение завершенным. Но никто не знает, когда именно наступит смерть, и Гёте тоже этого не знал и потому не исключал, что, может быть, что-то изменится в мире или в нём самом, и он как-то иначе увидит финал трагедии…
«Фауст» Гёте открывается двумя прологами: это «Театральное вступление» и «Пролог на небе». Начнём с «Пролога на небе». Надо сказать, Гёте не был религиозным человеком в строгом смысле слова. Конечно, он придерживался христианских представлений, как и всякий просвещённый европеец тех времен, но в церковь не ходил. Как известно, в Германии преобладают две христианские конфессии – католическая и протестантская. К какой именно тяготел Гёте, утверждать трудно. Но он точно не был атеистом, поэтому «Пролог на небе» – серьёзен. Гёте прекрасно понимал, что без Бога нельзя представить себе картину Мироздания. Человек не может жить без этой абсолютной координаты. В его сознании непременно должна присутствовать некая высшая точка, с которой мыслящее существо соотносит своё существование… Поэтому не случайно произведение Гёте начинается «Прологом на небе» и завершается подобным же мистическим эпилогом. Небо – важнейшая координата «Фауста».
Что составляет содержание «Пролога на небе»? Три архангела возносят Богу хвалу:
Дивятся ангелы господни,
Окинув взором весь предел.
Как в первый день, так и сегодня
Безмерна слава Божьих дел. (348)
Сюда же является Мефистофель (с давних времён – одно из наименований дьявола, означающее что-то вроде «разносящий скверну», «распространяющий грех»):
К тебе попал я, боже, на прием,
Чтоб доложить о нашем положенье.
Вот почему я в обществе твоем
И всех, кто состоит тут в услуженье.
Но если б я произносил тирады,
Как ангелов высокопарный лик,
Тебя бы насмешил я доупаду,
Когда бы ты смеяться не отвык.
Я о планетах говорить стесняюсь,
Я расскажу, как люди бьются, маясь.
Божок вселенной, человек таков,
Каким и был он испокон веков.
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живёт.
Прошу простить, но по своим приёмам
Он кажется каким-то насекомым.
Полулетя, полускача,
Он свиристит, как саранча.
О, если б он сидел в траве покоса
И во все дрязги не совал бы носа.
Господь
И это всё? Опять ты за своё?
Лишь жалобы да вечное нытьё?
Так на Земле всё для тебя не так?
Мефистофель
Да, Господи, там беспросветный мрак,
И человеку бедному так худо,
Что даже я щажу его покуда. (349)
(Пролог на небе)
Итак, Мефистофель считает, что человек, этот «божок вселенной», хотя и наделён божественной искрой и создан по образу и подобию божьему, но «с этой искрой скот скотом живёт». А кроме того, он несчастен в этом мире. Господь же, напротив, убеждён, что человек, может и заблуждается, с этим не поспорить, но всё же в конце концов «выбьется из мрака». «Когда садовник садит деревцо, // плод наперед известен садоводу». Господь уверен, что человек «по собственной охоте» способен «вырваться из тупика». Они заключают своего рода договор, чтобы выяснить, кто прав в своей оценке человека: Бог, который верит, что человек в силах найти свой путь к истине, или Мефистофель, который убеждён, что человеку этого не дано.
В качестве примера Господь выбирает Фауста, который самой своей жизнью должен показать, чего стоит человек, на что он способен:
Ты знаешь Фауста?
Мефистофель
Он – доктор?
Господь
Он – мой раб.
Мефистофель
Да, странно этот эскулап
Справляет вам повинность божью,
И чем он сыт, никто не знает тоже.
Он рвётся в бой и любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали
И требует от неба звёзд в награду
И лучших наслаждений у земли.
И век ему с душой не будет сладу,
Чего бы поиски ни принесли. (350)
Мефистофель готов поспорить с Богом:
Поспорим. Вот моя рука,
И скоро будем мы в расчёте.
Вы торжество моё поймёте,
Когда он, ползая в помёте,
Жрать будет прах от башмака,
Как пресмыкается века
Змея, моя родная тётя. (351)
Бог даёт Мефистофелю возможность провести Фауста «путём превратным за собой» и обещает не вмешиваться, что бы ни происходило, – Мефистофелю позволено подвергать человека любым соблазнам. Это самое начало «Фауста». И уже здесь возникают как бы два плана произведения. На первом плане – судьба отдельного человека, в данном случае – Фауста. Вопрос ставится о смысле жизни отдельного человека. Но речь идёт и о чём-то большем в этом «Прологе на небе» – в каком-то смысле это разговор с Богом о сотворённом им человечестве. Поэтому спор Бога и Мефистофеля касается не только судьбы отдельной личности, но и судьбы человечества в целом. Речь идёт обо всех потомках Адама.
Вообще, имеет ли смысл человеческая история? Ибо, если жизнь отдельного человека – это его путь от рождения до смерти, то существование человека как родового существа – это прежде всего история.
Эти два плана повествования условно можно обозначить как морально-философский и исторический. Для Гёте это вещи взаимосвязанные. Каждый эпизод «Фауста» имеет двоякий смысл, касается как судьбы отдельного человека, так и исторической судьбы всего человечества. Причём различие между первой и второй частями «Фауста» заключается в том, что в первой акцент делается на индивидуальной судьбе, а во второй – на судьбе людей вообще. Не случайно Гёте назвал вторую часть – большим миром, а первую – малым.
С этим связана символичность произведения: в первой части она менее выражена, вторая же вся насквозь символична. В ней символика – это основной язык, её нельзя читать иначе, в то время как первую часть можно воспринимать и как историю жизни Фауста, хотя в ней тоже заложен определенный символический смысл. А вторая часть, так сказать, определённо символична, без символики там ничего не понять. Для Гёте это вещи близкие. Во-первых, это определяется идеей, которая вообще была свойственна его времени. Наиболее яркое выражение она нашла в известной книге Гегеля «Феноменология духа», которую, кстати, философ подарил Гёте с дарственной надписью. Идея, на которой строилась «Феноменология духа», заключалась в том, что развитие индивидуального сознания вкратце повторяет этапы становления человечества в целом. Точно так же формирование плода повторяет всю историю рода, то есть филогенез и онтогенез совпадают. Гегель рассматривал становление индивидуального сознания, но за этим стояло и развитие сознания человечества в целом, которое происходит аналогично.
Если даже отбросить эту идею, а подойти ко всему проще, то внутренняя связь этих процессов всё равно будет более чем очевидна. Дело в том, что вопрос о смысле жизни отдельного человека не может быть отделён от смысла исторического. В разные эпохи люди в разном искали и находили жизненный смысл. Скажем, античный человек видел смысл своего существования – в одном, средневековый – в другом, человек Ренессанса – в третьем, нельзя отделить поиски смысла жизни отдельного человека от той исторической ступени, на которой в данный момент пребывает человечество. Поэтому вопрос о связи личного и исторического закономерен.
Но Гёте касается ещё одной составляющей этой проблемы. Нам, вероятно, это менее очевидно, но дело в том, что смысл истории тоже не может быть отделён от смысла жизни отдельного человека. Можно судить о том, что такое историческое развитие и насколько оно высоко, в зависимости от того, как индивид в тот или иной исторический момент представляет смысл своей жизни. Нельзя судить об истории вне этого понимания жизненного смысла отдельным человеком, и поэтому для Гёте это только разные стороны одного и того же.
Вообще, до Гёте «Фауст» никогда не начинался с «Пролога на небе». Если и были прологи, то это были прологи в аду, а вот на небесах – это единственный случай. Прочтя однажды поэму Байрона «Каин», Гёте вынужден был признать: «Байрон меня изрядно обокрал». Он тогда выпустил в свет лишь первую часть «Фауста». Байрон же в ответ заметил, что Гёте, в свою очередь, многое позаимствовал из библейской «Книги Иова». Гёте передали эти слова, на что он якобы произнёс: «Молодец, Байрон, всё правильно понял».
Действительно, начало Фауста напоминает историю Иова. Бог испытывает человека. Он препоручает Иова дьяволу, будучи уверен в том, что, несмотря на все соблазны и испытания, через которые должен пройти Иов, тот останется верен своему Господу до конца. Пережив с достоинством всё, выпавшее на его долю, Иов остаётся верным Богу, и Бог его за это вознаграждает. Этот мотив действительно присутствует в «Фаусте» Гёте: и «Пролог на небе», и спор с Мефистофелем действительно напоминают «Книгу Иова», Байрон правильно это подметил.
Но здесь возникает один важный момент: предлагая Мефистофелю вести Фауста «путём превратным за собой», Бог полагает, что Мефистофель будет полезным для него спутником:
Из духов отрицанья ты всех менее
Бывал мне в тягость, плут и весельчак.
Из лени человек впадает в спячку.
Ступай расшевели его застой,
Вертись пред ним, томи и беспокой
И раздражай его своей горячкой. (352)
Мефистофель должен всё время шевелить Фауста, чтобы тот не останавливался, не застывал на месте, чтобы ни в чём не находил успокоения. Подтолкнуть человека к поиску – таков замысел Бога. Человек склонен к застою, его всё время нужно подвигать к действию. Ему необходимо меняться. Если он не меняется, то нет развития. Но, с другой стороны, человек должен оставаться самим собой. В Библии нет этой проблемы. Как раз наоборот: Иов должен сохранять верность Богу. Пройдя через все постигшие его искушения и проверки, он должен остаться неизменным. Это важный момент. Сам ход истории есть непрерывные изменения. Но история – это ещё и испытание народов. Особенно в сложные, трагические времена. И жизнь человека – это тоже испытание. Испытание, которое ниспослано ему свыше и в котором необходимо выстоять. Вся трудность в том, чтобы меняться, но и сохранять что-то важное. Без этих двух составляющих Бог не восторжествует над Мефистофелем, а жизнь Фауста не обретёт смысл.
Гёте назвал «Фауста» трагедией, но вообще это произведение, которое, конечно же, не укладывается ни в какие строгие жанровые формы. В нём нет четких границ между частями, и, если б кто-нибудь задумал создать театральную постановку «Фауста», то результат оказался бы сомнительным. Правда, в Германии делались попытки: спектакль шёл в течение двух вечеров и с большими текстовыми сокращениями. Но сейчас другое время, другое представление о театре. А в ту эпоху, когда писал Гёте, было очевидно, что «Фауст» не может быть поставлен на сцене. Тем не менее, Гёте назвал свое произведение трагедией и, мало того, включил в него ещё и «Пролог в театре», подчеркивая, что это – театральное зрелище…
Сначала о жанре трагедии. Гёте различал два её типа: античная трагедия, или, как он её называл, «трагедия долженствования», и трагедия Нового времени, образцом которой для Гёте были произведения Шекспира. В античной трагедии боги ставили перед человеком такие задачи, выполнение которых превышало человеческие возможности, и это составляло трагическую основу судьбы героя. Так Оресту выпало убить свою мать, Клитемнестру. Для него это – нечто запредельное, но боги велели, и он, каким бы ужасом это ему ни грозило, исполнил предначертанное. Трагизм в том, что он должен был это сделать.
Что касается трагедии Нового времени, Гёте называл этот тип «трагедией свободного дворянина»: человек здесь сам ставит перед собой задачи, которые непомерны. Это и есть главная проблема Фауста. Фауст задаётся целью, достижение которой превышает его силы. Он стремится к невозможному…
Теперь о «Прологе в театре». Гёте рассматривал театр как явление символического искусства. «По существу театрально ведь то, что одновременно видится нам символом, значительное действие, указывающее на другое, более значительное». Всё, что происходит на сцене, – это игра, видимость, и, в этом смысле – символ, поскольку только представляет жизнь, ею не являясь. Но таково и представление Гёте о самой жизни. Мы ещё вернемся к этой теме, а пока хочу отметить – «Фауст» завершается словами мистического хора:
Всё быстротечное –
Символ, сравненье…
Истинная, совершенная жизнь, считал Гёте, находится по ту сторону реальности, наша привычная «быстротечная» земная действительность – лишь символическое её подобие.
В «Прологе в театре» три действующих лица – это директор, поэт и комический актер. Директор театра утверждает, что ему плевать на качество пьесы – ему нужны сборы. Он говорит поэту, что для него главное – признание публики. Поэт возражает: он творит для вечности. Но есть и третье лицо – это комический актёр, который стоит как бы меж двумя этими персонажами. Он – тоже художник, и потому понимает поэта, ему не безразлично, что играть. Но он – актёр, и его игра существует лишь здесь и сейчас, и если зритель не одобрит его исполнение, если оно не будет иметь успех, то как актёр он не состоится. Поэт, писатель могут оставить свои творения на суд потомков, а игру актёров в те времена не снимали на кинопленку, да и сейчас этого недостаточно. Исполнительское мастерство существует только в настоящем времени, поэтому актёр стремится сочетать вечное с сиюминутным. Ему необходимо, чтобы пьеса была достойной, но важно и чтобы зритель откликнулся на его исполнение, иначе он не состоится как актёр.
Ещё два момента, связанные с «Театральным вступлением». Существует точка зрения, утверждающая, что «Пролог на небе» несерьёзен, поскольку следует за «Театральным вступлением», то есть не Бог там представлен, а некий театральный персонаж, и всё, что там изображено – игра. Но, думаю, это не так. Гёте действительно поставил «Пролог на небе» после «Театрального вступления». Но ведь Бога изобразить нельзя, его можно только вообразить. И хотя это действительно представление о Боге, но это никак не отменяет серьёзности «Пролога на небе».
Теперь следующее. Гёте придавал большое значение тому, что театральное зрелище – это всегда настоящее время. На этом основывается принцип театральной иллюзии. Повествование, к примеру, – это рассказ о прошлом, а в театре зритель сопереживает тому, что разворачивается перед ним на сцене, и должен воспринимать это как нечто, происходящее здесь и сейчас. Кстати, это очень важный момент, касающийся сущности театра – театральная пьеса должна звучать актуально. В театре это просто необходимо…
Но что такое это настоящее время? Конечно, в понятие настоящего можно вкладывать различный смысл. Можно, к примеру, сказать, что настоящее – это только данное, текущее мгновение, потому что то, что было минуту назад – уже прошлое, а то, что наступит – будущее. Но на самом деле то, что мы называем настоящим временем, это нечто иное. Я бы сказал так: прошлое – это то, что было и прошло, будущее – то, что ещё не началось, а настоящее – то, что началось и ещё не завершилось, то, что продолжается до сих пор. Таково наше непосредственное, живое ощущение того, что мы называем настоящим временем. Это было, но Гёте говорит об этом как о настоящем. Это началось, но мы чувствуем, что это ещё не завершилось. И пока это так, мы ощущаем это время как настоящее.
Гёте отображает время легенды о Фаусте: XVI век. Но в то же время он показывает не только XVI столетие, но и современность. Гёте завершает «Фауста» в 1831 году и хочет ввести в произведение события своего собственного исторического настоящего. Поэтому в его произведении присутствуют два временных пласта: это время легенды и современность. Гёте пишет о том, что принадлежит прошлому, берёт свое начало в XVI веке, но не утратило актуальности, своего живого значения и в его эпоху. Можно сказать: то, что изображает Гёте, длится и по сей день.
Мы остановились на двух прологах к «Фаусту» – это «Театральный пролог» и «Пролог на небе». Далее следует сцена, в которой впервые предстает сам гётевский герой. Фауст – учёный, всю жизнь посвятивший наукам, и, вероятно, довольно успешный, но мы застаем его в момент глубочайшего духовного кризиса.
Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.
В магистрах, в докторах хожу
И за нос десять лет вожу,
Учеников, как буквоед,
Толкуя так и сяк предмет.
Но знанья это дать не может
И этот вывод мне сердце гложет.
Хотя я разумнее многих хватов,
Врачей, попов и адвокатов
Их точно всех попутал леший,
Я ж и пред чертом не опешу, -
Но и себе я знаю цену,
Не тешусь мыслию надменной,
Что светоч я людского рода
И вверен мир моему уходу.
Не нажил чести и добра
И не вкусил, чем жизнь остра.
И пес с такой бы жизни взвыл! (353)
(Первая часть. Ночь)
Итак, наука не дала Фаусту знания жизни, не помогла постичь её тайну. Он честно служил науке, но не вкусил «того, чем жизнь остра». И вот Фауст обращается к ночному светилу:
О месяц, ты меня привык,
Встречать среди бумаг и книг
В ночных моих трудах, без сна
В углу у этого окна.
О, если б тут твой бледный лик
В последний раз меня застиг!
О, если бы ты с этих пор
Встречал меня на высях гор,
Где феи с эльфами в тумане
Играют в прятки на поляне!
Там, там росой у входа в грот
Я б смыл учености налёт! (354)
(Первая часть. Ночь)
Фауст решает прибегнуть к магии и вызывает духа земли. Встреча с духом земли – очень важный эпизод, который многое открывает в душевном состоянии героя. В чём, собственно, трагедия Фауста на этом этапе его пути? Дух ему говорит:
Я в буре деяния, в житейских волнах,
В огне, в воде,
Всегда, везде,
В извечной смене
Смертей и рождений.
Я – океан
И зыбь развитья,
И ткацкий стан
С волшебной нитью,
Где, времени кинув сквозную канву,
Живую одежду я тку божеству.
А Фауст отвечает:
О деятельный гений бытия,
Прообраз мой! (355)
(Первая часть. Ночь)
Прежде чем исчезнуть, дух произносит слова, которые заключают в себе главное, к чему в этот момент устремлён Фауст:
О нет, с тобою схож
Лишь дух, который сам ты познаешь, -
Не я!
Поражённый увиденным, Фауст восклицает:
Не ты?
Так кто же?
Я, образ и подобье божье,
Я даже с ним,
С ним, низшим, несравним! (356)
(Первая часть. Ночь)
Эта встреча с духом земли объясняет, в чём заключается трагедия Фауста как учёного. Гёте был убежден: мы многое познаем с помощью разума, развитие науки это подтверждает. Но это не означает, что закономерности, которые ускользают от научного познания, не существуют в природе. Наука не способна открыть нам глубинные тайны бытия. Мы находим в науке лишь отражение путей нашего разума, но природа не исчерпывается теми закономерностями, которые он в ней открывает. Гегель считал, что природа – это отражение человеческого духа. Человек видит в ней самого себя, и это есть подлинная её сущность. Гёте так не думал. Природа, по его убеждению, – это тайна, и людям не дано постичь её до конца. А Фауста влекут эти запредельные, последние тайны. Он разочарован в науке как способе познания.
Затем появляется другой учёный – Вагнер. Он – верный ученик Фауста. О Вагнере нередко плохо отзываются, видят в нём лишь сухого, далёкого от жизни схоласта. Считается, что в образе Вагнера Гёте хотел показать тип учёного, который ищет знание лишь в книгах. Но на самом деле Вагнер – очень хороший, можно даже сказать, образцовый учёный, и с субъективной точки зрения и, как это выясняется позже, во второй части трагедии, с объективной. Вагнер абсолютно предан науке. Ради служения ей он отказался от всех обычных человеческих радостей, у него нет ни семьи, ни любимой женщины. Он всецело занят лишь своими изысканиями. Вагнер – настоящий подвижник науки.
Конечно, в нём ощутимы черты средневекового схоласта, но это объясняется тем, что в то время, когда возникла легенда о Фаусте, в XVI веке, существовала собственно лишь одна наука – схоластика. Кстати, её недооценивали. А это очень серьёзная наука. Она, правда, носит чисто умозрительный характер, но современное научное знание очень высоко ставит достижения схоластики. Кроме того, на образ Вагнера накладывается ещё и другое время – то, когда писал своё произведение Гёте. С этой точки зрения в образе Вагнера воплощен тип ученого-рационалиста эпохи Просвещения, который верит в разумную силу науки. По его мнению, «человек дорос, // чтоб знать ответ на все свои загадки». Он ждёт, что наука ему в этом поможет.
Вагнер с благоговеньем внимает Фаусту, который пытается убедить его в том, что книги не способны дать ответы на подобные вопросы. Но про себя он скажет так:
Меня леса и нивы не влекут
И зависти не будят птичьи крылья.
Моя отрада – мысленный полёт
По книгам, со страницы на страницу.
Зимой за чтеньем быстро ночь пройдёт,
Тепло по телу весело струится,
А если попадётся редкий том,
От радости я на небе седьмом. (357)
(Первая часть. У ворот)
Фауст же убеждён, что ключ к истине таится не на страницах книг. Из книг нам не узнать тайн бытия и никакими приборами не постичь сокровенную суть природы.
То, что она желает скрыть в тени
Таинственного своего покрова,
Не выманить винтами шестерни,
Ни силами орудья никакого. (358)
(Первая часть. Ночь)
Повторяю, Вагнер с точки зрения субъективной – хороший учёный, но есть и объективная сторона. Во второй части трагедии Вагнер в своей лаборатории создаёт искусственного человека. Причём, этому существу он даёт возможность решать такие задачи, которые не доступны человеческому уму. Гомункул, созданный Вагнером, явно превосходит своими способностями обычного, среднего человека. Единственное, чего Вагнеру не удалось, – он не сумел сотворить живого тела и живой души. Вагнер заточил созданное им существо в колбу. Ему удалось создать лишь мощный интеллект, и сам Гомункул очень этим тяготится.
Но, повторюсь, мы должны воспринимать «Фауста» сквозь призму и нашего времени тоже. И тогда мы увидим, конечно, что Гомункул – это некоторый прообраз компьютера, искусственного разума, изобретение которого стало одним из самых значительных достижений ХХ века. Компьютер способен решать такие задачи, которые не под силу человеку, а он делает это с фантастической быстротой. Кроме того, компьютер сохраняет в себе огромное количество информации. Однако живой души и живой плоти компьютер пока ещё лишён.
Поэтому Вагнер – хороший учёный.
Фауст же разочаровался в науке как таковой. Кстати, именно этим герой Гёте отличается от всех предшествующих образов: в дальнейшем он уже не вернётся к научным поискам. Фауст решает умереть. Этот мотив напоминает «Вертера», но у Фауста нет несчастной любви, которая бы, подобно Вертеру, заставляла его думать о самоубийстве. В его желании покончить с собой скрыт двоякий смысл. Во-первых, смерть, может быть, откроет Фаусту некую сокровенную тайну бытия, которая так его влечёт: в нём живёт необыкновенная жажда познания. А кроме того, возможно, существует бессмертие и переселение душ, и тогда он получит шанс начать новую жизнь в новом обличье и прожить её иначе, не так, как нынешнюю, в которой, посвятив себя науке, так и не нашёл ответов на мучающие его вопросы, не сумел по-настоящему ощутить даже то, что называется прозой жизни.
Фауст подносит к губам яд. Но в этот момент ему слышится пение ангелов, доносятся слова:
Христос воскрес!
Преодоление
Смерти и тления.
Славьте, селение,
Пашни и лес.
Фауст
Река гудящих звуков отвела
От губ моих бокал с отравой этой.
Наверное, уже колокола
Христову Пасху возвестили свету
И в небе ангелы поют хорал,
Который встарь у гроба ночью дал
Начало братству нового завета. (359)
(Первая часть. Ночь)
Это – особое пасхальное утро. Он видит радостных людей, направляющихся в храм на праздничную пасхальную службу, и в его воображении снова звучат слова ангельского хора:
Христос воскрес!
Пасха Христова
С нами, и снова
Жизнь до основы.
Вся без завес.
Будьте готовы
Сбросить оковы
Силой святого
Слова его,
Тленья земного,
Сна гробового,
С сердца любого
С мира всего. (360)
(Первая часть. Ночь)
Это пение и всеобщее пасхальное ликование останавливают Фауста. Он вспоминает своё детство. Сейчас он, может быть, уже утратил эту безоговорочную, искреннюю веру в Бога, его переполняют сомнения, но в детстве был полон веры.
Ведь чудо – веры лучшее дитя.
Я не сумею унестись в те сферы,
Откуда радостная весть пришла.
Хотя и ныне, много лет спустя,
Вы мне вернули жизнь, колокола,
Как в памятные годы детской веры,
Когда вы оставляли на челе
Свой поцелуй в ночной тиши субботней.
Ваш гул звучал таинственней во мгле,
Молитва с уст срывалась безотчётней.
Я убегал на луговой откос,
Такая грусть меня обуревала,
Я плакал, упиваясь счастьем слёз,
И мир во мне рождался небывалый.
С тех пор в душе со светлым воскресеньем
Связалось всё, что чисто и светло. (361)
(Первая часть. Ночь)
Это было, наверное, самое счастливое, самое светлое его время. Воспоминания о той поре, когда он разделял со всеми радость этого особенного пасхального утра, заставляют Фауста остаться жить.
И, может быть, под влиянием этих давних детских воспоминаний он берёт в руки «Евангелие», к которому давно уже не обращался. Фауст решает перевести начальные слова «Евангелия от Иоанна». Как известно, оно открывается словами: «В начале было Слово». (Первая часть. Рабочая комната Фауста). (362)
Фауст пробует перевести греческий текст, в котором использовано слово «логос». Он думает, что это неудачный перевод и надо бы сказать иначе. У него получается: «В начале мысль была». Ведь «слово», в сущности, это и есть мысль. Но и этот вариант кажется Фаусту неточным. «Была в начале сила» – заключает он далее. Дух – вторичен, первична же некая непостижимая сила, дающая всему начало. Однако и это его не устраивает. И тогда Фаусту приходит в голову перевод с точки зрения логики странный: «Сперва деянье было». Деянье не может быть «сперва», поскольку деянье – это всегда соединение духа и силы. Но то, что Фауст именно так перевёл эту начальную фразу, не случайно. Возможно, это был бы и не последний вариант, но в этот момент у ног Фауста появляется чёрный пудель, облик которого принял Мефистофель.
Мефистофель, в каком бы обличье не представал, всё равно – это бес, чёрт. Вот самое важное и самое точное, что можно сказать об этом персонаже. Но к этому следует ещё кое-что добавить. Образ чёрта вообще очень изменчив. На протяжении веков, бесспорно, менялся и образ Бога. Есть верховное божество языческих религий, Бог христианский, мусульманский и т.д. Но представление о Боге менялось очень медленно и на очень больших исторических промежутках. А вот образ чёрта куда более подвижен. Каждая историческая эпоха, в сущности, рождала свой собственный образ: существовали чёрт Средневековья, чёрт эпохи Возрождения, XVII века, XVIII, XIX веков, чёрт века XX, наконец. Кроме того, разные национальные культуры привносили в этот образ свои уникальные особенности. Есть русский чёрт, есть немецкий, французский, английский. Так вот, если наиболее точно охарактеризовать образ Мефистофеля в трагедии Гёте, – это немецкий чёрт XVIII века. Он образован, между прочим, просвещён настолько, что может вести разговоры с учениками Фауста.
Дело в том, что это разнообразие – естественно, зло вообще куда более разнообразно, чем добро. Уродство более разнообразно, чем красота. Существуют, конечно, и разные формы красоты, но формы уродства – бесконечны. Поэтому и форм зла гораздо больше. Что Гёте вкладывал в понятие зла и что воплощено в образе Мефистофеля?
Сам Мефистофель, представляясь Фаусту, скажет о себе:
Я дух, всегда привыкший отрицать.
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творенье не годится никуда.
Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятьем разрушенья, зла, вреда.
Вот прирожденное мое начало,
Моя среда. (363)
Итак, для Гёте зло – это силы разрушения, а добро – силы созидания в самом широком смысле слова.
Что такое силы разрушения? В сущности, это – естественные процессы природы. На современном языке это называется – энтропия. Все естественные процессы в нашей земной действительности в конечном итоге направлены к разрушению. Всё в конце концов приходит в негодность: люди стареют и умирают, предметы ветшают и выходят из строя, даже камни рассыпаются, превращаясь в песок. Таков естественный порядок вещей, и поэтому созидать – значит противостоять разрушению. Приведу простые, совсем элементарные примеры, с которыми каждый знаком по собственному опыту. Для того чтобы в комнате стало грязно, делать ничего не нужно. Никаких усилий для этого не требуется. А вот чтобы было чисто – необходимо постараться. Если не делать уборку в течение нескольких дней, обязательно станет грязно. То есть всякое разрушение – естественно. Созидание же – это некий обратный, противостоящий разрушению процесс. Все разрушения, кстати, происходят крайне стремительно, созидание же медленно и всегда требует осознанных действий.
В принципе, что для человека более естественно: трудиться или лениться? Конечно, лениться. Например, приходят студенты сдавать экзамен, и начинается: «Я читал, но ничего не помню, у меня плохая память». Но причём здесь память! Забывать, в общем-то, абсолютно нормально, это естественный процесс… Но не в день экзамена. Чтобы помнить, требуются усилия.
В «Фаусте» есть очень существенная фраза, которую часто цитируют. Булгаков даже поставил эти слова эпиграфом к своему роману «Мастер и Маргарита». Их произносит Мефистофель, представляясь Фаусту: «Я часть той силы, что без числа // Творит добро, всему желая зла». (364)
Это важные слова, но их не всегда правильно истолковывают. Чаще всего эти слова понимаются односторонне, но то, что включает в себя такая трактовка, справедливо. Гёте, безусловно, верил в то, что добро сильнее зла, и оно в конце концов побеждает. Но он понимал и другое: именно силы разрушения подталкивают к созиданию. С разрушением нужно бороться, силам разрушения приходится всё время противодействовать, и это, в сущности, стимулирует прогресс, зло в конечном итоге способствует добру.
Однако есть и другое, и не менее важное. Дьявол – это не просто силы разрушения. Дьявол – тот, кто желает зла, даже если творит добро. Поэтому надо видеть обе части этого высказывания. Гёте многое готов простить тем, кто, желая добра, творит зло, но к тем, кто осознанно выбирает зло, он беспощаден.
Итак, здесь возникает второй спор трагедии – спор Фауста с Мефистофелем. Они заключают своего рода договор, условие которого для Фауста следующее:
Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!-
Всё кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни.
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен, – я закабален,
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон. (365)
(Часть первая. Рабочая комната Фауста)
Этот договор в трактовке Гёте резко отличается от всех предшествующих. В легендах договор заключался на двадцать четыре года, и никакой надежды на спасение души у Фауста не оставалось. В трагедии же Гёте финал остаётся открытым: Фауст соглашается на сделку с дьяволом, но его душа может и не попасть в ад, что, собственно, и происходит. По условию договора Фауст должен пожелать остановить мгновение. А если он этого не сделает, душа его отправится на небеса. В прежних версиях легенды всё было предрешено, а в трагедии Гёте есть чёткое условие…
Теперь о смысле такого условия. Тут тоже всё не так просто. Мефистофель, как было сказано ещё в «Прологе на небе», всё отрицает, во всём видит лишь дурное. И всё же, предлагая Мефистофелю повести Фауста за собой, Бог полагает, что тот будет полезен человеку. Мефистофель, по божьему замыслу, будет тормошить Фауста, не давать ему ни в чём найти успокоение. Мефистофель, кстати, порой даже мешает Фаусту, удерживает его от желания остановиться. Есть моменты, когда Фауст, может, и готов был воскликнуть: «Мгновение, повремени!», а Мефистофель удерживал его, хотя и утверждал, что это в его собственных интересах.
Казалось бы, это противоречит договору. Но на самом деле Гёте отмечает, что главный спор для Мефистофеля – это спор с Богом. Ему необходимо доказать Создателю, что его творение «никуда не годится». Если Фауст пожелает остановиться на чём-то высоком, спор будет проигран. Мефистофель же стремится доказать, что человек по сути своей ничтожен. Мефистофелю нужно, чтобы человек решил удержать какое-нибудь малозначительное, низменное мгновение, тогда он восторжествует.
Теперь, что касается Фауста… Когда Фауст соглашается на это условие, он хочет лишь сказать, что успокоенья никогда не пожелает:
Пусть мига больше я не протяну,
В тот самый час, когда в успокоенье
Прислушаюсь я к лести восхвалений,
Или предамся лени или сну,
Или себя дурачить страсти дам, –
Пускай тогда в разгаре наслаждений
Мне смерть придет!
<…>
Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!» -
Всё кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни. (366)
(Часть первая. Рабочая комната Фауста)
То есть, заключая договор с Мефистофелем, Фауст уверен, что из этого ничего не выйдет…
Вообще, гётевский «Фауст» по-разному прочитывался в разные эпохи, и в зависимости от того, как его понимали, считались главными те или иные строки. Существовало три основных точки зрения на «Фауста». Белинский, трактуя произведение Гёте, считал, что в Фаусте живут как бы две души, которые он не может примирить меж собой. Слова Фауста о двух душах Белинский считал ключевыми. Важнейшими считались также слова последнего монолога Фауста о том, что смысл человеческого существования заключён в труде. Фауст созидает, и это высшее проявление его души. Поколение Блока было склонно видеть самыми значимыми слова мистического хора, которыми завершается «Фауст», о том, что «всё быстротечное – символ, сравненье», и потому истина находится по ту сторону реальности. «Вечная женственность тянет нас к ней» (Вторая часть. Горные ущелья, лес, скалы, пустыня). (367)
Сам Гёте считал главными совсем другие строчки…
И надо сказать, ни одно из этих утверждений нельзя считать ошибочным. Всё это, действительно, наиболее значимые строчки «Фауста». Тем не менее, вернёмся к первому варианту, о наличии двух душ. Фауст говорит Вагнеру ещё в самом начале:
Ты верен весь одной струне
И не задет другим недугом,
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнёт к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.
О, если бы не в царстве грёз,
А в самом деле вихрь небесный
Меня куда-нибудь унёс
В мир новой жизни неизвестной!
О, если б плащ волшебный взяв,
Я б улетал куда угодно! –
Мне б царских мантий и держав
Милей был этот плащ походный. (368)
(Часть первая. У ворот)
Итак, в Фаусте живут как бы две души. Одна тянет его к сугубо земному, материальному, другая не способна удовлетвориться ничем конечным. Вся трагедия Фауста в том, что он не может примирить в себе эти крайности. Если человек целиком устремлён ввысь, в какую-то неведомую, бесконечную даль, то ищет смысл жизни в чём-то запредельном. А Фауста в равной степени влечёт и земное. Поэтому он всё же хотел бы пережить мгновение, которому мог бы сказать: «Повремени!» Это означало бы преодолеть эту мучающую его изначальную двойственность, обрести в земном – небесное, а в небесном – земное. Он хотел бы это испытать, хотя и убеждён, что подобное невозможно.
Но возникает вопрос: зачем Фаусту нужен договор с дьяволом? Для чего он на это идёт? Дело в том, что Фауст не ищет счастья. Он говорит Мефистофелю:
О радостях и речи нет.
Скорей о буре, урагане,
Угаре страсти разговор.
С тех пор как я остыл к познанью,
Я людям руки распростёр.
Я грудь печалям их открою
И радостям – всему, всему
И всё их бремя роковое,
Все беды на себя возьму. (369)
(Часть первая. Рабочая комната Фауста)
Фауст во что бы то ни стало, любой ценой стремится развернуть заложенные в нём силы. Он чувствует их в себе и хочет их высвободить, чтобы ощутить всю полноту жизни. Но для этого ему необходим Мефистофель. В переводе Пастернака это звучит так: «Со всех приманок снят запрет». Однако более точным будет перевести эту строчку Гёте иначе: «Для тебя ни в чём не будет границ и пределов». Это главное его условие. Те ограничения, которые поставлены Фаусту самой природой и обществом, Мефистофель обещает устранить. Поэтому Фауст и заключает этот договор.
Вообще, договор Фауста с Мефистофелем – это союз и противостояние одновременно. Мефистофель – его помощник и должен исполнять любые его желания, устранять ограничения, которые так мешают Фаусту. Но, с другой стороны, Фауст понимает, что идёт на сговор с дьяволом, а это опасно. Ему кажется, что дьявол всё-таки не сумеет его одолеть.
Для понимания глубинной сущности Фауста очень важны те моменты, в которые он оказывается наиболее близок к тому, чтобы произнести роковые слова и остановить мгновенье. Первое «прекрасное мгновение» Фауста, кстати, это первая часть книги, – эпизод с Маргаритой. Два следующих относятся ко второй части трагедии. Второй момент – это эпизод с Еленой, в котором Фауст женится на легендарной античной красавице. И, наконец, третий момент – разгар практической деятельности Фауста, эпизод, в котором Мефистофелю кажется, что он выиграл пари. Все три эпизода никакого отношения к науке не имеют. В первом это – любовь. Эпизод с Еленой сложный, но, во всяком случае, главное в нём – красота, искусство. И наконец третий эпизод – это труд, практическая деятельность. С наукой Фауст покончил навсегда.
Фауст горячо этого желал, когда готов был принять яд:
Наук зерно
Погребено
Под слоем пыли.
Кто не мудрит,
Тем путь открыт
Без их усилий. (370)
(Часть первая. Кухня ведьмы)
Так это звучит в переводе Б. Пастернака. Вообще слово «мудрить» в русском языке имеет значение, близкое скорее к «умничать», в немецком такого смыслового оттенка нет: «Кто не размышляет, тому путь открыт». Фауст размышляет, а не мудрит. Но надо жить, а не размышлять. Теперь «наук зерно погребено под слоем пыли». Для познания это наиболее верный способ: мы знаем жизнь не потому, что мы её изучаем, а потому что – живём. Никакие инопланетяне не поймут нашу жизнь.
И первое серьёзное испытание, первый соблазн, который возникает перед Фаустом – это женщина. Дело в том, что Гретхен или Маргарита, её имя по-разному произносят, – это образ прекрасной женщины, как понимал его Гёте. Это не столько индивидуальный, сколько родовой образ женского начала вообще. Недаром в финале образ Маргариты сольётся с образом вечной женственности. Маргарита, кстати, не отличается особой красотой. Прекрасна Елена, а Маргарита, может быть мила, но не более того. Не отличается она и особым умом. Сила Маргариты в её женственности. Всё, что Гёте вкладывал в это понятие, заключено в этом образе. В Маргарите совмещены все составляющие женского естества. Она предстаёт как дочь, сестра, показана как мать, правда не для своего ребёнка, которого убила: она по-матерински относится к своей маленькой сестре, которой когда-то заменила мать.
Сестра на свет явилась в страшный год
Отцовой смерти. Я была ей няней.
Мать поручила мне за ней уход,
Сама ж тогда лежала без сознанья,
Мы полагали, что она умрёт.
Кормить дитя в теченье этих дней
Тогда нельзя и думать было ей.
Я молоком с водой сестру вскормила.
И на моих руках, всегда со мной
Она росла, смеялась и шалила.
«И это было радостью живой?» – спрашивает её Фауст.
Но временами я теряла силы.
Стояла ночью рядом колыбель.
Проснусь, чуть двинется она, бывало,
Сестре дам молока, возьму в постель,
А если этого крикунье мало,
Пойду качать, закутав в одеяло,
И ноги оттопчу до хромоты,
А поутру на рынке, у плиты
Или за постирушкой у корыта
Почувствуешь себя такой разбитой!
Зато как сладок съеденный кусок,
Как дорог отдых и как сон глубок! (371)
(Часть первая. Сад)
Но прежде всего у Гёте Маргарита показана как возлюбленная. Полнее всего она раскрывается именно в своём чувстве к Фаусту. То, за что он любит Маргариту и что сам Гёте более всего ценил в женщине, – это преданность. Маргарита с самого начала предчувствует, что встреча с Фаустом не принесёт ей счастья. И всё-таки она любит его. Даже после всего, что случилось. Она убила мать, хоть и не хотела этого. Фауст дал ей сонный порошок для матери, а оказалось – яд, и она невольно стала матереубийцей, усыпила мать до смерти. Она виновна в гибели брата. Это из-за неё он вступил в поединок с Фаустом и погиб. И в конце концов она губит своего ребёнка – дочь, которую младенцем утопила в пруду. Фауст толкает её на чудовищные преступления. Но она ни в чём его не упрекает, продолжает любить. И хотя она навеки рассталась с Фаустом, всё же последние слова, которые она произносит, умирая, – это его имя: «Генрих, Генрих».
Взаимоотношения Фауста с Маргаритой проходят сложные этапы. Сначала он видит отражение волос в зеркале. Мефистофель ему говорит, что это – слепая страсть, и любая девушка, которая ему теперь встретится, сойдёт за прекрасную Елену. Первая, кого он видит по дороге, – это Маргарита. Она ему понравилась, и он требует от Мефистофеля, чтобы тот немедленно устроил им свидание. Мефистофель объясняет, что сразу не получится, нужно время… В общем, рассуждает как француз.
Но Фауст не француз. Он – немец, и в Дон Жуана превращается лишь в тот момент, когда оказывается в комнате Маргариты. Высшая точка его любви – это сцена «Лесная пещера». Дело в том, что он тоже понимает, что ничего хорошего Маргарите его любовь не принесёт. Конечно, он омолодился, и в нём кипят страсти. Но, с другой стороны, он прожил уже достаточно и знает, что любовница не составит смысл его жизни. И поэтому решает, что было бы благородным отказаться от Маргариты. Он радуется тем чувствам, которые теперь испытывает, но считает нужным с ней расстаться, потому что понимает, что с ней он не останется.
И всё же в эту минуту в лесной пещере ему кажется, что любовь может открыть ему всё то, что когда-то он пытался постичь при помощи науки:
Пресветлый дух, ты дал мне, дал мне всё,
О чём просил я. Ты не понапрасну
Лицом к лицу явился мне в огне.
Ты отдал в пользованье мне природу,
Дал силу восхищаться ей. Мой глаз
Не гостя дружелюбный взгляд без страсти, –
Но я могу до самого нутра
Заглядывать в неё, как в сердце друга.
Ты предо мной проводишь череду
Живых существ и учишь видеть братьев
Во всём: в зверях, в кустарнике, в траве.
Когда ж бушует буря в тёмной чаще
И, рушась наземь, вековая ель
Ломает по пути стволы и сучья,
И грохоту паденья вторит даль,
Подводишь ты меня к лесной пещере,
И там, в уединённой тишине,
Даёшь мне внутрь себя взглянуть, как в книгу,
И тайны увидать и тьмы чудес.
Я вижу месяц, листья в каплях, сырость
На камне скал и на коре дерев,
И тени движущихся туч похожи
На чудищ первобытной старины.
Как ясно мне тогда, что совершенства
Мне не дано. В придачу к тяге ввысь,
Которая роднит меня с богами… (372)
(Первая часть. Лесная пещера)
Фаусту кажется, что ему открылось нечто новое, некое тайное звучание природы, которое не было ему доступно прежде, пока он жил лишь наукой. Наконец-то он постиг то, к чему так стремился. Но этот высокий миг Фауста, когда он почти готов был сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», разрушает Мефистофель. Он доказывает иллюзорность того, что переживает Фауст. Во-первых, какая гармония природы, о чём он? Никакой гармонии нет даже в собственной природе человека. Страсти влекут Фауста к Маргарите, а разум убеждает, что он не должен к ней приближаться. Когда нет внутренней гармонии, откуда ей взяться вокруг. Сначала нужно найти гармонию внутри себя, а уж потом искать её в мире.
Кроме того, может быть, это добродетельно и благородно, но зачем тогда Фауст заключал договор? И, наконец, разве этого ждёт от него Маргарита? «Какая грязь»! – восклицает Фауст. На что Мефистофель замечает:
Вся кровь от ярости зажглась!
Как твой стыдливый дух тревожит,
Едва я прямо назову
То, без чего по существу
Твоя стыдливость жить не может!
Ну что же, лги и лицемерь,
Насколько совести хватает,
Однако вот о чём теперь:
В своей конурке Гретхен тает,
Она в тоске, она одна,
Она в тебе души не чает,
Тобой жива, тобой полна.
Её любовь, как ширь разлива,
Без удержу, без берегов,
А сам ты присмирел трусливо
И руки умывать готов!
Чем созерцать, как за опушкой
Мерцает хор ночных светил,
Ты б приунывшую подружку
За жар любви вознаградил! (373)
(Первая часть. Лесная пещера)
И Фауст не может не согласиться с подобными аргументами.
Он решает: будь что будет – и целиком отдаётся своему чувству. А дальше всё происходит, как я уже упоминал. Он вручает Маргарите флакон с ядом, выдав его за сонные капли, и она становится матереубийцей. А когда приезжает брат Маргариты, Валентин, и узнаёт о её связи с Фаустом, он вызывает Валентина на дуэль и, подталкиваемый Мефистофелем, закалывает шпагой. Маргарита оказывается также невольной виновницей гибели брата.
Затем Мефистофель уводит Фауста на шабаш ведьм. Сколько он там пробыл, сказать трудно, время здесь не определяется. Эпизод «Вальпургиева ночь» – это погружение Фауста в мир чувственных наслаждений. И это как раз то, чего добивался Мефистофель. Теперь Фаусту всё равно, что за женщина с ним рядом, пусть даже ведьма. Кстати, есть прямая связь этой сцены со сценой в саду, где Фауст прогуливался с Маргаритой, а Мефистофель с Мартой, и произошло первое признание Фауста в любви к Маргарите. Здесь Фауст танцует с молодой ведьмой, а Мефистофель – со старой. Молодая ведьма как бы заменяет Фаусту Маргариту. Впрочем, ему уже всё равно. Он и сам признаётся, что ему, подобно герою стихотворения А. Блока,
…стало всё равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача…
И всё равно, чей вздох, чей шёпот,—
Быть может, здесь уже не ты…
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далёкой высоты…
(«Своими горькими слезами…», 1908)
Этого-то как раз и хотел Мефистофель: добиться, чтобы Фауст нашёл удовлетворение в чувственных страстях. Но происходит нечто неожиданное: из уст новой спутницы Фауста выскакивает мышонок. Ему становится противно. И тут он замечает тень Маргариты с колодками на ногах. Фауст точно очнулся в этот момент, он узнаёт, что Маргарита в тюрьме.
Сцена «Пасмурный день. Поле» занимает особое место в трагедии: это единственная сцена в «Фаусте», написанная прозой. Фауст вспоминает о Маргарите: «Одна, в несчастье, в отчаянье! Долго нищенствовала, и теперь в тюрьме! Под замком, как преступница, осуждённая на муки, – она, несравненная, непорочная! Вот до чего дошло! – И ты допустил, ты скрыл это от меня, ничтожество, предатель! – Можешь торжествовать теперь, бесстыжий, и в дикой злобе вращать своими дьявольскими белками! Стой и мозоль мне глаза своим постылым присутствием! Под стражей! В непоправимом горе! Отдана на расправу духам зла и бездушию человеческого правосудия! А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас её положения, чтобы она погибла без помощи» (Первая часть. Пасмурный день. Поле). (374)
А что на это ему отвечает Мефистофель?
– Она не первая…
Эти слова изумляют Фауста. Человек подобное сказать не может! «…Вездесущий дух <…> Возврати ему его излюбленный вид, чтобы он ползал передо мною на брюхе и я топтал его, презренного, ногами! – Не первая!– Слышишь ли ты, что говоришь? Человек не мог бы произнести ничего подобного! Точно мне легче оттого, что она не первая, что смертных мук прежних страдалиц было недостаточно, чтобы искупить грехи всех будущих! Меня убивают страдания этой единственной, а его успокаивает, что это участь тысяч». (Первая часть. Пасмурный день. Поле). (375)
Я не хочу отрицать значение такой вещи, как статистика, но всё-таки то, о чём говорит здесь Гёте, справедливо. Когда нам сообщают, допустим, что всего лишь несколько человек погибло, а могло бы и больше, – убеждаешься в этом. Гёте же хочет сказать, что каждая потерянная жизнь – это катастрофически много.
Фауст требует от Мефистофеля, чтобы тот открыл двери темницы. Мефистофель готов это сделать, но вывести Маргариту на волю может только Фауст.
Сцена «Тюрьма». Маргарита безумна. Вначале она даже не узнаёт Фауста и говорит о том, что очень боится предстоящей казни. Но когда Фауст восклицает её имя, Маргарита точно приходит в сознание:
То голос друга, как когда-то!
Спасенье! Наше место свято!
(Вскакивает. Цепи падают).
Не страшно ничего ничуть!
Ушам поверить я не смею,
Где он? Скорей к нему на шею!
Скорей, скорей к нему на грудь!
Сквозь мрак темницы неутешный,
Сквозь пламя адской тьмы кромешной
И улюлюканье и вой
Он крикнул «Гретхен!», милый мой!
<…>
Ты тут? О, повтори!
Он тут! Он тут! Он всё исправит!
Где ужас завтрашней зари?
Где смерть? Меня не обезглавят!
Я спасена!
Я в мыслях у того угла,
Где встретила тебя впервые.
Вот сад и деревца кривые,
Где с Мартой я тебя ждала.
Однако Маргарита сразу же начинает ощущать перемену, произошедшую в Фаусте:
Разлуки срок был невелик,
А ты от ласк совсем отвык
И холоден к моим объятьям!
Что мне с тобой такая жуть?
Ты разучился целоваться!
Бывало, станем обниматься,
И страшно, – разорвётся грудь,
И вдруг – какой-то холод, муть!
Целуй меня! Ах, ты так вял!
Тебя сама я поцелую!
(Обнимает его.)
Какой ты равнодушный стал!
Где растерял ты страсть былую?
Ты мой был. Кто тебя украл? (376)
(Первая часть. Тюрьма)
Этот холод имеет двоякий смысл. С одной стороны, после Вальпургиевой ночи, может быть, уже поутихла страсть Фауста к Маргарите. Для него «что было – поросло быльём». Теперь им движет скорее долг, чем чувства. А кроме того, это выражение его связи с Мефистофелем. «Мне нет с тобой удачи, – скажет Маргарита, – и холод твой страшит».
С самого начала, с того самого момента, когда они впервые встретились с Фаустом, она ненавидит Мефистофеля. Маргарита считает его приятелем Фауста и никак не может понять этой дружбы. Кстати, она всё время спрашивает, верит ли Фауст в Бога. Она, собственно, не религиозными убеждениями Фауста интересуется. Маргариту волнует его связь с дьяволом, и душевный холод, который она ощущает, – выражение этой связи.
Усыпила я до смерти мать,
Дочь свою утопила в пруду.
Бог думал её нам на счастье дать,
А дал нам на беду.
Ты здесь? И это не во сне?
Всё время я в бреду.
Ты не ушёл? Дай руку мне.
О, милая рука!
Но в чём она? Ах, узнаю.
Она в крови слегка.
Вину твою мы скрыть должны,
Ах, шпагу убери свою,
Вложи её в ножны.
<…>
Останься в живых, желанный,
Из всех нас только ты
И соблюдай сохранно
Могильные цветы.
Ты выкопай лопатой
Три ямы на склоне дня
Для матери, для брата
И третью для меня.
Мою копай сторонкой,
Невдалеке клади
И приложи ребёнка
Тесней к моей груди. (377)
(Первая часть. Тюрьма)
Маргарита вспоминает своего новорождённого ребёнка, которого утопила. На пригорке ей видится отравленная мать:
Она кивает головой,
Болтающейся, неживой,
Тяжёлою от сна.
Ей никогда не встать. Она
Старательно усыплена
Для нашего веселья.
Тогда у нас была весна.
Где вы теперь, те времена?
Куда вы улетели?
Но вот вновь появляется Мефистофель:
Бегите, или вы пропали.
Все эти пререканья невпопад!
Уж светится полоска небосклона,
И кони вороные под попоной
Озябли, застоялись и дрожат.
Маргарита
Кто это вырос там из-под земли?
Он за моей душой пришёл, презренный!
Но стены божьего суда священны!
Скорее прочь уйти ему вели!
Фауст пытается её успокоить:
Ты будешь жить! Живи! Ты жить должна!
Но в ответ слышит лишь одно:
Я покоряюсь Божьему суду.
Маргарита ищет защиты у небес:
Спаси меня, отец мой в вышине!
Вы, ангелы, вокруг меня, забытой,
Святой стеной мне станьте на защиту!
Ты, Генрих, страх внушаешь мне.
Мефистофель восклицает:
Она
Осуждена на муки! (378)
(Первая часть. Тюрьма).
Но в этот момент раздается голос свыше: «Спасена!». Это голос самого Бога.
Маргарита совершила ужасные преступления, страшнее, кажется, и не бывает. Она – матереубийца, братоубийца, детоубийца… Однако она заслуживает спасения….
Почему Маргарита спасена? Как известно, в Нагорной проповеди Христос учил людей тому, что мало соблюдать законы. Главное – сохранять душевную чистоту. Поэтому важно не только «не убий», но и – не помысли об убийстве, не только «не прелюбодействуй», но и «не желай жены ближнего твоего»… Гёте несколько переиначивает эту мысль Христа: Бог милосерден и может простить всякого, но только если человек сохраняет чистоту помыслов, если искренне, всей душой стремится к добру…
Первая часть «Фауста», по определению самого Гёте, посвящена малому миру: здесь он изображает в основном частную жизнь Фауста и тот смысл, который его герой может обрести в ней как индивид. Но в то же время, этот первый эпизод имеет и определенный исторический смысл, если рассматривать его в контексте произведения в целом. Мир Маргариты – это мир старой доброй патриархальной Германии, который поэтизировали европейские сентименталисты – Руссо, Шиллер, да и сам Гёте, воспевший его в образе Лотты, героини «Страданий юного Вертера». В «Фаусте» сердце этого патриархального мира – Маргарита, совесть его – Валентин.
Любовь Фауста к Маргарите неотделима от мира, к которому она принадлежит. В то пасхальное утро, когда он помышлял о самоубийстве и когда произошла его первая встреча с Мефистофелем, он вспоминал своё детство и этот старый патриархальный уклад, от которого так отдалился. Сближение с Маргаритой – отчасти возвращение к этому миру. Вначале он видит в ней лишь привлекательную девушку, любовью которой мог бы насладиться. Но его чувства приобретают совершенно иной характер, когда он впервые приходит в дом Маргариты:
Любимой девушки покой,
Святилище души моей,
На мирный лад меня настрой,
Своею тишиной обвей!
Невозмутимость, тишь да гладь,
Довольство жизнью трудовой
Кладут на всё свою печать,
Налёт неизгладимый свой,
<…>
Ты, кресло дедов, патриарший трон!
Как гомозились, верно, ребятишки
Вокруг тебя, когда семьи патрон
Здесь опускался в старческой отдышке!
А внучка отделялась от кружка
Толпившихся пред ёлкою товарок
И целовала руку старика
В признательность за святочный подарок.
О девушка, как близок мне твой склад!
Ни пятнышка кругом! Как аккуратно
Разложен по столу узорный плат
И как песком посыпан стол опрятно!
Ты превратила скромный уголок
Рукою чудотворною в чертог. (379)
(Первая часть. Тюрьма)
Но в то же время Гёте показывает и изнанку этого мира в «Фаусте». Не только Маргарита и Валентин являются его частью, но и Марта и Лизхен. Сама Маргарита вступает с этим миром в конфликт. Не только Фауст её губит, но и этот мир обрекает её на гибель, потому что она нарушила его законы, и её ждет смертная казнь. Но вот Мефистофеля, врага этого мира, Маргарита ненавидит с самой первой встречи, с того самого момента, когда она впервые его увидела. Она даже начинает сомневаться в своей любви к Фаусту, настолько её отталкивает Мефистофель:
Он мне непобедимо гадок.
В соседстве этого шута
Идёт молитва на уста,
И даже, кажется, мой милый,
Что и тебя я разлюбила,
Такая в сердце пустота! (380)
(Первая часть. Сад Марты)
Недаром, когда она видит Мефистофеля рядом с Фаустом, пришедшим за ней в темницу, она окончательно отказывается от бегства. Мефистофель – враг, разрушитель этого мира.
И всё же, желая зла, Мефистофель совершает благо. Он заставляет Фауста продолжить поиски.
Вторая часть «Фауста» открывается сценой, в которой мы видим Фауста лежащим в сумерках на цветущем лугу. Он почти что мёртв. Сам Гёте писал: «Если подумать о том, какой кошмар обрушился на Гретхен, а затем стал для Фауста душевным потрясением, то мне не оставалось ничего другого, кроме того, что я действительно сделал. Герой должен был оказаться полностью парализованным, как бы уничтоженным, чтобы затем из этой мнимой смерти возгорелась новая жизнь. Мне пришлось искать прибежища у могущественных добрых духов, которые существуют в традиции добрых эльфов. Это было состраданием и глубочайшим милосердием. Здесь появляются духи Ариэля, взятые из последних шекспировских трагедий. Они как бы возрождают Фауста. Фауст из смерти приходит к новой жизни – он пробуждается к новой жизни».
Это пробуждение и составляет содержание второй части «Фауста».
Опять встречаю свежих сил приливом
Наставший день, плывущий из тумана.
И в эту ночь, земля, ты вечным дивом
У ног моих дышала первозданно.
Ты пробудила вновь во мне желанье
Тянуться вдаль мечтою неустанной
В стремленье к высшему существованью. (381)
(Вторая часть. Акт первый. Красивая местность)
Важна символика сцены – это рассвет, восход солнца. Вообще вся вторая часть трагедии проникнута символикой; очевидно реалистичных, как в первой части, эпизодов здесь почти нет: всё носит символический характер. Так вот, солнце – это тоже символ, символ света, светлого начала…
Но Фауст не может смотреть на солнечный свет прямо:
Нет, солнце, ты милей, когда ты – сзади.
Передо мной в сверканье водопада
Я восхищен, на это чудо глядя.
Вода шумит, скача через преграды,
Рождая гул и брызгов дождь ответный
И яркой радуге окрестность рада,
Которая игрою семицветной
Изменчивость возводит постоянство,
То выступая слабо, то заметно,
И отдает прохладою пространство.
В ней – наше зеркало. Смотри, как схожи
Душевный мир и радуги убранство!
Та радуга и жизнь – одно и то же… (382)
(Вторая часть. Акт первый. Красивая местность)
Фауст не может вынести этих ярких солнечных лучей.
Нас может уничтожить это пламя,
И вот мы опускаем взор с боязнью
К земле, туманной в девственном наряде,
Где краски смягчены разнообразней. (383)
(Вторая часть. Акт первый. Красивая местность)
Он не в силах смотреть на солнце прямо: может видеть только радугу. И это тоже носит очень важный символический смысл. Людям не дано видеть истину во всей её полноте и мощи. Нам доступна лишь радуга – отражение.
Возрождённого к жизни Фауста Мефистофель ведёт к императору. Вообще, вторая часть, в отличие от первой, делится на акты, и одна из первых сцен её озаглавлена «Императорский дворец». Мир, который изображает здесь Гёте, пребывает в состоянии кризиса. Это средневековая Европа, если соотнести эпизод с легендой о Фаусте. А если связать это с другим периодом, временем самого Гёте, – это пора Великой Французской революции, которой завершалась феодальная эпоха. Это драматичное, глубоко кризисное время:
Лишь выглянь из дворцового окна,
Тяжёлым сном представится страна.
Всё, что ты сможешь в ней окинуть оком,
Находится в падении глубоком,
Предавшись беззаконьям и порокам.
Тот скот угнал, тот спит с чужой женой,
Из церкви утварь тащат святотатцы,
Преступники возмездья не боятся
И даже хвастают своей виной.
В суде стоят истцы, дрожа,
Судья сидит на возвышенье,
А рядом волны мятежа
Растут и сеют разрушенье.
Но там, где все горды развратом,
Понятья перемешав,
Там правый будет виноватым,
А виноватый будет прав.
Не стало ничего святого.
Все разбрелись и тянут врозь.
Расшатываются основы,
Которыми всё создалось.
И честный человек слабеет,
Так всё кругом развращено.
Когда судья карать не смеет,
С преступником он заодно. (384)
<…>
Не стало мирного приюта.
Везде усобицы и смуты,
Нужна жестокая борьба,
А власть верховная слаба.
<…>
Во многих землях бунт в разгаре,
А где не буйствуют низы,
Не замечают государи
Над ними виснущей грозы. (385)
Это мир, где всё разрушено, где все нормы, считавшиеся прежде незыблемыми, словно утратили своё значение. Это общество, которое, кажется, уже ни на что не способно, разве что – устраивать карнавальные праздники. На одном из таких карнавалов, которым завершается первый акт, Фауст решает вызвать призрак Елены, легендарной античной красавицы. Это второй важнейший эпизод в трагедии. И в этой затее Фаусту тоже, конечно, не обойтись без помощи Мефистофеля.
Но сначала Фаусту необходимо направиться к Матерям.
Что такое этот образ Матерей в трагедии Гёте?
Да. Матери… Звучит необычайно.
<…>
Всегда такими и бывают тайны.
Да и нельзя иначе. Сам прикинь:
Мы вызываем нехотя богинь,
А нам непостижимы их глубины.
Они нужны нам, ты тому причиной.
Фауст
Где путь туда?
Мефистофель
Нигде. Их мир – незнаем,
Нехожен, девственен, недосягаем,
Желаньям недоступен. Ты готов?
Не жди нигде затворов и замков.
Слоняясь без пути пустынным краем,
Ты затеряешься в дали пустой.
Достаточно ль знаком ты с пустотой? (386)
(Вторая часть. Акт первый. Темная галерея)
Прежде чем отправиться в путь, Фауст спрашивает у Мефистофеля, какое направление ему выбрать. Но у Мефистофеля на это нет ответа:
Тогда спустись! Или: «направься ввысь»
Я б мог сказать. Из мира форм рождённых
В мир их прообразов перенесись,
В следы существований прекращённых,
Давным-давно прервавшихся, всмотрись.
Но, чтобы их держать на расстоянье,
Размахивай своим ключом в тумане.
<…>
Когда увидишь жертвенник в огне,
Знай, кончен спуск, и ты на самом дне.
Пред жертвенником Матери стоят,
Расхаживают, сходятся, сидят.
Там вечный смысл стремится к вечной смене.
От воплощенья к перевоплощенью.
Они лишь видят сущностей чертеж
И не заметят, как ты подойдёшь. (387)
(Вторая часть. Акт первый. Темная галерея)
Возможно, подобный образ возник у Гёте не без влияния Платона, который считал, что нашей привычной реальности «рождённых форм» предшествуют некие идеальные первообразы, и всё, что окружает человека в материальном мире, есть лишь проекция этого запредельного духовного мира. Но в трагедии это имеет и вполне реальный, конкретный смысл. Гёте, кроме того, что был великим поэтом и писателем, увлекался ещё и естественными науками. И, собственно, модель первообраза он видел в семени, которое является прообразом любого растения. Мы бросаем семя в почву, и из него вырастает цветок, колос, дерево… В этом зерне изначально заложена вся его программа, если выражаться современным языком, то, что мы называем теперь генотипом. Мир первообразов для Гёте – это реальность, имеющая своё проявление в природе. Это идеал, который, конечно, не всегда может воплотиться в действительности, для этого нужны особые благоприятные условия, но как программа, некий чертёж будущего, существует изначально. Таков мир Матерей – мир идеальной философии. Это первый смысловой пласт… Не случайно Мефистофель замечает: «Так вечный смысл стремится в вечной смене // От воплощенья к перевоплощенью».
Однако для Гёте мир первообразов, кроме естественного, природного, имеет ещё и определенный духовный смысл. Это своего рода матрицы, которые лежат в основе нашего сознания и выражены словом. Слово тоже должно отражать некий идеальный первообраз. Оно как бы связывает этот идеальный первообраз с реальным предметом, и если нет этой связи, слово утрачивает смысл. Предмет никогда полностью не соответствует слову, то есть своему идеальному первообразу, но всё-таки слово – это символ, который с ним связан. А если рушится эта связь, слово лишается смысла. Мы сейчас переживаем период, когда слова всё более его утрачивают. То есть они уже не воспринимаются как обозначения реального. Тот смысл, которым слова когда-то обладали, они почти растеряли, и стоящие за ними реальные вещи уже никак не соответствуют идеальным понятиям. Кстати, язык рекламы в этом отношении сыграл весьма разрушительную роль. К примеру, рекламный слоган: «Помни о главном». О чём здесь речь? Оказывается, о популярном напитке. Или вот ещё одна удивительно бессмысленная рекламная фраза, почти на тему «Фауста»: «Преврати свою мечту в недвижимость!»
Но для Гёте, в отличие от современных сочинителей рекламных слоганов, слова ещё имели смысл, и образ Елены, мы к этому ещё вернёмся, тоже его полон. Это некий идеальный прообраз женской красоты. Кстати, впервые видение Елены почудилось Фаусту в колдовском зеркале. Мефистофель тогда его отрезвил: «Тебя омолодили, теперь тебе любая девчонка сойдёт за Елену». Но теперь Фауст вызвал призрак Елены, и покорён её совершенством:
Я не ослеп ещё? И дышит грудь?
Какой в меня поток сиянья хлынул!
Недаром я прошёл ужасный путь.
Какую жизнь пустую я покинул!
С тех пор как я тебе алтарь воздвиг,
Как мир мне дорог, как впервые полон,
Влекущ, доподлинен, неизглаголан!
Пусть перестану я дышать в тот миг,
Как я тебя забуду и погрязну
В обыденности прежней безобразной!
Как бледен был когда-то твой двойник,
Явившийся мне в зеркале колдуньи!
Он был мне подготовкой накануне,
Преддверьем встречи, прелести родник!
Дарю тебе всё напряженье воли,
Всё, чем владею я и чем горю,
И чту твой образ и боготворю,
Всю жизнь, и страсть, и бред, и меру боли. (388)
(Вторая часть. Акт первый. Рыцарский зал)
Фауст пытается возродить античный идеал. Это второй акт второй части трагедии. Эпизод «Классическая Вальпургиева ночь». Мефистофель замечает, что не властен над Античностью, поскольку сама идея дьявола возникла в истории человечества позже. Но он принимает участие в возрождении античной красоты. В эпизоде «Вальпургиева ночь» тоже очень важна символика. Мы ещё к этому вернемся, но пока хочу отметить следующее. На протяжении Ренессанса, вплоть до XVII века, Античность считалась неким эстетическим эталоном. Подражание Античности составляло важнейший принцип искусства европейского классицизма. Гёте в этом отношении занимал особое место, хотя его позицию разделяли и его великие современники Гегель и Пушкин. Они тоже позиционировали Античность как идеальную норму красоты. Скажем, для эстетики Гегеля классическое искусство – это некое совершенное искусство. Схожим образом воспринимал его и Пушкин. Но и Гегель, и Пушкин понимали и другое: Античность – это одновременно и определенная историческая ступень. Поэтому в трактовке Гегеля классическое искусство сменяется средневековым, да и Пушкин признаёт, что античная классика – норма не навсегда.
Эпизод «Классическая Вальпургиева ночь» – это постепенное возрождение примет Античности. Первоначально возникают причудливые формы архаичной греческой мифологии – гигантские муравьи, сирены, нимфы, грифы, сфинксы… Затем появляются философы. И только после длительного периода становления возникает совершенный образ античной красоты, которую являет собой прекрасная Елена. Но то, что имеет начало, имеет и конец. Кстати, Гёте это прекрасно осознавал, и это найдёт своё отражение впоследствии. Второй акт – это история того, как постепенно складывается этот совершенный эстетический идеал.
Третий акт – это брак Фауста и Елены. Что это такое? Вообще-то здесь есть некая связь с историей Маргариты. У Фауста и Елены рождается сын, Эвфорион, но в конце концов ребёнок гибнет, а вслед за ним гибнет и мать. То есть всё повторяется, но в несколько ином, более широком смысле. Любовь Фауста к Маргарите – это во многом обращение к прошлому. Я уже говорил, что сам мир Маргариты напоминает Фаусту о патриархальном укладе его детства, воспоминания о котором неожиданно возвращаются к нему в праздничное пасхальное утро. Он хотел бы вернуться в это светлое время, но это невозможно. Мир Елены – это тоже мир прошлого, но это уже не индивидуальное, а прошлое всего европейского человечества. И, в-третьих, и это самое главное, – это попытка найти смысл жизни в искусстве. В первом эпизоде была реальная женщина, Маргарита, а здесь – идеальный образ, воплощённый в прекрасной Елене.
В античном искусстве Гёте видел некий образец того, что по идее вообще должно составлять основу искусства. Он считал, что точно воспроизводить реальность не следует. Гёте рассуждал примерно так: зачем точно изображать собаку? Станет одной собакой больше, к тому же она не будет живой. Задача искусства – воссоздание некоторого идеального образа. Искусство должно стремиться выразить то, чего не может быть в реальности, но что существует как некая идеальная возможность. В этом смысле античное искусство для Гёте являло собой пример, поскольку оно выполняло именно эту важнейшую задачу. Оно создавало мир идеальных форм и идеальных норм. Гёте однажды выразил эту мысль так: «Искусство может сочинить девственную мать – не только может, но даже обязано» (Гёте «Об искусстве»). Изображение девственных матерей – вот истинная задача искусства.
Для Фауста Елена – это тоже попытка найти смысл человеческой жизни. Однако отношение Фауста к Елене иное, чем его отношение к Маргарите. Фауст, по сути, относится к Елене так же, как к нему – Маргарита. Он смотрит на Елену снизу вверх. Елена скажет Фаусту: «Я – далеко и близко вместе с тем»(389). Как художественный образ и призрак она далека от Фауста. Собственно здесь он вполне мог бы произнести те самые слова, которые поставил условием своего договора с Мефистофелем. В каком-то смысле сама Елена – это некое остановленное прекрасное мгновение. Однако Фауст всё-таки не произносит этих слов. И не делает этого по одной простой причине: он слишком земной, для того чтобы найти успокоение в мире иллюзий. Он сравнивает свой брак с Еленой со сновидением, а может быть, с мечтой, что в немецком языке, кстати, выражается одним и тем же словом. Когда у них рождается сын, Эвфорион, этот иллюзорный мир исчезает. Рушится вневременное царство красоты, и вступают в силу законы времени, а, значит, законы жизни и смерти…
Мефистофель здесь не играет существенной роли. Он принял образ Форкиады, который лишь наблюдает за тем, что происходит вокруг. Но вот рожается Эвфорион. Мефистофель, выступающий в образе Форкиады, так описывает мальчика:
Но внезапно я в пещере отзвук смеха слышу сзади,
оглянулась, – мальчик скачет по родительским
коленям,
с материнских рук к отцовским, – шутки, ласки,
прибаутки,
взрывы смеха, вскрики счастья в радостном
чередованье,
так что могут оглушить.
Голенький бескрылый гений, фавн в беззубости
звериной, -
мальчик спрыгивает на пол, но его упругость почвы
вмиг подбрасывает кверху, с двух и трех прыжков
малютка
достаёт до потолка.
Мать кричит в испуге. «Прыгай, как душе твоей
угодно.
Берегись летать, однако, запрещён тебе полет!»
А отец увещевает: «Верен будь земле, в ней сила,
оттого ты вверх взлетаешь, что земли коснулся пяткой,
прикоснись к ней, и окрепнешь, словно сын Земли
Антей».
Мальчик прыгает, как мячик, кверху на утёс с утёса,
и внезапно исчезает за обрывом крутизны,
так что кажется погибшим. Мать рыдает, знать не хочет
про отцовы утешенья, я плечами пожимаю.
Вдруг, какое превращенье! Не сокровища ль там
скрыты?
Где достал он эту роскошь? В платье из цветов и
тканей
вдруг стоит пред нами он!
С плеч спускаются гирлянды, на груди повязки вьются,
Золотую лиру держит, и как некий Феб – младенец
Всходит он на край стремнины. Застываю в изумленье,
А родители в восторге обнимаются, смеясь.
Что над ним венцом сияет? Золотое украшенье?
Внутреннего ль превосходства проявившийся огонь? (390)
Ты не сгинешь одиноким,
Будучи в лице другом,
По чертам своим высоким
Свету целому знаком.
Жребий твой от всех отличен,
Горевать причины нет:
Ты был горд и необычен
В дни падений и побед.
Счастья отпрыск настоящий,
Знаменитых дедов внук,
Вспышкой в миг неподходящий
Ты из жизни вырван вдруг.
Ты был зорок, ненасытен,
Женщин покорял сердца.
И безмерно самобытен
Был твой редкий дар певца.
Ты стремился неуклонно
Прочь от света улететь,
Но, поправ его законы,
Сам себе расставил сеть.
Славной целью ты осмыслил
Под конец слепой свой пыл,
Сил, однако, не расчислил,
Подвига не совершил.
Кто твой подвиг увенчает?
Рок ответа не даёт,
Только кровью истекает
Пут не сбросивший народ.
Но закончим песнью тризну,
Чтоб не удлинять тоски.
Песнями жива отчизна,
Испытаньям вопреки. (391)
Здесь звучат реминисценции из биографии Байрона: «Ты был зорок, ненасытен, // Женщин покорял сердца.// И безмерно самобытен // был твой редкий дар певца» Да и реминисценции из истории его смерти. Поэт, как известно, отправился сражаться за свободу греческого народа, который тогда находился под гнётом турок: «Славной целью ты осмыслил // Под конец слепой свой пыл, // Сил, однако, не расчислил, // Подвига не совершил». Байрон умер в Греции от лихорадки, даже не успев вступить в битву: «Кто твой подвиг увенчает?// Рок ответа не даёт, // Только кровью истекает // Пут не сбросивший народ». Таким образом, в поэме Гёте звучит прямой отклик на смерть поэта.
И всё же в столь символическом эпизоде в образе Эвфориона трудно различить какие-либо конкретные черты Байрона. В трагедии это маленький мальчик, которого влечёт полёт. Дело в том, что в образе Эвфориона Гёте воплотил нечто более общее. Это скорее новый тип поэзии, пришедшей на смену античной, и новый тип романтического поэта. Именно поэтому образ Эвфориона перекликается с личностью Байрона. Это образ романтического художника вообще.
Что характерно для такого художника? Эвфорион – сын Фауста, в нём живёт та же устремлённость ввысь. Он мечтает воспарить над земной действительностью:
Ах, всё овражистей
Глушь темнолесья!
Сбросить бы тяжести,
Взмыть к поднебесью!
Ветер, неистово
Дуй и насвистывай! (392)
(Акт третий. Внутренний двор замка, окружённый богатыми причудливыми строениями Средневековья)
Эвфорион – наследник этого фаустовского порыва в бесконечность:
Взвейся, поэзия,
Вверх за созвездия!
Взмыв к наивысшему,
Вспыхнув во мгле,
Ты ещё слышима
Здесь на земле! (393)
Но одновременно им движет и желание принять участие в реальных событиях своего времени,
Где за отечество
Из рода в род
Цвет человечества
Кровь отдаёт,
Можно заранее
Славу предречь
В смелом дерзании
Вынувшим меч.
Он «не зритель посторонний», а «участник битв земных». Одним словом, в нём ощутим тот же фаустовский разлад, те же две души, одна из которых тянет вниз, к земле, а другая уносит в небеса.
Эвфорион взлетает и разбивается. Вслед за сыном нисходит в мир теней и Елена. Из-под земли раздаётся голос Эвфориона:
Мать, меня одного
В царстве теней не оставь! (394)
В руках Фауста остаются лишь одежды Эвфориона и плащ Елены. Этим завершается третий акт трагедии.
Четвертый акт – это попытка Фауста найти смысл в практической деятельности. Он решает отвоевать у моря кусок суши и развернуть на берегу грандиозное строительство. Об этой перемене в Фаусте следует сказать несколько слов. Именно к этому историческому этапу человечество подошло в тот момент, когда Гёте завершал своё произведение. Он очень остро это почувствовал: ценностные приоритеты стали смещаться в сторону практической деятельности. В этом смысле Гёте предвосхитил направление развития цивилизации в XIX и ХХ веках, когда всё более стала возрастать значимость реального производства, промышленности, развития техники, а мир искусства, художества отступал на второй план…
Дело в том, что искусство занимало центральное место в период между Ренессансом и XVIII веком, вплоть до XIX столетия. Романтизм – это последний исторический период, когда искусству придавалось столь существенное значение. Это смещение приоритетов началось с эпохи Возрождения и продолжалось примерно до тридцатых годов XIX века. Я немножко поясню. В эпоху Ренессанса искусство – это вообще было самое главное. В XVII-XVIII веках в значительной степени начинает развиваться и наука, но искусство всё же по-прежнему оставалось определяющим феноменом культуры. Суть этой культуры заключалась в принципе, заложенном ещё во времена Античности: цель культуры – в ней самой. Культура – это некий идеальный духовный мир, область, которую философ Аристотель называл «высоким досугом, делом развития человеческой элиты». Рождение подобного отношения к искусству было связано с тем, что завершилась эпоха религиозного сознания. Не в том смысле, что люди утратили веру в Бога, – религия перестала играть ту доминирующую роль, которую была ей присуща прежде. Идеальный мир стало воплощать собой искусство. В XVII веке даже наука не имела никакого практического приложения – математикой занимались ради собственно математики, воспринимали её как особую игру чисел. И в этом смысле искусство продолжало оставаться некоторым прообразом всей культуры в целом.
Но вот на смену эпохам главенства искусства пришёл совершенно иной, новый период. Повсюду начинается преобразование природы, происходит значительный промышленный переворот, разворачивается строительство. Объяснить это рационально трудно, но нужно признать факт: за два последних столетия, благодаря техническому прогрессу, человечество прошло путь, на который прежде не хватило бы и тысячелетий, хотя люди не стали умнее. Произошло, по крайней мере, три технологических революции. Тысячи лет ничего не менялось, появлялись лишь отдельные усовершенствования, а тут разом всё преобразилось. И скорость, с которой до сих пор продолжают происходить перемены, только возрастает… Гёте этот цивилизационный поворот ощутил очень остро: кончился мир искусства, а ему на смену пришёл мир, в котором главной стала практическая деятельность. Он описал то, к чему человечество приблизилось на тот исторический момент. Такова была реальность.
Пятый акт – последний, заключительный в «Фаусте». Открывается он эпизодом с Филемоном и Бавкидой. Это – герои античного мифа, которые упоминались также в «Метаморфозах» Овидия. Они прожили вместе долгую праведную жизнь. И вот однажды возле их хижины появляется странник:
Да ведь это липы те же!
Как я счастлив их найти
В вековой их мощи свежей
После стольких лет пути!
Да и хижина сохранна,-
Кров гостеприимный мой
В дни, когда на холм песчаный
Был я выброшен волной. (395)
(Акт пятый. Открытая местность)
Образ старых лип, напомню, играл важную символическую роль уже в «Вертере» Гёте. И здесь хижина героев, стоящая возле часовни, окружённая вековыми деревьями, – это тоже некий островок старого патриархального мира. Филемон рассказывает страннику, какое грандиозное строительство развернул на берегу Фауст.
Где-нибудь в тени садовой
Нам скорей на стол накрой.
Он перед картиной новой
Станет молча, как немой, – говорит он Бавкиде. И затем, обращаясь к гостю:
Где бушующей пучиной
Был ты к берегу прибит,
Вместо отмели пустынной
Густолистый сад шумит.
Стар я стал сидеть в дозоре
По ночам на маяке,
А тем временем и море
Очутилось вдалеке.
Умные распоряженья
И прилежный смелый труд
Оттеснили в отдаленье
Море за черту запруд.
Села, нивы, хлынув к устьям,
Заступили место вод.
А Бавкида говорит о другом:
Лишь для виду днём копрами
Били тьмы мастеровых:
Пламя странное ночами
Воздвигало мол за них.
<…>
Человеческие жертвы
Окупает ли канал?
Он безбожник, инженер твой,
И какую силу взял!
Стали нужны дозарезу
Дом ему и наша высь.
Он без сердца, из железа,
Скажет, и хоть в гроб ложись. (396)
Она как бы с самого начала подчёркивает зловещий характер этой стройки, затеянной Фаустом.
Надо отметить, что главным распорядителем в этом действе становится Мефистофель. Он нигде не играл столь значимой роли, как в этом эпизоде. В сценах с Маргаритой он, конечно, присутствовал, но Фауст с ним скорее боролся. Он, конечно, помог Фаусту соблазнить Маргариту, но в целом развитие отношений Фауста и Маргариты не связано с вмешательством Мефистофеля. Если он и принимал в этом какое-то участие, то скорее разрушительное. Именно оно привело к гибели Маргариты. В эпизоде с Еленой он вообще не заметен. А здесь ему отведена определяющая роль. Он – главный распорядитель всех работ, главный помощник Фауста. Всё, что делает Фауст, совершается через Мефистофеля, при его посредничестве. Нигде Мефистофель не играл ещё столь важной роли.
Строительству Фауста мешает хижина Филемона и Бавкиды, особенно его раздражают церквушка и колокольный звон, которые напоминают ему о греховности. Он хочет переселить стариков куда-нибудь, с глаз долой, чтобы не было поблизости ни этой хижины, ни старой церкви. Но Филемон и Бавкида не хотят никуда уезжать, они прожили здесь, на этом берегу, целую жизнь. К тому же они слишком стары и хотят умереть в своём старом доме. Фауст предлагает им обмен, а Мефистофель всячески его уговаривает:
Звон колокольный – не пустяк.
Он отравляет каждый шаг.
Недопустимо равнодушье
К тому, что вечно режет уши.
Заладят это «динь-динь-динь»,
Прощай, безоблачная синь.
Что похороны, что крестины,
Для колокола всё едино,
Вся жизнь как будто – призрак, хмарь,
А главное – один звонарь. (397)
(Акт пятый. Втроём за столом в саду)
Фауст в конце концов уступает: он разрешает Мефистофелю переселить Филемона и Бавкиду силой. Но Мефистофель не стал марать рук – просто сжёг хижину вместе со стариками, а заодно и церковь. Караульный Линкей со своей сторожевой башни первым замечает пламя этого пожара. Он в ужасе от представшей его глазам картины:
Искры носятся роями
В стариковском липняке.
Всё сильней бушует пламя
Меж стволов на сквозняке.
И полна лачуга дыма,
Отсыревшая от лет.
Помощи необходимой
Ниоткуда нет как нет.
Закрывали осторожно
Добряки заслон печной.
Что за случай невозможный!
Дом горит не их виной.
Чёрной крышей обгорелой
Пламенеют угольки.
Только бы остались целы,
Не сгорели старики!
Словно молнии зигзаги,
По листве бегут огни
И, треща, на сильной тяге,
Рассыпают головни.
А часовня, что ласкала
Из-под лип веками взор,
Вся под тяжестью обвала
С ними рушится в костёр.
Лип обуглившийся остов,
Раскалённый до корней,
Безутешнее погостов
Смотрит в даль ушедших дней.
Вот отполыхало пламя,
Запустенье, пепел, чад.-
И уходит вдаль с веками
То, что радовало взгляд. (398)
(Акт пятый. Глубокая ночь)
Это мир, который был когда-то воплощён в Маргарите, а теперь он окончательно ушёл в прошлое. Фауст возмущён тем, что произошло. Он хотел стариков переселить, а не погубить:
Я мену предлагал со мной,
А не насилье, не разбой.
За глухоту к моим словам
Проклятье вам, проклятье вам!
<…>
Ошиблись, меру перешли! (399)
(Акт пятый. Глубокая ночь)
Но ничего уже не поделаешь, всё свершилось… Фауста тяготит его связь с Мефистофелем, но он понимает, что без Мефистофеля ему не обойтись.
В этот момент перед Фаустом появляются четыре седые женщины. Это символические фигуры – Нехватка, Вина, Забота и Нужда. Здесь он впервые сожалеет о своём договоре с Мефистофелем:
Я всё ещё не вырвался из пут!
О, если бы мне магию забыть,
Заклятий больше не произносить,
О, если бы, с природой наравне,
Быть человеком, человеком мне!
Таким я был, но преступил устав,
Анафеме себя и жизнь предав. (400)
(Акт пятый. Полночь)
Первой Фауст встречает Заботу. Образ Заботы очень важен. Что такое вообще Забота? Это, прежде всего, поглощённость завтрашним днём. Всякая деятельность неразрывно с ней связана. Когда занят каким-то делом, то неизбежно думаешь о том, как продолжишь его завтра, надо непременно быть готовым к тому, что ждёт впереди. Такова природа повседневного труда. Но, с другой стороны, в заботе таится опасность. За многочисленными повседневными хлопотами человек порой перестаёт замечать главное – теряется из виду сама цель, то, ради чего всё делается, и человек как бы погружается в суету.
А, кроме того, забота – это ещё и страх перед будущим:
Кто в мои попался сети,
Ничему не рад на свете.
Солнце встанет, солнце сядет,
Но морщин он не разгладит.
Всё пред ним покрыто мраком,
Всё недобрым служит знаком,
И плывёт богатство мимо
У такого нелюдима.
Полон дом, – он голодает,
Копит впрок, недоедает,
Тихо усидеть не может,
Чёрный день его тревожит.
Будущее роковое
Не даёт ему покоя. (401)
Фауст не хочет признавать над собой власть Заботы:
Навязчивые страхи! Ваша власть –
Проклятье человеческого рода.
Вы превратили в пытку и напасть
Привычный круг людского обихода.
Дай силу демонам, и их не сбыть.
Не выношу их нравственного гнёта.
Но больше всех бессмыслиц, может быть,
Я презираю власть твою, Забота! (402)
Фауст всегда шёл по жизни, по его же собственным словам, действуя «беспечно, напролом». Но тот, кто не признаёт власти Заботы, в сущности, слеп. Напоследок Забота мстит Фаусту за эту самоуверенность. Его взгляд меркнет навсегда:
Так ощути ту власть краями век!
Плачу тебе проклятьем за презренье.
Живёт слепорождённым человек,
А ты пред смертью потеряешь зренье. (403)
(Акт пятый. Полночь)
Гёте как естествоиспытатель глубоко изучал природу человеческого зрения. Он считал, что, с одной стороны, глаз видит внешний физический мир, который отражается на поверхности сетчатки, но, в то же время, глаза – это окна души. Если мы хотим заглянуть кому-то в душу, то смотрим в глаза. Глаза – двойственны. С одной стороны, они видят внешний мир, а с другой – отражают мир внутренний. Поэтому закрытые глаза – это глаза, обращённые внутрь. Хочешь посмотреть в себя – закрой глаза. Вот почему слепота для Гёте – это особый вид зрения. Греки не случайно легендарного поэта Гомера изображали слепым.
Вокруг меня сгустились ночи тени,
Но свет внутри меня ведь не погас.
Бессонна мысль и жаждет исполненья…
– восклицает Фауст…
И вот ослеплённый Фауст отдаёт последние распоряжения. Он хочет, чтобы начались работы по осушению болот. Мефистофель пользуется его слепотой и вместо того, чтобы осушать болота, приказывает лемурам рыть могилу для самого Фауста. Фауст слышит стук лопат и думает, что это ведутся работы, а на самом деле ему роют могилу. Он произносит здесь свой последний, заключительный монолог и умирает:
Болото тянется вдоль гор,
Губя работы наши вчуже.
Но чтоб очистить весь простор,
Я воду отведу из лужи.
Мильоны я стяну сюда
На девственную землю нашу.
Я жизнь их не обезопашу,
Но благодатностью труда
И вольной волею украшу.
Стада и люди, нивы, сёла
Раскинутся на целине,
К которой дедов труд тяжёлый
Подвёл высокий вал извне.
Внутри по-райски заживётся.
Пусть точит вал морской прилив,
Народ, умеющий бороться,
Всегда заделает прорыв.
Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной.
Увидеть я б хотел такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю. (404)
(Акт пятый. Большой двор перед дворцом)
Мефистофель торжествует. Он убеждён, что выиграл оба спора:
В борьбе со всем, ничем ненасытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простёрт в песке, с ним время совладало.
Часы стоят.
Хор
Стоят. Молчат, как ночь.
Упала стрелка. Делу не помочь.
Мефистофель
Упала стрелка. Сделано. Свершилось. (405)
(Акт пятый. Большой двор перед дворцом)
Но в действительности Мефистофель проиграл.
Сначала о договоре с Фаустом. Фауст не сказал: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» ибо то, в чём он в конце концов обрёл смысл жизни, то, что ему представилось наивысшим её проявлением – это деятельность, а она по самой сути своей противоположна остановленному мгновению. Фауст понимает, что люди обречены действовать. Для них никогда не наступит это состояние успокоения.
Пусть точит вал морской прилив,
Народ, умеющий бороться,
Всегда заделает прорыв.
Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя. (406)
Фауст считает, что та деятельность, которую он начал, никогда не сможет быть прекращена. Сам образ суши, которую Фауст отвоёвывает у моря – очень важный символ. Человек непрестанно должен противоборствовать разрушительным силам стихии.
Гораздо более сложный вопрос – о споре с Богом. Здесь всё не столь очевидно. Дело в том, что высшее мгновение, которое пережил Фауст, оказалось мгновением, в которое ему рыли могилу. Никакого строительства на берегу на самом деле не было, хотя Фауст и ощущал эти минуты как некое высшее своё торжество. Мефистофель убеждён – для выигрыша этого достаточно. Тем более, что в пятом акте представлена, прямо сказать, не столько созидательная, сколько разрушительная, недобрая деятельность Фауста. Мы видим, собственно, две вещи: как была уничтожена хижина Филемона и Бавкиды, и как слепому Фаусту по указанию Мефистофеля роют могилу. Об остальном только говорится, а показано именно это. Поэтому вопрос о том, имеет ли основания Мефистофель считать, что выиграл в споре с Богом, остаётся во многом открытым.
По словам самого Гёте, в «Фаусте» всё задумано так, что представляет собой откровенную загадку, которая снова и снова будет занимать сознание людей и давать им пищу для размышлений.
Мефистофель убеждён, что победа за ним. Фауст готов был признать высшим мигом своей жизни самый ничтожный, по мнению Мефистофеля, миг, – тот самый, в который лемуры рыли ему могилу. Но на самом деле душа Фауста спасена и возносится на небеса.
Почему Фауст спасён?
Что касается дела, которому посвятил себя Фауст, оно, как я уже говорил, довольно сомнительно. С одной стороны, Фауст ведёт работы по осушению болот и начинает строительство. Но главным помощником Фауста, распорядителем на этой стройке является Мефистофель, а от него ничего хорошего ждать не приходится. Мефистофель убеждён, что море всё равно возьмёт своё, и все попытки справиться с наступлением стихии ни к чему не приведут. Кроме того, мы видим скорее разрушительные стороны деятельности Фауста. Почему же он всё-таки спасён?
Ангелы, которые возносят душу Фауста, утверждают, что могут спасти того, кто стремится к истине. Сам Фауст верит в силу деяния… Но не дело спасает Фауста, а слово – вера в то, что возможно существование свободного народа на свободной земле. Сам Гёте вовсе не был в этом убеждён, да и деятельность Фауста не даёт нам для этого никаких оснований. Но Фауст верит в такую возможность:
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они». (407)
Вообще, слово возникло прежде дела. Представим себе такой странный вариант. Вряд ли это имело место в действительности, но так, к примеру, считал Ф. Энгельс, утверждавший, что труд первичен и «создал» человека. Но даже если это так, и обезьяна, благодаря труду, превратилась в человека, то всё-таки надо признать, дело возникло не тогда, когда она впервые взялась за палку, превратив её в орудие, а когда она впервые задумалась, зачем она это сделала. Только тогда возникло собственно деяние. А пока этого не было, не существовало и дела. Значит, делу всё-таки предшествует мысль, слово. И именно слово, стремление к истине спасает Фауста…
Душа Фауста возносится на небо, и здесь возникают несомненные реминисценции из «Рая» Данте. Это мир чистого божественного света, и проводником в этом райском мире, небесном царствии, подобно Беатриче, становится Маргарита. Она, правда, кающаяся грешница, у которой достаточно грехов в жизни, но ею повелевает Богоматерь, Mater gloriosa. Она поручает Маргарите сопровождать душу Фауста на небесах.
Что такое в трагедии этот образ небес? Повторю, Гёте не был человеком религиозным в узко конфессиональном смысле слова. Он не соблюдал обрядов, церковных предписаний… Но, в то же время, «Фауст» начинается прологом на небесах и завершается подобным же эпилогом. Гёте сознательно прибегает к символике, которая, скажем, была свойственна описанию Рая в «Божественной комедии» Данте. Гёте использует здесь ту же самую христианскую символику. Он хочет показать некий идеальный мир, а идеальный мир всегда – потусторонний. Идеал не может быть осуществлён в обыденной действительности. Идеал это то, к чему можно стремиться, но что всегда остаётся по ту сторону реальности…
Завершается «Фауст» словами мистического хора:
Всё быстротечное –
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь – в достиженье.
Здесь – заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней. (408)
(Акт пятый. Горные ущелья, лес, скалы, пустыня)
Истинный мир – это мир идеальный. Всё остальное – лишь «символ, сравнение», хотя, правильнее было бы перевести здесь немецкое слово как «подобие». Наша земная действительность, в сущности, – подобие мира идеального. И в этом «заповеданность истины всей», потому что всё, что мы видим вокруг, в привычной нам реальности – есть лишь приближение к «бесконечной цели» идеала, считает Гёте. Тот, кто стремится к высшей истине, спасён.
Возникают ещё два вопроса, на которые хотелось бы ответить. Прежде всего, что такое «вечная женственность»? И второе: в чём, по мнению Гёте, заключается смысл человеческой истории? Вообще, женское начало в произведении Гёте многозначно. Во-первых, это начало консервативное, в отличие от мужского, динамического, начала. Мужское начало – это, прежде всего, движение, перемены. Роль женского начала – сохранять, удерживать в жизни те ценности, которые существуют испокон веков.
Здесь есть две составляющие. Первая – чисто биологическая. Как известно, в природе выживает наиболее сильная особь, и женская роль состоит в том, чтобы передавать потомству эти наиболее устойчивые, дающие преимущества физические признаки. Таков закон биологии. Что касается человеческого сообщества, то вплоть до XX века женщина вообще не была включена в исторические процессы, её сфера ограничивалась семьёй. Женщина сохраняла традиции, а вся, так сказать, общественная эволюция была связана с мужчинами. Поэтому, скажем, у Пушкина Татьяна – это образ чего-то вечного, в то время как Онегин – герой своего времени. Женщина не была героиней времени. Только в XX веке это разграничение стало размываться. Женщина постепенно начала утрачивать эту свою извечную консервативную роль.
Но есть и другое. Вечная женственность – это начало любви. То начало, которое воплощает собой Беатриче в «Божественной комедии» Данте, и ту же роль играют в произведении Гёте три женских образа. В первой части «Фауста» это Маргарита, затем появляется Елена, и третий образ, возникающий в финале «Фауста», образ Богоматери. Это Mater gloriosa. Она, собственно, и открывает Фаусту путь в этот запредельный высший мир. Три женских образа воплощают собой три стороны любви. Любовь к Маргарите – это чувственная любовь. Для Фауста это некая высшая форма наслаждения жизнью. Второй образ – Елена. Любовь к ней – это тоже наслаждение, но уже духовное. Это наслаждение, которое мы испытываем, когда смотрим на живописное полотно: мы не можем обладать прекрасной женщиной, изображённой на картине, но её красота восхищает нас, мы наслаждаемся этой красотой. И, наконец, третья форма любви, воплощённая в образе Богоматери, – это жертвенная любовь. И это уже не наслаждение, а готовность отдать жизнь ради другого человека. Это высшая форма любви. Вообще, настоящая любовь, наверное, должна включать в себя все три момента. В трагедии Гёте они разделены, но это те составляющие, которые вообще должны присутствовать в любви. Фауст их переживает…
И вот последний монолог Фауста. Фауст ослеп. Он не видит того, что происходит вокруг. Но в одном он не ошибается – знает, что стоит на пороге смерти, и этот свой заключительный монолог произносит как предсмертный. В этом отношении иллюзий у него нет. Он, конечно, думает, что идут строительные работы, не понимает, что на самом деле лемуры роют ему могилу, но то, что впереди смерть, это Фаусту ясно. Его больше не волнует его собственная жизнь. Высший миг Фауста – это мысль о счастье будущих поколений. Для него это самое главное. Это уже не наслаждение, он знает, что его собственная жизнь подходит к концу. Но для него важно, чтобы жили другие.
Если сказать совсем просто: Фауста спасают три христианские добродетели – Вера, Надежда и Любовь. Он верит в то, что когда-нибудь его идеал осуществится. Он надеется и любит…
Теперь вопрос, который, может быть, наиболее сложен в «Фаусте». Это вопрос о смысле человеческой истории. Судьба Фауста – это не только судьба отдельного человека. Собственно, всё, о чем мы говорили прежде, и заключает в себе смысл жизни: стремление к идеалам, к истине, любовь… Это понятно. Но как обстоит дело с судьбой человеческой истории вообще? Фауст верит в то, что когда-нибудь наступит счастливое будущее. Верит ли в это Гёте? Сомнительно. Я думаю, может быть, он это и допускает, но считать, что из деятельности Фауста это вытекает, нельзя. В действительности Фаусту с помощью Мефистофеля удалось лишь отправить на тот свет беспомощных стариков, Филемона и Бавкиду. Так что это была скорее мечта Фауста, чем реальная, осуществимая в действительности возможность.
В общем-то, Гёте даёт тот же самый ответ на вопрос о смысле человеческой истории, что и о смысле отдельной человеческой жизни. Было бы наивным и странным полагать, что смысл истории заключается в том, что когда-нибудь для кого-нибудь наступит счастливое время. Жизнь множества поколений оказалась бы лишь ступенькой к этой заветной поре. В действительности же судьба каждого человека уникальна и единственна… И потому на каждом историческом этапе человеческое существование имеет смысл. На разных этапах это может по-разному представляться, само это высшее содержание…
В произведении Гёте Маргарита верила в Бога, да и мысли Фауста о свободном народе на свободной земле – это тоже выражение искренней веры в справедливость, в возможность построения счастливого будущего человечества. Наступит ли оно когда-нибудь? Неизвестно. Но главное, чтобы существовало стремление. Вот и всё. Другого ответа Гёте не знает. Если в людях живёт это стремление к высшей истине, к справедливости, тогда и история обретает смысл.
Что такое, в сущности, «фаустовская культура»? Это культура, в которой высший миг – это миг стремления: те моменты, когда человек всеми помыслами, всей душой к чему-то устремлён, моменты сосредоточения всех внутренних, духовных сил, которые возносят над обыденностью, наполняют жизнь смыслом. Это высшее в мире преходящего.
Эпоха романтизма
Романтизм – литературное направление конца XVIII – начала XIX века, возникшее в Европе как своеобразный отклик на события Великой французской революции. Эту взаимосвязь признавали сами романтики. Фридрих Шлегель, один из основоположников немецкого романтизма, считал, что революция явилась едва ли не главным его духовным источником. Виктор Гюго называл романтизм «детищем революции»… Так что возникновение романтизма в значительной степени связано с тем разочарованием в результатах Великой французской революции, которое охватило европейское сознание. Эта величайшая трансформация социальной и политической систем не осуществила надежд, которые на неё возлагались. Казалось, вот-вот возникнет новый, лучший мир, но ожидаемых перемен революция не принесла. Однако особенность романтического сознания заключалась в том, что разочарование сочеталось в нём с надеждой. Не случайно важнейшей категорией романтизма становится категория «возможного бытия». Романтики, конечно, видели, что надежды не осуществились, но в то же время им казалось, что всё ещё остаётся вероятность когда-нибудь их осуществить. Всё-таки не надо забывать о том, что на протяжении первой половины XIX века произойдут ещё две революции во Франции – 1830 и 1848 годов, которые станут отголосками Великой французской революции. Люди продолжали надеяться…
С категорией возможного бытия связан острый интерес художников-романтиков к прошлому. Вообще, к прошлому можно относиться по-разному. Можно искать в прошлом причины сегодняшних событий. Если причина кроется в прошлом, понятно, что прошлое волнует. Кстати, люди нередко обращаются к прошлому, чтобы определить своё нынешнее положение. Это касается и истории и жизни отдельного человека. Кажутся важными те факты и явления, в которых видны истоки настоящего, а остальное вроде бы и не столь существенно. Романтики говорили: история – это пророчество, обращённое в прошлое…
Но прошлое – ещё и сфера неосуществлённых возможностей. В зеркале прошлого можно разглядеть то, чем человек мог бы стать, но не стал, что могло бы произойти, но не произошло, хотя и имелись для этого все предпосылки. Никогда не осуществляются все возможности, их всегда больше, чем может воплотиться в действительности…
Как художественное и идейное явление романтизм зародился в Германии. Первая группа немецких романтиков получила название йенской школы, поскольку центром её стал университетский центр страны – город Йена. Усилиями её представителей были заложены основы всего европейского романтизма. К этой группе относились братья Шлегели – Фридрих и Август, немецкий писатель Новалис и тогда ещё молодой философ Ф. Шеллинг. Главное, что было создано в этот период, – теория немецкого романтизма. Началом его можно считать 1797 год, когда Фридрих Шлегель в издаваемом им журнале «Атенеум» («Атеней»), ведущем периодическом журнале романтиков, опубликовал свои знаменитые «Фрагменты». Главная его идея – это противопоставление двух типов искусства: романтического и классического, или античного. В основе классического искусства, считал Шлегель, лежит идея гармонии, попытка отыскать некий совершенный идеал и воплотить его в гармоничный, внутренне завершённый образ. Гармония – это как бы осуществлённый идеал, та гармония, какую являет собой, скажем, античная статуя божества. А суть романтического искусства – иная. Она есть порождение фаустовского устремления к идеалу, который никогда не может быть достигнут. Это – вечное томление по недостижимому, устремлённость в какую-то бесконечную, ускользающую даль.
Шлегель видел истоки романтизма в эпохе Средневековья, и для этого имелись некоторые основания. В самой христианской религии идеал всегда мыслился по ту сторону реальности. Здесь, по эту сторону, существует лишь некая тоска по идеалу, сам же идеал запределен. Но фактически это не совсем точно, поскольку кумирами романтического искусства стали, прежде всего, писатели Ренессанса – Данте, Шекспир, Сервантес, Рабле…
Дело в том, что ещё одной важнейшей категорией романтического сознания, которой не знало Средневековье, стала категория личности. Это достаточно важный момент в философии и в историческом романе. С одной стороны личность – это неповторимая индивидуальность, а с другой – воплощение целого. Для романтиков всё вокруг представляло собой своего рода личность. Само мирозданье мыслилось как некая грандиозная личность. «Не то, что мните вы, природа, – писал Тютчев, – не слепок, не бездушный лик – //в ней есть душа, в ней есть свобода, // в ней есть любовь, в ней есть язык…» Это очень важный момент. Не случайно романтизм, в отличие, скажем, от классицизма, который опирался на античное наследие, начинает подчёркивать значение национальных культур. Каждая такая культура – это тоже личность. Нет абстрактного человечества, есть различные его лики. Каждая национальная культура на свой неповторимый лад представляет то, что свойственно человечеству в целом. Каждый большой художник на свой неповторимый лад выражает то, что заложено в людях вообще.
Личность противостоит вещи – это тоже очень важный момент в эстетике романтизма. Дело в том, что вещь однозначна, личность же никогда не бывает однозначной. Личность внутренне не завершена, никогда не совпадает сама с собой.
Важнейшей составляющей немецкого романтизма явилось учение об иронии. Автор-романтик иронически относится к созданному им самим произведению. Он ощущает, что его замысел не может быть воплощён до конца, поскольку всегда больше самого произведения. Всё конечное романтического художника не устраивает, ему нужна бесконечность, поэтому он ироничен, играет со своим творением. Кроме того, это особое отношение к феномену культуры. Оно началось с Гёте, и романтики это продолжили: они открыли для себя мировую культуру. В эпоху классицизма отрицались Средние века, отрицалась готика. Классицисты признавали только одну-единственную норму – античную. Гёте же открывает Средневековье, проявляет большой интерес к Востоку, в частности, к арабской поэзии. Романтики открыли Индию. Вообще, впервые возникает понятие мировой культуры, в которой каждая национальная культура на свой неповторимый лад, в особой самобытной форме выявляет некое общечеловеческое содержание.
Романтики считали, что наиболее эффективным способом познания является вживание. Необходимо погрузиться в незнакомую культуру, почувствовать её изнутри, чтобы понять и осмыслить. Но нельзя одновременно пытаться ощутить себя древним греком и христианином европейского Средневековья или, допустим, представителем мусульманского Востока. Это разные миры, и надо всегда сохранять ироническую дистанцию, ведь сколько не вживайся в чужую культуру, всегда останется то, что постороннему всё равно не постичь.
И, наконец, это особая ироническая позиция. Романтики впервые столкнулись с явлением, с которым мы в значительной степени имеем дело сегодня. Раньше люди читали главным образом Библию, античных авторов, но уже в эпоху романтизма, когда повсеместно утвердилось книгопечатание, стало выходить в свет множество разных произведений. Как с этим быть? С одной стороны, вроде бы надо знать, что в настоящее время пишут и издают, а с другой – это же, может быть, просто никуда не годится. Плохие произведения, считали романтики, следует воспринимать как некие пародии. Это как бы трюк жизни: создаются плохие произведения, чтобы спародировать хорошие. Поэтому ирония становится ещё и выражением особого отношения к миру. Художник никогда не совпадает ни с самим собой, ни с тем, что он создаёт. Идеал недостижим, а всё, что художник имеет в своём распоряжении, это только «подобие», к которому следует подходить с иронией.
Особый смысл романтики придавали искусству. Они выдвинули идею, которая никогда прежде не звучала в определении его сущности: искусство есть некая высшая форма познания мира. Позже эта идея будет подхвачена реалистами XIX века. Но реалисты, скажем, Бальзак, а затем и Флобер, Золя, всё-таки ощущали себя исследователями, для них познание – это, прежде всего, наука. А для романтиков высшей формой познания стало искусство. Собственно, только искусство, по убеждению романтиков, даёт подлинное знание. Почему это так? Прежде всего, романтики по-новому ставят главный вопрос: что такое «общее»? В XVII-XVIII веках люди были склонны рассматривать общее как одинаковое, тождественное. Допустим, общее между собакой и кошкой – то, что это домашние животные. Ещё более общее – то, что они относятся к классу млекопитающих. Но так вообще можно дойти до того, что кошка и собака – живые существа, и это их объединяет.
Романтики понимали общее совершенно иначе. По их мнению, каждая вещь, существующая в мироздании, представляет собой неповторимую индивидуальность, а общее – это те связи, которые соединяют данную вещь с целым. Это не одинаковое, потому что тогда уничтожалось бы главное, что так ценили романтики – неповторимая индивидуальность. Понять целое значит уловить те многообразные связи, которые это целое образуют, явить целое в конкретном.
Попытаюсь пояснить… Целое трудно постичь рассудком. Мы можем воспринять его скорее интуитивно. Учёный, придерживающийся рациональных методов познания, всегда отстраняет себя от того, что изучает. Он рассматривает объект вне себя, со стороны. А художник показывает мир, пропуская его через себя, и поэтому у него есть возможность отобразить и объективное и субъективное одновременно, он не знает этого разрыва.
В основе искусства лежит вживание, художник как бы не отделяет самого себя от того предмета, который изображает: если он, к примеру, рисует дерево, то в каком-то смысле сам становится деревом. Кроме того, художественный образ многозначен, в отличие от понятия, которое однозначно. Чем больше смыслов и связей он охватывает, тем глубже проникает в целое. Эта многозначность – как раз черта художественного постижения, его отличие от научного. И только оно, в представлении романтиков, даёт истинное знание.
Но есть ещё один важный момент. В основе искусства лежит бессознательное, интуитивное. Вообще, искусство для романтиков – это единство сознательного и бессознательного. Под бессознательным романтики понимали не совсем то, что ляжет затем в основу психоанализа, например, Фрейда, Юнга. Бессознательное для них – это тот духовный мир, который живёт в нас, но который мы никогда не осознаем до конца. Отчасти бессознательное может проявляться в языке, в снах. Не случайно романтики придавали сновидениям такое большое значение.
Вот, например, программный роман Новалиса, правда, не завершённый, «Гейнрих фон Офтердинген» (1800). Прототип главного героя – реальное лицо, один из средневековых поэтов. Действие происходит в Средние века, но это скорее сказочное, условное Средневековье – некая первичная эпоха в европейской истории. Сюжет романа тоже очень прост: мальчик направляется в Аугсбург, на родину своей матери, чтобы навестить дедушку. Но это путешествие из одного города в другой – только внешняя сторона, а на самом деле речь идёт о некой символической дороге человеческой жизни. Всё начинается с того, что герой видит сон, и все дальнейшие события – это осуществление этого сна. Во сне он видит, как движется по лесу и оказывается на поляне, где растет множество цветов. Но его внимание привлекает лишь один – голубой цветок. Это некоторый идеал, к которому он должен стремиться. Люди, которые встречаются ему по пути, символизируют различные миры, с которыми он, будущий поэт, сталкивается в процессе своего творческого и личностного становления – это восточная женщина, рыцарь-крестоносец, рудокоп, отшельник…
Вообще, высшим поэтическим каноном в романтизме становится сказка. В доме отшельника мальчик видит некую странную книгу. «Наконец, ему в руки попалась книга, написанная на чужом языке, несколько похожим на латинский и на итальянский. Ему страстно захотелось знать этот язык, так как книга ему очень понравилась, несмотря на то, что он ни слова не понимал в ней. Книга не имела заглавия, но он нашёл в ней несколько картинок; они показались ему удивительно знакомыми. Продолжая разглядывать их, он открыл своё собственное изображение среди других фигур. Он испугался, не поверил своим глазам, но, продолжая глядеть, уже не мог более сомневаться в полном сходстве». «Множество других фигур он не знал по имени, но всё же они казались ему знакомыми. Своё изображение он увидел в различных видах. К концу он нашел себя представленным более высоким и более благородной осанки. В руках у него была гитара, и ландграфиня передавала ему венок. Он увидел себя при императорском дворе, на корабле, обнимающим стройную красивую девушку, в бою с дикими на вид людьми, и в дружеской беседе с сарацинами и маврами. Рядом с ним часто появлялся человек с серьёзным лицом. Он чувствовал глубокое благоговение перед этим высоким человеком, и ему было приятно стоять рука об руку с ним». (Часть первая. Глава пятая)(409)
Как это понимать? Во второй части романа, уже после смерти жены, Матильды, герой отправляется в странствие. Однажды ему встретится стоящая возле утёса молодая прекрасная девушка. Циана «ласково приветствовала его, как старого знакомого, и пригласила его пойти с нею в её дом, где она уже приготовила ему ужин. Он нежно заключил её в свои объятия. Всё в её существе было ему мило. Она просила его подождать несколько мгновений, стала под дерево, с невыразимой улыбкой взглянула наверх и высыпала из передника множество роз на траву. Затем она тихо стала на колени подле них, но тотчас же поднялась и увела странника.
– Кто сказал тебе обо мне? – спросил странник.
– Наша мать.
– Кто твоя мать?
– Матерь Божия.
– С которых пор ты здесь?
– С тех пор, как вышла из гроба.
– Разве ты уже раз умерла?
– А то как бы я теперь жила?
– Ты здесь живёшь совсем одна?
– В моём доме живёт старик, но я знаю ещё много других, которые жили.
– Тебе хочется остаться у меня?
– Я ведь тебя люблю.
– Откуда ты меня знаешь?
– С давнего времени. И о тебе рассказывала моя прежняя мать.
– У тебя ещё есть мать?
– Да, но она всё та же.
– Как её звали?
– Мария.
– Кто был твой отец?
– Граф Гогенцолерн.
– Я его тоже знаю.
– Конечно, знаешь; ведь он и твой отец.
– Мой отец в Эйзенахе.
– У тебя есть ещё другие родители.
– Куда же мы идём?
– Всякий путь ведёт домой.
(Часть вторая. Глава первая).
Что всё это значит? Это голос бессознательного, звучащий в каждом из нас. Голос всей предшествующей культуры, которая, может быть, не осознаваема нами до конца, но она формирует нас, лепит изнутри, и всякое наше движение на этом пути – возвращение к себе. Как говорит героиня этого романа: мы всегда ищем свой путь Домой. Путь к самим себе…
Так вот, это единство сознательного и бессознательного и есть искусство. Приведу очень простой пример, чтобы было понятно. Август Шлегель считал, что поэзия начинается со сравнения. Уже в самом простом сравнении содержатся многие элементы поэтического образа. В качестве примера приведу строчки из пушкинской поэмы «Полтава». Это описание красоты Марии:
И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Её движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь её бела.
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят её глаза;
Её уста, как роза, рдеют.
Здесь, что ни слово, то сравнение.
Школьников, изучающих пушкинскую поэму, нередко учат тому, что сравнение делает предмет более наглядным. Но это не совсем так. Наоборот, сравнение размывает реальные контуры предмета. Кстати, в этом – важная особенность романтической живописи, её отличие от живописи классической. Романтическая живопись отказывается от контура, делает зыбкими границы образа. Точно так же в строчках Пушкина. Мы не можем представить себе визуально эти сравнения, но в них есть то, что романтики называли единством сознательного и бессознательного, рационального и иррационального в самом наглядном виде. Тут всё просто. «Как тополь киевских высот, она стройна». Что здесь сознательного? То, что Мария стройна. Она стройна, как строен «тополь киевских высот», это вполне рационально. Или «как пена, грудь её бела» – пена белая и грудь белая, всё понятно. Или «как тучи, локоны чернеют» – у Марии чёрные волосы, и тучи тоже чёрные. Но попробуем убрать сравнения: Мария стройна, у неё белая грудь и чёрные локоны. Выражено ли здесь то, что хотел сказать Пушкин? Нет, конечно…
А теперь проведём другой эксперимент. Я уберу то, на чём строится сравнение, и скажу: Мария, как тополь киевских высот, как пена грудь её, а локоны, как тучи. Значит, рациональное здесь важной роли не играет? А что хотел сказать Пушкин? Это неизвестно, и он сам, наверное, не знал до конца. Это не передаётся рационально. Как тучи, локоны, как тополь, стройна, как пена, грудь… Это ведь бесконечно, рождает множество разных образов.
Романтики вообще стремились возвратить слову его первозданную многозначность. В этом они видели сущностную особенность поэтического слова – в его многогранности, глубинной образности, которая может быть стёрта в повседневном языке, но в поэзии непременно должна проявляться.
Вообще, в поэзии невозможно заменить слово синонимом. Взять хотя бы строчку известного стихотворения Пушкина «Зимнее утро»:
Вся комната янтарным блеском
Озарена…
Конечно, можно было бы использовать здесь и другой глагол, например, «освещена». Но не нужно, потому что, во-первых, это – заря, дивное утро, и комната озарена не только потому, что рассвело, но и потому, что проснулась только что дремавшая красавица. Кроме того, слову «озарена» в русском языке присущ ещё и очевидный духовный смысл. Поэтому «освещена» здесь не подойдет. Слово «озарена» несёт и реальный, и символический смыслы …
В поэзии эти изначально присущие слову смыслы оживают. Это хорошо чувствовал Пушкин. В «Евгении Онегине», например, когда он хочет, чтобы слово в полной мере проявляло этот свой многозначный смысловой потенциал, он пишет его с заглавной буквы. Это начертание сохранилось, к сожалению, только в академическом издании. Скажем, Пушкин упоминает
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слёзы, тайных мук отраду…
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.
(XXII)
Луна в поэме с большой буквы, потому что это не только небесное тело. Конечно, слово имеет и конкретный смысл, но оно мерцает множеством оттенков и ассоциаций…
Так вот, романтики хотели вернуть поэзии эту изначальную многозначность, оживить глубинную связь слова с чем-то иррациональным, непосредственным, как бы утопленным в нашей душе… Всякое художественное произведение, по мнению романтиков, допускает различные толкования, независимо от того, осознавал их автор или нет: они как бы заложены в самом художественном тексте, поскольку то, что автор внёс в него сознательно, составляет только поверхностный его слой.
Теперь коротко о втором этапе развития немецкого романтизма – так называемой гейдельбергской школе (от названия города – Гейдельберг). Её возникновение относится к более позднему периоду развития немецкого романтизма – периоду так называемых освободительных войн Германии против наполеоновской Франции, оккупировавшей значительную часть страны. Освободительное движение 1805—1815 гг. способствовало пробуждению национального самосознания. Романтики, объединившиеся вокруг гейдельбергского университета, обращались к национальным чувствам, к традициям немецкого народа.
Что характерно для этого периода? Вообще, романтики гейдельбергской школы чрезвычайно интересовались фольклором. Ахим фон Арним и Клеменс Брентано, к примеру, были собирателями немецких народных песен. Ими был составлен известный сборник «Волшебный рог мальчика», подготовленный и изданный в 1806—1808 годах в Гейдельберге. А, скажем, братья Якоб и Вильгельм Гримм собирали немецкие народные сказки. Чем привлекал писателей гейдельбергской школы фольклор? Народ они воспринимали как некую вневременную субстанцию жизни. Не имеет значения, когда были созданы народные произведения. Это нечто такое, что могло быть рождено в любое столетие, в любую эпоху, по мнению романтиков. Это важное отличие представителей гейдельбергской школы от взглядов романтиков йенской школы, для которых каждый художник – это неповторимая индивидуальность, проявляющая, хоть и на свой особый лад, черты, свойственные более широкой личности – сознанию целого народа. А для романтиков гейдельбергской школы, напротив, личность должна раствориться в этой всеобщей народной субстанции, представленной наиболее полно в фольклоре. Отсюда культ народной песни, в которой нет автора, нет личности и т. д., Национальное выступает как соборное, и оно исключает индивидуальность.
Поэты йенской школы склонны были видеть в каждой национальной культуре неповторимое своеобразие, но для них это были многочисленные голоса, которые выражают некое общечеловеческое целое, а романтики гейдельбергской школы противопоставляют немецкое всему иному. Этот пафос был связан с тем патриотическим подъёмом, который переживал народ Германии в тот период. Поэтому народное, коллективное они противопоставляют индивидуальному, а немецкое – всему остальному.
Гёте не разделял этого всеобщего национального воодушевления, что послужило поводом для рождения легенды о холодном олимпийце, равнодушном к общественным чаяниям. А он просто не понимал этого восторга перед всем немецким. Позже Гёте заметит, что от любви к родине у француза сердце расширяется, а у немца сужается.
Кстати, немецкие романтики гейдельбергской школы оказали большое влияние на русских славянофилов. Вообще, это такой парадокс нашей истории: русскими славянофилами становились люди, владевшие иностранными языками, очень хорошо знавшие европейскую культуру. Большое влияние на них оказала именно общая философия немецкой романтической школы гейдельбергского периода. А вот западник В. Белинский, для сравнения, почти не знал иностранных языков, по его же собственным словам, «едва-едва» читал по-французски…
Но наивысшего расцвета немецкий романтизм достиг тогда, когда перестал существовать как литературная школа. Это был период уже после падения Наполеона, отмеченный деятельностью крупнейших немецких романтиков – Генриха Гейне и Гофмана.
Гофман родился в 1776 году в городе Кенигсберг, ныне это российский Калининград, умер в 1822-м в Берлине. Вообще, первоначально имя писателя звучало – Эрнст Теодор Вильгельм, но позже Гофман внёс в него изменения, прибавив – Амадей, в честь композитора Моцарта, которым восхищался. С успехом пройдя обучение на факультете юридических наук в Кенигсбергском университете, Эрнст Теодор Амадей Гофман, согласно семейной традиции, поступил на государственную службу. Но жизнь чиновника его тяготила. Гофман был очень одарен: хорошо рисовал, играл на фортепьяно, скрипке, органе, пел… На могиле Гофмана сделана надпись: «Он был одинаково замечателен как юрист, как писатель, как музыкант и как живописец». Слово «одинаково» здесь, конечно, – преувеличение, но Гофман, действительно, сочетал в себе разнообразные таланты. Он переехал из Кенигсберга в Варшаву, где сочинил оперу, расписал как художник концертный зал. Позже, когда Варшава была захвачена Наполеоном, Гофман эмигрировал в Пруссию. Он поселился в Гамбурге. Это был, пожалуй, единственный период жизни, когда Гофман занимался исключительно искусством. Он стал руководителем местного театра, выступал как композитор, режиссёр, живописец, график и писатель. Но это его не кормило, зарабатывал он тем, что давал уроки музыки.
С этим обстоятельством связано событие, которое сыграло важную роль в творчестве и в судьбе Гофмана – его любовь к ученице Юлии Марк. К тому времени, правда, Гофман был уже давно женат, но чувство к Юлии оказалось очень сильным. Мать девушки выдала её замуж, причем, за человека, который был значительно старше, и к тому же, больного сифилисом. Гофман очень тяжело это переживал. Тема любви к Юлии проходит через многие произведения Гофмана, в частности, она звучит в его романе «Житейские воззрения кота Мурра», где писатель изображает себя в образе музыканта Крейслера, а в героине, дочери князя, угадываются черты Юлии. Мать выдает её замуж за принца Игнасиуса, который, несмотря на то, что ему было уже больше 20 лет, всё ещё продолжал играть в оловянных солдатиков.
Пережив все эти личные неудачи, Гофман покидает Гамбург. Некоторое время он живёт в Лейпциге, затем в Дрездене, и в конце концов приезжает в Берлин. Здесь он становится чиновником, и его жизнь приобретает двойственный характер. Как признавался сам Гофман, «по будням я юрист и – самое большее – немного музыкант, в воскресенье днём рисую, а вечером до глубокой ночи бываю весьма остроумным писателем». Служба в судебных ведомствах Гофмана мало привлекала, кроме того, в государстве начиналась полоса политической реакции… Его последнее произведение «Повелитель блох» представляло собой сатирический образ современной ему Пруссии. Будучи членом апелляционного суда, советник Гофман выступил с обвинением крупного полицейского чиновника, которому было свойственно сначала арестовывать человека, а потом подбирать ему подходящее преступление. Против Гофмана было начато судебное разбирательство, но от ареста и тюремного заключения писателя спасла тяжёлая болезнь, за которой последовала смерть.
В новелле Гофмана «Золотой горшок» (1814) присутствуют все атрибуты сказки, художественная структура её вполне сказочна. На эти особенности указывает и подзаголовок: сказка из новых времён. Однако действие разворачивается в реальном немецком городе Дрездене во времена самого Гофмана. В новелле очень подробно описаны улицы Дрездена XIX века. Это реальное пространство, реальный исторический период. Действие сказки всегда происходит «в некотором царстве, некотором государстве», в некие далёкие, незапамятные времена, а у Гофмана всё очень конкретно. Указано, что это «день Вознесения, часов около трёх пополудни». Кроме того, появляется автор, который вступает в беседу со своими персонажами.
Главный герой произведения – студент Ансельм. Это тип чудака, неудачника, который явно не в ладу с действительностью: в его жизни всё время случаются какие-то неприятности. Если, скажем, он надевает новый костюм, то непременно зацепится за гвоздь, а если роняет бутерброд, то именно той стороной, которая намазана маслом. И вот в один из обычных воскресных дней молодой человек решает отправиться на прогулку. У него были разные намерения: пройтись, полюбоваться нарядными девушками, выпить пива и тому подобное. Однако ничего из задуманного не вышло по той простой причине, что по дороге, проходя через Черные ворота, Ансельм умудрился перевернуть корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала какая-то безобразная старуха.
Торговка начала его страшно бранить. То, что она говорит вначале, ещё можно понять: «Убегай, чёртов сын, чтоб тебя разнесло…». Но затем она произносит странную фразу: «Попадёшь под стекло, под стекло!..» Эти слова переносят нас в какой-то иной, фантастический мир. Ансельму пришлось заплатить за опрокинутый товар, и потому все его воскресные планы рухнули. Денег у него не осталось, и он решил просто посидеть на траве у бузинного куста. «…Мрачно взирая перед собой, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака, пока его досада, наконец, не выразилась громко в следующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий!» (Вигилия первая). (410)
«Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и увидел трёх блестящих зелёным золотом змеек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шёпот, и лепет, и те же слова, и змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и, когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр чрез свои тёмные листья. «Это заходящее солнце так играет в кусте», – подумал студент Ансельм; но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему». (Вигилия первая).(411)
У змейки оказались какие-то удивительные тёмно-голубые глаза, в которые Ансельм тотчас влюбился. И под влиянием этого вдруг охватившего его чувства он стал как-то иначе воспринимать окружающий мир. «И вот зашевелилось и задвигалось всё, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далёкие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой голос: «Эй, эй, что там за толки, что там за шёпот? Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй, эй, до-мо-о-о-й, до-мо-о-о-й!» (Вигилия первая).(412)
Ансельму точно стал внятен голос природы. Но проходящим мимо казалось, что расположившийся на траве молодой человек пьян, что он просто «засмотрелся в стаканчик».
Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия – эта мысль была нестерпима. Всё чудесное, что только что открылось Ансельму, совершенно исчезло из его памяти. Он бросился бежать. Но тут его снова окликнули. Это были хорошие знакомые Ансельма – конректор Паульман и его дочь Вероника, которая очень нравилась Ансельму и на которой он даже собирался жениться, а также регистратор Геербранд. У этого господина тоже порой случались видения, правда, совсем иного толка. Он, например, мог увидеть потерянный документ. Все вместе они решают совершить прогулку по Эльбе. Но даже плывя на лодке по реке, Ансельм не может не испытывать внутренний разлад. С одной стороны, перед ним реальная хорошенькая, цветущая Вероника. Но в то же время отсветы фейерверков на поверхности воды напоминают ему золотисто-зелёных змеек, которые точно твердят: «Верь, верь, верь в нас!». Ансельм остро ощущает контраст между реальностью и теми видениями, которые волной поднимаются в его душе.
Регистратор Геербранд говорит Ансельму, что тот может неплохо заработать. У Ансельма прекрасный почерк, а архивариусу Линдгорсту как раз требуются переписчики древних манускриптов… Ансельм и в самом деле «не только хорошо писал и рисовал пером; его настоящая страсть была – копировать трудные каллиграфические работы…» Вообще, тема каллиграфии характерна для литературы того времени. Её можно встретить и в русской классике. Прежде всего, конечно, она связана с образом Акакия Акакиевича Башмачкина, героя «Шинели» Гоголя. Однако и герой романа Достоевского «Идиот» князь Мышкин тоже увлекался каллиграфией… Дело в том, что каллиграфия – это форма проявления несбывшегося художника. Ансельм, конечно, не рисует, не создает художественных произведений, но в том, как он выводит буквы, сказываются некие нереализованные творческие способности. Его интересует не только «что», но и «как».
Попасть к архивариусу Линдгорсту Ансельм так и не сумел, потому что из замка навстречу ему выскочила та самая старуха, корзину которой он случайно опрокинул. Но потом через некоторое время он встречается с Линдгорстом в кофейне. Архивариус рассказывает ему историю о любви юноши Фосфора к огненной лилии:
– Но позвольте, всё это только одна восточная напыщенность, почтеннейший господин архивариус, – сказал регистратор Геербранд, – а мы ведь вас просили рассказать нам, как вы это иногда делаете, что-нибудь из вашей в высшей степени замечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших странствий, и притом что-нибудь достоверное.
– Ну так что же? – возразил архивариус Линдгорст. – То, что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное изо всего, что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни. Ибо я происхожу именно из той долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя пра-пра-пра-праба-бушка, так что я сам, собственно говоря, – принц.
Все разразились громким смехом.
– Да, смейтесь, – продолжал архивариус Линдгорст, – то, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может казаться вам бессмысленным и безумным, но тем не менее всё это не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, которой и я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам скорее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении.
– Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живёт? Также на королевской службе, или он, может быть, приватный учёный? раздавались со всех сторон вопросы.
– Нет, – отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, – он стал на дурную дорогу и пошёл в драконы.
– Как вы изволили сказать, почтеннейший архивариус, – подхватил регистратор Геербранд, – в драконы?
"В драконы", – раздалось отовсюду, точно эхо.
– Да, в драконы, – продолжал архивариус Линдгорст, – это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно – всего триста восемьдесят пять лет тому назад, так что я ещё ношу траур; он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Мы и поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом, так что наконец покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошёл в драконы… (Вигилия первая).
Здесь мы как бы окончательно погружаемся в мир Гофмана, в котором смешиваются сказочное и реальное. С этой двойственностью связана сложная ирония автора. Впрочем, и сам архивариус Линдгорст ощущает эту двойственность. Он тоже иронически рассказывает о чудесном, понимая, насколько это противоречит обыденной картине, хотя нисколько не сомневается в существовании какой-то иной, скрытой от глаз реальности, в которой чудеса вполне уместны.
Романтическая ирония Гофмана проявляется в новелле очень ясно. Вообще, мы очень легко усваиваем любую художественную условность. Например, читая лермонтовского «Демона», нисколько не удивляемся, что герой поэмы – крылатое сверхъестественное существо. Но когда Лермонтов пишет реалистический роман «Герой нашего времени», где, может быть, затрагивается та же самая человеческая проблема, его Печорин уже никак не может взлететь «над грешною землей». Это было бы странно. А вот у Гофмана, можно сказать, Печорин летает. Гофман совмещает реальный план и фантастический, осознавая, насколько они несовместимы.
В его новелле Линдгорст, с одной стороны, архивариус, а с другой – Саламандр. А прелестная золотисто-зелёная змейка, в которую влюбился Ансельм, это одна из трёх его дочерей, Серпентина…
Ансельм чувствует какую-то невероятную любовь к Серпентине, то и дело возвращается к бузиновому кусту, надеясь вновь её там увидеть. «Он чувствовал, как в глубине его существа шевелилось что-то неведомое и причиняло ему ту блаженную и томительную скорбь, которая обещает человеку другое, высшее бытие. Лучше всего ему было, когда он мог один бродить по лугам и рощам и, как бы оторвавшись ото всего, что приковывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в созерцании тех образов, которые поднимались из его внутренней глубины. И вот однажды случилось, что он, возвращаясь с далекой прогулки, проходил мимо того замечательного бузинного куста, под которым он, как бы под действием неких чар, видел так много чудесного: он почувствовал удивительное влечение к зелёному родному местечку на траве; но едва он на него сел, как всё, что он тогда созерцал в небесном восторге и что как бы чуждою силою было вытеснено из его души, снова представилось ему в живейших красках, будто он это вторично видел. Даже ещё яснее, чем тогда, стало для него, что прелестные синие глазки принадлежат золотисто-зелёной змейке, извивавшейся в середине бузинного дерева, и что в изгибах её стройного тела должны были сверкать все те чудные хрустальные звуки, которые наполняли его блаженством и восторгом. И так же, как тогда, в день вознесения, обнял он бузинное дерево и стал кричать внутрь его ветвей: «Ах! ещё раз только мелькни, и взвейся, и закачайся на ветвях, дорогая зеленая змейка, чтобы я мог увидеть тебя… Ещё раз только взгляни на меня своими прелестными глазками!.. Ах! я люблю тебя и погибну от печали и скорби, если ты не вернёшься!» Но всё было тихо и глухо, и, как тогда, совершенно невнятно шумела бузина своими ветвями и листами. Однако студенту Ансельму казалось, что он теперь знает, что шевелится и движется внутри его, что так разрывает его грудь болью и бесконечным томлением. «Это то, – сказал он самому себе, – что я тебя всецело, всей душой, до смерти люблю, чудная золотая змейка; что я не могу без тебя жить и погибну в безнадежном страдании, если я не увижу тебя снова и не буду обладать тобою как возлюбленною моего сердца… Но я знаю, ты будешь моя, – и тогда исполнится всё, что обещали мне дивные сны из другого, высшего мира». Итак, студент Ансельм каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, ходил под бузину и взывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную, золотисто-зелёную змейку…» (Вигилия четвертая).
Однажды Ансельм встретит архивариуса Линдгорста, который, представ перед ним в облике Саламандра, пригласит его прийти в свой дом. Он даст Ансельму особую жидкость, которую следует брызнуть на дверной замок, чтобы дверь отворилась. И хотя этот дом расположен на одной из улиц Дрездена, Ансельм окажется в каком-то совершенно незнакомом ему необычном пространстве.
Но одновременно в новелле присутствует и другая, реальная жизнь, воплощением которой для героя становится Вероника.
Она тоже предается мечтам: хотела бы выйти замуж за Ансельма. «Вероника предалась вполне, по обыкновению молодых девиц, сладким грёзам о светлом будущем. Она была госпожой надворной советницей, жила в прекрасной квартире на Замковой улице, или на Новом рынке, или на Морицштрассе, шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль шли к ней превосходно, она завтракала в элегантном неглиже у окна, отдавая необходимые приказания кухарке: «Только, пожалуйста, не испортите этого блюда, это любимое кушанье господина надворного советника!» Мимоидущие франты украдкой поглядывают кверху, и она явственно слышит: «Что это за божественная женщина, надворная советница, и как удивительно к ней идет её маленький чепчик!» Тайная советница Игрек присылает лакея спросить, не угодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице поехать на Линковы купальни? «Кланяйтесь и благодарите, я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер к президентше Тецет». Тут возвращается надворный советник Ансельм, вышедший ещё с утра по делам; он одет по последней моде. «Ба! вот уж и двенадцать часов! – восклицает он, заводя золотые часы с репетицией и целуя молодую жену. – Как поживаешь, милая женушка, знаешь, что у меня для тебя есть», – продолжает он лукаво, вынимая из кармана пару великолепных новейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних.
– Ах, миленькие, чудесные сережки! – вскрикивает Вероника совершенно громко и, бросив работу, вскакивает со стула, чтобы в самом деле посмотреть в зеркале эти сережки». (Вигилия пятая).
Таковы её мечты. Но в этих мечтах самое главное, что она станет надворной советницей, у её мужа будет титул. Где точно они будут жить, Вероника пока не представляет, но это обязательно будет прекрасная квартира на одной из центральных улиц Дрездена – Замковой улице, или Моренштрассе. В этих мечтах у неё шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль. Представляя, как муж даёт указания кухарке, Вероника не называет его по имени: «Только, пожалуйста, не испортите любимое кушанье господина надворного советника».
У её знакомых в этих мечтах тоже нет имен, а только титулы и регалии: тайная советница Игрек, президентша Т.Ц… Наконец приходит Ансельм, одетый по последней моде, и дарит ей новейшего фасона серёжки…
Мечты Вероники осуществятся. Только замуж она выйдет не за Ансельма, а за Геербранда, который даст ей всё то, о чём она грезила, даже те самые серёжки… «…Формальная помолвка была заключена. Несколько недель спустя госпожа надворная советница Геербранд сидела действительно, как она себя прежде видела духовными очами, у окна в прекрасном доме на Новом рынке и, улыбаясь, смотрела на мимоходящих щеголей, которые, лорнируя её, восклицали: «Что за божественная женщина надворная советница Геербранд!» (Вигилия одиннадцатая).
Граница между реальным и фантастическим в новелле очень зыбка. Но всё же, что для Ансельма более истинно: любовь к Серпентине или к Веронике? Серпентина – это, конечно, мечта, некий идеальный образ, живущий в его душе, а Вероника – вполне реальная девушка. Но к душе Ансельма мечты Вероники никакого отношения не имеют.
Образ Серпентины можно понимать по-разному. Можно считать, что это больное воображение Ансельма, а на самом деле он женится на Веронике. Или вообще не женится, и всё случившееся ему лишь привиделось. Так, скажем, на его глазах архивариус Линдгорст превращается в куст красных лилий, хотя человек в красном шлафроке вполне мог бы навеять подобные видения. Ансельм заглядывает в свой внутренний мир – так можно понимать новеллу Гофмана.
Но можно понимать её и иначе, и это, наверное, будет гораздо ближе к сути. Гофмана занимала тема двойников. Вообще, двойник – это ужасная вещь. У человека, конечно, можно отнять многое, кроме одного – его неповторимой индивидуальности. Каждый человек единственный. Во всяком случае, пока. Вот если в нашу действительность когда-нибудь войдет клонирование, тогда люди утратят и это, самое главное. Кстати, у Гоголя в «Женитьбе» Кочкарёв, уговаривая Подколесина жениться, обещает, что у него родятся дети, их будет шестеро, и все, как он, «как две капли». То есть, будут как клоны. И Подколесин в ужасе выскакивает в окно. Но у Гофмана это даже больше, чем двойничество. Ансельм, каким он видится в мечтах Вероники, вполне мог быть замещен кем-нибудь другим. Надворных советников может быть сколько угодно.
Главный вопрос здесь: что есть реальность? В какой-то момент Ансельм потерял веру в Серпентину. Ему стало казаться, что всё ему лишь привиделось. Когда он вновь пришёл в дом архивариуса, то увидел уже не волшебный мир, а самый обыкновенный и даже удивился, что прежде всё здесь казалось ему таким чудесным. Ансельм стал думать, что и Серпентина – это просто его мечта. А в реальности «…он видел только обыкновенные растения в горшках – герани, мирты и тому подобное. Вместо блестящих пёстрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь порхали туда и сюда несколько воробьёв, которые, увидевши Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хотя на мгновение». (Вигилия девятая).
Пространство в произведении Гофмана всё время преображается, оборачиваясь то волшебным замком, то вполне реальным городским зданием. Кстати, этот приём будет позже использован М. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита». Вообще Гофман оказал огромное влияние на творчество Булгакова. Вспоминают, когда вышло исследование И. Миримского о Гофмане, Булгаков якобы сказал: «Наконец-то обо мне написали».
Принявшись за порученное Линдгорстом переписывание, Ансельм вдруг «…увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чём остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать всё это в точности. При общем взгляде пергамент представлялся куском испещрённого жилами мрамора или камнем, проросшим мохом. Тем не менее он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти; в нетерпении он потряс пером, и – о, небо! – большая капля чернил упала на развёрнутый оригинал». (Вигилия девятая).
В этот момент свершилось то, чем грозилась когда-то старуха, как оказалось, главный враг Саламандра, злая волшебница, – Ансельм попал под стекло. Он вдруг оказался внутри плотно закупоренной хрустальной склянки, стоящей на столе в библиотеке архивариуса – в наказание за то, что утратил веру. Но вскоре Ансельм заметил, что поблизости с ним, на том же самом столе, стояло ещё пять похожих склянок, внутри которых он разглядел трёх учеников Крестовой школы и двух писцов.
– Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастия, – воскликнул он, – как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевельнуться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в Саламандра и в зелёную змею?– Вы бредите, господин студиозус, – возразил один из учеников. – Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специес-талеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу; нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры; мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поём, как настоящие студенты, «Gaudeamus igitur…» – и благодушествуем.– Они совершенно правы, – вступился писец, – я тоже вдоволь снабжен специес-талерами, так же, как и мой дорогой коллега рядом, и, вместо того чтобы списывать всё время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места.– Но, любезнейшие господа, – сказал студент Ансельм, – разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять? Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали: «Студент-то с ума сошёл: воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду. Пойдёмте-ка дальше!» (Вигилия десятая).
Так кто же прав: Ансельм или они? На Эльбском мосту он находится или в стеклянной банке? Но всё дело в том, что можно сидеть в банке и думать, что ты на Эльбском мосту, а можно прогуливаться по мосту и думать, что ты за стеклом. Что реально? На этот вопрос у Гофмана нет однозначного ответа, поскольку и реальный мир, и сказочный, по его мнению, одинаково фантастичны. Отсюда обоюдоострая ирония автора.
Один из важнейших мотивов новеллы – зеркальность. Кстати, у Андрея Тарковского был замысел фильма о Гофмане, который, к сожалению, не осуществился. В его сценарии очень важную роль играл образ зеркала. В художественном мире Гофмана, собственно, зеркальность – главная тема, и режиссер это остро ощутил.
Существуют разные типы зеркал. Есть, скажем, зеркало, в которое смотрится Вероника. Или магический кристалл в перстне Линдгорста, который тоже является своеобразным зеркалом. А есть зеркальная поверхность золотого горшка, который Ансельм получает в приданое, женившись на Серпентине, – она отражает идеальный мир. В представлении Гофмана эти миры должны быть неразрывно связаны, но их связь распалась, и каждый из них призрачен. Этот мотив, кстати, ощутим в самом заглавии новеллы, каким оно было в первоначальном замысле. Гофман хотел назвать её «Золотой ночной горшок». В окончательном варианте это не так остро звучит. Когда Ансельм женится на Серпентине, герои получают в приданое золотой горшок и переселяются в волшебную страну Атлантиду. Золотой горшок – символ этого идеального мира.
Для Гофмана идеальный мир сказочен, но и обычный наш мир, воспринимающийся людьми как реальность, не менее фантастичен. Реальность не отвечает идеальным о ней представлениям, идеальный мир не находит опоры в действительности, может существовать только в мечтах.
Кроме того, нет ничего фантастичнее, чем сама реальная жизнь, считал Гофман. Любая фантастика – ничто, по сравнению с тем, что ежедневно мы видим вокруг себя.
«Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (1819) в несколько ином плане представляет эту тему. Главный герой новеллы – уродец Цахес – толком и разговаривать не умеет. Но ему на помощь приходит добрая фея, хотя, добрая она или нет – сложный вопрос.
Действие происходит в княжестве Керепес, где правит князь Пафнутий. Ещё до рождения Цахеса «Пафнутий вознамерился… отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего часа введено просвещение». И первым делом министр Андрес предлагает изгнать из княжества фей, поскольку те с просвещением несовместимы:
– Мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против этих врагов просвещения. Да! Врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти господина папаши, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной тьме. Они упражняются в опасном ремесле – чудесах – и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. Далее, у них столь несносные, противные полицейскому уставу обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров? А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, – всех фей гнать! Их дворцы оцепит полиция, у них конфискуют все опасное имущество и, как бродяг, спровадят на родину, в маленькую страну Джиннистан, которая вам, милостивейший повелитель, вероятно, знакома по «Тысяча и одной ночи». (Глава первая). (413)
Но некоторые из фей всё же сумели затаиться и остаться жить в княжестве. Одна из них даже поступила на службу в приют для благородных девиц. Она скрывает, что на самом деле – знаменитая, прославленная на весь свет фея Розабельверде. Фея дарит Цахесу три золотых волоска, которые необходимо расчёсывать особым гребнем. Этот волшебный дар не сделал Цахеса красавцем, хотя немножко улучшил, конечно. Цахес наконец заговорил. Но главное: все хорошее, что совершали люди вокруг, с тех пор стало приписываться ему, а всё дурное, сотворенное им, – сваливаться на других.
Это открыло Цахесу огромные возможности…
Например, он приходит к пастору и норовит схватить его за нос, а пастор принимает это за непозволительную шалость сына. А вот добрые слова, предназначавшиеся для сына, доводится услышать Цахесу. Столь же легко стала даваться ему и учёба, ведь хорошие ответы теперь приписываются Цахесу, а ошибочные – другим студентам.
Главный герой новеллы, который противостоит Цахесу, – это студент Керепесского университета Бальтазар, романтичный юноша, чем-то напоминающий Ансельма. Бальтазар спорит с персонажем по имени Мош Терпин. Он был профессором естественных наук и с лёгкостью «объяснял, отчего происходят дождь, гром, молния, отчего солнце светит днём, а месяц ночью, как и отчего растёт трава и прочее, да так, что всякое дитя могло бы это уразуметь. Он заключил всю природу в маленький изящный компендиум, так что всегда мог с удобством ею пользоваться и на всякий вопрос извлечь ответ, как из выдвижного ящика. Начало его славе положило удачно выведенное им после многочисленных физических опытов заключение, что темнота происходит преимущественно от недостатка света. Это открытие, равно как и его умение с немалой ловкостью обращать помянутые физические опыты в очаровательные кунштюки и показывать весьма занимательные фокусы, доставило ему неимоверное множество слушателей…» (Глава вторая).
В истории Цахеса, который достигает необыкновенного могущества, лишь благодаря трём волшебным волоскам, Гофман затрагивает проблему, которая позже получит развитие в европейском реалистическом романе – это разрыв между талантом, способностями человека и тем местом, которое ему отводится в обществе. Гофман придаёт этому гротескно-фантастический характер. К примеру, выступает известная актриса, а все аплодируют Цахесу и т.д. Элемент гротеска здесь, конечно, присутствует, но опять же, хочу сразу отметить, что это не просто художественный приём: Гофман ощущает фантасмагоричность самой реальной действительности. Конечно, каждый такой гротескный образ им придуман, и он это осознаёт, но изображать подобные вещи реалистично не для него.
Так вот, Цахесу противостоит Бальтазар. Это единственный герой новеллы, на которого не действуют волшебные чары. Он видит Цахеса таким, какой он есть на самом деле. Это связано с тем, что Бальтазар – поэт, а поэтам свойственна проницательность. Однажды он скажет: «Правда, князь Пафнутий ввёл просвещение на благо и на пользу своего народа и своих потомков, но у нас всё же ещё осталось кое-что чудесное и непостижимое. Я полагаю, что некоторые полезные чудеса сохранились для домашнего обихода. К примеру, из презренных семян всё ещё вырастают высочайшие, прекраснейшие деревья и даже разнообразнейшие плоды и злаки, коими мы набиваем себе утробу. Ведь дозволено же пёстрым цветам и насекомым иметь лепестки и крылья, окрашенные в сверкающие цвета, и даже носить на них диковинные письмена, причём ни один человек не угадает, масло ли это, гуашь или акварель, и ни один бедняга каллиграф не сумеет прочитать эти затейливые готические завитушки, не говоря уже о том, чтобы их списать. Эх, референдарий, признаюсь тебе, в моей душе подчас творится нечто странное. Я кладу в сторону трубку и начинаю расхаживать взад и вперёд по комнате, и какой-то непонятный голос шепчет мне, что я сам – чудо; волшебник микрокосмос хозяйничает во мне и понуждает меня ко всевозможным сумасбродствам». (Глава четвертая).
Вообще, в новелле представлено два разных взгляда на мир. Мош Терпин точно «заключил всю природу в маленький изящный компендиум». А для Бальтазара сама жизнь – чудо; в сущности, чудесно всё, что совершается в природе. Из семени возникает растение, рождается на свет человек… Бальтазар так видит окружающее, и поэтому на него не действуют хитрые чары Цахеса.
А вот другие воспринимают колдовство как реальность. Например, Бальтазар читает стихи Кандиде, дочери Терпина, в которую влюблён. А ей кажется, что перед ней Цахес, а поведение самого Бальтазара представляется более чем странным.
Но существует закон жанра: у сказки обязательно должен быть хороший конец. Ансельм, герой «Золотого горшка». женится на Серпентине, и они переселяются в страну Атлантиду. А здесь, по сказочному закону, Бальтазар встречает доброго волшебника Проспера Альпануса, который тоже когда-то удивительным образом уберегся от гонений. Он признаётся, что долгие годы скрывал от всех свою подлинную сущность:
– Я употребил все старания, чтобы в различных сочинениях, которые я распространял, выказать самые отменные познания по части просвещения. Я доказывал, что без соизволения князя не может быть ни грома, ни молнии и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя и благородных господ – его приближённых, кои весьма мудро совещаются о том в своих покоях, в то время как простой народ пашет землю и сеет. Князь Пафнутий возвёл меня тогда в должность тайного верховного президента просвещения… (Глава шестая).
Благодаря этому он остался в княжестве. Но это всего лишь маска, иначе бы он не обратил внимания на Бальтазара:
– Да, ты поэт, ты много выше, чем полагают иные из тех, кому ты читал свои опыты, в которых пытался с помощью пера и чернил переложить на бумагу внутреннюю музыку. В этих опытах ты ещё немного успел. Однако ты сделал хороший набросок в историческом роде, когда с прагматической широтой и обстоятельностью рассказал о любви соловья к алой розе, историю, которой я был свидетелем. Это весьма искусное произведение. (Глава седьмая).
Проспер Альпанус добивается от феи разоблачения тайны Цахеса. В самый последний момент, когда Цахес, уже ставший министром при дворе князя Пафнутия, решил к тому же ещё и жениться на невесте Бальтазара, Кандиде, Бальтазар успевает вырвать три волшебных волоска, и всем открывается, каков Цахес на самом деле. Колдовские чары рассеиваются.
Кончина Цахеса оказывается весьма печальной: пытаясь скрыться во дворце, подаренном ему князем, карлик тонет в ночном горшке. Бальтазар женится на Кандиде. Проспер Альпанус и фея Розабельверде отправляются в страну волшебников Джиннистан. Правда, напоследок они решают осчастливить Бальтазара и Кандиду.
Просперо Альпандус дарит им дом с особыми волшебными удобствами:
– У твоей жены всегда будет первый салат, первая спаржа. Кухня так устроена, что горшки никогда не перекипают и ни одно блюдо не подгорает, даже если ты на целый час опоздаешь к столу. Ковры, чехлы на стульях и диване такого свойства, что даже при самой большой неловкости слугам не удастся посадить на них пятно, точно так же там не бьётся ни фарфор, ни стекло, какие бы великие усилия ни прилагала к тому прислуга, даже если начнет бросать посуду на каменный пол. Наконец, всякий раз когда жена устроит стирку, то на большом лугу позади дома будет стоять прекрасная ясная погода, хотя бы повсюду шёл дождь, гремел гром и сверкала молния. (Глава седьмая).
Фея тоже делает Кандиде необычный подарок: «Розабельверде подарила прелестной невесте сверкающее ожерелье, магическое действие коего проявлялось в том, что, надев его, она уже никогда не могла быть раздосадована какой-нибудь безделицей, дурно завязанным бантом, плохо удавшейся прической, пятном на белье или чем-нибудь тому подобным. Эта способность, которой ожерелье наделяло Кандиду, придавала её лицу особенную прелесть и приветливую весёлость». (Глава последняя).
Наконец, как и положено в сказке, герои смогут жить счастливо: «Бальтазар, вняв советам Проспера Альпануса, извлекая разумную пользу из обладания чудесной усадьбой, сделался в самом деле хорошим поэтом, а так как другие свойства этого имения, о которых говорил, имея в виду Кандиду, Проспер Альпанус, вполне оправдались и так как Кандида никогда не снимала ожерелья, подаренного ей на свадьбе канониссой Розеншен, то Бальтазар зажил в счастливом супружестве, радости и блаженстве, как только мог когда-либо зажить поэт с прелестной и молодой женой». (Глава последняя).
Однако, ирония подобного финала очевидна. Волшебники навсегда покинули княжество, но нравы в нём не изменились. Волшебством удалось устроить только личное счастье главных героев, да и то таким образом, что исключительно для них существовала хорошая погода, и лишь жена Бальтазара, Кандида, никогда не замечала неприятностей. Поэтому счастливый конец здесь – сомнителен. Мир остался прежним.
Теперь главный вопрос: зачем фея одарила Цахеса? Сама она так скажет об этом в финале:
– Бедный Цахес! Пасынок природы! Я желала тебе добра. Верно, было безрассудством думать, что внешний прекрасный дар, коим я наделила тебя, подобно лучу, проникнет в твою душу и пробудит голос, который скажет тебе: «Ты не тот, за кого тебя почитают, но стремись сравняться с тем, на чьих крыльях ты, немощный, бескрылый, взлетаешь ввысь». Но внутренний голос не пробудился. Твой косный, безжизненный дух не мог воспрянуть, ты не отстал от глупости, грубости, непристойности. (Глава девятая).
Гофман затронул в новелле важнейшую проблему, касающуюся взаимоотношений природы и цивилизации. Природа всё более оказывается изгнанной из мира людей – это одна из главных тем творчества Гофмана. Писатель не выступает против цивилизации, он только хотел бы, чтобы цивилизация пробуждала в человеке, который есть – дитя природы, дремлющее природное начало. К сожалению, в новелле этого не происходит. Фея преподнесла Цахесу чудесный дар, благодаря которому он мог бы воспрянуть духом, преобразиться. Но он не сумел им воспользоваться, так и остался пасынком природы.
Среди высказываний Гофмана есть одно, наиболее точно отражающее его мироощущение. Оно обращено к другу юности, который во взрослые годы возглавил правительство, в то время как Гофман стал писателем. В одном из писем Гофман обратился к нему примерно с такими словами: «Ты грешишь избытком фантазии, а во мне слишком сильно чувство реальности».
О романтизме в английской литературе… В начале XIX столетия Англия была наиболее экономически развитой, пережила промышленный переворот и уже успела столкнуться с незрелой, но всё же вполне очевидной формой социально-политического движения рабочих – чартизмом. Кроме того, Англия боролась против Французской революции. А после разгрома русской армией войск Наполеона и окончательного крушения наполеоновской империи присоединилась к стороне победителей и даже стала во главе Венского конгресса, направленного на восстановление европейских абсолютистских монархий и объединившего их Священного союза, хотя формально не входила в его состав. (Священный союз являлся своеобразным договором о взаимопомощи между монархами России, Австрии и Пруссии). Поэтому развитие буржуазных отношений в Англии было неотделимо от той реакционной роли, которую страна играла в Европе. Это многое определило в характере английского романтизма.
Вообще, литература английского романтизма в своём развитии проходит два этапа. К раннему, это так называемая «озёрная школа», относится творчество таких поэтов, как Вордсворт, Кольридж, Саути. Их творчество в 90 годы XVIII века закладывало основы английской романтической эстетики. Поэты-лейкисты (от англ. Lake, «озеро») идеализировали старую добрую патриархальную Англию, воспевали безыскусную жизнь на лоне природы, противопоставляя рационализму предшественников интуитивное творчество и традиционные христианские ценности.
Однако высшего расцвета английский романтизм достиг уже после поражения Наполеона; в период между битвой при Ватерлоо (1815) и парламентской реформой 1832 года, ставшей поводом для появления чартизма. Этот период выдвинул основателя жанра европейского исторического романа Вальтера Скотта и трёх крупнейших поэтов Англии – Дж. Байрона, П. Б. Шелли и Дж. Китса. Первое место среди них, несомненно, занимает Байрон. Можно без преувеличения сказать: не было ни одного значительного поэта в Европе, который бы не пережил влияния Байрона. Это относится и к русским поэтам А.С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову…
Джорж Ноэл Гордон Байрон родился в 1788 году в Лондоне в обедневшей аристократической семье. Не только творчество, но и сама личность Байрона всегда привлекала к себе огромное внимание. Его смерть в 1824 году в греческом городке Миссолунги вызвала отклик у величайших поэтов мира – Пушкина, Гёте. Дело в том, что Байрон являл собой новый, в общем-то неизвестный прежде, тип поэта. Раньше поэзия и жизнь представлялись двумя разными мирами. Скажем, нельзя искать Беатриче Данте или Лауру Петрарки среди реальных женщин, которые окружали авторов посвящённых им стихов, а у Байрона жизнь и поэзия стали абсолютно неразделимы. Дело не только в том, что Байрон отзывался в своём творчестве на все важнейшие события времени, это было свойственно многим и до него, но Байрон действовал не только как стихотворец. Скажем, он выступает в парламенте, принимает участие в движении итальянских карбонариев, стремившихся в 20-х годах XIX века к освобождению Италии от австрийского владычества и к национальному объединению, отправляется сражаться за свободу греческого народа, покоренного Османской империей. Саму свою жизнь Байрон превращает в поэтическое произведение.
Это действительно важный момент для понимания его творчества. Иногда это ставят ему в упрёк, но это так. Для сравнения: Пушкин, создавая поэму «Евгений Онегин», подчеркивал: «Я рад всегда отметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель не повторял потом, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно кричать о чём-нибудь другом, как только о себе самом».
Байрон всегда писал только о себе самом.
Однако не только жизнь превращалась у него в поэзию, но и поэзия – в жизнь. Во второй песне «Чайльд-Гарольда» – поэмы, с которой, собственно, Байрон начинает своё творчество, большое внимание уделяется судьбе Греции, которая в то время находилась под турецким игом. Позже поэт примет личное участие в освободительной борьбе греческого народа и найдёт в Греции свою смерть. На собственные средства Байроном будет куплено судно, боеприпасы, снаряжение. В конце концов поэт распорядится о продаже всего своего имущества в Англии, чтобы поддержать повстанцев.
Произведением Байрона, которое принесло ему огромную литературную славу (в ранних сочинениях он ещё не обрёл себя в полной мере), стала поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812). Когда две первые песни поэмы вышли в свет, Байрон сказал о себе: «В одно прекрасное утро я проснулся… знаменитым».
Образ главного героя поэмы Чайльд-Гарольда сначала нам не очень ясен:
Жил юноша в Британии когда-то,
Который добродетель мало чтил;
Он дни свои влачил в сетях разврата
И ночи за пирами проводил… (414)
( Песнь первая. 2)
В какой-то момент героя настигает разочарование:
Но вдруг, в расцвете жизненного мая,
Заговорило пресыщенье в нём,
Болезнь ума и сердца роковая,
И показалось мерзким всё кругом…
( Песнь первая. 4)
Чайльд-Гарольд покидает Англию, но в его душе не остается и тени сожаления. На всём белом свете нет такого места, где бы он мог найти приют, остановиться, его ждёт бесконечное путешествие. Но, главное, он рвёт все связи с родиной.
Байрон нигде до конца не раскрывает, быть может, лишь приоткрывает причины столь глубокого разочарования героя:
Ты не поймёшь причины мук,
Которым ты помочь не в силах.
Когда бы ненависть, любовь
Иль честолюбье в нём бродило!
Нет, не они велят мне вновь
Покинуть всё, что сердцу мило.
То скука, скука! С давних пор
Она мне сердце тайно гложет.
О, даже твой прекрасный взор,
Твой взор его развлечь не может!
Томим сердечной пустотой,
Делю я жребий Агасфера.
И в жизнь за гробовой чертой,
И в эту жизнь иссякла вера. (415)
(Песнь первая, 84)
Перед нами образ разочарованного бесприютного скитальца.
Изображая страны, которые посещает Чайльд-Гарольд (речь сейчас лишь о первых двух песнях поэмы), Байрон обращается к истории Испании времён борьбы с Наполеоном, к истории Греции…
В Испании его волнует образ борющегося за свою землю народа. Поэт восторгается героизмом испанцев. Даже испанские женщины не остаются в стороне от этой борьбы:
Любимый ранен – слёз она не льет,
Пал капитан – она ведёт дружину,
Свои бегут – она кричит: вперёд! (416)
(Песнь первая, 56)
Эта тема пронизывает всю первую песню.
А во второй песне главная – тема Греции. Судьба этой страны всегда очень волновала Байрона, представлялась ему некоторым символом судьбы Европы вообще. Известно, что Великая французская революция проходила под знаком возвращения к античным образцам, само будущее европейское жизнеустройство революционеры представляли себе подобным греческому полису. Но из всех этих идеальных устремлений в действительности ничего не осуществилось. Греция оказалась под игом Османской империи.
Байрон вспоминает великое прошлое Греции и видит жалкое настоящее. Главный мотив здесь – это призыв к борьбе за независимость:
Рабы, рабы! Иль вами позабыт
Закон, известный каждому народу?
Вас не спасут ни галл, ни московит,
Не ради вас готовят их к походу,
Тиран падёт, но лишь другим в угоду.
О Греция! Восстань же на борьбу!
Раб должен сам добыть себе свободу! (417)
(Песнь вторая, 76)
Итак, в «Чайльд-Гарольде» возникают две важные темы: разочарованного героя, утратившего веру в идеалы, нигде не находящего себе пристанища, и тема борющихся за свою свободу и независимость народов, восторг перед этой борьбой…
Но, как и во всех иных произведениях Байрона, главным героем поэмы является он сам. Это выражение души самого поэта. Байрон пережил глубокое разочарование в событиях Французской революции. То, во что люди верили, во имя чего они штурмовали Бастилию, в сущности, не свершилось. Это глубочайшее разачарование и нашло отражение в образе Чайльд-Гарольда. Но, с другой стороны, разочарование у Байрона сочетается с бунтом – он жаждет борьбы. Это бунт, несмотря на разочарование, и разочарование, несмотря на бунт. В более зрелых произведениях Байрона появится разочарование и в самом бунте. Но бунт – это тоже важнейшая тема поэта. Он разочарован, но не смиряется.
Это лирическое измерение играет в поэзии Байрона огромную роль. Нередко это ставили Байрону в упрёк, и даже Пушкин иронически отзывался об этом его качестве. Но на самом деле бывает так, что поэт напишет одно великое стихотворение, а на второе его уже не хватает. А Байрона хватило не только на четыре песни «Чайльд-Гарольда», – он сумел всё своё творчество объять собственным «я».
Байрон становится членом Палаты лордов, верхней и более древней палаты английского парламента. И первой его речью в Палате лордов оказывается выступление в защиту луддитов – движения, направленного против изменений, происходивших в тот период в английской промышленности. Нередко этот протест выражался в разрушении машин, поскольку всякий новый механизм, заменяющий в процессе производства ручной труд, вытеснял на улицу множество рабочих. В тот момент в парламенте обсуждался проект закона, карающего разрушителей станков смертной казнью. Байрон выступил решительно против его принятия. Он не только считал подобное постановление бесчеловечным, но и сам факт сравнения гибели человека с поломкой машины казался ему чудовищным. В стихах, правда, это было выражено в шутливой форме: он писал, что человека создать легче, чем машину, но ценность человеческой жизни всё же абсолютна. Кроме того, Байрон выступил в защиту прав Ирландии, продолжая в этом смысле благородное дело Дж. Свифта. (Возникший после подавления ирландского восстания союз двух государств Байрон сравнивал с союзом «акулы с её добычей: хищник проглатывает свою жертву, и таким образом они составляют нераздельное единство. Так и Великобритания поглотила парламент, конституцию, независимость Ирландии". Однако у Байрона не было иллюзии, что его речи произведут должное впечатление на членов Палаты лордов. Он считал, что обращается вовсе не к ним, а к тем, кто пребывал за стенами парламента. В этот период в стране была сильна внепарламентская оппозиция, и прежде всего Байрон адресовал свои слова ей.
Однако после поражения Наполеона в России и сражения при Лейпциге, так называемой Битвы народов, в которой наполеоновская армия была окончательно разбита, в Европе заметно усилилась реакция. Внепарламентская оппозиция была фактически сломлена. Байрон понял, что вся его активная политическая деятельность мало чего стоит. Он называл её «парламентским балаганом», хотя участие в политике, по его собственному признанию, привлекало его не меньше, чем поэтическое творчество. Но ничего другого, кроме как писать стихи, Байрону не оставалось. Так был создан его первый поэтический цикл, получивший название «Восточные поэмы». Открывался цикл поэмой «Гяур», затем последовали «Корсар», «Лара», «Абидосская невеста». Все эти произведения были созданы между 1813 и 1816 годами, после чего Байрон покинул Англию. Это последние произведения, написанные Байроном на родине, больше он никогда в Англию не возвращался.
Поэмы построены по единому принципу, но, может быть, наиболее яркое из произведений цикла – это «Корсар». В центре поэмы – образ морского разбойника Конрада. Действие происходит далеко за пределами Англии, на условном Востоке, отсюда само название цикла «Восточные поэмы». Что касается выбора главного героя, в поэме ощутимо влияние «Разбойников» Шиллера. Байроновский Конрад, как и герой Шиллера Карл Моор, – тоже благородный разбойник. Байрон подчеркивает его одиночество. Никто не смеет к Конраду даже приблизиться. Он одинок среди своих поданных: суровый, мрачный, гордый, одинокий.
Повторю, Конрад – благородный разбойник, но эта характеристика образа требует пояснений. Дело в том, что поведение людей определяется, если максимально обобщить, тремя основными мотивами. Первый – это удовлетворение физических потребностей организма, что роднит человека с животным. Как существа биологические, люди должны есть, пить и т.д. Вторая группа мотивов связана со стремлением занять определенное место в обществе – это социальные амбиции, тоже существенный мотив. И третий мотив, который играет значительную роль в существовании человека, – это стремление к идеалу.
Надо сказать, в какой-то мере все три вида мотивов присутствуют и у животных. Конечно, физиологические потребности для них главные, однако им свойственны и социальные и даже идеальные устремления. Известен эксперимент с обезьянами. Вожака лишали его особого положения в стае, давая взамен больше пищи, окружали самками. Однако он грустил, потому что ему было необходимо главенствовать. Это очевидное проявление социальных амбиций, поскольку все физиологические потребности удовлетворялись. Или, к примеру, опыт с крысами. С одной стороны наполнялась кормушка, а с другой открывался выход из клетки в неизвестность. В результате мало кто выбирал кормушку: большинству хотелось что-то узнать…
Раз уж животным свойственны идеальные мотивы, то, естественно, они, наряду с другими, присущи и человеку. Разница между людьми заключается в доминантах. У одних превалирует физиологическое, у других – социальные амбиции, у третьих – идеалы, убеждения. Разумеется, в реальной жизни социальные амбиции и удовлетворение физических потребностей неразрывно связаны, положение в обществе укрепляет материальное благополучие и т.д. Идеальные мотивы тоже порой трудно отделить от социальных: то ли человек стремится занять выгодное положение в обществе, то ли реализовать в действительности какие-то свои идеи. В общем, всё взаимосвязано.
Но в отношении литературных героев происходит так: автор выбирает наиболее характерное. Романтикам, к примеру, важны, прежде всего, идеалы, они являются определяющими в поведении героя, и когда я говорю, что Конрад – благородный разбойник, это значит, что им руководят некие благородные порывы, а не корысть. Это и объединяет Конрада с Карлом Моором, который тоже равнодушен к грабежу.
Однако есть различие между идеальными мотивами героя Байрона и мотивами героя Шиллера. Дело в том, что Карл Моор верил, что может изменить мир. Он говорил: «Поставьте меня во главе войска таких молодцов, как я, и Германия станет республикой, перед которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями». Придя в конце концов к разочарованию, он разуверился в собственной деятельности и сам отдал себя в руки правосудия. А у Конрада изначально не было никаких иллюзий, он не мечтал о переменах. Дело в том, что Карл Моор начал действовать слишком рано, когда ещё не возникла ситуация, которую принято называть революционной. А Конрад пришёл слишком поздно, когда люди, пережившие события революции, уже испытали глубокое разочарование в самих идеях преобразования действительности. Бунт для него – самоцель.
Если в «Чайльд-Гарольде» Байрон, с одной стороны, изображает разочарованного героя, а с другой – бунтующий народ, то в «Конраде» это соединилось в одном герое. Он разочарован, и он бунтует. Этот бунт неотделим от разочарования. Но если Чайльд-Гарольд – скиталец, то Конрад – изгнанник. Быть изгнанным для него означает быть избранным. Мы не знаем его прошлого, которое окружено тайной – это вообще характерная особенность романтических поэм Байрона:
Хоть голос тих, а облик прям и смел,
В нём что—то есть, что скрыть бы он хотел.
Лица увидев резкие черты,
Ты и пленишься, и смутишься ты.
Как будто в нём, в душе, где мрак застыл,
Кипит работа страшных, смутных сил.
<…>
В его ухмылке виден дьявол сам… (418)
(Песнь первая, IХ)
И всё ж не для того родился он,
Чтоб возглавлять отринувших закон:
Был чист, пока не начал он свои,
С людьми и Вседержителем бои;
< …>
Был слишком горд, чтоб жизнь влачить, смирясь,
И слишком твёрд, чтоб пасть пред сильным в грязь;
Достоинствами собственными он
Стать жертвой клеветы был обречён,
<…>
Внушая страх, оболган с юных лет,
Стал другом Злобе, а Смиренью – нет.
Зов Гнева счёл призывом Божества,
Мстить большинству за козни меньшинства. (419)
(Песнь первая, ХI)
Конрад считает, что все вокруг в каком-то смысле преступники, и для него лучше быть пиратом, чем жить в несправедливом обществе. Это дает ему внутреннюю свободу. Как говорит Байрон, «он для добра был сотворен, но зло к себе, его коверкая, влекло…». Это способ самоутверждения героя. Бунт для него не средство, а смысл: только бунтуя, он утверждает собственную личность. Он говорит миру: нет.
Конрад был рождён для добра, отсюда его жажда чистоты. Зло мира – это то, против чего он прежде всего протестует. Но в его «нет» ощутима потребность в «да». Вообще, это черта романтического героя: разрыв между реальным миром и идеальными представлениями. Мы видели это в новеллах Гофмана, но его герой – мечтатель, он принимает реальность, оставаясь при этом в своем собственном воображаемом мире. А герой Байрона – человек действия, ему нужно что-то совершить в самой действительности, и потому он приходит к бунту.
Это качество Конрада находит выражение в его любви к женщине.
Никто не создан целиком из Зла,
И в Конраде благая страсть жила;
Считал он чувства, жгущие сердца,
Достойными ребёнка иль глупца;
Но эта страсть была его сильней,
И даже в нём: Любовь – названье ей!
Любовь – без перемен и без измен… (420)
(Песнь первая, ХII)
В поэме две героини. Кстати, два полярных женских образа было и у Гофмана: Вероника и Серпентина. Однако в поэме Байрона всё по-другому. Женские образы точно выражают разные стороны души самого героя. Медора – это идеальная женщина романтизма. Кроме того, это европейская женщина, герой её любит, она должна заменить ему Бога.
«…Как странно, Конрад: нежен ты со мной –
А на людей, на мир идёшь войной!»
– говорит она Конраду.
«Да, я таков – но жалит, мстит змея,
Задетая подошвой бытия.
Надежда – лишь в любви, что даришь ты,-
Ведь я лишён Всевышней доброты.
Но я судом обычным не судим:
Любовь к тебе – одно с враждой к другим…» (421)
(Песнь первая, ХIV)
А вторая героиня – Гюльнар – выражение его мятежного духа. И, что характерно, это восточная женщина.
Но любовь Корсара к Медоре обречена. В сущности, это любовь героя к его собственному идеальному «Я». Эта тема особенно ярко выражена в творчестве Лермонтова. Вообще, Лермонтов гораздо ближе к Байрону, чем Пушкин. Недаром он говорил о себе: «Нет, я не Байрон…» Если человек утверждает, что он не Байрон, значит, он чувствует, что «почти Байрон». Так вот, к чему я это говорю. Лермонтов переводил известное стихотворение Гейне «Сосна», и перевод получился странный. Дело в том, что в немецком оригинале использовано слово мужского рода: у Гейне это «он», который влюблён в «неё», пальму, что вполне обычно. Кстати, когда Тютчев обратился к тому же самому стихотворению, он перевёл слово правильно – кедр. «Он», кедр, любит «её», пальму. А Лермонтов перевёл слово как «сосна», потому что у него пальма – это второе «Я» сосны – то, чем она могла бы быть. В стихотворении Лермонтова эта мысль довольно прямо выражена:
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Так вот: пальма – это «погибшая молодость» сосны, а Медора – погибшие мечтания Конрада, выражение его стремления к некоему идеальному миру, которое не укладывается в бунт.
Главное событие байроновского «Корсара» – нападение на турецкого пашу. Но, как я уже сказал, Конрад – благородный разбойник. И поэтому, когда вспыхивает пожар в гареме, он бросается спасать женщин. Он не может допустить, чтобы они сгорели. Можно убить пашу, но нельзя допустить гибель невинных. Конрад выносит женщин из горящего жилища на руках. Среди спасённых оказывается и Гюльнар, одна из жен паши. Конрад мог бы одержать победу, но он спасал невольных жертв своего нападения, и паша этим воспользовался.
Конрад оказывается в плену. Его ждёт смертная казнь. И вот в темницу к Конраду приходит Гюльнар. Она полюбила Конрада, благодарна ему за своё спасение. Вначале она даже пытается уговорить пашу освободить пленника. Но все её попытки абсолютно ни к чему не приводят, и тогда она решается убить пашу. Можно сказать, что Конрад этого не одобряет, хотя и мог бы её понять. Она объясняет Конраду, что не может любить пашу уже по той простой причине, что находится в его гареме не по собственной воле. Это должно быть понятно Конраду: «лишь на свободе жить любви дано» (Песнь третья). Кроме того, она убивает, чтобы спасти Конрада. Гюльнар – это выражение его собственного мятежного «Я». Она тоже бунтует, даже готова пойти на преступление. Гульнар спасает Конрада, и он, конечно, не может её оттолкнуть. Он не может не испытывать к ней чувства благодарности, хотя любит Медору. Но вернувшись из плена, Конрад узнает, что Медора умерла. Она считала, что Конрад погиб и не смогла с этим смириться.
Поэма начинается одиночеством Конрада и завершается ещё большим одиночеством. Он потерял Медору и больше не хочет оставаться предводителем разбойников. Он уходит куда-то, и что будет с героем дальше, мы не знаем. Не стало главного, во имя чего Конрад жил.
После «Восточных поэм» Байрон уезжает сначала в Швейцарию, а затем в Италию. В Италии в 1821 году им было написано самое глубокое и, вероятно, самое великое его произведение – драматическая мистерия «Каин». Надо сказать, большое влияние на поэму Байрона оказал «Фауст» Гёте. Я уже упоминал, что сам Гёте отмечал сходство «Каина» с первой частью его трагедии. Но он не был за это в обиде, потому что Байрон вполне оригинально развил тему.
В основу поэмы положен библейский миф о Каине, первом убийце на Земле. Важнейший мотив этого мифа – контраст двух священных образов: древа познания и древа жизни. Адам и Ева вкусили от запретного древа познания добра и зла и в наказание были изгнаны из Рая. По одной из версий, Бог не хотел допустить, чтобы люди вкусили ещё и от древа жизни, потому что тогда бы им открылось могущество, сравнимое со всесилием Господа. Противопоставление древа познания и древа жизни встречается и в «Фаусте» Гёте. Символический путь Фауста, в сущности, – это движение от древа познания к древу жизни, вся первая часть трагедии на этом построена.
Байрон необычайно глубоко постиг суть библейского мифа. Мы к этому ещё вернёмся. А пока о том историческом контексте, который волновал поэта. Как известно, XVIII век был веком Просвещения, и прогресс мыслился, прежде всего, как прогресс знания. Людям казалось, что теперь-то им откроется главное и они смогут, наконец, построить на Земле идеальный мир. Но древо познания не стало древом жизни. Реальность следовала какой-то своей особой логике, совсем не той, которую представляли себе просветители. Этот контраст между ожиданиями, рождёнными Французской революцией, и действительностью и стоял для Байрона за этим мифом. Это было осмысление реального опыта эпохи сквозь призму библейского мифа.
Начинается «Каин» тоже в каком-то смысле подобно «Фаусту», только в трагедии Гёте ангелы поют осанну Богу, а в поэме Байрона его славят первые обитатели Земли. Кто эти первые люди? Это Адам, Ева и их дети. У них двое сыновей – Каин и Авель и две дочери – Ада и Сцелла, которые одновременно являются и жёнами братьев, поскольку других женщин нет. Люди возносят хвалу Иегове. Но единственный, кто не желает этого делать, – Каин. Ему непонятна безоговорочная набожность и покорность родителей и брата: «У них на все вопросы / Один ответ: „Его святая воля“ …Всесилен, так и благ?»
Адам спрашивает Каина, почему он не молится вместе с другими?
Каин
Мне не о чем молиться.
Адам
И не за что быть благодарным?
Каин
Нет.
Адам
Но ты живёшь?
Каин
Чтоб умереть?
Ева
О, горе!
Плод древа запрещённого созрел. (422)
(Акт первый. Сцена первая)
Действие поэмы разворачивается в «местности близ рая». Это мир, в котором никто ещё не умирал и даже не постарел. Адам и Ева всё так же полны сил и прекрасны, как и в первые дни творения. Когда-нибудь, как потом Люцифер скажет Каину, они постареют, но пока ещё время никого не коснулось. Но Каин знает о своей смертности, ведь это – первое знание, которое открылось людям. Животным оно не дано, а человек знает, что в конце концов умрёт. И это более всего мучает Каина.
Тревожат его и другие вопросы: «Я никогда не мог согласовать / То, что видел, с тем, что говорят мне». В чём заключается его, Каина, вина? Адам и Ева ослушались Бога и вкусили от древа познания, но он-то, Каин, ничего подобного не совершал, лично он не нарушал никаких запретов. Почему и его тоже коснулась божественная кара? Этот вопрос он задаёт своему отцу. Но Адам лишь отвечает: такова воля Господа, людям не дано этого понять. Однако Каина такой ответ не устраивает.
И вот в момент самых горьких сомнений Каину является Люцифер. Это мотив, которого нет в Библии, несомненно, заимствованный Байроном у Гёте. Но только Люцифер отличается от Мефистофеля. У Гёте – это бес, который впервые является Фаусту в облике пса. Люцифер же не похож на низкого искусителя. В поэме Байрона это сияющее небесное создание, красота которого лишь чуть ущербна. Люцифер – падший ангел, восставший против Бога. И он пытается соблазнить Каина, внушая ему мысль, что лишь бессмертие духа способно воспрепятствовать скорбному уделу, уготованному Иеговой человеку.
Про себя Люцифер скажет:
Мы существа,
Дерзнувшие сознать своё бессмертье.
Взглянуть в лицо всесильному тирану,
Сказать ему, что зло не есть добро.
Он говорит, что создал нас с тобою –
Я этого не знаю и не верю,
Что это так, – но, если он нас создал,
Он нас не уничтожит: мы бессмертны!
Он должен был бессмертными создать нас,
Чтоб мучить нас: пусть мучит! Он велик,
Но он в своём величии несчастней,
Чем мы в борьбе. Зло не рождает благо,
А он родит одно лишь зло… (423)
(Акт первый. Сцена первая)
Люцифер в трактовке Байрона вроде бы отрицает зло, но и не делает добра. Почему он восстал против Творца? Бог создал мир несовершенным, человека – смертным, а Люцифер жаждет абсолютного добра и абсолютного блага. Кстати, эта двойственность заложена в самом имени Люцифер, которое, означая «несущий свет», принадлежит князю тьмы. Кроме того, он хотел бы стать равным Богу, отказывается ему подчиниться, а для этого необходимо только одно – восстать, другого способа нет. «Он победитель мой, но не владыка…» – скажет он о Господе…
Люцифер – своеобразный двойник главного героя поэмы. Каин признается: то, что он слышит от Люцифера, и ему самому не раз приходило в голову. Люцифер пытается его соблазнить, но делает это не так, как Мефистофель, который ставил Фауста перед разными жизненными искушениями. Люцифер же не предлагает Каину ни удовольствий, ни исполнения желаний. Он соблазняет только одним – знанием, которое, по его словам, есть ключ к бессмертию. Но взамен он ждёт от Каина поклонения. Каин ему говорит, что даже Богу не кланялся. На что Люцифер отвечает: «Тот, кто не поклонился Богу, поклонился Люциферу».
Главный соблазн, который Люцифер предлагает человеку, – это полёт в бездну. Он уносит Каина в далёкие космические миры, которые с Земли выглядят как звёзды. Подобно Данте и Вергилию в «Божественной комедии» Данте, герои Байрона совершают это запредельное путешествие, минуя прошедшие и грядущие земли, по сравнению с которыми нынешняя – ничтожней песчинки. Каину открывается беспредельность пространства и бесконечность времени. Как поясняет ему Люцифер: «Есть многое, что никогда не будет / Иметь конца… / Лишь время и пространство неизменны, / Хотя и перемены только праху / Приносят смерть».
На неисчислимом множестве планет, как узнаёт ошеломленный Каин, есть и свои эдемы, и даже люди, «иль существа, что выше их». Но Каин видит, что ныне там царствует смерть. Оказывается, Земля – это не единственный мир, созданный Богом, а человек – не первый разумный его обитатель. Были когда-то существа даже более могущественные и прекрасные, чем люди, а теперь места, которые они населяли, мертвы. Иегова покончил с ними «смешением стихий». Перед взором Каина проплывают тени существ, которым нет названия. Это зрелище величественно и грозно, но, по уверению Люцифера, не сравнимо с теми бедами и катастрофами, которые ещё ждут человечество. Кажется, Бог созидает лишь для того, чтобы разрушать. Каина всегда это волновало:
Когда я слышу
Об этой всемогущей и, как видно,
Ничем неотвратимой смерти, думы
Несметные в моём уме теснятся
И жгут его. Возможно ль с ней бороться? (424)
(Акт первый. Сцена первая)
Только вначале Каин думал, что даже если он сам умрёт и не будет на свете Адама, останутся жить их потомки. А оказывается, смерть уготована всему человеческому роду. Может, не скоро, но в конце концов это случится. Всё сущее обречено на гибель.
Каин не в силах этого постичь, но Люцифер убеждает: даже смерть есть некое преддверие. Всё, что люди могут узнать при жизни, Люцифер ему открыл.
И вот Каин возвращается на Землю. Совершив это поистине космическое путешествие с Люцифером, он многое понял, в том числе главное: какое несчастье принесло людям древо познания. Адам и Ева жили, не помышляя о том, что смертны, так же, как не знают о существовании смерти животные. Они были счастливы. Может быть, потом они бы и умерли, конечно, но пока жили – не подозревали о кратковременности жизни. Они пребывали в раю неведения, а, вкусив от запретного древа, узнали, что существует смерть.
Каин не жалеет об этом утраченном рае. Ему не нужны иллюзии.
И, надо сказать, такова сама поэзия Байрона. Это мужественная поэзия. Байрон не боится представить человеку истину, какой бы пугающей она ни была. В этом смысле Байрон как бы предвосхищает реализм XIX века, главный пафос которого – познание правды. Недаром эпиграфом к роману «Красное и Черное» Стендаля станут слова деятеля Французской революции Дантона: «Правда, горькая правда», а Бальзак назовет один из центральных романов «Человеческой комедии» – «Утраченные иллюзии». Надо иметь мужество смотреть реальности прямо в глаза…
Однако есть принципиальная разница между героем поэмы Байрона и героями реалистического романа XIX века. Те принимают мир таким, каков он есть, а Каин бунтует, не желает мириться с данностью.
Именно с этим бунтом связано важнейшее драматическое событие поэмы – убийство Каином Авеля.
Возвратившись на землю, Каин задает Люциферу вопрос:
Но если так, скажи, с какою целью
Блуждали мы?
Люцифер
Но ты стремился к знанью;
А всё, что я открыл тебе, вещает:
Познай себя.
Каин
Увы! Я познаю,
Что я – ничто.
Люцифер
И это непреложный
Итог людских познаний. Завещай
Свой опыт детям – это их избавит
От многих мук. (425)
(Акт второй. Сцена вторая)
Люцифер подчеркивает, что он всё-таки желает добра Каину.
Я сеял, рыл, я был в поту, согласно
Проклятию; но что ещё мне делать? -
обращается Каин к своей жене Аде.
Смиренным быть – среди борьбы с стихией
За мой насущный хлеб? Быть благодарным
За то, что я во прахе пресмыкаюсь,
Зане я прах и возвращусь во прах?
Что я? Ничто. И я за это должен
Ханжою быть и делать вид, что очень
Доволен мукой? Каяться – но в чём?
В грехе отца? Но этот грех давно уж
Искуплен тем, что претерпели мы,
И выше всякой меры искупится
Веками мук, предсказанных в проклятье.
Он сладко спит, мой мальчик, и не знает,
Что в нём одном – зачатки вечной скорби
Для мириад сынов его! О, лучше б
Схватить его и раздробить о камни,
Чем дать ему…
Ада
Мой Бог! Не тронь дитя –
Моё дитя! Твоё дитя! О Каин!
Каин
Не бойся! За небесные светила,
За власть над ними я не потревожу
Ничем малютку, кроме поцелуя.
Ада
Но речь твоя ужасна!
Каин
Я сказал,
Что лучше умереть, чем жить в мученьях
И завещать их детям! Если ж это
Тебя пугает, скажем мягче: лучше б
Ему совсем на свет не появляться. (426)
(Акт третий. Сцена первая)
Каин в состоянии отчаяния и гнева на Бога. И в этот момент Авель приглашает его к совместному принесению жертвенных даров. Авель, как и положено, закалывает ягненка, а Каин возлагает на алтарь растения и плоды. В Библии это мотивируется тем, что Каин – земледелец. У Байрона же это объясняется иначе: Каин не хочет проливать кровь. Жертвоприношение – знак смирения человека перед всесильным Богом. Но Каин этой покорности не приемлет:
Дух, для меня неведомый! Всесильный
И всеблагой – для тех, кто забывает
Зло дел твоих! Иегова на Земле!
Бог в небесах, – быть может, и другое
Носящий имя, – ибо бесконечны
Твои дела и свойства! Если нужно
Мольбами ублажать тебя, – прими их!
Прими и жертву, если нужно жертвой
Смягчать твой дух: два существа повергли
Их пред тобою. Если кровь ты любишь,
То вот алтарь дымящийся, облитый
Тебе в угоду, кровью жертв, что тлеют
В кровавом фимиаме пред тобой.
А если и цветущие плоды,
Взлелеянные солнцем лучезарным,
И мой алтарь бескровный удостоишь
Ты милостью своею, то воззри
И на него. Тот, кто его украсил,
Есть только то, что сотворил ты сам,
И ничего не ищет, что даётся
Ценой молитвы. Если дурен он,
Рази его,– ведь ты могуч и властен
Над беззащитным! Если же он добр,
То пощади – иль порази, – как хочешь,
Затем что всё в твоих руках: ты даже
Зло именуешь благом, благо – злом
И прав ли ты – кто знает? Я не призван
Судить о всемогуществе: ведь я
Не всемогущ,– я раб твоих велений!
Огонь на жертвеннике Авеля разрастается в столп ослепительного пламени и поднимается к небу; в то же время вихрь опрокидывает жертвенник Каина и далеко раскидывает по земле плоды. (427)
(Акт третий. Сцена первая)
Бог отвергает приношения Каина, потому что бескровная жертва – протест против его заветов.
Авель (коленопреклоненный)
О брат, молись! Ты прогневил Иегову:
Он по земле твои плоды рассеял.
Каин
Земля дала, пусть и возьмёт земля,
Чтоб возродить их семя к новой жизни.
Ты угодил кровавой жертвой больше:
Смотри, как небо жадно поглощает
Огонь и дым, насыщенные кровью.
Авель
Не думай обо мне; пока не поздно,
Готовь другую жертву для сожженья.
Каин
Я больше жертв не буду приносить
И не стерплю…
Авель (встает с колен)
Брат, что ты хочешь делать?
Каин
Низвергнуть в прах угодника небес,
Участника в твоих молитвах низких –
Твой жертвенник, залитый кровью агнцев,
Вскормленных и вспоенных для закланья.
Авель (удерживая Каина)
Не прибавляй безбожных дел к безбожным
Словам. Не тронь алтарь: он освящен
Божественной отрадою Иеговы,
Его благоволением.
Каин
Его!
Его отрадой! Так его отрада –
Чад алтарей, дымящихся от крови,
Страдания блеющих маток, муки
Их детищ, умиравших под твоим
Ножом благочестивым! Прочь с дороги!
Авель
Брат, отступись! Ты им не завладеешь
Насильственно; но если ты намерен
Для новой жертвы взять его – возьми.
Каин
Для жертвы?! Прочь, иль этой жертвой будет…
Авель
Что ты сказал?
Каин
Пусти! Пусти меня!
Твой бог до крови жаден, – берегись же:
Пусти меня, не то она прольётся!
Авель
А я во имя бога становлюсь
Меж алтарем священным и тобою:
Он Господу угоден.
Каин
Если жизнью
Ты дорожишь, – уйди и не мешай мне.
Иначе я…
Авель
Бог мне дороже жизни.
Каин (поражая Авеля в висок головней, которую схватил с жертвенника)
Так пусть она и будет жертвой богу!
Он любит кровь. (428)
(Акт третий. Сцена первая)
В ярости Каин ударяет Авеля, призывающего, несмотря ни на что, принести на жертвенник новые, угодные Богу дары. Но осознав, что его удар стал для брата смертельным, Каин приходит в ужас:
И это я, который ненавидел
Так страстно смерть, что даже мысль о смерти
Всю жизнь мне отравила, – это я
Смерть в мир призвал, чтоб собственного брата
Толкнуть в её холодные объятья? (429)
(Акт третий. Сцена первая)
Всё начиналось одиночеством Каина и завершается ещё более глубоким одиночеством. Бог не карает его за братоубийство смертью, он наказывает жизнью. Впереди у Каина бессчетное число дней, которые предстоит провести вдали от людей, в безрадостной пустыне. Смерть, конечно, придёт к нему в положенный срок, поскольку все смертны. А до тех пор он обречён на сомнения и безмерное одиночество. Все близкие от него отвернулись. Его проклинает мать Ева. Отец Адам велит навсегда покинуть дом. Но Каин уходит не потому, что исполняет чью-то волю, а принимает изгнание как расплату.
В сущности, в поэме Байрона заложена идея, прямо противоположная «Фаусту» Гёте. В трагедии Гёте Мефистофель, желая зла, подвигал Фауста к благу, и в конце концов оказался бессилен перед светлыми силами. В одной из финальных сцен, кстати, он и сам засмотрелся на прекрасных ангелов, а те в этот самый момент выхватили у него душу Фауста. Добро превзошло силы зла. А у Байрона – наоборот, Каин стремится к добру, не желает мириться со злом и несовершенством мира, бунтует. Но это стремление к абсолютному добру оборачивается злом.
Кстати, Люцифер, в отличие от Мефистофеля, рассуждает о добре, но творит зло. Это отчасти связано с осмыслением Байроном опыта Французской революции. Её деятели тоже провозглашали высокие идеи, говорили о свободе, равенстве, братстве, но в действительности совершали немало ужасного. Однако это имеет и более широкий смысл – абсолютное добро невозможно, и тот, кто заявляет о своей к нему приверженности, нередко сам оказывается носителем зла. Мир несовершенен. Есть ли какая-нибудь альтернатива такому положению вещей? Я уже говорил о том, что «Фауст» Гёте завершается утверждением веры, надежды и любви. В поэме Байрона нет веры, скорее – полное неверие, а вместо надежды – отчаяние…
Что же касается любви, воплощением этого чувства в поэме является Ада. Она – единственная, кто уходит вместе с изганным прочь от людей Каином. Но только это не та любовь, что спасла душу Фауста. Любовь Маргариты вела Фауста к свету, к высшей божественной истине, а Каин остается во власти Люцифера.
Образ Ады – это, пожалуй, единственный женский образ в поэзии Байрона, который имеет самостоятельное смысловое значение. Уже с самого начала, когда Каину впервые является Люцифер, Ада предчувствует недоброе:
Не ходи
За этим духом, Каин! Примирись
С своей судьбой, как мы с ней примирились,
Люби меня, как я тебя люблю. (430)
(Акт первый. Сцена первая)
Кстати, главное отличие Каина от Люцифера заключается в том, что Каин искренне любит Аду:
Я думал о сестре моей. Все звезды,
Вся красота ночных небес, вся прелесть
Вечерней тьмы, весь пышный блеск рассвета,
Вся дивная пленительность заката,
Когда, следя за уходящим солнцем,
Я проливаю сладостные слезы.
И, мнится, вместе с солнцем утопаю
В раю вечерних легких облаков,
И сень лесов, и зелень их, и голос
Вечерних птиц, поющих про любовь,
Сливающийся с гимном херувимов,
Меж тем как тьма уж реет над Эдемом,
Всё, всё – ничто пред красотою Ады.
Чтоб созерцать её, я отвращаю
Глаза свои от неба и земли. (431)
(Акт второй. Сцена вторая)
Каин признается, как дорога ему Ада. Но Люцифер, в отличие от Мефистофеля Гёте, говорит Каину, что это его недостойно. Нельзя любить смертное. Это сейчас Ада молода и прекрасна, но со временем постареет и умрёт. Над ней, как и над всем земным, властвует время. Каин же рождён для того, чтобы обратиться к вечному, к абсолютному, а не к тому, что обречено на гибель.
Но любовь как раз и есть обращение к временному, преходящему. Это чувство присуще Аде. Молясь вместе с другими в начале мистерии, а каждый там по-своему восхваляет Бога, Ада произносит такие слова:
Иегова, бог! Отец всей сущей твари,
Создавший человека всех прекрасней,
Достойней всех земной любви, дозволь мне
Любить его! – Хвала, хвала тебе! (432)
(Акт первый. Сцена первая)
Она и Люциферу скажет: «Я видела Творца в его твореньях».
Бог Ады – это Любовь. Любовь именно к смертному, несовершенному. Каину не хватило любви. Он мог любить одну лишь Аду, а ко всем остальным оставался холоден. Ведь если бы он любил Авеля, то не лишил бы его жизни, как никогда бы не причинил зла Аде. Но он не любил Авеля.
Мир несовершенен, считал Байрон, и, конечно же, далёк от того идеала, которого так жаждет душа Каина. Порой единственное, что позволяет человеку принять действительность – это любовь. Любовь к миру, к Богу, отражённому в его творениях. Каину не хватило этой спасительной любви. Но для Байрона любовь – высшая ценность. Веры и надежды у него не осталось…
О замысле поэмы «Дон-Жуан» (1819-1824) Байрон более чем красноречиво отозвался в одном из писем (письмо Мерею). По словам Байрона, он «хотел бы изобразить своего героя «cavalier servente» в Италии, виновником развода в Англии, сентиментальным, в духе Вертера в Германии, чтобы показать современное ему общество с разных сторон и наконец изобразить, как герой становится пресыщенным скептиком. Жизнь Дон-Жуана, по замыслу Байрона, должна была оборваться в период Французской революции. Он представлялся автору личностью, сродни Анархарсису Клоотсу, активному участнику революционных событий, который был гильотинирован Робеспьером в 1794 году. Байрон считал героя поэмы своего рода сатирой…
Вообще, Дон-Жуан – образ традиционный, но скажем, в трактовке Байрона он совсем не похож на героя Мольера, как и на последующие вариации образа у Пушкина или Блока. Байрон сам говорит о Дон-Жуане в начале поэмы:
Ищу героя! Нынче что ни год,
Являются герои, как ни странно.
Им пресса щедро славу воздает,
Но эта лесть, увы, непостоянна:
Сезон прошёл – герой уже не тот.
А посему я выбрал Дон-Жуана:
Ведь он, наш старый друг, в расцвете сил
Со сцены прямо к чёрту угодил. (433)
(Песнь первая, 1)
Итак, Байрон явно подчеркивает театральность своего Дон-Жуана. Этот герой взят им из театра, даже, может быть, из кукольного представления. Как и в легенде о Дон-Жуане, действие происходит в Испании. Первая любовь Дон-Жуана обращена к некой Юлии, и вот как о ней говорится в поэме:
Случилось это вечером, весной,-
Сезон, вы понимаете, опасный
Для слабой плоти. А всему виной
Предательское солнце – это ясно!
Но летом и под хладною луной
Сердца горят. Да что болтать напрасно:
Известно, в марте млеет каждый кот,
А в мае людям маяться черёд. (434)
(Песнь первая, 102)
Поэма, кстати, написана октавой. Это восьмистрочная строфа, в которой присутствуют четыре парные рифмы…
Итак, Дон-Жуан влюбляется. Но оказалось, Юлия замужем, и Дон-Жуану приходится покинуть Испанию. Вообще, последняя поэма Байрона немного напоминает «Паломничество Чайльд-Гарольда». Это тоже поэма странствий, но только резко меняются темы поэмы. Там изображалась героическая борьба народов в тех странах, которые посещал Чайльд-Гарольд, разочарованный скиталец. Здесь же резко меняются и образы мира и сам герой.
Дон-Жуан посещает Россию. Байрон изображает царский двор. Но нельзя сказать, что это лучшие страницы поэмы по той простой причине, что Байрон никогда в России не был и в глубинном смысле её не знал. В этом отношении гораздо более существенно в поэме представлена Англия, куда позже попадает Дон-Жуан, и собственно на этом поэма завершается. Герой Байрона должен был отправиться ещё и во Францию, но эти части поэмы не были написаны.
Байрон даёт сатирический образ Англии. Когда Дон-Жуан приезжает туда, ему кажется, что он попал в мир свободы: Англия – страна, пережившая революцию. В общем, поначалу он полон иллюзий:
Мой Дон-Жуан в порыве экзальтации
Глядел на чудный город и молчал -
Он пламенный восторг к великой нации
В своём наивном сердце ощущал.
"Привет тебе, твердыня Реформации,
О родина свободы, – он вскричал, -
Где пытки фанатических гонений
Не возмущают мирных поколений!
Здесь честны жены, граждане равны,
Налоги платит каждый по желанью;
Здесь покупают вещь любой цены
Для подтвержденья благосостоянья;
Здесь путники всегда защищены
От нападений…" Но его вниманье
Блеснувший нож и громкий крик привлек:
"Ни с места, падаль! Жизнь иль кошелек!"
Четыре парня с этим вольным кличем
К Жуану бросились, решив, что он
Беспечен и сражаться непривычен,
И будет сразу сдаться принужден… (435)
(Песнь одиннадцатая, 9-11)
Байрон сатирически рисует английскую действительность, главной силой в которой стали деньги:
О, как прелестна звонкая монета!
О, как милы рулоны золотых!
На каждом быть положено портрету
Кого-то из властителей земных, -
Но ныне бляшка солнечная эта
Ценнее праха царственного их.
Ведь и с дурацкой рожей господина
Любой червонец – лампа Аладдина!
"Любовь небесна, и она царит
В военном стане, и в тени дубравы.
И при дворе!" – поэт наш говорит:
Но я поспорю с музой величавой:
"Дубрава", правда, смыслу не вредит -
Она владенье лирики по праву,
Но двор и стан военный не должны,
Не могут быть "любви" подчинены.
А золото владеет и дубравой
(Когда деревья рубят на дрова!),
И тронами царей, и бранной славой -
И на любовь известные права
Имеет, ибо Мальтус очень здраво
Нам это изложил, его слова
Нас учат, что супружеское счастье
У золота находится во власти! (436)
(Песнь двенадцатая, 12-14)
Вообще, Байрон в этой поэме впервые в литературе XIX века изображает город. Это кстати, покоряло Гёте:
Вот перед ним бульвары, парки, скверы,
Где нет ни деревца уже давно…
< …>
Шлагбаумы, фуры, вывески, возки,
Мальпосты, как стремительные птицы,
Рычанье, топот, выкрики, свистки,
Трактирщиков сияющие лица,
Цирюлен завитые парики
И масляные светочи столицы,
Как тусклый ряд подслеповатых глаз.
(В то время газа не было у нас!) (437)
(Песнь одиннадцатая, 21-22)
Байрон вводит в романтическую поэзию то, что прежде никогда не было её предметом, а именно – грубую прозу жизни. Это проявляется и в стилистике поэмы. Нередко в ней звучит даже язык рекламы. Так, например, о матери Дон-Жуана сказано:
Я мог сравнить её высокий дар
С твоим лишь маслом, дивный Макассар. (438)
(Песнь первая, 17)
Макассаровое масло, с которым Байрон иронично сравнивает «высокий дар» матери главного героя поэмы, было популярным в те времена средством для укладки волос.
В эпизоде, в котором герой попадает в кораблекрушение, – мы к этому ещё вернемся, – Байрон тоже прибегает к языку рекламы:
Ничто б несчастным не могло помочь -
Ни стоны, ни молитвы, ни проклятья,
И все ко дну пошли бы в ту же ночь,
Когда б не помпы. Вам, мои собратья,
Вам, мореходы Англии, не прочь
Чудесные их свойства описать я:
Ведь помпы фирмы Мэнна – без прикрас! -
Полсотни тонн выкачивают в час. (439)
(Песнь вторая, 29)
Это же настоящая реклама помп, которые «полсотни тонн выкачивают в час».
Меняется в поэме и образ главного героя. Байрон как бы пародирует мотивы и романтические темы своей же собственной ранней поэзии. Вот как Дон-Жуан, покидая Испанию, прощается со своей возлюбленной:
"Прощай, моя Испания, – вскричал он. -
Придётся ль мне опять тебя узреть?
Быть может, мне судьба предназначала
В изгнанье сиротливо умереть!
Прощай, Гвадалкивир! Прощайте, скалы,
И мать моя, и та, о ком скорбеть
Я обречён!" Тут вынул он посланье
И перечёл, чтоб обострить страданье.
"Я не могу, – воскликнул Дон-Жуан, -
Тебя забыть и с горем примириться!
Скорей туманом станет океан
И в океане суша растворится,
Чем образ твой – прекрасный талисман -
В моей душе исчезнет; излечиться
Не может ум от страсти и мечты!"
(Тут ощутил он приступ тошноты.)
"О Юлия! (А тошнота сильнее.)
Предмет моей любви, моей тоски!..
Эй, дайте мне напиться поскорее!
Баттиста! Педро! Где вы, дураки?..
Прекрасная! О боже! Я слабею!
О Юлия!.. Проклятые толчки!..
К тебе взываю именем Эрота!"
Но тут его слова прервала… рвота.
Он спазмы ощутил в душе (точней -
В желудке), что, как правило, бывает,
Когда тебя предательство друзей
Или разлука с милой угнетает,
Иль смерть любимых – и в душе твоей
Святое пламя жизни замирает.
Ещё вздыхал бы долго Дон-Жуан,
Но лучше всяких рвотных океан.
Любовную горячку всякий знает:
Довольно сильный жар она даёт,
Но насморка и кашля избегает,
Да и с ангиной дружбы не ведёт.
Недугам благородным помогает,
А низменных – и в слуги не берёт!
Чиханье прерывает вздох любовный,
А флюс для страсти вреден безусловно.
Но хуже всех, конечно, тошнота.
Как быть любви прекрасному пыланью
При болях в нижней части живота?
Слабительные, клизмы, растиранья
Опасны слову нежному "мечта",
А рвота для любви страшней изгнанья!
Но мой герой, как ни был он влюблён,
Был качкою на рвоту осуждён. (440)
(Песнь вторая, 18-23)
Выведен в поэме и образ пирата. Это тоже некая самопародия, отсылающая читателя к образу морского разбойника Конрада:
Он в юности был рыбаком отличным -
И, в сущности, остался рыбаком,
Хотя иным уловом необычным
Он занимался на море тайком.
Мы числим контрабанду неприличным
Занятием, а грабежи – грехом.
Но не понёс за грех он наказанья,
А накопил большое состоянье.
Улавливал он в сети и людей,
Как Петр-апостол, – впрочем, скажем сразу,
Немало он ловил и кораблей,
Товарами груженных до отказу,
Присваивал он грузы без затей,
Не испытав раскаянья ни разу,
Людей же отбирал, сортировал -
И на турецких рынках продавал. (441)
(Песнь вторая, 125-126)
Такой вот прозаический образ пирата, ничего общего не имеющий с благородным Конрадом, героем его ранней поэмы «Корсар».
Даже говоря о любви Дон-Жуана к Гайдэ, дочери пирата, а это самый поэтичный эпизод поэмы, Байрон не обходится без иронии:
Так с каждым утром выглядел свежей
Мой Дон-Жуан, заметно поправляясь:
Здоровье украшает всех людей,
Любви отличной почвою являясь;
Безделье же для пламени страстей
Любовных лучше пороха, ручаюсь!
Притом Церера с Вакхом, так сказать,
Венере помогают побеждать…
Пока Венера сердце заполняет -
Поскольку сердце нужно для любви, -
Церера вермишелью подкрепляет
Любовный жар и в плоти и в крови,
А Вакх тотчас же кубки наливает.
Покушать любят все, но назови,
Кто – Пан, Нептун иль сам Зевес нас балует
И яйцами и устрицами жалует. (442)
(Песнь вторая, 169-170)
Итак, Байрон как бы пародирует различные темы романтической поэзии.
Как известно, хотя это, может быть, и не совсем романтический мотив, но, во всяком случае, часто используемый – любовь венчается браком. Но для Байрона любовь и брак несовместимы:
Какой-то есть особенный закон
Внезапного рожденья антипатий:
Сперва влюблённый страстью ослеплён,
Но в кандалах супружеских объятий
Неотвратимо прозревает он
И видит – всё нелепо, всё некстати!
Любовник страстный – чуть не Аполлон,
А страстный муж докучен и смешон!
Мужья стыдятся нежности наивной,
Притом они, конечно, устают:
Нельзя же восхищаться непрерывно
Тем, что нам ежедневно подают!
Притом и катехизис заунывный
Толкует, что семейственный уют
И брачные утехи с нашей милой
Терпеть обречены мы до могилы.
Любую страсть и душит и гнетёт
Семейных отношений процедура:
Любовник юный радостью цветёт,
А юный муж глядит уже понуро.
Никто в стихах прекрасных не поёт
Супружеское счастье; будь Лаура
Повенчана с Петраркой – видит бог,
Сонетов написать бы он не мог! (443)
(Песнь третья, 6-8)
Поэма близка по своей стилистике к романному жанру, наполнена прозой жизни, но всё-таки – это роман в стихах, и подлинным героем Байрона, как и прежде, является он сам. Кстати, у Пушкина в его романе в стихах «Евгений Онегин» тоже важнейшее место занимает образ автора. В «Дон-Жуане» звучат характерные для Байрона мотивы, вот только образ главного героя Дон-Жуана уже не передаёт точки зрения самого автора. Байрон над ним посмеивается. Герой больше не является его вторым «Я», как в других поэмах, где часто даже трудно отделить поэта от его персонажа. Здесь отношение поэта к Дон-Жуану явно ироническое, для Байрона это уже не значительная, а заурядная, прозаическая фигура. Этот авторский скепсис, наверное, и есть выражение авторского разочарования.
Но всё-таки в поэме присутствует и прежний Байрон, который бунтует и не желает принимать тот несовершенный мир, в котором живёт. В лирических отступлениях романа эта тема звучит достаточно ярко:
И вечно буду я войну вести
Словами – а случится, и делами! -
С врагами мысли мне не по пути
С тиранами. Вражды святое пламя
Поддерживать я клялся и блюсти.
Кто победит, мы плохо знаем с вами,
Но весь остаток дней моих и сил
Я битве с деспотизмом посвятил.
Довольно демагогов без меня:
Я никогда не потакал народу,
Когда, вчерашних идолов кляня,
На новых он выдумывает моду.
Я варварство сегодняшнего дня
Не воспою временщику в угоду.
Мне хочется увидеть поскорей
Свободный мир – без черни и царей.
Но, к партиям отнюдь не примыкая,
Любую я рискую оскорбить.
Пусть так; я откровенно заявляю,
Что не намерен флюгером служить.
Кто действует открыто, не желая
Других вязать и сам закован быть,
Тот никогда в разгуле рабства диком
Не станет отвечать шакальим крикам. (444)
(Песнь девятая, 24-26)
Не случайно реальный жизненный финал Байрона – это его участие в борьбе за свободу греческого народа. Так он завершает свою жизнь. И в этом смысле показательны его стихи, написанные в Греции. Он, правда, не успел пережить непосредственно сами сражения: прибыв в Грецию, вскоре заболел и умер. Но он был готов к ним:
Встревожен мёртвых сон, – могу ли спать?
Тираны давят мир, – я ль уступлю?
Созрела жатва, – мне ли медлить жать?
На ложе – колкий тёрн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поёт труба,
Ей вторит сердце…
(«Из дневника в Кефалонии»)
А вот последние строки, которые Байрон написал в Греции:
Ты прожил молодость свою.
Что медлить? Вот он, славы край.
Своё дыхание в бою
Ему отдай.
Свободной волею влеком
К тому, что выше всех наград,
Взгляни кругом, найди свой холм
И спи, солдат!
Пушкин был прав, посвятив Байрону стихотворение «Море», ставшее откликом на его смерть. Байрон всегда оставался поэтом моря. Четвертая песнь «Чайльд-Гарольда», к примеру, тоже завершается обращением к морю и этот образ, в общем-то, выражает главную философскую идею автора:
Стремите, волны, свой могучий бег!
В простор лазурный тщетно шлёт армады
Земли опустошитель, человек.
На суше он не ведает преграды,
Но встанут ваши тёмные громады,
И там, в пустыне, след его живой
Исчезнет с ним, когда, моля пощады,
Ко дну пойдёт он каплей дождевой
Без слёз напутственных, без урны гробовой.
Нет, не ему поработить, о море,
Простор твоих бушующих валов!
Твое презренье тот узнает вскоре,
Кто землю в цепи заковать готов.
Сорвав с груди, ты выше облаков
Швырнешь его, дрожащего от страха,
Молящего о пристани богов,
И, точно камень, пущенный с размаха,
О скалы раздробишь и кинешь горстью праха.
Чудовища, что крепости громят,
Ниспровергают стены вековые -
Левиафаны боевых армад,
Которыми хотят цари земные
Свой навязать закон твоей стихии, -
Что все они! Лишь буря заревет,
Растаяв, точно хлопья снеговые,
Они бесследно гибнут в бездне вод,
Как мощь Испании, как трафальгарский флот.
Ты Карфаген, Афины, Рим видало,
Цветущие свободой города.
Мир изменился – ты другим не стало.
Тиран поработил их, шли года,
Грозой промчалась варваров орда,
И сделались пустынями державы.
Твоя ж лазурь прозрачна, как всегда,
Лишь диких волн меняются забавы,
Но, точно в первый день, царишь ты в блеске славы.
Без меры, без начала, без конца,
Великолепно в гневе и в покое,
Ты в урагане – зеркало Творца,
В полярных льдах и в синем южном зное
Всегда неповторимое, живое,
Твоим созданьям имя – легион,
С тобой возникло бытие земное.
Лик Вечности, Невидимого трон,
Над всем ты царствуешь, само себе закон. (445)
(«Паломничество Чайльд-Гарольда» Песнь четвертая).
Для Байрона море – это образ непокорённой, свободной стихии, не знающей никаких преград, выражение свободного духа «без начала, без конца»…
Вальтер Скотт
Шотландец по происхождению, Вальтер Скотт родился в 1771, умер в 1832 году. Свой творческий путь он начал с поэзии, но когда вышли в свет стихи Байрона, понял, что первым поэтом ему не стать. А он хотел быть только первым. Поэтому Вальтер Скотт решил оставить поэтическое творчество и явился основоположником исторического романа.
Белинский не случайно называл Вальтера Скотта своего рода Колумбом, открывшим новые земли. Вальтер Скотт, известный знаток и собиратель древностей, действительно положил начало совершенно новому литературному жанру. Для нас это кажется чем-то само собой разумеющимся, а между тем, исторический роман – это оксюморон. Само понятие «роман» до Вальтера Скотта было противоположно понятию «исторический». Роман – это мир вымысла, историческое же – то, что было на самом деле. Это, так сказать, первое. Второе: роман изображает мир частной жизни, вымышленных героев, история же обращена к судьбам страны, нации и т.д. То есть «исторический» – это нечто противоречащее самой сути жанра романа.
Хочу сразу отметить, что интерес к истории, интерес человека к прошлому существовал всегда. Создатель «Илиады» тоже, можно сказать, обращался к прошлому. Поэтому было бы несправедиво утверждать, что интерес к истории открыл именно Вальтер Скотт. Но до него отношение к истории было двояким. С одной стороны, в историческом прошлом искали некоторые идеальные образцы. Исторические хроники Шекспира, драмы Корнеля и Расина, напомню, живописали Античность. Но в ушедших эпохах авторы искали скорее схожесть с современностью, старались выделить проблемы, которые волновали бы и их современников. Драматургов интересовало прежде всего то, что сближало прошлое с настоящим.
Однако первым и главным открытием Вальтера Скотта стало то, что он показал прошлое в его непохожести на настоящее. Это и поразило читателей. Его интересовало не сходство, а различие. А ведь до этого писатели искали прежде всего сходства. Вальтер Скотт впервые сумел передать то, что современники назвали историческим колоритом времени. Второе важное его открытие заключается в том, что он показал взаимосвязь частной судьбы героев и событий истории. С одной стороны, в его романах изображаются реальные исторические сюжеты и реальные исторические личности, а с другой – вымышленные герои. Скажем, среди действующих лиц романа «Айвенго» – принц Джон и Ричард Львиное сердце, реальные исторические персонажи, и в то же время – рыцарь Айвенго и его любовные отношения с леди Ровеной и с Ребеккой – частные, а, главное, выдуманные сюжеты. И так во всех романах Вальтера Скотта. Он связывает частную судьбу и историю, стараясь показать непохожесть изображаемого им на современность.
Хочу сразу подчеркнуть, что и то и другое было порождением эпохи, в которую жил Вальтер Скотт. Необыкновенно ускорился темп исторического развития. На глазах одного поколения произошли грандиозные перемены – Великая французская революция, Наполеоновская империя, Реставрация. Возникло острое ощущение движения истории. Пушкин, рассуждая о Французской революции, напишет: «переменился мир» – он был тому свидетелем. Раньше история двигалась медленно, а тут её движение стало очевидным. Даже наполеоновские войны оказались совсем другого типа, чем все предшествующие. Не случайно одно из решающих сражений тех времен получило название Битвы народов. Или, вспомним Отечественную войну 1812 года: Наполеон двигался к Москве, началось партизанское движение. Исторические события затрагивали судьбу каждого русского человека. Это не было только столкновением армий на далёких полях сражений: в происходящее вовлекался каждый, война вторгалась в дом. Возникало острое ощущение зависимости частной судьбы от событий истории.
Важную роль сыграли и личные обстоятельства биографии Вальтера Скотта. Он был шотландцем и, путешествуя по Шотландии, мог видеть, как в одном пространстве сосуществуют разные исторические уклады. Современные города, ничем не отличавшиеся от английской столицы, к примеру, Эдинбург, где родился писатель, и едва ли не феодальные порядки. Шотландские лейблорды старались вести жизнь, подобно средневековым баронам. А в горных районах Шотландии можно было встретить даже родовое общество, первобытные кланы. Писатель воочию наблюдал соседство совершенно разных времён.
Первый роман Вальтера Скотта «Уэверли, или 60 лет тому назад» открывает, так называемый, «шотландский цикл». Действие его происходит в относительно недавние времена по отношению к периоду, в котором жил сам Вальтер Скотт – в XVIII веке. Роман «Пуританин» относится к эпохе английской революции, то есть к середине XVII века. Второй цикл – средневековый. Здесь Вальтер Скотт изображает историю Англии. Наиболее ярким произведением этого цикла является роман «Айвенго». Но писателя интересуют и другие страны, например, Франция: знаменитый роман «Квентин Дорвард» посвящён времени царствования французского короля Людовика XI.
Несколько слов, прежде чем перейти непосредственно к роману «Айвенго»… Поначалу Вальтер Скотт скрывал своё авторство, подписывал произведения псевдонимом Уаверли. Дело в том, что он выстроил себе огромный замок, на сооружение которого потребовались немалые средства. Занимать деньги на строительство для писателя было как-то неприглядно. Но со временем у Вальтера Скотта скопилось столько долгов, что он был вынужден заявить о своем авторстве. Он издал малозначительную компилятивную историю Наполеона под собственным именем, которая очень быстро была раскуплена. Книга не принесла писателю славы, но решила наконец его финансовые проблемы.
Идея изображения жизни в её непохожести на современность рождена новым мироощущением, возникшим в XIX веке, которое впервые сумел выразить Вальтер Скотт. Вечное – это не повторяющееся, а неповторимое, заявил он. Прежде считалось, что вечное – это то, что было, есть и будет всегда, а Вальтер Скотт возразил: вечное – то, что существует лишь сейчас, в данный момент и вот-вот исчезнет. Надо осознавать неповторимость любого явления. Оно именно потому имеет абсолютное значение, что неповторимо. А если это не так, то нечто другое его заменит. Лишь неповторимое нельзя заменить.
Приведу простой пример, может быть, более понятный: фотография… Когда возникли первые дагерротипы, в сущности, они тяготели к портрету. Авторы хотели так воспроизвести изображение, чтобы оно было похоже на живописный портрет, максимально идеализировали модель. А в наше время задача фотографии иная – нужно зафиксировать момент, удержать его на пленке, пока оно не ушло в небытие. Это сродни тому, что кинематографисты называют «уходящей натурой». Раньше в изображении современности не было потребности, художники стремились подражать Античности, которая устояла в веках, выдержала испытание временем, а происходящее сегодня, может быть, завтра уже утратит свою значимость. Так вот: именно то, что пройдет, исчезнет, и надо фиксировать. Бальзак говорил, что должен подробно описать современный Париж, потому что, возможно, через несколько лет такого Парижа уже не будет. Впервые возникла эта потребность запечатлеть уходящее, сиюминутное, показать его неповторимость, непохожесть.
Теперь немножко о другом, хотя эти вещи внутренне связаны… В центре романа «Айвенго» стоит вполне заурядный герой. Но Айвенго – рыцарь, а рыцарь и заурядность – это даже на слух несовместимо. Тем не менее, в некотором смысле этот герой Вальтера Скотта зауряден, как заурядны все герои его шотландского цикла. Айвенго – саксонец, а это было время резкого противостояния между саксами и норманнами. Его отец, Седрик Ротервудский (Седрик Сакс), – ярый противник норманнской власти, мечтающей о восстановлении в правах саксов. Седрик – один из тех, кто возглавлял эту борьбу, а он пошёл служить норманнскому королю Ричарду Львиное сердце и отправился вместе с ним в Крестовый поход. Не то, чтобы он душой был на стороне норманнов – его вообще не интересует политика! Он больше занят какими-то своими личными историями: его чувства обращены к леди Ровене, потом в его жизни появляется Реббека… Он вовсе не изменяет делу саксов, просто его всё это не очень волнует.
Надо сказать, у Вальтера Скотта была определенная политическая задача: он был противником Французской революции и хотел, чтобы ничего подобного в Англии не произошло. Он считал, что враждующие стороны вполне могут договориться между собой. Отсюда такой заурядный герой, у которого есть связи в обоих лагерях. Такая позиция была для Вальтера Скотта выражением того, что в действительности возможен какой-то срединный, компромиссный путь. Кстати, Англия давала тому подтверждения. В своё время два народа, англосаксы и норманны, слились в единую нацию, в конце XVIII века произошла, так называемая, Славная революция. Аристократия и буржуазия сумели договориться, и была принята Конституция, которая действует в Великобритании до сих пор.
Этот английский пример Вальтер Скотт хотел перенести на всю европейскую историю. Однако его политическая идея оказалась далеко не бесспорной. В повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» главный герой Пётр Гринёв – тоже вполне обычный, заурядный человек. Дворянин, он знаком со смутьяном Пугачёвым. Одним словом, он, как и Айвенго, связан с двумя противоборствующими сторонами. Однако у Пушкина не было иллюзии, что между властью и предводителем крестьянского восстания возможен компромисс, что осуществим некий срединный путь исторического развития…
Главное открытие Вальтера Скотта состоит в том, что он впервые устанавливает связь между историей и бытом. Писатель открыл то, что называется историческим колоритом. Пушкин очень точно подметил: «Главная прелесть романов Walter Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с enflure (напыщенностью) французских трагедий, – не с чопорностию чувствительных романов – не с dignité (достоинством) истории, но современно, но домашним образом». То есть, история для Вальтера Скотта вовсе не то, что происходит в кабинетах правителей или на полях сражений, история – это сама жизнь. То, как люди принимают пищу, спят, разговаривают, выстраивают отношения – всё это происходит по-разному в разные эпохи. Это и составляет исторический колорит. Жизнь заурядного героя Вальтера Скотта, обычного человека своего времени, даже когда он сталкивается с выдающимися историческими личностями, не выходит, в общем-то, из сферы частных интересов.
Хочу привести один пример. Описание обеда, данного саксонцем принцем Джоном, на который приглашена шотландская знать: «Норманское дворянство, привыкшее к большой роскоши, было довольно умеренно в пище и питье. Оно охотно предавалось удовольствию хорошо поесть, но отдавало предпочтение изысканности, а не количеству съеденного. Норманны считали обжорство и пьянство отличительными качествами побеждённых саксов и считали эти качества свойственными низшей породе людей.
Однако принц Джон и его приспешники, подражавшие его слабостям, сами были склонны к излишествам в этом отношении. Как известно, принц Джон оттого и умер, что объелся персиками, запивая их молодым пивом. Но он, во всяком случае, составлял исключение среди своих соотечественников.
С лукавой важностью, лишь изредка подавая друг другу таинственные знаки, норманские рыцари и дворяне взирали на бесхитростное поведение Седрика и Ательстана, не привыкших к подобным пирам. И пока их поступки были предметом столь насмешливого внимания, эти не обученные хорошим манерам саксы несколько раз погрешили против условных правил, установленных для хорошего общества. Между тем, как известно, человеку несравненно легче прощаются серьёзные прегрешения против благовоспитанности или даже против нравственности, нежели незнание малейших предписаний моды или светских приличий. Седрик после мытья рук обтёр их полотенцем, вместо того чтобы обсушить их, изящно помахав ими в воздухе. Это показалось присутствующим гораздо смешнее того, что Ательстан один уничтожил огромный пирог, начинённый самой изысканной заморской дичью и носивший в то время название карум-пай. Но когда после перекрёстного допроса выяснилось, что конингсбургский тан не имел никакого понятия о том, что он проглотил, и принимал начинку карум-пая за мясо жаворонков и голубей, тогда как на самом деле это были беккафичи и соловьи, его невежество вызвало гораздо больше насмешек, чем проявленная им прожорливость.» (Глава XIV) (446)
Описывая то, как люди едят, Вальтер Скот тем самым показывает разницу в укладах жизни. Это и есть связь истории с бытом, то, что Пушкин назвал знакомством с историей «домашним образом». Уже современники Вальтера Скотта высоко оценили это его открытие. Читая роман, они ощущали, что в прежние времена жизнь людей была не такой, как теперь, – они всё делали иначе…
Но наряду с вымышленными персонажами Вальтер Скотт вводит в действие и образы великих исторических деятелей, героев не вымышленных, а реальных. Кстати, это требует от писателя очень глубоких знаний, иначе сочетание достоверности с вымыслом будет слишком бросаться в глаза. Вообще, реалистическое изображение исторической личности – очень сложная задача. Здесь есть две опасности. Одна заключается в том, что если показывать человека в быту, во всех подробностях его частной жизни, может исчезнуть ощущение его исторического величия. Гёте как-то заметил, что для камердинера не существует великого человека. Можно так растворить образ в деталях, что пропадёт ощущение личностного масштаба. Вторая опасность, прямо противоположная первой, заключается в том, что если представить героя лишь как исторического деятеля, он перестанет восприниматься как живой, реальный человек.
Вальтер Скотт сумел выйти из этого трудного положения. Не хочу сказать, что избранный им путь – единственный, но – возможный: он показывает великую историческую личность как второстепенный персонаж. Кроме того, Вальтер Скотт никогда не вводит такого героя с самого начала повествования, а лишь в особо ответственные, решающие моменты событий, когда он выступает как историческое лицо. Так герой выглядит абсолютно органично, потому что именно в такие минуты и проявляется его историческая роль, а в других ситуациях автор его вообще не показывает и никогда не делает его центральным. Кстати, Пушкин придерживался того же самого принципа, когда изображал Пугачёва как героя «второго плана»…
Но в то же время мы должны понимать, почему тот или иной герой – историческая личность… Скажем, почему Ричард Львиное сердце – великий деятель истории? Потому что, читая роман Вальтера Скотта, мы видим, что война англосаксов и норманнов ведёт лишь к взаимному уничтожению, а Ричард стремится объединить два народа. Именно эта объединительная роль и придаёт ему в наших глазах исторический масштаб. Но это не задано изначально, а вытекает из самой картины жизни, которую рисует Вальтер Скотт, прежде чем знаменитый исторический персонаж в его романе вступит в действие.
Писатель противопоставляет Ричарда его брату, принцу Джону. Прежде всего, герои по-разному понимают задачи государственной власти. Идея Джона – завоевание, разделение, Ричард же стоит за единство и равноправие. На стороне одного – феодалы, старая норманнская знать, на стороне другого – вся английская нация, включая даже полулегендарную фигуру Робин Гуда. И вот здесь для автора важно, что историческая роль героя и его человеческие качества не противоречат друг другу. Принц Джон – замкнутый, высокомерный. Ричард, наоборот, открыт новым впечатлениям, благороден, доброжелателен, человечен…
Вальтер Скотт сыграл очень важную роль в истории литературы: он оказался учителем писателей-реалистов XIX века. Стендаль и Бальзак считали себя его последователями, признавали влияние книг Вальтера Скотта на собственное творчество. Собственно, весь реалистический роман XIX века – это исторический роман, только Вальтер Скотт обращался к прошлому, а они – к современности. Недаром Стендаль скажет, что потомки будут читать роман «Красное и чёрное» так же, как его современники – Вальтера Скотта.
Но роману о современной жизни всё-таки должен был предшествовать исторический роман. В этом смысле без Вальтера Скотта подобный тип произведений не мог бы возникнуть. У английского писателя Г.Честертона, любителя парадоксов, есть одно любопытное высказывание: «Я отправился в кругосветное путешествие для того, чтобы увидеть Лондон». Это очень точно подмечено. Для того, чтобы люди смогли увидеть неповторимое своеобразие современности, её особый исторический колорит, они должны были сперва почувствовать, как люди жили прежде. Иначе они бы не ощутили своей собственной эпохи. Это зеркало было им необходимо.
Романтизм во Франции проходит два этапа. Ранний относится к эпохе Наполеона, наиболее интересные её писатели – Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) и Жермена де Сталь (1766—1817). Второй этап – эпоха Реставрации, период восстановления в стране монархической власти. К этому времени относится творчество всех крупных представителей французского романтизма. Это Альфред де Мюссе (1810—1857), Альфред де Виньи (1797—1863) и, прежде всего, самая значительная фигура французского романтизма – Гюго.
Виктор Гюго родился в 1802 году в Безансоне, умер в 1885 в Париже. Его жизнь охватывает практически всё XIX столетие. Как сказал о писателе один французский критик, когда Гюго родился, «XIX веку было всего два года, когда… умер, веку оставалось жить ещё пятнадцать лет, и всё-таки век состарился раньше, чем Виктор Гюго».
Несколько слов о его биографии. Гюго был сыном мастера столярного цеха, который в годы правления Наполеона сумел дослужиться до звания генерала. Вместе с отцом-участником наполеоновских походов в детские годы Гюго побывал в Италии, Испании. А его мать, напротив, ненавидела Наполеона и была рьяной роялисткой. После падения Наполеона семья распалась. Гюго остался жить с матерью и поначалу тоже придерживался монархических взглядов. Уже в юные годы проявился его литературный талант, в восемнадцать лет он был удостоен почётного титула «магистра поэзии». Однако к концу 20-х годов Гюго становится убежденным сторонником республиканских идей, и, собственно, с этого времени начинается великий период его творчества. Прежде всего, конечно, это его драматургия. В 1827 году Гюго написал предисловие к драме «Кромвель», ставшее манифестом всего французского романтизма, а в 1829 году была создана его первая драма «Марион Делорм»…
Виктор Гюго приветствовал Революцию 1830 года. В 1841 году он был избран во Французскую академию, а в 1845 году получил звание пэра. В 30-е годы им были написаны пьесы и роман «Собор Парижской Богоматери», который сразу же после публикации в 1831 году был переведён на множество европейских языков. Приветствовал Гюго и революцию 1848 года, но крайне отрицательно отнесся к перевороту Луи Бонапарта, племянника Наполеона, который произошёл 2 декабря 1851 года. Гюго покинул Францию, отправившись в эмиграцию. Он поселился на одном из островов в проливе Ла-Манш. Новый император Наполеон III всячески старался возвратить известного писателя на родину, обещал ему прощение, но Гюго заявил: «Вернусь во Францию тогда, когда туда вернётся свобода».
В эмиграции Гюго создавал и политические сочинения, направленные против Наполеона III. Это его книги-памфлеты, обличающие события государственного переворота 1851 года и узурпатора власти Луи Бонапарта: «Наполеон Маленький», «История одного преступления», а также цикл стихов «Возмездие», написанный по горячим следам событий. Отношение Гюго к Наполеону III несколько изменилось, когда началась Франко-прусская война 1870 года. Вообще, писатель был противником военных действий, которые вел Наполеон III, но когда пруссаки подошли к Парижу, принял сторону соотечественников и даже купил пушку, которой дал своё имя.
Поражение Франции глубоко поразило Гюго. Он обратился к противнику с воззванием, на которое, разумеется, никто не обратил никакого внимания, и война, явившаяся страшным бедствием для французского народа, продолжалась.
Когда режим Наполеона III пал, Гюго вернулся на родину, но очень скоро, в 1871 году, во Франции произошло новое революционное восстание, получившее название Парижской коммуны. Надо сказать, самих этих выступлений Гюго не заметил: в тот день он хоронил сына, а затем сразу же уехал в Брюссель. Поэтому все события Парижской коммуны он пережил в Брюсселе. В целом Гюго критически отнесся к Парижской коммуне, но когда началась расправа над коммунарами, знаменитая майская неделя, он выступил в их защиту. Ненавидя деспотизм, он восхищался мужеством защитников Коммуны. И особенно был возмущен решением бельгийского правительства, которое отказало коммунарам в убежище. Гюго подчеркивал, что не во всём разделяет их взгляды, осуждает методы революционного террора, но убежден, что всякий человек, выступающий с протестом по политическим мотивам, имеет право на политическое убежище. Когда некий безвестный поэт обратился от имени Гюго к бельгийскому королю с просьбой о помиловании приговорённых к смертной казни, Гюго заявил: «Когда дело идёт о спасении человеческих жизней, то пусть употребляют моё имя», и даже написал обращение: любой коммунар, который приедет в Брюссель, будет принят в его доме. Но Гюго оказался наивным человеком. Однажды ночью к нему постучались. Гюго подумал, что пришли коммунары, а оказалось – какие-то бандиты, которые чуть его не убили.
Гюго выпала долгая жизнь. За это время литература Франции претерпела множество изменений. Гюго не только пережил эпоху романтизма: писатель умер, когда уже уходил в прошлое реализм. Тем не менее, Гюго остался верен самому себе. Конечно, в поздних его произведениях ощутимо влияние литературы того времени, но всё-таки в главном он оставался романтиком. И, в общем-то, ту систему представлений, которая сложилась у Гюго в молодые годы, он пронёс через всё свое творчество, вплоть до последнего романа «Девяносто третий год». Перед смертью, подводя итоги, Гюго написал: «Я в своих книгах… заступался за малых и несчастных, умолял могучих и неумолимых».
Литературное наследие Гюго огромно. За более чем 60 лет писательского труда он создал 26 томов стихотворений, 20 томов романов, 12 томов драм и 21 том философских и теоретических работ.
Мы остановимся на раннем, собственно романтическом периоде его творчества. Гюго начинал как драматург. Во Франции, как ни в какой другой стране, были сильны традиции классицизма. Театр был главной его опорой. Поэтому победа романтизма должна была произойти, прежде всего, на сцене. Первую свою драму «Кромвель» (1827г.) Гюго написал совсем не в романтическом духе. Однако уже следующая его пьеса «Марион Делорм», созданная в 1829 году, явилась настоящей романтической драмой. Но восторжествовали романтики над классиками лишь в 1830 году, когда в театре была представлена драма Гюго «Эрнани». На премьере собрались, с одной стороны, приверженцы нового стиля – романтизма, а с другой – сторонники старого стиля – классицизма. Одни аплодировали, другие освистывали, потом начали забрасывать друг друга кочерыжками, но романтики всё же одержали в этом противостоянии верх: романтизм окончательно утвердился во французском театре…
Предисловие к драме «Кромвель» стало своего рода манифестом французского романтизма. Гюго изложил в нём свое понимание специфики и основных принципов романтического искусства.
Прежде всего, Гюго задается вопросом: каково происхождение и развитие жанров. Он считает, что вопрос этот не должен рассматриваться в отрыве от истории человечества, которую условно можно разделить на три глобальных этапа, каждому из которых соответствовал определенный жанр. Первый этап – первобытная эпоха. Люди впервые стали противопоставлять своё «Я» миру, и это не могло не отразиться в искусстве.
Что касается рассуждений Гюго о первобытном искусстве, они не имеют под собой достаточной почвы. Вообще, в этом заключалась концепция XVIII века, утверждавшая, что изначально существовали лишь одинокие охотники и рыболовы, которые затем объединились на основе общественного договора. Поэтому Гюго совершенно несправедливо полагал, что на этапе древнейшей истории главным жанром была лирика, а главным произведением – Библия. На самом деле всё было не так. Он просто не знал в достаточной мере этого периода.
Что касается других исторических эпох, Гюго представлял их лучше. Поэтому с его суждениями можно соглашаться или нет, но они, во всяком случае, в большей степени опираются на факты.
Второй этап – Античность. В этот период происходит зарождение человеческого общества, и эти процессы, связанные со становлением общественного человека, нашли отражение в эпосе, прежде всего в творениях Гомера. Они стали наиболее ярким выражением античного искусства.
Наступление третьего периода совпало с возникновением христианства, которое впервые заставило человека осознать двойственность, притиворечивость собственной природы, в которой соединилось духовное и телесное. На этом этапе рождается драма, а самым ярким её представителем становится Шекспир, «бог театра», по убеждению Гюго.
В целом Гюго так определяет эти жанры: «Лирика воспевает вечность, эпопея прославляет историю, драма рисует жизнь. Характер первобытной поэзии – наивность, античной – простота, новой – истина». Правда, истину искусства Гюго понимал своеобразно: как зеркало жизни, но не обычное, с плоской поверхностью, а как бы концентрирующее, которое бы собирало и сгущало, «из отблеска делало бы свет, из света – пламя».
Такая схема, конечно, очень условна. Гюго прекрасно знал, что драма существовала и в античные времена. Правда, сама античная драма, по его мнению, еще эпична. С другой стороны, ему были известны и такие памятники Средневековья, как произведения Рабле, Данте, которые никак нельзя отнести к драматическому искусству. Но в том, что он утверждает, есть определенная правота…
Гюго устанавливает различия между романтическим искусством и искусством классическим, которое воплощает собой Античность. В классическом искусстве главным является принцип гармонии, дух и тело находятся в гармоническом согласии. Вообще, гармония – это слияние противоположностей в некое нерасторжимое целое. Особенностью же романтического искусства, и в этом, может быть, заключается главная идея Гюго, является гротеск.
Учение о гротеске – это, пожалуй, самое существенное в эстетике Гюго. Гармония и гротеск, по его мнению, резко противостоят друг другу. Если гармония центростремительна, противоположности в ней притягиваются, то гротеск – центробежен. Он всегда внутренне напряжен. А гармония всегда сбалансирована. Учение о гротеске во многом справедливо для эпохи Средневековья. В средневековом искусстве душа и тело, природа и дух выступают как две несоединимых крайности. Кроме того, если для Античности прекрасное человеческое тело являлось эталоном, человек мыслился как мера всех вещей, то для средневекового сознания мерилом становится Бог.
Ещё одна важная особенность гротеска в понимании Гюго – это преувеличение до крайности разных противостоящих друг другу начал. Гротеск есть нечто динамичное. Между полюсами возникает напряжение, и поэтому в гротеске нет того внутреннего равновесия, которое характерно для античного искусства. Гением гротеска, по мнению Гюго, был Шекспир, в творчестве которого он особо выделяет сочетание трагического и комического, возвышенного и приземленного, героического и шутовского. Для него это норма искусства.
Кроме того, Гюго считает, что искусство всегда требует контраста, потому что прекрасное, в общем-то, однообразно. Наше представление о красоте, связанное с Античностью, опирается на строгие правила. Как известно, существовал знаменитый «Канон Поликлета», строго определявший пропорции совершенного человеческого тела, являвшийся для греческих скульпторов своего рода эталоном. А уродливое – бесконечно разнообразно, существует множество разных форм и видов искажения нормы. Когда уродливое оказывается рядом с прекрасным, прекрасное обретает многозначность. Оно каждый раз смотрится как противоположность тому или иному изъяну, обретает массу образных граней. Поэтому прекрасное, для того, чтобы выглядеть живым, обязательно должно быть дополнено чем-то несовершенным. Сам принцип гротеска – резкий контраст, противостояние противоположностей – является, по мнению Гюго, важнейшим принципом романтического искусства.
Рассматривая классицизм, Гюго касается несколько иных сторон. Он был решительным противником всякого рода ограничений. Искусство для него – дело гения, правила же – рутина, которая сковывает свободу творца. «Долой традиционные книжные правила. Не надо подражать авторитетам, а надо слушаться лишь голоса природы, правды и своего вдохновения». Кроме того, Гюго – резкий противник принципа разделения жанров. Он считает, что смешение трагического и комического не только возможно, но даже необходимо в искусстве, поэтому строгое деление на жанры он решительно отвергает. Выступает Гюго и против классических трёх единств (времени, места и действия). Дело в том, что романтическое искусство, по мнению Гюго, требует реального пространства, точного места действия, и поэтому, если для Античности нормой была скульптура, то для романтического искусства главной становится живопись. Место действия перестает быть условной театральной площадкой, поэтому соблюдение единства места оказывается просто невозможным. Гюго признает лишь единство действия, но понимает его широко: это не развитие единственной сюжетной линии, а единство художественного целого. Наконец, искусство не должно следовать заданным художественным образцам, как утверждал классицизм. Оно должно подражать природе, причём именно творческой её силе, и потому вовсе не обязательно, чтобы искусство было правдоподобным. Вообще, искусство классицизма требует вкуса, определённости, талант же гения всегда неровен, подчиняется стихийным порывам и не придерживается никаких правил.
«Действительность в искусстве, – разъясняет Гюго, – не есть действительность в жизни». Принцип правдоподобия он решительно отвергает. В театре люди часто необычно двигаются, говорят стихами, чего не бывает в действительности. И вообще, то, что происходит в театре, никак не может отвечать правдоподобию. «Каждая фигура должна быть приведена к своей наиболее выдающейся черте, наиболее индивидуальной, наиболее точной. Даже вульгарное и тривиальное должно быть дано подчёркнуто».
Источники искусства – воображение и вдохновение. Художник подражает Богу, он тоже создаёт мир. Кроме того, считал Гюго, соблюдение правил, желание подчинить творца каким-либо установленным заранее требованиям – это порождение старого порядка, своеобразное его продолжение в театре. Романтизм же – детище революции, и потому для художника нет иных правил, кроме общих законов природы, господствующих над всеми искусствами, и частных законов жанра, которые вытекают из требований, присущих избранному сюжету.
«Ударив молотом по теориям, собьём старую штукатурку, скрывающую фасад искусства», – восклицает Гюго. Удел художника – показывать путь человека, движение истории, самой природы от чудовищного к прекрасному, «от тьмы к свету, от гидры к ангелу», представлять действительность не такой, какая она есть, а какой она может и должна быть.
Первая драма Гюго, открывающая его романтический театр, – «Марион Делорм» (1829). В этом произведении заметно влияние Вальтера Скотта. Следуя его принципам, Гюго тоже соединяет частную судьбу героя с реалиями истории. Однако история для него – это сила, враждебная человеческой личности. Столкновение человека и истории, порой катастрофическое, составляет тему многих драм Гюго, и в частности «Марион Делорм».
События драмы происходят во Франции XVII века в эпоху кардинала Ришелье. В ней действуют реальные исторические персонажи: король Людовик XIII и в какой-то мере сам Ришелье. Главная героиня Марион Делорм – тоже не выдуманный персонаж, а известная французская куртизанка тех времен. Но то, что героиня – куртизанка, это нечто внешнее, поверхностное. Жизненные обстоятельства, окружающая среда заставили Марион стать куртизанкой, но душой она чиста. В драме важен этот контраст внутреннего и внешнего, душевных качеств героини и её судьбы.
Другой центральный персонаж драмы Дидье случайно знакомится с Марион Делорм, даже не подозревая, что перед ним куртизанка. Для него она – воплощение абсолютной душевной чистоты и благородства. Важную роль играет само имя героини – Мария, которое ассоциируется с Пресвятой Девой. Сам Дидье – подкидыш, отверженный. «Меня на паперти нашли», – скажет он о себе. Дидье не знает о прошлом Марион Делорм. Для него она – воплощение счастья, короткого правда. Но обстоятельства складываются таким образом, что ему становится известно, что Мария, которую он полюбил, на самом деле – известная французская куртизанка, «бес, прикрывшийся архангельским крылом». Дидье не может этого принять. Он покидает возлюбленную, а человека, который открыл ему эту страшную правду, вызывает на дуэль. Дидье сражается с ним, потому что оскорблена его любовь, но сам внутренне раздавлен тем, что женщина, которой он так восхищался и которая представлялась ему возвышенным созданием, оказалась дамой полусвета.
Как известно, кардинал Ришелье был яростным противником дуэлей и жестоко наказывал их участников. Дидье попадает в тюрьму. И первый конфликт, который здесь возникает, – это конфликт Дидье и Марион Делорм. Второй же, являющийся по сути продолжением первого – это конфликт Дидье с обществом: его ждёт смертная казнь.
Марион, желая во что бы то ни стало спасти Дидье жизнь, добиться для него помилования, решает использовать свои прежние связи. Она просит аудиенции у короля Людовика XIII, и тот, в общем-то, даёт ей обещание помочь. Но даже король оказывается здесь бессилен. Всё решает кардинал Ришелье. Он – внесценический персонаж, который появляется в драме лишь однажды, вернее, появляется карета, в которой он проезжает. Но в драме звучит одна фраза Ришелье. Нетрудно догадаться: если герой произносит одну-единственную фразу, та должна быть особенно значимой, и в драме Гюго это слова: «Пощады не будет!».
Таким образом, хотя это разные конфликты, но на самом деле они имеют общий исток. Судьба Марион Делорм связана с её положением в обществе. При этом неблагоприятные обстоятельства не затрагивают души героини. А что касается Дидье – это столкновение безвестного юноши с всесильной властью, перед которой человек оказывается абсолютно беззащитен.
Самым значительным произведением раннего периода творчества Гюго является роман «Собор Парижской Богоматери» (1831). Действие книги происходит в эпоху правления Людовика XI и, следуя принципам Вальтера Скотта, Гюго также ставит своей задачей показать Францию той поры в её неповторимом историческом своеобразии. Читатель всё время ощущает дистанцию, отделяющую время автора от того мира, который он изображает. Гюго пытается представить максимально широкую картину жизни французского общества, охватить все его социальные слои: от короля до бродяги. В романе действуют как реальные исторические персонажи, так и вымышленные …
Но в то же время произведение Гюго резко отличается от романов Вальтера Скотта. Для писателя главным становится вопрос: что является критерием прогресса. Каждая эпоха воспринимает прогресс по-разному. Скажем, для нас бесспорным является технический прогресс, это не вызывает сомнений. Все остальные формы прогресса сомнительны, но перемены в этой области, смену технологий мы, несомненно, наблюдаем.
Историки эпохи Реставрации считали, что критерием прогресса является рост личной свободы человека, и вот эта идея стала главной в романе Гюго. Его интересует не столько само историческое событие, сколько его влияние на судьбы героев. Гюго обращается к реалиям XV века. Это была переломная эпоха: переход от Средних веков к Ренессансу, время рождения самой идеи индивидуальной свободы. Роман не случайно носит название «Собор Парижской Богоматери». Гюго с самого начала обозначает некоторый контраст, который декларируется затем в романе – это контраст Собора и города. Париж всё время меняет свой облик, растёт. Париж времён Гюго, и город, который он изображает в романе, резко отличаются друг от друга. Это совсем другой Париж. Он остался прежним лишь в той части, где находится Собор. Для Гюго он воплощает собой нечто, существующее вне времени, и потому описание Собора занимает столь важное место в романе.
Кроме того, выбрав архитектурное сооружение в качестве главного героя, Гюго преследовал ещё одну практическую цель – отстоять само существование Собора Парижской Богоматери. В тот период Собор, ставший теперь одним из символов Парижа, собирались перестроить или даже снести, но после выхода романа Гюго во Франции, а затем и по всей Европе развернулось движение за сохранение и восстановление готических памятников.
Средневековье вообще выражало себя главным образом в архитектуре, а Новое время – в печатной книге. Изобретение книгопечатания, по мнению Гюго, явилось переломным моментом в истории человечества.
Но вот теперь книга грозила убить здание: «Каменные буквы Орфея заменяются свинцовыми буквами Гуттенберга».
«Изобретение книгопечатания – величайшее историческое событие. В нём зародыш всех революций. Оно является совершенно новым средством выражения человеческой мысли; мышление облекается в новую форму, отбросив старую. Это означает, что тот символический змий, который со времён Адама олицетворял разум, окончательно и бесповоротно сменил кожу.
В виде печатного слова мысль стала долговечной, как никогда: она крылата, неуловима, неистребима. Она сливается с воздухом. Во времена зодчества мысль превращалась в каменную громаду и властно завладевала определённым веком и определённым пространством. Ныне же она превращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и занимает все точки во времени и в пространстве.
Повторяем: мысль, таким образом, становится почти неизгладимой. Утратив прочность, она приобрела живучесть. Долговечность она сменяет на бессмертие. Разрушить можно любую массу, но как искоренить то, что вездесуще? Наступит потоп, исчезнут под водой горы, а птицы всё ещё будут летать, и пусть уцелеет хоть один ковчег, плывущий по бушующей стихии, птицы опустятся на него, уцелеют вместе с ним, вместе с ним будут присутствовать при убыли воды, и новый мир, который возникнет из хаоса, пробуждаясь, увидит, как над ним парит крылатая и живая мысль мира затонувшего». (Книга пятая. II. Вот это убьет то). (447)
Люди до изобретения книгопечатания, по мнению Гюго, стремились запечатлеть себя главным образом в камне, ведущим видом искусства являлась архитектура, которая ориентировалась на создание долговечного, неподвластного разрушительной силе времени. Все другие искусства были подчинены архитектуре. Живопись существовала как часть архитектуры, не выделялась в нечто самостоятельное. То же касается и скульптуры, и даже музыки: создавались главным образом произведения, которые были предназначены для богослужения. Архитектура, конечно, продолжала существовать. Но она утратила тот смысл, который был ей присущ прежде. Живопись, музыка, скульптура обособились в отдельные искусства, больше не подчинялись архитектуре, а сама она стала заниматься скорее обустройством жизненного пространства человека. Архитектура перестала быть выражением духа. А вот книгопечатание, по мнению Гюго, приняло от неё историческую эстафету.
Вообще, печатная книга делает мысль бессмертной. В своё время Булгаков утверждал, что рукописи не горят. Но это метафора, конечно, на самом деле они горят. Известно, что огнём была уничтожена знаменитая Александрийская библиотека, в которой хранилось множество уникальных древних рукописей. Но изданные произведения действительно «не горят». Сколько бы ни сжигалось книг, скажем, в гитлеровский период в Германии – всё сохранилось. От печатных книг очень трудно избавиться, это факт, обязательно что-то уцелеет, и в этом смысле Гюго прав: это был важнейший переломный момент в истории – конец эпохи зодчества и начало книгопечатания.
Собор Парижской Богоматери предстаёт в романе как воплощение всей предшествующей культуры. Известно, что на его месте прежде располагался один из первых христианских храмов, а до него – языческое святилище. То есть это пространство в центре Парижа, которое не только открывает связь человека с высшими силами, но и сосредоточило в себе множество разных эпох.
Гюго придает большое значение самому архитектурному образу Собора. В нём соединились два художественных стиля. Правда, один стиль исторически сменил другой, но в Соборе они обрели некий синтез. Это романское зодчество и готика. Романский тип, к которому Гюго относит и индуистское зодчество и египетское, воплощает собой один и тот же принцип – теократический. Это принцип касты, единовластия, догмы, освящённой абсолютным авторитетом божества. Как правило, это тяжелые плиты и не всегда понятный непосвященному символизм. А вторая группа – это зодчество финикийское, греческое и готическое. При всём многообразии присущих им форм все они внутренне обозначают одно и то же: свободу, дух человека, дух народа. «В постройках индусских, египетских, романских ощущается влияние служителя религиозного культа, и только его, будь то брамин, жрец или папа. Совсем другое в народном зодчестве. В нём больше роскоши и меньше святости. Так, в финикийском зодчестве чувствуешь купца; в греческом – республиканца; в готическом – горожанина.
Основные черты всякого теократического зодчества – это косность, ужас перед прогрессом, сохранение традиционных линий, канонизирование первоначальных образцов, неизменное подчинение всех форм человеческого тела и всего, что создано природой, непостижимой прихоти символа. Это тёмные книги, разобрать которые в силах только посвящённый. Впрочем, каждая форма, даже уродливая, таит в себе смысл, делающий её неприкосновенной. Не требуйте от индусского, египетского или романского зодчества, чтобы они изменили свой рисунок или улучшили свои изваяния. Всякое усовершенствование для них – святотатство. Суровость догматов, застыв на камне созданных ею памятников, казалось, подвергла их вторичному окаменению. Напротив, характерные особенности построек народного зодчества – разнообразие, прогресс, самобытность, пышность, непрестанное движение. Здания уже настолько отрешились от религии, что могут заботиться о своей красоте, лелеять её и непрестанно облагораживать свой убор из арабесок или изваяний. Они от мира. Они таят в себе элемент человеческого, непрестанно примешиваемый ими к божественному символу, во имя которого они продолжают ещё воздвигаться. Вот почему эти здания доступны каждой душе, каждому уму, каждому воображению. Они ещё символичны, но уже доступны пониманию, как сама природа. Между зодчеством теократическим и народным такое же различие, как между языком жрецов и разговорной речью, между иероглифом и искусством, между Соломоном и Фидием.» (Книга пятая. II. Вот это убьёт то ).
Итак, Собор Парижской Богоматери – плод истории, который включает в себя прежде всего два начала – романское и готическое, являет собой своеобразный их синтез и в этом смысле объемлет всё Средневековье. С Собором связаны два центральных образа романа – это настоятель Клод Фролло и глухой звонарь Квазимодо. С городом связаны уличная танцовщица Эсмеральда, капитан королевских стрелков Феб де Шатопер, в которого влюбляется героиня, и король Франции Людовик XI, хотя, конечно, значение этих образов не вполне укладывается в подобную схему…
Настоятель и звонарь в романе тоже в какой-то мере символизируют совершенно разные начала. Клод Фролло – настоятель Собора, посвятивший всю свою жизнь религиозному служению. Но мы застаём его в момент глубокого духовного кризиса. Этот перелом вызван самим веком, в котором он живёт, самой исторической эпохой. Этот человек усомнился в ценностях, которым отдал жизнь. Охваченный мучительными сомнениями, он посмел заниматься вещами, о которых священнику даже думать не положено: обратился к алхимии, к поискам философского камня, превращающего любое вещество в золото. Это уже не поиски Бога. Фролло ищет некую иную силу, способную дать человеку власть над миром. Кроме того, он, настоятель Собора Парижской Богоматери, пытается разгадать смысл знаменитых его химер, понять зашифрованные в них, в самом строении и внутреннем убранстве Собора тайные знаки и символы. Собор, с историей создания которого связано немало загадок, перестал быть для Фролло естественным вместилищем духа, священной формой. Он стал объектом раздумий, анализа, потому что священник как бы выпал из прежнего безоговорочного и органичного единства с ним.
Но самая главная перемена, которая произошла в герое – это неожиданно настигшая его любовная страсть. Раньше Клод Фролло довольно легко справлялся со страстями, но, увидев танцующую на площади перед праздничной толпой юную цыганку Эсмеральду, почувствовал, что больше не в силах им противиться. И первым его желанием было уничтожить плясунью, чтобы избавиться от этого мучительного искушения. Он всегда рассматривал всё плотское, чувственное в себе как греховное, звериное, и таким это влечение и оборачивается по отношению к Эсмеральде. Священник хочет погубить девушку или овладеть ею. Он пытается толкнуть Квазимодо на похищение Эсмеральды. Цыганку спасает офицер Феб де Шатопер, в которого она всем сердцем влюбляется. Однажды на место их свидания является Клод Фролло. Пытаясь убить Феба, священник наносит ему тяжелую рану, а виновной объявляет Эсмеральду…
За покушение на жизнь королевского стрелка цыганку заключают под стражу. Эсмеральду ждёт повешение на Гревской площади. И вот в ночь накануне казни в её темницу приходит священник, в котором она узнает Клода Фролло. Он предлагает пленнице бежать вместе с ним, но Эсмеральда отталкивает несостоявшегося убийцу своего любимого Феба.
Фролло получает какое-то неизъяснимое наслаждение, видя беспомощность и обреченность Эсмеральды:
«…Во мне возник человек, которого я в себе не знал. Я пытался прибегнуть ко всем моим обычным средствам: монастырю, алтарю, работе, книгам. Безумие! О, сколь пустозвонна наука, когда ты, в отчаянии, преисполненный страстей, ищешь у неё прибежища! Знаешь ли ты, девушка, что вставало отныне между книгами и мной? Ты, твоя тень, образ светозарного видения, возникшего однажды передо мной в пространстве. Но образ этот стал уже иным, – тёмным, зловещим, мрачным, как черный круг, который неотступно стоит перед глазами того неосторожного, кто пристально взглянул на солнце. Не в силах избавиться от него, преследуемый напевом твоей песни, постоянно видя на моем молитвеннике твои пляшущие ножки, постоянно ощущая ночью во сне, как твоё тело касается моего, я хотел снова увидеть тебя, дотронуться до тебя, знать, кто ты, убедиться, соответствуешь ли ты идеальному образу, который запечатлелся во мне, а быть может, и затем, чтобы суровой действительностью разбить мою грезу. Как бы то ни было, я надеялся, что новое впечатление развеет первое, а это первое стало для меня невыносимо. Я искал тебя. Я вновь тебя увидел. О горе! Увидев тебя однажды, я хотел тебя видеть тысячу раз, я хотел тебя видеть всегда. И можно ли удержаться на этом адском склоне? – я перестал принадлежать себе. Другой конец нити, которую дьявол привязал к моим крыльям, он прикрепил к твоей ножке. Я стал скитаться и бродить по улицам, как и ты. Я поджидал тебя в подъездах, я подстерегал тебя на углах улиц, я выслеживал тебя с высоты моей башни. Каждый вечер я возвращался ещё более завороженный, ещё более отчаявшийся, ещё более околдованный, ещё более обезумевший! Я знал, кем ты была, – египтянка, цыганка, гитана, зингара, – можно ли было сомневаться в колдовстве? Слушай. Я надеялся, что судебный процесс избавит меня от порчи. Когда-то ведьма околдовала Бруно Аста; он приказал сжечь её и исцелился. Я знал это. Я хотел испробовать это средство. Я запретил тебе появляться на Соборной площади, надеясь, что забуду тебя, если ты больше не придёшь туда. Но ты не послушалась. Ты вернулась. Затем мне пришла мысль похитить тебя». ( Книга восьмая. IV. Lasciate ogni speranza).
Фролло с каким-то сладострастным восторгом наблюдает за муками Эсмеральды:
«… Я мог бы сосчитать каждый шаг на твоём скорбном пути; я был там, когда этот дикий зверь… О, я не предвидел пытки! Слушай. Я последовал за тобой в застенок. Я видел, как тебя раздели, как тебя, полуобнаженную, хватали гнусные руки палача. Я видел твою ножку, – я б отдал царство, чтобы запечатлеть на ней поцелуй и умереть, – я видел, как эту ножку, которая, даже наступив на мою голову и раздавив её, дала бы мне неизъяснимое наслаждение, зажали ужасные тиски «испанского сапога», превращающего ткани живого существа в кровавое месиво. О несчастный! В то время как я смотрел на это, я бороздил себе грудь кинжалом, спрятанным под сутаной! При первом твоём вопле я всадил его себе в тело; при втором он пронзил бы мне сердце! Гляди! Кажется, раны ещё кровоточат». (Книга восьмая. IV. Lasciate ogni speranza).
И всё же ненависть Фролло к Эсмеральде, как пишет Гюго, это извращённая форма его любви: «Он думал о безумии вечных обетов, о тщете целомудрия, науки, веры, добродетели, о ненужности бога. <…> Он разворошил всю таившуюся в глубинах его сердца ненависть, всю злобу и беспристрастным оком врача, который изучает больного, убедился в том, что эта ненависть и эта злоба были не чем иным, как искажённой любовью». (Книга девятая. I. Бред).
С образом настоятеля Собора в романе неразрывно связан другой важнейший персонаж – глухонемой звонарь Квазимодо, которого ещё ребенком Клод приютил у себя. Квазимодо был горбат, чрезвычайно уродлив, и единственной его привязанностью в жизни стал его названный отец, настоятель Собора Клод Фролло, его спаситель, наставник, которому он безраздельно предан. Не только тело Квазимодо, но и его душа формировались под влиянием Собора, как бы по его подобию: «Что представляла собой душа Квазимодо? Каковы были её особенности? Какую форму приняла она под этой угловатой уродливой оболочкой, при этом дикарском образе жизни? Это трудно определить. Квазимодо родился кривым, горбатым, хромым. Много усилий и много терпения потратил Клод Фролло, пока научил его говорить. Но нечто роковое тяготело над несчастным подкидышем. Когда он в четырнадцать лет стал звонарем Собора Парижской Богоматери, новая беда довершила его несчастия: от колокольного звона лопнули его барабанные перепонки, он оглох. Единственная дверь, широко распахнутая перед ним природой, внезапно захлопнулась навек. Захлопнувшись, она закрыла доступ единственному лучу радости и света, ещё проникавшему в душу Квазимодо. Душа погрузилась в глубокий мрак. Глубокая печаль несчастного стала теперь столь же неизлечимой и непоправимой, как и его уродство. К тому же глухота сделала его как бы немым. Чтобы не служить причиной постоянных насмешек, он, убедившись в своей глухоте, обрёк себя на молчание, которое нарушал лишь наедине с самим собой. Он добровольно вновь сковал свой язык, развязать который стоило таких усилий Клоду Фролло. Вот почему, когда необходимость принуждала его говорить, язык его поворачивался неуклюже и тяжело, как дверь на ржавых петлях».
«Квазимодо лишь смутно ощущал в себе слепые порывы души, сотворённой по образу и подобию его тела. Прежде чем достичь его сознания, внешние впечатления странным образом преломлялись. Его мозг представлял собою какую-то особую среду: всё, что в него попадало, выходило оттуда искажённым. Его понятия, являвшиеся отражением этих преломленных впечатлений, естественно оказывались сбивчивыми и извращёнными. Это порождало множество оптических обманов, неверных суждений и заблуждений, среди которых бродила его мысль, делая его похожим то на сумасшедшего, то на идиота. Первым последствием такого умственного склада было то, что Квазимодо не мог здраво смотреть на вещи. Он был почти лишён способности непосредственного их восприятия. Внешний мир казался ему гораздо более далёким, чем нам. Вторым последствием этого несчастья был злобный нрав Квазимодо. Он был злобен, потому что был дик; он был дик, потому что был безобразен. В его природе, как и в любой другой, была своя логика. Его непомерно развившаяся физическая сила являлась ещё одной из причин его злобы. Malus puer robustus, – говорит Гоббс. Впрочем, следует отдать ему справедливость: его злоба, надо думать, не была врожденной. С первых же своих шагов среди людей он почувствовал, а затем и ясно осознал себя существом отверженным, затравленным, заклеймённым. Человеческая речь была для него либо издёвкой, либо проклятием. Подрастая, он встречал вокруг себя лишь ненависть и заразился ею. Преследуемый всеобщим озлоблением, он наконец поднял оружие, которым был ранен.
Лишь с крайней неохотой обращал он свой взор на людей. Ему вполне достаточно было собора, населённого мраморными статуями королей, святых, епископов, которые по крайней мере не смеялись ему в лицо и смотрели на него спокойным и благожелательным взором. Статуи чудовищ и демонов тоже не питали к нему ненависти – он был слишком похож на них». (Книга четвертая. III. Immanis pecoris custos, immanior ipse).
В отличие от Клода Фролло, который смотрит на Собор как бы со стороны, рационально, Квазимодо любит это особое, наполненное гармонией пространство. «Один из них – подобие получеловека, дикий, покорный лишь инстинкту, любил собор за красоту, за стройность, за гармонию, которую излучало это великолепное целое. Другой, одарённый пылким, обогащённым знаниями воображением, любил в нём его внутреннее значение, скрытый в нём смысл, любил связанную с ним легенду, его символику, таящуюся за скульптурными украшениями фасада, подобно первичным письменам древнего пергамента, скрывающимся под более поздним текстом, – словом, любил ту загадку, какой испокон веков остаётся для человеческого разума Собор Парижской Богоматери». (Книга четвертая.V. Продолжение главы о Клоде Фролло).
Единственный звук, который доступен звонарю Квазимодо – это звук колокола. Он как бы неотделим от Собора и от этого колокольного звона. По приказу Клода Фролло Квазимодо попытается похитить Эсмеральду. За это он будет прикован к позорному столбу. Защититься, сказать что-либо в своё оправдание глухонемой Квазимодо не сможет, но и судья, в сущности, тоже останется глух к его мукам. Квазимодо понесёт наказание и, стоя у позорного столба, будет изнывать от жажды, а толпа лишь равнодушно потешаться над ним. И только Эсмеральда, которой он причинил столько зла, проявит к нему милосердие. Как пишет Гюго, она «…молча приблизилась к осужденному, тщетно извивавшемуся в своих путах, чтобы ускользнуть от неё, и, отстегнув от своего пояса флягу, осторожно поднесла её к пересохшим губам несчастного. И тогда этот сухой, воспалённый глаз увлажнился, и крупная слеза медленно покатилась по искажённому отчаянием безобразному лицу. Быть может, то была первая слеза, которую этот горемыка пролил в своей жизни». (Книга пятая. IV. Слеза за каплю воды ).
Этот приём Гюго использует во всех своих романах: человек преображается, когда за причинённое зло ему платят добром. Подобное происходит и в «Отверженных», и в романе «Девяносто третий год», и в романе «Человек, который смеётся». Эсмеральда – единственная, кто пожалел Квазимодо и подал ему воды. Этот жест сострадания глубоко тронул его сердце, пробудил в нём чувства, прежде ему неведомые…
Вообще, роман построен по принципу своеобразных отражений. Каждый герой здесь является зеркалом для другого. Причём это гротескные зеркала. С одной стороны есть внешне прекрасный Феб, в которого влюбляется Эсмеральда. С другой – безобразный горбун Квазимодо.
Феб кажется Эсмеральде подобным божеству, и она всем готова ради него пожертвовать:
– Я не люблю тебя, мой Феб! Что ты говоришь? Жестокий! Ты хочешь разорвать мне сердце! Хорошо! Возьми меня, возьми всё! Делай со мной, что хочешь! Я твоя. Что мне талисман! Что мне мать! Ты мне мать, потому что я люблю тебя! Мой Феб, мой возлюбленный Феб, видишь, вот я! Это я, погляди на меня! Я та малютка, которую ты не пожелаешь оттолкнуть от себя, которая сама, сама ищет тебя. Моя душа, моя жизнь, мое тело, я сама – всё принадлежит тебе. Хорошо, не надо венчаться, если тебе этого не хочется. Да и что я такое? Жалкая уличная девчонка, а ты, мой Феб, ты – дворянин. Не смешно ли, на самом деле? Плясунья венчается с офицером! Я с ума сошла! Нет, Феб, нет, я буду твоей любовницей, твоей игрушкой, твоей забавой, всем, чем ты пожелаешь! Ведь я для того и создана. Пусть я буду опозорена, запятнана, унижена, что мне до этого? Зато любима! Я буду самой гордой, самой счастливой из женщин. (Книга седьмая. VIII. Как удобно, когда окна выходят на реку).
Так вот: внешне прекрасный Феб – это отражение души Квазимодо, а в уродливом облике Квазимодо – вся суть души Феба. Кстати, в финале Феб, которого Эсмеральда так горячо любила, оказывается в числе стражников, пришедших, чтобы схватить её перед казнью.
Также противопоставлены в романе и образы Квазимодо и Клода Фролло. Клод посвятил себя Богу, церковному служению. Квазимодо же кажется воплощением самой примитивной, безобразной плоти, не затронутой ничем духовным. Однако чувство Квазимодо к Эсмеральде невероятно возвышенно, в то время, как в отношении Клода к ней нет ничего, кроме похоти. Они противопоставлены друг другу как своеобразные полюса. Когда Эсмеральду уже должны были казнить, ее спасает звонарь Квазимодо. Он спускается с вершины колокольни и уносит Эсмеральду в Собор, в котором по традиции мог обрести убежище каждый, кто в этом нуждался. Этот момент – высшая точка в жизни Квазимодо. Все, кто наблюдал за происходящим, стоя на площади перед Собором, проникаются чувством какого-то непостижимого восторга: «…Женщины смеялись и плакали, толпа неистовствовала от восторга, ибо в эти мгновения Квазимодо воистину был прекрасен. Он был прекрасен, этот сирота, подкидыш, это отребье; он чувствовал себя величественным и сильным, он глядел в лицо обществу, которое изгнало его, но в дела которого он так властно вмешался; глядел в лицо человеческому правосудию, у которого вырвал добычу, всем этим тиграм, которым оставалось ляскать зубами, приставам, судьям и палачам, всему королевскому могуществу, которое он, ничтожный, сломил с помощью всемогущего Бога.
Это покровительство, оказанное существом столь уродливым, как Квазимодо, существу столь несчастному, как присужденная к смерти, вызвало в толпе чувство умиления. То были отверженцы природы и общества; стоя на одной ступени, они помогали друг другу.
Несколько мгновений спустя торжествующий Квазимодо вместе со своей ношей внезапно исчез в соборе. Толпа, всегда любящая отвагу, отыскивала его глазами под сумрачными сводами церкви, сожалея о том, что предмет её восхищения так быстро скрылся. Но он снова показался в конце галереи французских королей. Как безумный, промчался он по галерее, высоко поднимая на руках свою добычу и крича: "Убежище!" Толпа вновь разразилась рукоплесканиями». (Книга восьмая. VI. Три мужских сердца, созданных различно).
Спасение Эсмеральны – это триумф Квазимодо.
Но обитатели Двора чудес, которым не было известно о благородных мотивах звонаря, вздумали штурмовать Собор, чтобы вызволить Эсмеральду…
В этот момент в действие вступает реальная историческая фигура – король Людовик XI. Гюго считал Людовика XI достаточно жестким, но исторически прогрессивным правителем, который пытался объединить Францию, боролся с эгоистичной феодальной знатью. «Людовик XI, этот неутомимый труженик, в таких широких размерах предпринявший разрушение здания феодализма, продолженное Ришелье и Людовиком XIV в интересах королевской власти и законченное Мирабо в интересах народа, пытался прорвать эту сеть поместных владений, покрывавших Париж, издав наперекор всем два-три жестоких указа, устанавливавших обязательные для всех правила». (Книга девятая. IV. Медвежья услуга)
Сначала король радуется, что горожане взбунтовались против феодалов:
– Хорошо, мой народ! Отлично! Истребляй этих лжевладык! Делай своё дело! Ату, ату их! Грабь их, вешай их, громи их!.. А-а, вы захотели быть королями, монсеньёры? Бери их, народ, бери! (Книга десятая V. Келья, в которой Людовик Французский читает часослов).
Но узнав, что толпа направилась к Собору Парижской Богоматери, король отдает распоряжение расправиться с наступающими, и, более того, решает нарушить вековое право на убежище, которое прежде давал Собор. Когда короля спрашивают, что делать с укрывшейся в нём колдуньей Эсмеральдой, он отвечает:
– С колдуньей? <…> Что хотел с ней сделать народ?
– Государь! Я полагаю, что если народ пытается вытащить её из Собора Богоматери, где она нашла убежище, то потому, вероятно, что её безнаказанность его оскорбляет, и он хочет её повесить, – ответил парижский прево. <…> – Ну что же, мой милый, в таком случае народ перебей, а колдунью вздерни». (Книга десятая).
Несколько слов об образе Эсмеральды. Надо сказать, цыганам только однажды повезло в истории литературы, и это было в эпоху романтизма. Цыгане стали излюбленными героями писателей-романтиков. Достаточно вспомнить три наиболее известных, хрестоматийных примера: это Эсмеральда Гюго, Кармен, героиня одноимённой новеллы Проспера Мериме, и Земфира из пушкинской поэмы «Цыгане».
Дело в том, что цыгане – это особый народ, единственный, сумевший остаться вне истории. Можно сказать, что в настоящее время в России от пушкинской эпохи мало что сохранилось. А вот цыгане, которых можно видеть сегодня, в сущности, не сильно отличаются от тех, которых описывал Пушкин. Это единственный народ, который, в общем-то, оказался не подвержен кардинальным историческим переменам. Цыгане сохранили свой традиционный образ, привычки, по-прежнему предпочитают кочевать, всё так же гадают…
Хотя по рождению Эсмеральда – француженка, которую похитили в детстве, но воспитана она была в цыганском таборе, и в этом смысле – цыганка. Да и сама она ощущает себя цыганкой. Она – плясунья. В романе Гюго Эсмеральда воплощает собой неисковерканную человеческую личность. Дело в том, что история для Гюго – нечто враждебное человеку. Квазимодо, Клод Фролло – это всё жертвы истории, а Эсмеральда как бы сама природа. Ничто не затронуло её сути, она свободна, абсолютно гармонична в окружающем её дисгармоничном мире. Недаром все другие герои романа, так или иначе, тянутся к ней. Но при этом каждый по-своему способствует её гибели. Единственный, кто пытается её спасти – это Квазимодо. Эсмеральду губит Феб, между прочим. Если бы он защитил её в трудный момент, она бы могла остаться жить. Но он не принял никакого участия в её судьбе. Её губит Клод Фролло, губит король Людовик XI. Эсмеральду ждёт казнь: её должны повесить на Гревской площади.
И вот финал романа. Узнав, что Эсмеральда в Соборе, Клод Фролло решает: наконец-то она в его руках. Овладеть цыганкой силой ему не удаётся. Но даже в эту драматическую минуту Квазимодо не решается выступить против своего господина.
«Глухой поник головою, затем опустился на колени у порога кельи.– Господин! – сказал он покорно и серьёзно. – Потом вы можете делать, что вам угодно, но прежде убейте меня. С этими словами он протянул священнику свой тесак. Обезумевший священник хотел было схватить его, но девушка оказалась проворнее. Она вырвала нож из рук Квазимодо и злобно рассмеялась. – Подойди только! – сказала она священнику. Она занесла нож. Священник стоял в нерешительности. Он не сомневался, что она ударит его. – Ты не осмелишься, трус! – крикнула она. И, зная, что это пронзит тысячью раскалённых игл его сердце, безжалостно добавила: – Я знаю, что Феб не умер! Священник отшвырнул ногой Квазимодо и, дрожа от бешенства, скрылся под лестничным сводом». (Книга девятая. VI. Продолжение рассказа о ключе от Красных врат).
Эсмеральда сумела себя защитить…
Однако в заключительных сценах книги Квазимодо сбрасывает настоятеля с колокольни Собора Парижской Богоматери. С высоты герои наблюдают за приготовлениями к казни. Клод Фролло ликует: наконец-то он избавится от Эсмеральды. Но в этот самый момент Квазимодо толкает его вниз. Это можно понимать двояко: как реальное физическое действие и символически. Квазимодо всегда безоговорочно подчинялся Клоду Фролло, даже когда тот покушался на честь Эсмеральды: Квазимодо готов был умереть от муки, но только не воспротивиться. А в финале в нём впервые вспыхивает протест. Он всегда смотрел на Клода Фролло снизу вверх, как на некое высшее, превосходящее его создание, а теперь, стоя на вершине колокольной башни, видит, как тот падает вниз. С точки зрения автора это падение происходит как в прямом, так и в переносном смысле…
Образ Квазимодо был необыкновенно важен для литературы XIX века. Достоевский очень точно отозвался о романе Гюго: «Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная, формула её – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливым гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых…» (Ф. М. Достоевский. Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»).
Квазимодо кажется существом примитивным, лишённым даже человеческого облика. Само его уродство носит символический характер. Но в то же время, в этом пробуждении в герое личностного начала, в зарождении в нём новых, прежде неведомых устремлений и чувств Достоевский видел главный пафос всей литературы XIX века.
Старший современник Гюго, Мари-Анри Бейль (1783-1842), известный под псевдонимом Стендаль, – один из основоположников жанра психологического романа.
В юные годы Стендаль увлекался живописью, философией, изучал историю искусств; чтобы заработать на жизнь, писал статьи, очерки, разного рода путеводители. В 1799 году ради поступления в Политехническую школу Стендаль приехал в Париж, но вдохновлённый переворотом Наполеона пошёл служить в действующую армию. Собственно боевого опыта он так и не приобрёл, но в 1812 году офицером интендантской службы принял участие в русской кампании, был свидетелем боёв за Смоленск, московского пожара, Бородинского сражения. Часть тетрадей с записями, которые Стендаль по обыкновению вёл в походах, погибла при переправе через реку Березину. После разгрома Наполеона он вышел в отставку и уехал в Италию. В 1821 году возвратился во Францию, где 1827 году было опубликовано его первое собственно художественное произведение, роман «Арманс».
Настоящее признание к Стендалю-писателю пришло уже после смерти (до этого он был известен скорее как автор книг об искусстве и достопримечательностях Италии). Французские реалисты считали Стендаля, наряду с Бальзаком, своим учителем, Золя видел в его произведениях истоки нового романа, представляющего человека неотрывно от окружающей его общественной среды.
В 1823-1825 гг. в Париже вышла работа Стендаля «Расин и Шекспир», в которой, вступив в бушевавшую тогда полемику между классицистами и романтиками, он поддержал сторонников романтического искусства. Излагая свою позицию, Стендаль утверждал: художественные идеалы и характер выражающего их искусства меняются в зависимости от времени и особенностей эпохи; для «детей революции» требуется совершенно новое искусство. «На памяти историка, – писал он, – никогда ещё народ не испытывал более быстрой и полной перемены…»
Стендаль стал одним из первых авторов Франции, провозгласивших своей задачей отображение современности. При этом он отказался от пространных в духе Вальтера Скотта описаний «одежды героев, пейзажа, среди которого они находятся, черт их лица». По его мнению, задача романиста – «описывать страсти и различные чувства, волнующие человеческие души».
«Красное и чёрное» – одно из лучших произведений Стендаля, с которым прежде всего связано его имя. В подзаголовке романа значится: хроника XIX века. Книга была написана в 1830 году, но говорится в ней о французском обществе второй половины двадцатых годов, о временах правления короля Карла Х.
Сюжет романа основан на реальном происшествии, о котором Стендаль прочёл в «Судебной газете» в разделе криминальной хроники. Скандальная история произошла в 1827 году в Гренобле. Местный суд рассматривал дело девятнадцатилетнего Антуана Берте, сына кузнеца. Воспитанный городским священником, он служил гувернером в доме почтенного семейства. Однажды во время мессы он выстрелил в жену своего господина, а затем и в самого себя. Стрелявший и его жертва остались живы. Однако молодого человека приговорили к смертной казни, которую вскоре привели в исполнение.
В истории юноши, поплатившегося жизнью за поступок, на который его толкнула страсть, Стендалю виделся подходящий материал для исследования общества, в котором страсти, по его словам, можно заметить лишь когда они прорываются в чём-то, караемом законом. «Описывать вещи, не имеющие отношения к душевной жизни, мне скучно», – заявлял он, ставя своей целью изобразить не столько быт, внешние приметы действительности, сколько «фибры сердца», сложную, полную оттенков и противоречий душу современного человека.
Образ честолюбца из низов, стремящегося вырваться из среды, в которой рождён, добиться успеха, опираясь на свои личные качества, характерен для французской литературы XIX века.
Герой Стендаля Жюльен Сорель с юных лет мечтал о славе и признании. Сперва он собирался стать военным: при Наполеоне это был верный способ выйти в люди. Но времена изменились, и теперь скорее церковный сан, убеждён Жюльен, мог позволить ему подняться «над всеми», дать то положение в обществе, которого он, как «исключительная личность», заслуживал.
Действие «Красного и чёрного» охватывает четыре года (в начале романа Жюльену девятнадцать, в конце – двадцать три). Но мы не можем сказать, как долго длилось пребывание Жюльена в доме Реналя, учение в семинарии, жизнь в Париже. Роман делится на главы, между которыми различные временные интервалы. Прерывистость определяет не только его композицию, но и стилистику. Между отдельными абзацами и даже фразами книги возникает свободное пространство, создавая ощущение не явленной в слове, стоящей за текстом жизненной реальности.
Сам образ главного героя у Стендаля необыкновенно сложен. В нём сочетаются противоположные начала: крайняя чувствительность и холодная рассудочность, высокие устремления и суетное тщеславие, бунт и приспособление, гордость и социальная униженность, сила и слабость.
Желая пробить себе дорогу, занять положение в обществе, Жюльен меньше всего ищет благополучия. Его кумир – Наполеон, «безвестный и бедный поручик», который сумел наложить отпечаток своей личности на ход европейской истории. Жюльену хотелось бы осуществить свой собственный наполеоновский проект: «добиться славы для себя и свободы для всех», доказать себе и другим, что он вылеплен «из той же самой глины, из какой выходят великие люди». Чтобы соответствовать наполеоновской маске, Жюльен должен обуздывать себя, бороться со своей чувствительностью, мягкостью, застенчивостью. В этом он видит свой «героический долг». Но кроме этой идеальной маски ему приходится носить ещё и другую, тартюфовскую. Он вынужден скрывать свои мысли и чувства, притворяться, идти против собственных убеждений. Маска выступает у Стендаля одновременно и как идеальный образец, которому подражает герой, и как средство приспособления.
И всё же «Красное и чёрное» не роман карьеры, а роман испытания. Герой стремится к осуществению своего наполеоновского проекта, но для него не менее важны и взаимоотношения с женщинами, принадлежащими враждебному ему миру. Желание одержать верх над ними, – вот что поначалу движет Жюльеном. В первой части романа Стендаль описывает любовь Жюльена к госпоже де Реналь, жене мэра французского городка Верьер, в дом которого молодой аббат (в те времена – почётная должность людей, решивших посвятить себя церкви, но ещё не принявших духовный сан) поступает гувернером; а во второй части – к Матильде, дочери влиятельного парижского политика и вельможи маркиза де Ла-Моль.
Чувство к госпоже де Реналь возникает исключительно из честолюбия. Когда Жюльен впервые приходит в её дом, он считает своим долгом заставить себя поцеловать её руку. И в дальнейшем ему всё время страшно, трудно, он робеет, преодолевает себя, но во что бы то ни стало пытается добиться от госпожи де Реналь взаимности. Вообще, ему проще было бы этого не делать, но он разыгрывает роль соблазнителя.
Но госпожа де Реналь оценила в Жюльене как раз нечто совсем иное: ту чувствительную душу, которую тот пытался ото всех скрыть. «Она находила, что его стоило послушать, даже когда он говорил о чём-нибудь обыкновенном, ну хотя бы когда он рассказывал о несчастной собаке, которая, перебегая улицу, попала под быстро катившуюся крестьянскую телегу. Зрелище такого несчастья вызвало бы грубый хохот у её супруга, а тут она видела, как страдальчески сдвигаются тонкие, чёрные и так красиво изогнутые брови Жюльена. Мало-помалу ей стало казаться, что великодушие, душевное благородство, человечность – всё это присуще только одному этому молоденькому аббату». (VII. Избирательное сродство). (448)
В какой-то момент Жюльен забыл, наконец, о своей наполеоновской роли. Страшно робея, он долго заставлял себя войти в комнату госпожи де Реналь: «Спальня была освещена, на камине под колпачком горел ночник – вот беда, только этого не хватало! Увидев его, г-жа де Реналь мгновенно вскочила с постели. "Несчастный!" – вскричала она. Произошло маленькое замешательство. И тут у Жюльена вылетели из головы все его тщеславные бредни, и он стал просто самим собой. Быть отвергнутым такой прелестной женщиной показалось ему величайшим несчастьем. В ответ на её упреки он бросился к её ногам и обхватил её колени. А так как она продолжала бранить его, и страшно сурово, он вдруг разрыдался». (XV. Петух пропел).
Победа над госпожой де Реналь – это победа чувствительного, а не честолюбивого Жюльена. Любовь, которая начиналась как сплошное честолюбие, обернулась очень искренним и глубоким чувством.
Сперва Жюльену казалось, что госпожа де Реналь видит в нём лишь существо более низкого статуса. Но когда заболел её сын и она восприняла это как наказание, обрушившееся на неё за связь с Жюльеном, сомнения исчезли. В какую-то минуту госпожа де Реналь даже готова была во всём признаться мужу. Жюльен понял, что в душе этой женщины у него нет соперника: она не боится ни молвы, ни людского осуждения, а только Бога, у которого ищет защиты и прощения.
И всё-таки Жюльен довольно легко расстаётся с госпожой де Реналь. В его системе ценностей любовь к женщине, личное счастье, не являются высшими. Главное для него – это осуществление его наполеоновских планов. И поэтому Стендаль говорит о своём герое: «Именно то, что делало Жюльена человеком высшего порядка, мешало ему насладиться любовью, которая сама давалась ему в руки». Он очень легко покидает госпожу де Реналь, отправляясь учиться в семинарию, хотя перед отъездом в Париж готов был рисковать всем, чтобы побыть с ней хоть час. Ему не жалко отдать жизнь ради любви, но отказаться от своих идеалов ради любви он не может.
Второй этап Жюльена Сореля – это жизнь в Париже и любовь к Матильде де Ла-Моль. Обе эти женщины, и госпожа Реналь, и Матильда, выражают как бы разные стороны личности самого героя. Госпожа де Реналь связана с чувствительной душой Жюльена, а Матильда – с его честолюбивыми планами.
Вообще, в противопоставлении Матильды и Жюльена можно увидеть некоторое отражение двух вариантов европейского и, в частности, французского романтизма. Матильда и Жюльен – представители одного поколения, дети одной романтической эпохи. У них много общих представлений, и оба стремятся к чему-то необыкновенному, исключительному. Но их романтические устремления по-разному окрашены, и это связано с разницей в социальном положении героев. Жюльен – сын плотника, живёт идеалами и героической историей третьего сословия, эпохой Великой французской революции и Наполеона.
Матильда, дочь маркиза, покорена образами XVI века, представлениями французского дворянства. Её привлекают невероятные чувства и духовное величие, о которых она читала в романах. Её легендарный предок Бонифас де Ла-Моль, «самый выдающийся человек своего времени», обезглавленный на Гревской площади, был когда-то любовником знаменитой Маргариты Валуа, будущей королевы Наваррской. Вот о такой героической любви она и мечтает. «Она стала припоминать про себя все описания страсти, которые читала в "Манон Леско", в "Новой Элоизе", в "Письмах португальской монахини" и т.д. Речь шла, само собой разумеется, о высоком чувстве: легкое любовное увлечение было недостойно девушки её лет и её происхождения. Любовью она называла только то героическое чувство, которое встречалось во Фракции времён Генриха III и Бассомпьера. Такая любовь неспособна была трусливо отступить перед препятствиями; наоборот, она толкала на великие дела. "Какое несчастье для меня, что у нас сейчас не существует настоящего двора, как двор Екатерины Медичи или Людовика XIII! Я чувствую, что способна на всё самое смелое, самое возвышенное». (X. Королева Маргарита).
Однако есть принципиальная разница между романтическими представлениями Матильды и романтизмом Жюльена Сореля. Его романтизм связан с недавним прошлым и устремлён в ближайшее историческое будущее: впереди у Франции ещё две революции – 1830-го и 1848-го годов. А экзальтированные порывы Матильды – скорее прихоть, желание быть необыкновенной, особенной. Она богата, знатна, своевольна, всё в её руках. Для Жюльена же стремление к исключительности – необходимость. Если он не станет исключительным, то будет ничем. Стендаль сумел показать эти разные формы романтического сознания…
Среди молодых людей, которые добиваются руки Матильды, она не находит никого, кто, по её убеждению, был бы её достоин. Лишь в новом секретаре своего отца Жюльене Сореле она угадывает героическое начало и считает, что непременно должна полюбить его. Она никогда не забывает, что между ней и Жюльеном – социальная пропасть, но это в какой-то мере даже привлекает её: тем более исключительным, особенным обещает быть её чувство. Поначалу эта любовь сугубо демонстративна. Когда Матильда решает назначить Жюльену свидание, она требует, хотя в этом нет никакой необходимости, чтобы Жюльен поднялся к ней по верёвочной лестнице. Жюльен мог бы пройти обычным путём по ступеням, но для Матильды это неприемлемо.
Что касается Жюльена, поначалу он тоже абсолютно холоден к Матильде. Он не испытывает к ней никаких чувств. Позже, получив от нее записку, он подумает даже, что Матильда решила посмеяться над ним. И всё же Жюльену льстит, что именно его, простого секретаря, Матильда предпочла тем многочисленным знатным поклонникам, которые её окружали. «Я, ничтожный крестьянин из Юры… могу стать её возлюбленным».
Первое свидание с Матильдой совсем не похоже на встречу с госпожой де Реналь. Жюльен, опасаясь какого-нибудь подвоха, является к Матильде с двумя заряженными пистолетами, и эти пистолеты – своеобразный эпиграф к их отношениям. «После долгих колебаний, которые постороннему наблюдателю могли бы показаться следствием самой несомненной ненависти, – с таким трудом даже твёрдая воля Матильды преодолевала естественные женские чувства, стыдливость, гордость, – она, наконец, заставила себя стать его любовницей.
Однако, сказать правду, эти любовные порывы были несколько надуманны. Страстная любовь была для неё скорее неким образцом, которому следовало подражать, а не тем, что возникает само собой. Мадемуазель де Ла-Моль считала, что она выполняет долг по отношению к самой себе и к своему возлюбленному.
"Бедняжка проявил поистине безупречную храбрость, – говорила она себе, – он должен быть осчастливлен, иначе это будет малодушием с моей стороны". (XVI. Час ночи).
И со стороны Жюльена не было ничего искреннего и нежного в чувствах к Матильде. Скорее «это был бурный восторг честолюбия». «Радость, временами охватывавшая его, была подобна радости юного подпоручика, которого за какой-нибудь удивительный подвиг главнокомандующий сразу производит в полковники, – он чувствовал себя вознесённым на недосягаемую высоту». (XVI. Час ночи).
Эта любовь исходит исключительно от честолюбивого Жюльена. Матильда для него – символ. Он горд, что одержал победу не только над ней, но и над теми молодыми людьми, которые тщетно добивались её благосклонности. Но именно он, Жюльен, стал её любовником. Он ощущал свое торжество над теми, кто раньше над ним смеялся. Напыщенная холодность, надменность Матильды лишь разжигали в нём страсть.
Уже на следующее утро Матильда раскаялась в происшедшем, заявив, что не может прийти в себя «от ужаса, что отдалась первому встречному».
– Первому встречному? – вскричал Жюльен и бросился к старинной средневековой шпаге, которая хранилась в библиотеке как редкость. (XVII. Старинная шпага).
Матильде понравился этот эффектный романтический жест. «Вообще, в этой любви, даже в самые острые моменты их страсти, даже в самые тяжелые моменты их горя было что-то искусственное», – заключает Стендаль.
Их первое свидание завершилось подчеркнуто театрально: Матильда срезала прядь волос. Так же и в финале романа: охваченная горем, она вздумает торжественно похоронить голову Жюльена, как когда-то её легендарная прабабка похоронила в склепе голову своего казнённого возлюбленного… На втором свидании Матильда вроде бы немного смягчилась, стала чуть менее притворной. Но всё же нечто театральное с самого начала и до конца присутствует в любви Жюльена и Матильды.
Даже по-настоящему увлекшись Жюльеном, Матильда не может забыть о его невысоком происхождении: «Если я стану подругой такого человека, как Жюльен, которому не хватает только состояния, – а оно есть у меня, – я буду постоянно привлекать к себе всеобщее внимание, жизнь моя не пройдёт незамеченной. Я не только не буду испытывать вечного страха перед революцией, как мои кузины, которые так трепещут перед чернью, что не смеют прикрикнуть на кучера, который их плохо везёт, – я, безусловно, буду играть какую-то роль, и крупную роль, ибо человек, которого я избрала, – человек с характером и безграничным честолюбием. Чего ему недостает? Друзей, денег? Я дам ему и то и другое». <…> «Но в своих размышлениях о Жюльене она представляла его себе как бы каким-то низшим существом, которое можно осчастливить, когда и как тебе заблагорассудится, и в любви которого даже не может возникнуть сомнения». (XVIII. Ужасные мгновения).
Жюльена тоже с самого начала и до конца не покидает недоверие к Матильде. Она ждет от него ребенка, а он скажет: «Вы отдадите моего сына лакеям». Он всегда чувствует разделяющую их социальную пропасть. И только, повторяю, холодность Матильды, задевающая его честолюбие, разжигает в нём страсть. И страсть эта оказывается куда более сильной, всепоглощающей, чем чувство к госпоже де Реналь. Сам Стендаль скажет: «Честолюбие, мелкие утехи тщеславия когда-то отвлекали его от тех чувств, которые он питал к г-же де Реналь. Матильда поглотила его всего…» (XXIV. Страсбург). Для Жюльена добиться любви Матильды – значит покорить общество, это значит осуществить свой наполеоновский проект. Матильда для него – символ высшего света. Его привлекает не столько её красота, женские прелести или душевные качества, сколько её царственная осанка, роскошные туалеты. Когда он обнимает Матильду, ему кажется, что он держит в своих объятиях королеву. Теми же средствами, которыми он пытается покорить общество, он завоевывает Матильду. Жюльен надевает маску лицемера, потому что знает, что простые, искренние слова вызовут в ней только презрение. Она любит в нём исключительно наполеоновский лоск, амбиции, чувствительности же и душевной слабости никогда не простит. Ожидая свидания с Матильдой в тюремной камере, Жюльен читает мемуары Наполеона. Даже в такой момент, накануне казни, он не может позволить себе показаться перед ней уязвимым, охваченным сомнениями и тревогой.
Происходит нечто очень опасное для Жюльена. Наполеоновская и тартюфовская маски сливаются в одно целое и начинают прирастать к лицу. В обществе люди всегда носят маски, это естественно. Но здесь маска проникает в самое интимное, в чувства. В Париже Жюльен постепенно свыкается с законами мира, в котором живёт. Ему приходится совершать поступки, которые противоречат его совести. Например, он презирает человека, однако способствует тому, чтобы тот получил титул барона, или отдаёт должность низкому карьеристу вместо другого достойного претендента, честного геометра. Жюльен сожалеет о сделанном, но говорит: «Мало ли мне придётся совершить всяких несправедливостей, если я хочу преуспеть». Он покоряет общество в той мере, в какой сам ему покоряется. Будучи убежденным республиканцем, Жюльен участвует в монархическом заговоре, который возглавляет маркиз де Ла-Моль, и выполняет все его поручения. В тюрьме он скажет о самом себе: «Мои мысли не поднимались выше воротничка на моем мундире».
Кажется, Жюльен сумел добиться всего, чего желал. Он получил дворянский титул, должность офицера, покорил Матильду. Дочь маркиза ждёт от него ребенка, и вскоре они должны пожениться. Как будто бы сбылись все его мечты. Но один неожиданный поступок перечеркивает всё то, к чему он шёл с такой настойчивостью: Жюльен стреляет в госпожу де Реналь.
В этом эпизоде герой действует в каком-то невероятном темпе, совершает всё быстро и почти бессознательно, и поэтому никакого психологического объяснения того, почему он идёт на этот странный поступок, в романе нет. Это не противоречит поэтике Стендаля. Автор романа изображает лишь то, что Жюльен сам способен осознать. Остающееся за пределами его понимания, Стендаль опускает.
Причиной рокового выстрела стало письмо, которое написала госпожа де Реналь. Это письмо, адресованное маркизу, Матильда показала Жюльену. Маркиз де Ла-Моль, прежде чем дать окончательное согласие на брак дочери, обратился к госпоже де Реналь с просьбой рассказать о служившем в их доме Жюльене, его будущем зяте. Реналь написала это письмо под диктовку своего духовника. В нем было сказано о Жюльене: «Бедность и жадность побудили этого человека, способного на невероятное лицемерие, совратить слабую и несчастную женщину и таким путём создать себе некоторое положение и выбиться в люди. Мой тягостный долг заставляет меня при этом добавить, что господин Ж… не признаёт никаких законов религии. Сказать по совести, я вынуждена думать, что одним из способов достигнуть успеха является для него обольщение женщины, которая пользуется в доме наибольшим влиянием. Прикидываясь как нельзя более бескорыстным и прикрываясь всякими фразами из романов, он ставит себе единственной целью сделаться полновластным господином и захватить в свои руки хозяина дома и его состояние». (XXXV. Гроза)
Прочтя это письмо, Жюльен произнёс: «Я не смею осуждать господина де Ла-Моля. Он поступил правильно и разумно. Какой отец согласится отдать свою любимую дочь такому человеку? Прощайте!
Жюльен выскочил из экипажа и побежал к почтовой карете, дожидавшейся его в конце улицы…». Добравшись до Вирьера, он купил пистолеты, пришёл в церковь, где шло воскресное богослужение, и дважды выстрелил в госпожу де Реналь. Изложение всех этих событий в романе помещается на полутора страницах: «При виде этой женщины, которая его так любила, рука Жюльена задрожала, и он не в состоянии был выполнить своё намерение. "Не могу, – говорил он себе, – не в силах, не могу".
В этот миг служка, прислуживавший во время богослужений, позвонил в колокольчик, как делается перед выносом святых даров. Г-жа де Реналь опустила голову, которая почти совсем потонула в складках её шали. Теперь уже Жюльен не так ясно ощущал, что это она. Он выстрелил и промахнулся; он выстрелил ещё раз – она упала». (XXXV. Гроза).
Что это за выстрел, который привёл Жюльена к тому, что он оказался в тюрьме и разом перечеркнул всё достигнутое? Как во всяком настоящем поступке, здесь нет какой-то одной-единственной решающей причины. Этот выстрел вызван к жизни сложным переплетением различных мотивов, которые Стендаль не раскрывает, поскольку сам герой не осознаёт их до конца. Это задача читателя: понять, что скрыто в подтексте сцены. Жульен, конечно, воспринял письмо госпожи де Реналь как ещё одно препятствие, которое возникло на его пути. Но в то же время, уже ничто не могло измениться в его отношениях с Матильдой. Перед тем, как дать прочесть Жюльену это письмо, Матильда прислала ему записку: «Всё погибло, и боюсь, безвозвратно; не сомневайтесь во мне, я буду тверда и предана Вам во всех невзгодах. Я люблю Вас». (XXXV. Гроза).
Итак, на саму Матильду это письмо не произвело никакого впечатления. К тому же, Жюльен знал, что маркиз де Ла-Моль горячо любит дочь, и она всегда добьётся от него того, что захочет. Случившееся, конечно, могло вызвать некоторые промедления. Но Матильда ждёт от Жюльена ребёнка, она его любит, и отец уступит желаниям дочери, рано или поздно.
Почему же он всё-таки стреляет?
Конечно, письмо госпожи де Реналь, казалось бы, ничего уже не могло изменить в судьбе Жюльена. Он знал, что завоевал Матильду, «это чудовище гордости». «Отец не может жить без неё, а она не может жить без меня», – говорил он себе. Наверное, первое, что двигало им в этот момент: его гнала Матильда. Его оскорбили, значит, он должен совершить поступок, который выглядел бы как достойный ответ. Он выстрелил в госпожу де Реналь и необыкновенно вырос в глазах Матильды. Она и в самом деле скажет о Жюльене: «Он – воскресший Бонифаций де Ла-Моль, только ещё более героический». Этот поступок только подогрел её чувства к Жюльену. И в этом смысле Жюльен решился на это ради неё. Но уже по дороге в Верьер он забывает о Матильде, а после выстрела любовь к ней окончательно умерла в его сердце.
Нет, не страх потерять Матильду очевидно заставил Жюльена сделать этот безрассудный выстрел. Он и сам до конца не мог отдать себе в этом отчёт, но в тюрьме он скажет: «Меня чудовищно оскорбили, и я отомстил». Перед тем, как показать письмо госпожи де Реналь, Матильда передала ему письмо отца, где было сказано: "Я мог бы простить всё, кроме заранее обдуманного намерения соблазнить Вас только потому, что Вы богаты. Вот, несчастная дочь, вот Вам страшная правда. Даю Вам честное моё слово, что я никогда не соглашусь на Ваш брак с этим человеком. Ему будет обеспечено десять тысяч ливров ренты, если он уберётся куда-нибудь подальше за пределы Франции, лучше всего – в Америку…» (XXXV. Гроза).
Итак, ему гарантируют благополучие: это огромная сумма – десять тысяч ливров. Но это цена за отказ от Матильды. Его заподозрили в корысти, решили купить! Но не только Матильде, а прежде всего себе самому Жюльен должен доказать, что нечто высшее – то, что сам он называл героическим долгом, явилось главным движущим мотивом его поступка.
Жюльен чувствовал, что стрелял в то чёрное, что всегда стояло на его пути. И вот теперь, когда, казалось бы, достигнуто всё, к чему он стремился, это чёрное вновь возникло перед ним, приняв облик бывшей возлюбленной. Но на самом деле он стрелял в госпожу де Реналь и едва не убил женщину, которая так его любила. Он стрелял именно в неё. Дело в том, что на всем протяжении его романа с Матильдой он всё время сравнивал её с госпожой де Реналь. Он никогда её не забывал. Он и стрелял именно потому, что всё ещё любил. Она была самым чистым, светлым, самым искренним, что было в его жизни. И вот эта женщина, которую он называл «ангельской душой», написала письмо, в котором так очернила, унизила их любовь. Этого он не мог простить.
Если выразить поступок Жюльена какой-то одной-единственной фразой – это был некий стихийный взрыв страстей, загнанных внутрь. Жюльен всегда был начеку, считал необходимым играть роль, каждую минуту соответствовать тем принципам, которые должны были обеспечить ему достижение поставленных целей. Но больше он не хочет себя обуздывать и даёт волю чувству, которое не способен даже осознать до конца и к пониманию которого приходит только в тюрьме. Дело в том, что этот выстрел – акт отчаяния. В душе Жюльена рушится вера, которую давала ему эта женщина. Он стреляет не потому, что рухнула карьера, ему теперь плевать на карьеру, а потому, что рухнула святыня. «Мне нечего больше делать на земле!» – признается он.
И вот финал. Жюльен в тюрьме в ожидании приговора. Это вполне закономерный итог. Но не случайно первая глава романа предварялась эпиграфом: «Собери несколько великих людей в тёмной камере и будет свет». Дело в том, что для Жульена, как и для шекспировского Гамлета, весь мир – тюрьма, ему тесно в этом мире. Кстати, этот образ-метафора присутсвует и в «Пармской обители» Стендаля: крошечные, точно тюремная камера, размеры Пармы, где разворачивается действие романа, и наконец, келья пармского монастыря, в которую сам себя заточает главный герой Фабрицио дель Донго. Это – ограниченное пространство, в котором не может раскрыться в полную силу человеческая личность.
Но, с другой стороны, тюрьма – это свобода. Именно здесь Жюльен обретает наконец своё истинное «Я». Ему больше не нужно притворяться, приспосабливаться, играть роль, наконец-то он может быть самим собой. В тюрьме происходит переоценка всех ценностей. Он проходит самое высокое и самое трудное испытание и перед лицом смерти начинает по-новому оценивать свою жизнь. Его больше не интересуют отношения с другими, ему безразличны те люди, которые будут его судить. Он судит себя сам, и это «тот суд, которым будет судить Бог, если он существует». Честолюбие умерло в его сердце, рухнула его наполеоновская идея. Жюльен понял, что ничего ему не достичь. В случае успеха это был бы лишь покоренный мир, а совсем не те мечты, которые всегда его пленили. Вместе с честолюбием умерла и его любовь к Матильде. Как в зеркале, он видит в ней свою честолюбивую мечту. Матильда готова на любые безрассудные поступки, даже умереть вместе с ним, но Стендаль замечает, что Жюльену было невмоготу от всего этого напыщенного героизма. Он чувствует, что за всем этим скрывается поза, тщеславие, что Матильда очень гордится своей необыкновенной любовью, величием своих поступков, всё время точно ждёт аплодисментов. "Если он умрёт, я умру вслед за ним, – говорила она себе с полным убеждением. – Что сказали бы в парижских гостиных, если бы увидели, что девушка моего круга до такой степени боготворит своего возлюбленного, осуждённого на смерть? Только в героические времена можно найти подобные чувства. Да, такой вот любовью пылали сердца во времена Карла IX и Генриха III». (XXXIX. Интрига).
Но Жюльен во всё это больше не верит. Его наполеоновские надежды рухнули. То, что он видит вокруг, вызывает в нём отвращение. Героический долг, который он сам себе когда-то предписал, может, и был заблуждением, но всё же для Жюльена это было точно «стволом мощного дерева», на которое он мог опереться. Теперь же у него не осталось опоры, не осталось желания жить. Единственное, во что он не утратил веры, что было подлинным, не обманным в его жизни – это его любовь к госпоже де Реналь. Он вспоминает дни, проведённые рядом с ней, и сожалеет о том, что мечты о славе и успехах отвлекали его от тех радостей, которые могла бы дать ему эта любовь. «В те прежние дни, – говорил ей Жюльен, – когда мы бродили с тобой в вержийских лесах, я мог бы быть так счастлив, но бурное честолюбие увлекало мою душу в неведомые дали. Вместо того чтобы прижать к сердцу эту прелестную ручку, которая была так близка от губ моих, я уносился мечтами в, будущее; я весь был поглощён бесчисленными битвами, из которых я должен был выйти победителем, чтобы завоевать какое-то неслыханное положение… Нет, я, наверно, так бы и умер, не узнав, что такое счастье, если бы ты не пришла ко мне сюда, в тюрьму». (XLV). Единственные счастливые минуты для Жюльена теперь – те, которые они проводят вместе в тюремной камере. У него больше нет будущего, он живёт только настоящим.
Любовь к мадам де Реналь – единственная ценность, которая у него осталась, и это достаточная ценность для того, чтобы с ней умереть, но недостаточная для того, чтобы жить. Жюльен выбирает смерть. У Матильды большие связи, в конце концов, госпожа де Реналь не погибла от выстрела, к тому же она его простила и готова всюду просить за него. Но Жюльен её останавливает. Он произносит в суде речь намеренно злую и дерзкую, чтобы вызвать раздражение присяжных и самый суровый приговор. Он бросает вызов. Адвокат скажет Матильде, что казнь Жюльена – это своеобразное самоубийство. Матильда торжественно хоронит его отрубленную голову, как когда-то сделала её прабабка, то есть совершает некий эффектный ритуал, а госпожа де Реналь умирает, спустя несколько дней после смерти Жюльена…
В тюрьме Жюльен скажет о себе: «Я один знал, на что я способен». И это самое важное, что было в герое. Стендаль убеждён: главное в человеке – не то, что он есть, а то, чем он мог бы стать, тот внутренний потенциал, который в действительности никогда не осуществляется до конца.
Реализм в литературе XIX века
Величайший представитель реализма в литературе XIX века Оноре де Бальзак родился в 1799 году в городе Тур, умер в 1850-м в Париже. Вообще, фамилия семьи была простонародная – Бальсак. Но отец будущего писателя, крестьянин, разбогатевший в годы революции на скупке и продаже дворянских земель, стал писать её через z, Balzac, что указывало на принадлежность к высшему сословию. Во всяком случае, Бальзак-младший искренне верил в своё знатное происхождение и гордился им. По настоянию отца в 1816 году Бальзак поступил в Парижскую школу права, во время учёбы работал помощником присяжного поверенного, впоследствии изображённого им в образе одного из героев «Человеческой комедии». Но юриспруденция его мало интересовала. Бальзак хотел стать писателем. С ранних лет он был увлечён чтением, пробовал сочинять стихи, пьесы, по воспоминаниям об ученических годах, «его парта всегда была полна писаниями». Бальзак договорился с отцом, что тот будет содержать его ещё ровно один год, а он за это время добьётся литературного признания. Отец дал согласие, но внезапно дела семьи пошатнулись, и Бальзак лишился финансовой поддержки. Однако он не изменил своих намерений стать знаменитым писателем: нашёл дешёвую комнатушку в мансарде, которая совсем не отапливалась, и, завернув ноги в одеяло, начал работу над своим первым драматическим произведением «Кромвель». Трагедия была напечатана, но не имела никакого успеха.
Однако Бальзак не унывал. Он понял, что настоящее искусство требует времени, а время – денег. На этот раз он решил заняться литературными заработками: принялся за написание модных романов в духе «неистового романтизма», которые охотно печатались в газетах и журналах, сейчас подобных книг тоже выходит немало. Делать это было противно до невозможности, но Бальзак шёл на это «сущее литературное свинство», считая, что таким образом зарабатывает средства, которые обеспечат ему досуг, и он сумеет, наконец, заняться творчеством. Кроме того, он сумел хорошо разобраться в журналистской кухне и понял, что все его представления о профессии – досужий вымысел, а на самом деле журналистика – грязная борьба за положение и кусок хлеба. Но всё-таки он продолжал писать. (За свою жизнь Бальзак создал очень много произведений, столько, что их никто, кроме, специалистов никогда не читает полностью. Большинство из них широкому читателю не известны.)
В конце концов Бальзак убедился, что журнальные публикации тоже не кормят и нужно искать другие способы заработать. Он решил заняться бизнесом. К тому времени относится его романтическая связь с госпожой де Берни, совместно с которой он затеял издавать сочинения французских классиков XVII века. Вообще, у Бальзака была масса коммерческих идей и проектов, но никакого умения их осуществлять. Так было положено начало знаменитым бальзаковским долгам, с которыми он смог расплатиться лишь незадолго до смерти. Впрочем, всё это имело и положительные последствия. Бальзак бросил писать в угоду публике, оставил коммерцию и решил наконец заняться серьезной литературой.
Первым значительным произведением Бальзака стал роман «Шуаны» (1829), за которым последовали и первые шедевры: роман «Шагреневая кожа» и новеллы, среди которых «Тридцатилетняя женщина», имевшая шумный успех. В дальнейшем вся жизнь Бальзака превратилась в напряжённый писательский труд. Обычным для него стало подняться в два часа ночи и примерно до девяти вечера писать. Спал он крайне мало. Пил много кофе, чтобы прогнать сон. А когда возникала спешка, то и вовсе не ложился. Такой бесконечный изнурительный труд, безусловно, подорвал его силы. Бальзак умер довольно рано, несмотря на то, что обладал от природы крепким здоровьем. Ему было около пятидесяти.
Что заставляло Бальзака столько работать? Конечно, ему было необходимо расплатиться с долгами: писателя бесконечно осаждали кредиторы. Для того чтобы осуществить проект издания классиков, он занял значительную сумму денег, книги не принесли дохода, но он должен был расплачиваться. Это понятно. Однако дело не только в этом. Бальзак хотел осуществить иной и по-настоящему великий свой замысел – «Человеческую комедию». В её плане значилось 137 произведений. Бальзак успел написать около 90.
О самом этом замысле поговорим чуть позже, а пока хочу отметить один факт биографии писателя. Когда Бальзак опубликовал «Тридцатилетнюю женщину», он получил огромное количество писем от женщин. Одно из них, очевидно, заинтересовало его больше других. Это было письмо польской помещицы и русской подданной Эвелины Ганской. Бальзак заочно влюбился в свою корреспондентку. Через некоторое время они встретились. Ганская была замужем, муж, владелец обширных поместий под Житомиром, был намного старше её, и они решили ждать кончины мужа, изредка встречаясь. Эти встречи происходили примерно два раза в год, когда Ганская приезжала в Париж. А в основном любовь питалась перепиской. Эвелина Ганская, очевидно, была умной, образованной женщиной. Когда впоследствии она всё же стала женой Бальзака, все письма, которые она присылала ему, уничтожила. А вот письма, адресованные ей, сохранились, они изданы. В этих письмах Бальзак делится с Ганской своими размышлениями, чувствуется, что она духовно близка писателю, посвящена в его творческие планы. Впоследствии эти письма стали важным источником, поясняющим замыслы многих бальзаковских произведений.
Наконец муж Ганской умирает. Бальзак ликует. Он очень много надежд связывал с этим браком. Во-первых, графиня Ганская была богата, и, вступив с ней в брак, Бальзак мог избавиться от долгов, да и вообще писатель хотел семейной жизни. Он любил Ганскую. Но она была женщиной холодной и расчётливой, и ещё семь лет откладывала этот брак, пока, наконец, не дала на него свое согласие. Венчались они с Бальзаком, кстати, в России, в Бердичеве, теперь, правда, это территория Украины. Бальзак расплатился с долгами, строил планы на будущее. Он говорил: «У меня никогда не было счастливой весны, но у меня будет счастливое позднее лето и осень». Трудно сказать, был ли Бальзак счастлив с Ганской. Но если это и так, то продолжалось счастье недолго. В мае 1850 года они обвенчались, а в августе писателя не стало.
Бальзак является автором одного грандиозного произведения, которое получило название «Человеческая комедия». Когда у писателя впервые возник этот замысел, он признался своей сестре Лоре де Сюрвиль: «…я понял, что я гений». Замысел складывался постепенно, и общее название тоже пришло не сразу. Поначалу Бальзак предполагал объединить ряд повестей и романов в «Социальные этюды», но затем пришла идея многотомного цикла, который бы охватывал самые разные стороны французской действительности, представлял как можно более полную картину жизни общества в период Реставрации и Июльской монархии. В 1834 г. Бальзак известил публику о своём намерении создать единый прозаический цикл, в котором «человек, общество и человечество будут подвергнуты описанию, суду и анализу».
«Человеческая комедия» Бальзака состоит из трёх разделов. Первый – «Этюды о нравах XIX века», в которых, как утверждал Бальзак, «не будут забыты ни одно жизненное положение, ни одна физиономия, ни один характер мужчины или женщины, ни один образ жизни, ни одна профессия, ни одно сословие, ни один уголок Франции, ни одна деталь, имеющая касательство до детства, старости и зрелого возраста, до политики, правосудия и войны» (письмо Бальзака к Ганской от 26 октября 1834 г.). Второй раздел – «Философские этюды», посвящённые «причинам» всех этих «социальных следствий». К философским, к примеру, относится роман «Шагреневая кожа». И, наконец, «Аналитические этюды», посвящённые человеческой природе и общим «принципам» мироустройства. Этот третий раздел не был осуществлён Бальзаком. Завершать «Человеческую комедию» по замыслу автора должен был «Опыт о человеческих силах», в котором Бальзак намеревался исследовать скрытые возможности психики, но написать его он тоже не успел.
«Этюды о нравах» – главный, самый значительный раздел «Человеческой комедии». Он в свою очередь делится на шесть частей: «Сцены частной жизни», «Сцены провинциальной жизни», «Сцены парижской жизни», «Сцены политической жизни», «Сцены сельской жизни», «Сцены военной жизни».
Считая себя историком Франции, Бальзак стремился перенести принципы исторического романа Вальтера Скотта на материал современности, показать связь исторических событий и частных судеб героев… При этом он решительно расходится с мыслителями XVIII века, которые полагали, что естественный человек – это изолированный индивид, и для того, чтобы понять человека, нужно понять его как отдельную сущность. По убеждению Бальзака, общественное начало лежит в самой человеческой природе. Более того, он считал, что и животные и птицы тоже живут объединениями: стадами, стаями, о насекомых и говорить не приходится.
В чём же тогда заключается главное отличие человеческого сообщества от иных? Прежде всего в том, что оно развивается, имеет историю, в то время как животные группы, в общем-то, сохраняются в неизменном виде. А люди меняются, поэтому важно запечатлеть человеческое общество таким, каким оно предстаёт на данный момент. Каждая историческая ступень – это его особый, неповторимый облик. «Человек – это только подробность, главное – это общество, общая картина».
Кроме того, Бальзак выдвигает идею, которую иногда не совсем верно толкуют: «Человек – это животное, у которого есть вещи». Это важнейшая формула «Человеческой комедии»: мужчина, женщина и вещи. Иногда её склонны понимать как стремление Бальзака изобразить буржуазное общество, в котором материальная сторона приобрела чрезмерное значение. Отчасти это, может, и верно, но Бальзак считал, что обладание вещами наряду с историческим развитием характерны для человечества вообще. Нельзя понять человека вне вещей, которые его окружают. Поэтому задача писателя – запечатлеть современное состояние общества, включая быт.
Проникновение истории в быт, в частную жизнь людей – вот что интересует Бальзака. Он очень сожалеет, скажем, что Античность почти не оставила нам свидетельств о быте. Может, романы Петрония или Апулея отчасти рисуют какой-то образ обыденной жизни, но греческая трагедия не даёт никакого представления о том, как люди жили в ту эпоху. А Бальзак хочет описать повседневность, ибо история – это и есть повседневность. История, как сказал Пушкин о романах Вальтера Скотта, – это то, что люди ежедневно видят вокруг себя.
Теперь вопрос: как объединяются эти произведения? Идея цикла, которую впервые предложил именно Бальзак, получит дальнейшее развитие в литературе. Уже последователи Бальзака нередко следуют циклической форме. Скажем, Э. Золя создает огромный цикл «Ругон-Маккары», Д. Голсуорси – монументальную «Сагу о Форсайтах» и т.д. Но, как правило, такие циклы основаны на образе семьи: описываются разные поколения и ответвления одного и того же семейства, и эти родственные, семейные связи объединяют действие романов в единое целое. «Сага о Форсайтах» – это история состоятельного рода Форсайтов, так же построены и «Ругон-Маккары» Золя. Принцип Бальзака иной: это принцип возвращающихся персонажей. Герои переходят из одного произведения в другое, и именно это связывает их между собой. Тот, кто был главным героем в одном, становится второстепенным в другом, и наоборот. После Бальзака этот принцип был использован лишь однажды – Фолкнером в его романах об Йокнапатофе, но там это всё-таки носит несколько иной характер. Йокнапатофа – место, выдуманное самим Фолкнером, небольшой округ, где все жители знакомы друг с другом. Действие разворачивается в ограниченном пространстве, и там естественно упоминание одного и того же круга лиц, переплетение судеб. А Бальзак стремится показать как можно более масштабно всю современную ему Францию. Для этого ему пришлось «создавать типы путем соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров» и следить за «продвижением людей, олицетворяющих эти виды, в отведённых им сферах» («Предисловие к «Человеческой комедии»), и этих разнообразных персонажей в «Человеческой комедии», по убеждению самого Бальзака, должно было действовать «не меньше тысячи».
Принцип возвращающихся персонажей – главное отличие романов Бальзака от произведений романтиков. Для них деление действующих лиц на главных и второстепенных необыкновенно существенно. В центре повествования всегда стоят герои, которые резко отличаются от окружающих. Это личности исключительные. В произведениях Гофмана, Байрона это особенно заметно. Таков романтический герой Гюго. Даже у Стендаля, хотя он и создает реалистический роман, в центре событий могут быть Жюльен Сорель, мадам де Реналь, Матильда, наконец, но никак не господин Реналь, который автору просто не интересен. А у Бальзака любой герой может оказаться в центре повествования. У него нет принципиального деления на главных и второстепенных. В одном романе герой – в центре событий, а в другом – на периферии, и наоборот. Исчезает это иерархическое деление.
Все герои Бальзака обладают как бы двойным бытием, одно – в рамках отдельного произведения, а второе – в границах огромного цикла, который тоже в свою очередь не завершён, даже с точки зрения планов самого писателя. Бальзак, повторю, задумал гораздо больше произведений, чем успел написать. Даже смерть того или иного персонажа не является окончанием его истории. Бывает, в одном романе герой умирает, но всё же что-то новое о его жизни, о том, допустим, кем он был прежде, мы можем узнать из какой-то другой книги цикла. Так, скажем, читая о Пушкине, мы понимаем, что его личность описанным не исчерпывается, что это всего лишь взгляд автора. А по отношению к художественным образам подобное невозможно. Гамлет, хотя и сложная фигура, но всё же не существует вне трагедии Шекспира. Иван Карамазов исчерпан романом Достоевского. А вот герои Бальзака всегда внутренне не завершены, не укладываются в рамки какого-то одного конкретного произведения. Они и в других книгах тоже могут возникнуть, проявив себя самым неожиданным образом: то есть существуют как бы и за их пределами.
К примеру, «покоритель Парижа» Эжен де Растиньяк встречается в 25 романах цикла. Это очень много. И, читая их, можно, конечно, пытаться проследить линию этого конкретного героя. Но сам Бальзак такому принципу не следовал. В «Шагреневой коже», например, которая написана гораздо раньше «Отца Горио», изображён более поздний период жизни Растиньяка. Бальзак заметил как-то, что его читатель может встретиться с подобным неудобством: узнать о смерти какого-то героя раньше, чем о его рождении. Это связано с тем, что у него нет возможности ждать, когда будет завершён весь цикл. Он должен выпускать романы по одному. Но может быть когда-нибудь, он надеется, эта особенность станет приметой великого замысла…
В «Человеческой комедии» существуют как бы два смысловых центра. Один – внутри каждого отдельного романа, как правило, некая проблема, которая волнует писателя в данный момент и которая выражена линией главного героя, а второй – то место, которое произведение занимает в общей композиции цикла.
Для сравнения: в романах Вальтера Скотта тоже два смысловых центра, но внутри самого произведения. Например, «Айвенго», с одной стороны, – это эпизод истории Англии, а, с другой, – история рыцаря Айвенго, рассказ о его любви к двум женщинам, Ребекке и леди Ровене. Бальзак говорил, что Вальтер Скотт не смог по-настоящему глубоко передать внутренний мир героев, но в историческом романе это и не так важно. А вот для современного реалистического романа эта полицентричность необыкновенно существенна: она объединяет произведения в единый цикл, делая их главами одной огромной книги о жизни французского общества.
В романах Бальзака исчезает антитеза романтического искусства, которая ещё достаточно сильна в творчестве Стендаля, а именно – контраст между поэзией и прозой. Бальзак убежден: прозаичность, которая так отталкивала романтиков, в общем-то, и есть выражение вечных законов бытия. Границы между поэзией и прозой в реальной жизни относительны.
Приведу пример, чтобы было понятно. В записной книжке Бальзака есть такое замечание: «Один против необходимости, представленной квартирной хозяйкой, ростовщиком, прачкой и тому подобным». Эта запись читается как слева направо, так и справа налево. Один против необходимости – это тема, которая звучала уже в греческой трагедии: столкновение человека с роком, с богами, с судьбой. Это испытание сродни участи Прометея. У Шекспира это столкновение человека с ходом истории. А во времена Бальзака всё это свелось к быту. Нечем заплатить прачке – вот что такое теперь борьба с необходимостью. Отсюда ирония Бальзака, само название его эпопеи «Человеческая комедия». То, что когда-то было трагедией, стало комедией. Но мысль Бальзака можно истолковать и иначе. Сам рок теперь принял столь прозаический облик. Бальзак ощущает одновременно обе стороны.
Или такая ироническая фраза в романе «Кузен Понс», – «Иметь или не иметь доход, вот в чём вопрос, – сказал Шекспир». Это, конечно, ирония над знаменитым вопросом Гамлета. Но для героя Бальзака это, действительно, равносильно гамлетовскому «быть или не быть». И кстати, «Шагреневая кожа» начинается с того, что главный герой отправляется в игорный дом. У него осталась последняя монета, которую он ставит на кон, и если выиграет, то останется жить, а если проиграет – бросится в Сену. Вопрос «иметь или не иметь» стал равносилен «быть или не быть». Всё обмельчало, Бальзак видит эту деградацию. Но для него очевидно и другое: в приметах повседневности, в бытовых подробностях современной ему жизни он усматривает проявление извечных законов бытия.
Бальзак очень большое значение придавал правдивости деталей. Он стремился с максимальной точностью воспроизвести картины действительности. Но в то же время он прекрасно понимал, что литература – это всё-таки реальность, выраженная словом, следовательно, – преображённая, осмысленная. А осмыслить реальность – это значит понять её как целое, иначе нельзя. Поэтому каждая деталь при всей своей бытовой достоверности и точности должна обладать ещё и иным, символическим смыслом: с одной стороны, вещь реальна, с другой – она есть некое образное отражение, за каждой материальной приметой скрывается художественная мысль.
Так, внешность героев для Бальзака – тоже своеобразный знак. Писатель был убеждённым последователем швейцарского ученого Лафатера, создателя физиогномики – науки о связях психологических качеств с внешностью. Костюм также несёт разнообразную знаковую информацию: говорит о характере, социальном положении, страстях человека. Столь же значимы и походка, манера двигаться, жесты…
Действие романа «Отец Горио» (1832) начинается с описания частного парижского пансиона, известного под названием "Дом Воке": «Госпожа Воке, урождённая де Конфлан, уже старуха; лет сорок она содержит в Париже меблированные комнаты с пансионом на улице Нев-Сент-Женевьев между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. В комнаты эти… пускают одинаково мужчин и женщин, молодежь и стариков…» (449)
Вообще, образ пансиона – характерная особенность произведений Бальзака. Его обитатели, как правило, чужды друг другу, у них разные судьбы, но в чём-то они перекликаются: не случайно обстоятельства свели этих людей вместе. По мнению писателя, это своего рода модель общества в целом, позволяющая представить не одну человеческую судьбу, а сразу множество. В романе – несколько сюжетных линий, которые получат дальнейшее развитие в других произведениях цикла.
Описывая местонахождение пансиона, Бальзак подчеркивает, что улица, ведущая к нему, – это спуск. Так, наверное, и было в действительности, но образ спуска, очевидно, имеет для писателя, помимо топографического, еще и символический смысл. Прежде всего он связан с общим названием эпопеи «Человеческая комедия», которое отсылает к «Божественной комедии» Данте. Там тоже изображался спуск, нисхождение в ад. Но, кроме того, образ спуска в романе связан еще и с тем, что Бальзак представляет читателю дно парижской жизни, именно дно. Горький позже тоже напишет пьесу «На дне», в центре которой окажется подобный образ – ночлежка и ее обитатели. Поэтому спуск в романе Бальзака реален и символичен одновременно.
Но изображается в романе также и верх – это аристократические салоны Сен-Жерменского предместья Парижа. Позже мы к этому ещё вернемся, а пока хочу лишь отметить, что один из главных героев книги Растиньяк мечтает подняться по социальной лестнице, попасть в высший свет, который представляется ему раем. Вначале мы застаем героя на низших ступеньках общества, затем он достигает высших кругов, но убеждается, что повсюду действуют одни и те же законы, а верх и дно – только разные уровни преисподней.
Бальзак нагромождает события, представляя их синхронно. Он сплетает в единый узел судьбы разных героев. Люди вроде бы не связаны между собой, но однажды всё меняется. Бальзак делает это намеренно. Примером тому могут служить сцена ареста Вотрена или изображение последнего бала у виконтессы де Босеан, где решается участь не одного, а многих героев сразу. Это даёт особый срез реальности. Наглядным примером подобного может служить ежедневная газета. Вы разворачиваете газетную полосу и видите там сообщения о множестве разных событий. Все эти события произошли в одно время, их сочетание, пересечение и есть отражение дня. Бальзак старается это показать, давая объёмное представление о том, что происходит с разными героями в одно и то же время.
А второй способ – понять текущий день в контексте истории, увидеть его не по горизонтали, а, можно сказать, по вертикали. Например, в романе Бальзака «Отец Горио» развиваются одновременно две сюжетные линии. Вообще их больше, но две – основные. Одна связана с образом главного героя – Горио, а вторая – с судьбой молодого человека Эжена Растиньяка. Это два главных действующих лица, судьбы которых переплетаются. И поэтому роман, с одной стороны, имеет финал в том смысле, что действие завершается похоронами Горио. Но последняя фраза произведения говорит о том, что жизнь второго главного героя Растиньяка продолжается. Вернувшись с похорон, он отправляется на обед к баронессе. Растиньяк бросает своего рода вызов Парижу. И, следовательно, эпопея Бальзака будет развиваться дальше, – это разомкнутая, открытая структура. Каждая отдельная книга – только фрагмент обширного многотомного цикла о жизни общества.
Судьба Горио отчасти связана с событиями истории. Он разбогател во времена Французской революции, спекулируя мучным товаром. В эпоху Наполеона Горио сумел удачно выдать дочерей замуж: одну, Дельфину, за барона де Нусингена, владельца банкирского дома, другую, Анастази, за графа де Ресто. В революционную пору аристократам не казалось зазорным жениться на дочерях простого вермишельщика. Но действие романа происходит уже в другое время, в эпоху Реставрации, и теперь мужья дочек не желают принимать у себя Горио, стыдясь, что у них такой тесть. Они почти не видятся. И в этом смысле судьба Горио оказывается внутренне связана со значительными историческими событиями – с Французской революцией, с Наполеоновской империей, с Реставрацией. Эти события во многом определяют частную судьбу героя, хотя никакого участия в политике он никогда не принимал.
Главная тема, связанная с образом Горио в романе, – это его взаимоотношения с дочерьми. Вообще, Горио – человек, лишённый каких-либо духовных интересов. По словам Бальзака, у его героя была только «одна страсть – любовь к дочерям». Один из обитателей пансиона врач Бьяншон, к примеру, считал, что в черепе Горио имеется только один бугор – отцовство; Вотрен замечает: «Вне своей страсти… он тупое животное. А наведите-ка его на эту тему, и его лицо заиграет, как алмаз». Горио безумно любит дочерей. Это – главное в его жизни, недаром все называют его отец Горио.
Когда Горио впервые появился в пансионе Воке, он был ещё не стар и достаточно богат, и окружающие обращались к нему: господин Горио. Даже хозяйка пансиона Воке была непрочь выйти за него замуж. Теперь же все презрительно называют Горио папашей. Но помимо этого сниженного «папаша» слово «отец» в романе имеет и высокий смысл. Горио, как пишет Бальзак, этакий «Христос отцовской любви».
Отношение героя к дочерям – это настоящая страсть, их даже поначалу принимают за его любовниц. Да и сам Горио скажет о себе: «Дочери были моим пороком, моей любовной страстью, всем!». Они жили дома, как раньше «жили бы любовницы у старого богатого вельможи». Он готов всё им отдать: продаёт ростовщику последнюю чашку, отказывается от своей ренты, чтобы его дочь баронесса Нусинген обрела квартиру, в которой могла бы встречаться со своим любовником. Горио умирает, когда ему становится нечего отдать.
Что такое эта безумная любовь Горио к дочерям? Здесь отчасти присутствует одна из важнейших тем всей «Человеческой комедии» – власть денег. За деньги можно купить всё, даже любовь дочерей. Но когда у Горио ничего уже не остаётся, он оказывается в одиночестве. Горио восклицает: «Скажите им что-нибудь, и они придут». Но никто не появляется на его пороге. Отцы должны отдавать, а у него больше ничего не осталось. И дочери не приходят даже на похороны Горио, а только посылают для видимости свои пустые кареты. Хоронят Горио посторонние ему люди: живущие по-соседству студенты Растиньяк и Бьяншон.
Однако на историю Горио падает отсвет и другой истории. Это история короля Лира. Вообще Бальзак часто связывает частные судьбы своих героев с мифологическими сюжетами. Горио – это тоже история отца и детей. Но между Горио и Лиром есть одно существенное отличие. У Лира было три дочери – две плохие, одна хорошая. А у Горио только две дочери, и обе одинаковые. У него не было Корделии, потому что Корделий теперь вообще не встретить. Конечно, это образы разного масштаба, это очевидно. Но всё-таки тень шекспировского короля Лира ложится на историю отца Горио. Это особая художественная перспектива романа Бальзака. Подобно тому, как глубоко трагическая тема борьбы с роком, с необходимостью, проступает в его произведениях в коллизиях взаимоотношений героя с квартирной хозяйкой, так и в трагедии отца Горио просматриваются черты трагедии Лира, только в измельчившейся, сниженной форме. Но и в этом случае история Горио сохраняет внутреннюю связь, перекликается с высокой темой короля Лира.
Как происходит прозрение Горио? С одной стороны, он, конечно, понимает, что за всё в жизни в какой-то момент приходится расплачиваться. Но перед смертью Горио во что бы то ни стало хотел бы увидеть своих дочерей. Он даже просит Растиньяка сказать им, что будто бы собирается вернуться к делам, а значит, снова разбогатеет. «Отец непременно должен быть богат»; «отцы должны давать. Всегда. Вот твоё дело, если ты – отец».
Однако в финале, это важная тема романа Бальзака, Горио всё же в какой-то мере прозревает, хотя, конечно, он не Лир. Он понимает, что сам виноват в том, что дочери так с ним поступили: «Теперь они требуют наслаждений, как раньше требовали конфет».
Самая глубокая трагедия Горио в том, что он это осознал: «Они привыкли потрошить меня, и потому всё, что я делал для них, теряло цену». «Они никогда не чувствовали ни моих горестей, ни моих мук, ни моих нужд». В конце жизни он понял эту простую вещь, что за деньги можно купить что угодно, даже заботу и внимание дочерей. Будь у него деньги, они бы до последнего ухаживали за отцом, лебезили бы и угождали, а так – даже не явились на его похороны. Деньги – великая сила, они могут почти всё. И в то же время, по мысли писателя, они не могут ничего, ибо главное, в чём нуждался Горио, он никогда бы не смог получить за деньги. Он хотел, чтобы дочери его любили, а они его не любили никогда. Горио так и не сумел обрести их любовь, потому что всегда стремился её покупать. Бальзак ощущает всесилие денег, но и бессилие их перед настоящими ценностями жизни. Поэтому Горио в финале испытывает крах. Именно потому, что чувствует: того, что сейчас ему больше всего необходимо, у него нет, дочерям, которым он отдал всю свою жизнь, ради которых жил, сам он, в общем-то, не нужен. Он не вызвал в них даже самого простого человеческого сочувствия. Они привыкли всё делать за деньги. «Я до последней секунды им давал, а теперь нечего», – скажет он в финале.
Но в романе Бальзака есть и вторая сюжетная линия, связанная с молодым героем – Растиньяком. Горио завершает свою жизнь, Растиньяк же её начинает. История Растиньяка – это история молодого человека, который пытается пробиться на вершину общества. Эта проблема в какой-то мере была поставлена уже Стендалем в романе "Красное и чёрное". Однако между Жюльеном Сорелем и героем Бальзака есть одно существенное различие: прежде всего, они принадлежат к разным социальным кругам. Жюльен – сын бедняка из французской провинции, Растиньк – из семьи разорившихся аристократов. Это обстоятельство играет известную сюжетную роль, но главная мысль Бальзака заключается в том, что благородное происхождение героя, в общем-то, ничего уже не значит. Главной силой в действительности стали деньги, и потому Растиньяк живёт в пансионе Воке на одном из последних этажей, рядом с отцом Горио.
Растиньяк не ставит перед собой таких грандиозных задач, как Жюльен Сорель. Он не стремиться изменить мир, его планы куда более простые и приземлённые. У него есть честолюбие, несомненно, но главное для него – добиться положения в обществе…
Основополагающая категория для героев Бальзака это – желание, хотя, отчасти, это может быть отнесено и к герою Стендаля. Для них главное – это желать! А что значит желать? Героям романтизма, например, было свойственно мечтать. Они, прежде всего, мечтали. В мечтах им представлялся какой-то идеальный, несбыточный мир, к которому они пытались приблизиться. А для героев Бальзака определяющим стало желание. Они живут, пока желают.
Напомню, Бальзак был убежден, что только общество в целом позволяет судить о том, что такое человек как родовое существо, каждый отдельный индивид являет собой лишь какую-то одну сторону целого. Ни крестьянин, ни дворянин не выражают всего, что заложено в человеке вообще. Но, кроме того, никакая человеческая личность не выражает целиком даже то, что заложено в ней самой. В каждом таится нечто нереализованное, человек стремится этот скрытый потенциал осуществить, хотя действительность, может, и не всегда предоставляет ему возможности для такого разностороннего развития, какое, скажем, достигалось людьми эпохи Возрождения. Поэтому человек всегда старается жить вне собственных границ, ему всегда тесно в заданных обстоятельствах. Его уже не устраивает мечта, как, скажем, героев романтизма. Он жаждет чего-то реального, и это находит выражение в желаниях и страстях героев. Даже в отце Горио его горячая любовь к дочерям – это тоже выражение ощущения неполноты существования. Он тоже словно ищет нечто вне себя, ему нужно что-то помимо него самого, что-то другое. Для него в данном случае – это дочери, а для молодых героев Бальзака – желания.
Растиньяк, желая чего-то всей душой, живёт как бы в двух плоскостях одновременно: "теперь" и "тогда", "здесь" и "там". Но для того, чтобы желать и осуществлять свои желания, по мысли Бальзака, надо мочь. А чтобы мочь, надо иметь…
Своеобразная философская формула судьбы молодого человека представлена в одном из ранних творений Бальзака – романе "Шагреневая кожа" (1830-1831). Роман состоит из трёх частей. Первая часть носит название "Талисман", вторая – "Женщина без сердца", третья – "Агония". Первая часть делится на три важнейших эпизода. Первый – это изображение игорного дома. Вообще, это не характерно для Бальзака, но в романе "Шагреневая кожа" мы впервые знакомимся с главным героем Рафаэлем в момент, когда он испытывает глубочайшее разочарование, и о дальнейших событиях его жизни мы узнаём во второй части романа, где он сам рассказывает об этом своему другу. Мы знакомимся с Рафаэлем в момент духовного кризиса, крушения иллюзий.
В связи с романом "Красное и чёрное" я уже упоминал, какое важное место занимала тема игры в литературе XIX века. «Красное и чёрное» – это символические цвета игры в рулетку, «Пиковая дама» – карточный расклад и т.д. Герой «Шагреневой кожи» тоже приходит в игорный дом и делает ставку. У него остался один-единственный, последний луидор, и он решает: если выиграет, то будет жить, если проиграет – покончит с собой.
И он проигрывает. Уже здесь, в этом первом эпизоде романа, мы видим столкновение жизни и смерти. Причём сам герой целиком устремлён в будущее, он ставит на то, что будет… Но его будущее оказывается в прошлом. Он проиграл. И тогда он решает покончить жизнь самоубийством. Но ему не хотелось бы делать это днём, на виду у всех, когда вокруг полно людей. Он решает дождаться ночи и броситься с моста в Сену. А пока отправляется погулять в этот свой последний день. И вот, бродя по городу, он заходит в лавку антиквара…
Это второй эпизод первой части романа. В антикварной лавке представлены предметы разных времён, разных культур. Это, как определяет сам Бальзак, своего рода философская свалка: какие-то вещи из древности перемешаны здесь с современными. Но в целом это мир прошлого. Разрушительная сила времени ощутима здесь во всём. Все эти культуры давно уже мертвы. И если в первом эпизоде речь шла об отдельной человеческой жизни, то здесь – о целых эпохах, ушедших в небытие (каждая из этих вещей как бы напоминание о прошедших временах). Там в центре внимания было будущее, здесь – прошлое…
С появлением антиквара у Рафаэля возникает двойственное ощущение. Поначалу он даже напоминает Рафаэлю самого Господа Бога, а затем что-то дьявольское начинает мерещиться в его облике. Антиквар очень стар. Ему 102 года. Когда он узнаёт, что Рафаэль собирается через несколько часов свести счёты с жизнью, он предлагает ему необычный талисман: шагреневую кожу, в котором соединено то, что людям, казалось бы, так трудно свести воедино – "желать" и "мочь". Не случайно надпись на изнанке талисмана гласит: «Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай – и желания твои будут исполнены. Однако, соразмеряй свои желания со своею жизнью. Она – здесь. При каждом желании я буду убывать, словно дни твои. Хочешь владеть мною? Бери. Бог тебя услышит. Да будет так!» Шагреневая кожа способна осуществить любое человеческое желание, но только при этом она каждый раз неизбежно становится короче, а вместе с ней укорачивается и сама жизнь её владельца. Такова цена. Но зачем совершать самоубийство, лучше взять шагреневую кожу…
Здесь возникает ещё одна важная двойственность романа Бальзака. На шагреневой коже, которая способна осуществить любое человеческое желание, сказано "так угодно Богу", но когда Рафаэль берёт её в руки, ему кажется, будто бы он заключил сделку с дьяволом. Ещё недавно он был готов проститься с жизнью. Но как только выходит из лавки, встречает своих знакомых, которые, оказывается, уже давным-давно его разыскивают. Они приглашают Рафаэля на пир, который устраивает банкир Тайфер. Как раз в это самое время разворачиваются события Июльской революции 30-го года, приведшей к власти во Франции крупную финансовую буржуазию. Кроме того, приятели сообщают Рафаэлю, что учреждается новая газета, в которую его хотят пригласить в качестве журналиста…
С одной стороны, Рафаэля давным-давно ищут, просто он об этом не знал. Однако осуществляется всё это потому, что теперь у него есть шагреневая кожа. А так бы они не встретились. Здесь присутствует, с одной стороны, естественная логика вещей, а, с другой, не будь шагреневой кожи, он бы бросился в Сену. Немного забегая вперёд скажу, что на этой оргии у Тайфера герой вдруг узнает, что к тому же ещё и сказочно богат. Оказывается, уже давным-давно скончался его родственник, оставив Рафаэлю наследство, о котором тот даже не подозревал. Не то, чтобы внезапно свалилось богатство, оно, оказывается, уже давно его ждало! И умрет Рафаэль вроде бы от чахотки, болезни, от которой в своё время ушла из жизни его мать, но одновременно его смерть будет вызвана шагреневой кожей. То есть у Бальзака сосуществуют одновременно две логики: с одной стороны – естественная логика событий, а с другой – логика, связанная с шагреневой кожей.
Итак, пир – третий эпизод. И здесь уже изображается настоящее. Вообще, в романе как бы присутствуют три времени. В первом случае, в игорном доме, акцентировалось будущее, там Рафаэль жил в ожидании выигрыша. В лавке антиквара – погрузился в прошлое, в давно ушедшие времена. Здесь же – это настоящее время. Оно настоящее в разных смыслах слова. В романе изображены как раз те события, которые произходили в тот момент во Франции, реальные события Июльской революции. Но, с другой стороны, тема настоящего у Бальзака имеет и иной смысл: жить стоит лишь настоящим мгновением. Эта позиция представлена в образах куртизанок Акилины и Евфрасии, которые убеждены, что жизнь, вообще-то, следует прожигать. Время – разрушительно, всё вокруг неизбежно обращается в прах и тлен, и потому они не желают думать о будущем, стараются жить лишь сегодняшним днем.
Кроме того, это пир. И в этой связи возникают реминисценции из романа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". Бальзак сознательно устанавливает эту связь. Это тоже пиршественные образы, которые, кстати, невероятно важны в книге Рабле. Здесь тоже огромную роль играет смех. Люди, которых изображает Бальзак, ни во что не верят, надо всем смеются… С этим связана ещё одна тема, которая получит развитие во многих других романах Бальзака. На пиру, который изображает Бальзак, собрались журналисты (организуется новая газета). И эти журналисты убеждены в том, что ни к чему не стоит относиться всерьёз. Они смеются над свободой и над деспотизмом, над религией и неверием, отечество для них – столица, где идеи обмениваются и продаются построчно. Они ни во что не верят, даже в саму свободу, ибо свобода в конце концов превратится в анархию, анархия приведёт к деспотизму, а деспотизм в конце концов снова обратит людей к необходимости добиваться разного рода свобод. Таков вечный круговорот истории…
Но есть принципиальное различие между героями Бальзака и героями Рабле. Те смеются, ощущая относительность всего на свете, но в смехе они как бы возвышаются над обыденностью. По мнению Рабле, это единственный способ приблизиться к истине. Всё, что нас окружает, относительно. Чтобы соприкоснуться с абсолютным, люди должны ощутить относительность всего преходящего. Бальзак же в эпизоде, изображающем пир, показывает, что вместо абсолюта у этих людей – ничто. Вместо Бога – дьявол. Здесь ни во что не верят. Такова оборотная сторона свободы.
Тема журналистики занимает важное место в творчестве Бальзака. Это некий символ… Рафаэлю предлагают написать разгромную статью, направленную против какого-то романа. Ему говорят: посмотрите, сколько там недостатков. И он действительно пишет искреннюю критику, отмечая все погрешности, которые встретились ему в этой книге. Но потом ему предлагают написать о той же самой книге статью хвалебную. Он даже не понимает сначала, как это? Ведь он только что её ругал. Но ему объясняют: надо взглянуть на книгу с другой стороны – в ней немало достоинств! И в обоих случаях Рафаэль пишет искренне: сперва ругает, потом хвалит, только цена этому одинаково ничтожная. Журнализм стал своего рода религией века, когда верить ни во что не нужно.
Вторая часть романа – это история Рафаэля, которую он рассказывает своему другу. Это история молодого человека, который во что бы то ни стало стремился развернуть заложенные в нём возможности. Мы не будем на этом останавливаться. Эта часть носит название "Женщина без сердца". Так сказано о Феодоре, в которую Рафаэль безнадежно влюбляется, хотя существовала в его жизни и другая девушка, Полина, в доме которой он жил и которая была им увлечена. Но Рафаэля привлекает именно Феодора, женщина без сердца. В дальнейшем Бальзак скажет о Феодоре: «если угодно, Феодора – это общество». Она очень холодна, не способна ни на какие чувства, но для Рафаэля она – воплощение его главных устремлений. Завоевать Феодору значит завоевать общество.
Однако Рафаэль терпит неудачу, и тогда ему не остается ничего иного, кроме как прожигать жизнь. Все деньги, полученные от отца, он растратил. У него остался один единственный луидор. Этим как бы завершается его рассказ. Но оказывается, Рафаэль сказочно богат. И наконец может получить всё, что только пожелает! Даже Феодору. Всё, о чём он мечтал когда-то, теперь в его руках. Но уже на пиру у Тайфера, глядя на шагреневую кожу, он отмечает, как заметно она сократилась. И теперь ему ничего уже не нужно. Он может всё, но не хочет ничего. Это один из парадоксов Бальзака: те, кто желают, не могут, а те, кто могут, утрачивают желания.
Это имеет определенные реальные аналогии, иногда так даже понимают сам образ шагреневой кожи, но это не совсем так. Скажем, герой Бальзака Гобсек, который провёл довольно бурно молодость, в конце концов пришёл к выводу, что есть единственная сила на свете – деньги. Он могуществен, один из самых богатых людей Парижа. Ему всё доступно. Он даже министрами может управлять… Что-то вроде того, что мы сегодня называем олигархом… Гобсек сказочно богат. Но он во всём себе отказывает, ибо единственное, чего он не может – это пожелать. Ему кажется, что с каждым осуществленным желанием иссякает его мощь. А мощь – это его деньги. Если их станет меньше, он лишится власти. А ему нужна власть, поэтому он живёт весьма скромно и наслаждается скорее самой возможностью мочь. Но было бы неправильным видеть в шагреневой коже лишь аналог богатства. Это только один из вариантов.
Существуют как бы два способа человеческого существования, об этом ещё на пиру рассуждал со своим другом Рафаэль: убить в себе все чувства и жить до старости или умереть молодым, приняв всю муку страстей. В одном из ранних своих произведений Бальзак так определял эту альтернативу: «жизнь в смерти» или «смерть в жизни». Либо жить с размахом, всё до конца растратить, либо во всём себе отказывать, продлевая собственное существование. Обе эти формулы представлены в романе разными героями. Феодора, антиквар – это люди, которые живут, отказывая себе в страстях. Акилина же и Евфрасия, наоборот, готовы прожигать жизнь: им плевать, что будет с ними завтра, они наслаждаются сегодняшним днем. Но обе эти крайности для Бальзака одинаково бессмысленны…
Теперь Рафаэль тоже может всё, но он во всём себя ограничивает. Единственное его желание теперь – это не высказывать никаких желаний. Он богат, у него особняк… Слуга готов предупредить любую его прихоть, но Рафаэль боится даже подумать о чём-либо. Он встречает Полину, которая когда-то его любила. Прежде она была бедной девушкой, теперь, кстати, тоже богата. Она по-прежнему испытывает к нему чувства, он тоже, кажется, любит её. Но он боится поддаться своей страсти. Шагреневая кожа сокращается.
Рафаэль пробует как-то её растянуть, но ничего не выходит. Он даже пытается от неё избавиться – кожа всё равно к нему возвращается. Решает в конце концов на какую-то минуту забыть о шагреневой коже, но она сама напоминает ему о себе. Он даже уезжает в деревню, поселяется в доме крестьянина, только бы продлить свою жизнь. А потом возвращается, в общем-то, к шагреневой коже. Он мог всё, но не пожелал ничего.
Завершается всё довольно печально… Полина, которая ради Рафаэля готова была пожертвовать жизнью, не хочет его видеть, запирается от него в комнате. Но, уже умирая, Рафаэль всё же врывается к ней. Однако, единственное, на что он оказывается в этот момент способен – это укусить её в грудь.
В романе «Шагреневая кожа» с очевидностью выступает миф о Фаусте. Я уже упоминал, какую роль в произведениях Бальзака играют мифологические мотивы. К чему стремился Фауст? Он хотел отыскать такое мгновение, которое бы позволило ему пережить всю возможную полноту бытия. Обрести прекрасное мгновение. – именно такую возможность предоставляет герою Бальзака шагреневая кожа.
Вообще, образ шагреневой кожи – наглядное выражение одной из закономерностей человеческой жизни. Жизнь коротка. Человек смертен. И проблема заключается в том, чтобы найти в своём существовании нечто такое, отыскать в себе такое желание, ради которого бы не жалко было отдать жизнь. Для Бальзака таковыми являются только творчество и любовь.
Его герой, получив в своё распоряжение чудодейственную шагреневую кожу, мог всё, Бальзак всячески это подчеркивает. Но Рафаэль не сумел найти стоящее желание. Вот Фауст нашёл, а Рафаэль не смог. Фауст именно этого искал. А герой Бальзака – нет. Он всецело был сосредоточен лишь на самом себе. Ему противостоит в этом смысле Полина, которая любила Рафаэля и готова была пожертвовать собой ради него. У неё нет ощущения бессмысленности бытия.
Рафаэль же не нашёл в своём существовании чего-то, что выходило бы за пределы его собственного эгоистического "я", а в таком случае всё бессмысленно. За каждое желание надо платить, а платить не за что… Он так и не сумел обрести желание, ради которого бы стоило жить.
Эта тема развивается и в романе Бальзака "Отец Горио", о котором уже шла речь. В нём тоже присутствуют черты фаустовского мифа. Растиньяк тоже обуреваем желаниями. Вначале он думает, что мог бы честным путем добиться богатства, положения в обществе. Но вскоре убеждается, что это не так. Нужно искать какие-то другие способы. Важную роль в его жизни в этот период играет каторжник Вотрен, который становится главным его наставником. Образ Вотрена довольно сложен, мы не будем подробно на этом останавливаться. С одной стороны, он бунтарь и чем–то напоминает разбойников Байрона. А с другой стороны, в нём ощутимы черты дьявола. Вотрен предлагает Растиньяку простой путь к достижению цели. В доме живет молодая девушка Викторина Тайфер, дочь банкира, который поместил её туда, объявив всем, что она якобы не родная. А на самом деле, банкир просто не хочет делить наследство между ней и её братом. И вот что предлагает Растиньяку Вотрен: он убьёт сына Тайфера, а Растиньяк женится на Викторине. Она станет единственной наследницей, и он добьётся своего.…
Богатство – единственное средство для того, чтобы что-то мочь. Правда, Вотрен уточняет: Растиньяку придётся с ним поделиться, отдать ему два миллиона, с которыми он отправится в Индостан. Но на самом деле ему не нужны миллионы, а нужно другое – душа Растиньяка. Он дьявол! Кстати, сравнение Вотрена с дьяволом в самом тексте встречается неоднократно. В других романах, к примеру, в "Утраченных иллюзиях" и "Блеске и нищете куртизанок" Вотрен попытается сыграть подобную роль в жизни другого героя – Люсьена де Рюбампре.
Растиньяк не даёт согласия на сделку. Но Вотрен ему объясняет: честным путем всё равно ничего не добиться. Для того, чтобы преуспеть – это подходящий способ. Надо только согласиться, делать ничего не придётся, ему не надо будет собственноручно совершать убийство, Вотрен всё сделает сам. И Растиньяк колеблется. Он даже начинает ухаживать за Викториной. Растиньяк кажется Викторине ангелом, а на самом деле, как замечает Бальзак, он "сверкает всеми цветами ада". Однако герой всё же не решается пойти за Вотреном, хотя тот и осуществит свой план… Через подставное лицо Вотрен всё же избавится от сына банкира Тайфера, и Викторина станет единственной наследницей его богатств.
Растиньяк выбирает другую дорогу. Надо сказать, не лучшую. Дело в том, что у него была ещё одна наставница, его кузина виконтесса де Босеан. Она предложила Растиньяку завязать роман с дочерью Горио Дельфиной де Нусинген, которая тоже мечтала о вершинах общества. Она – дочь простого вермишельщика, и хотя её муж – банкир, сама она не принята в свете. Но если у Растиньяка начнётся роман с Дельфиной, Виконтесса обещала ввести её в свой круг… Нельзя сказать, что Растиньяк нисколько не был увлечен Дельфиной, хотя с обеих сторон здесь присутствовал элемент корысти: Дельфина стремилась попасть в высшее общество, а он – получить возможность в дальнейшем, используя деньги её мужа, разбогатеть… К тому же Вотрена арестовывают, он попадает на каторгу…
Вообще, в истории Растиньяка присутствует тот же разрыв между «желать» и «мочь», что и в «Шагреневой коже». Растиньяк хорош, пока желает, но становится ужасен, как только получает возможность осуществить желаемое. Кроме того в романе присутствует мотив мифа о Фаусте. Только в первом случае соблазн в жизни героя представал в образе шагреневой кожи, а здесь принял облик маленького дьявола Вотрена, который испытывает молодого человека, пытается сбить его с пути. По его словам, добродетель не делится на кусочки, она требует или «да» или «нет». Но Растиньяк оказывается не способен сделать выбор. Он решает пойти путем компромисса…
В английской литературе развитие реализма связано с тем, что страна к тому времени была экономически самой развитой в Европе. Но одновременно Англия была куда более патриархальной, чем, скажем, Франция, которая пережила события Французской революции, Наполеоновской империи. В Англии же, несмотря на утверждавшийся капитализм, промышленный переворот, зарождающееся рабочее движение, всё ещё сохранялось куда больше патриархальных черт, чем где бы то ни было.
Самой яркой фигурой английского реализма был Чарльз Диккенс (1812 – 1870). Творчество Диккенса условно можно разделить на периоды. Роман, который принёс писателю мировую славу, – "Посмертные записки Пиквикского клуба" – был создан в 1836-1837 гг. Затем последовали "Приключения Оливера Твиста", «Николас Никльби», "Лавка древностей" и «Барнеби Радж». В 40-е годы были написаны "Рождественские рассказы" и два романа, которые занимают центральное место в творчестве Диккенса. Это "Домби и сын" и "Дэвид Копперфильд". В период после революции 1848-ого года были созданы социальные романы. Особенность их – в отказе от счастливых развязок, которые прежде были характерны для Диккенса. Это такие произведения, как "Холодный дом", "Тяжёлые времена", "Крошка Доррит". К позднему периоду творчества Диккенса относятся романы "Большие надежды", "Наш общий друг", "Тайна ".
Уже первый роман Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба" принёс писателю славу. Главные герои произведения – мистер Пиквик и его друзья – составляют своего рода клуб чудаков, путешествующих по «старой, доброй Англии» и наблюдающих её нравы. Вообще, образ чудака – один из важнейших в творчестве Диккенса. Он имеет и свои национальные корни, и свои исторические особенности; тема чудачества изначально присуща английскому фольклору, английской культуре. Англия – страна традиционная. Вплоть до настоящего времени здесь не существует собственно законов, а действуют прецеденты. И судят в Англии по сей день на основании именно прецедентов. Традиция играет необыкновенно важную роль. И в то же время Англия всегда была передовой… Она последовательно выступала за идею прав и свобод человека, больше, чем какая-либо другая европейская страна. Лондонский Гайд-парк, традиционное место политических собраний и митингов, – это чрезвычайно характерное английское явление. Но принцип «мой дом – моя крепость» – тоже чисто английский. Как и чудачество, глубоко национальное явление. Каждый вправе следовать собственным причудам. Чудачество – это как бы форма самоутверждения человека, его личной свободы…
Кроме того, это явление вообще свойственное эпохе Диккенса. Мы встречаемся с ним и у Гофмана. Что касается главных героев Диккенса, допустим мистера Пиквика и его друзей, – они просто ничего не умеют. Герои явно не в ладу с действительностью. И в общем-то, все они – неудачники: не умеют кататься на коньках, играть в карты, охотиться и так далее. Судебная тяжба, которую мистер Пиквик ведёт с мисс Томкинс, мечтающей, чтобы тот на ней женился, превращается во что-то непосильное, хотя никаких обещаний он ей не давал. Он просто беззащитен перед всем этим.
Но Диккенс ставит под сомнение саму норму успешности. Как раз именно непрактичность и чудачество его героев, их несовершенство и становятся свидетельством отсутствия в них дурных качеств. А что такое вообще умение? Это форма приспособления к миру. Уметь в современном мире – это значит обманывать, извлекать выгоду, уметь во всём исходить из своих собственных меркантильных интересов. Но герои Диккенса чисты, наивны и потому ничего не умеют. Их чудачество условно. Диккенс смеется над своими героями, но он их любит.
С образами чудаков связана ещё одна важная особенность произведений Диккенса – юмор. Иногда юмор противопоставляется сатире. Это имеет известные основания. Юмор – это что-то доброе, сатира скорее зла. Однако это не совсем справедливо. Потому что сатира – это способ изображения явления. А юмор – это отношение к миру. Мы можем сказать: «человек обладает чувством юмора», но нельзя сказать, что ему свойственно «чувство сатиры». Сатира это художественная форма, а юмор – черта мировосприятия. Отношение Диккенса к миру, особенно в ранний период, наполнено юмором.
Пожалуй, наиболее образное определение юмора дал немецкий романтик Жан-Поль. Юмор – это «птица, которая летит хвостом к небу». Она летит хвостом вверх, но всё-таки направленным к небу; отрывается от земли, но не теряет её из виду… Юмор, в сущности, – это ощущение несовершенства. Но в то же время и любовь к этому несовершенному миру, и самому человеку.
Вообще, "Пиквикский Клуб" – эпопея странствий. Её герои всё время путешествуют. Единственная статичная точка в романе – это усадьба мистера Уордла. И главная тема романа – это праздник. Где бы герои ни находились, они обязательно что-нибудь празднуют. Праздник – это всегда веселье. Диккенс говорит: "Человек создан смеяться, как баран блеять, свинья хрюкать, лошадь ржать, птичка петь". Смех – это выражение духовной свободы. А у Диккенса это ещё и праздничный смех. Его герои смеются и над миром, и над собой.
Со стороны кажется, что нет оснований для смеха, но все так хорошо друг к другу относятся, что любая шутка кажется уместной и остроумной. «А за другим столом весело шла некоммерческая игра; Изабелла Уордль и мистер Трандль объявили себя партнерами, то же сделали Эмили Уордль и мистер Снодграсс, и даже мистер Тапмен и незамужняя тетушка организовали акционерное общество фишек и любезностей. Мистер Уордль был в ударе, и так забавно вёл игру, а пожилые леди так зорко следили за своими выигрышами, что смех не смолкал за столом. Была тут одна пожилая леди, которой аккуратно каждую игру приходилось платить за полдюжины карт, что неизменно вызывало общий смех; а когда пожилая леди насупилась, раздался хохот, после чего лицо пожилой леди постепенно начало проясняться, и кончилось тем, что она захохотала громче всех. Затем, когда у незамужней тетушки оказался "марьяж" и юные леди снова расхохотались, незамужняя тетушка собиралась надуться, но, почувствовав, что мистер Тапмен пожимает ей руку под столом, тоже просияла и посмотрела столь многозначительно, словно для неё "марьяж" был не так недоступен, как думают некоторые особы. Тут все снова захохотали, и громче всех старый мистер Уордль, который наслаждался шуткой не меньше, чем молодежь». (ГЛАВА VI. Старомодная игра в карты. Стихи священника. Рассказ о возвращении каторжника). (450) Такова атмосфера «Пиквикского клуба».
Во второй части всё становится более серьезным. Мистер Пиквик оказывается в тюрьме. Но к нему приходят его друзья… И ощущение счастливого мира восстанавливается. Даже Джингль, который противопоставлял себя всем этим весельчакам, перевоспитывается и в конце концов тоже присоединяется к дружескому кругу мистера Пиквика.
Вообще самые любимые герои Диккенса – это чудаки и дети. В большинстве его романов обязательно присутствует тема ребёнка. И мне кажется, она имеет два важных аспекта. Во-первых, ребёнок – это как бы естественный человек, который оказывается в противоестественном мире. В XVIII веке в подобной роли выступал какой-нибудь дикарь или чужеземец, который попадал в мир цивилизованных людей… Это одна из центральных тем романов XVIII века. У Диккенса в этой роли выступает ребёнок.
Но тема ребёнка несёт в себе и другое. Дело в том, что критика буржуазной Англии в творчестве Диккенса носит иной характер, чем, скажем, у Бальзака. Диккенс резко выступает против философии прагматизма, которая как раз повсеместно начала утверждаться в его эпоху. Для Диккенса буржуазный мир – это желание из всего извлекать пользу, исключительно утилитарный подход к окружающему миру. Слово "прагматик" и теперь очень любят. А Диккенс его не любил. Так вот, отношение к ребёнку лишено прагматизма. От ребёнка никакой пользы нет. В отношениях с ребёнком надо отдавать, а не брать. И поэтому отношение к детям – это некоторое мерило отношения человека к миру людей вообще. Ребёнок, с одной стороны, – естественный человек, а, с другой, отношение к ребёнку – это и есть выражение человечности для Диккенса.
Первый роман Диккенса, в котором ребёнок становится главным героем, – "Приключения Оливера Твиста". В отличие от "Пиквикского клуба" здесь возникает резкий контраст между событиями фона и судьбой главного героя. Фон романа – это довольно жестокая действительность Англии, мир, в котором живёт маленький Оливер Твист. Вначале Диккенс изображает работный дом, потом – воровскую шайку Феджина, но, и это вообще характерно для раннего Диккенса, всё в итоге приходит к счастливой развязке. Для того чтобы составилось какое-то представление об этой стороне романа, приведу маленький фрагмент. Это изображение работного дома, в котором находится Оливер Твист. Дети здесь едва ли не голодают, но однажды Оливер решается попросить лишнюю порцию каши:
«Настал вечер; мальчики заняли свои места. Надзиратель в поварском наряде поместился у котла; его нищие помощницы расположились за его спиной. Каша была разлита по мискам. И длинная молитва была прочитана перед скудной едой. Каша исчезла; мальчики перешептывались друг с другом и подмигивали Оливеру, а ближайшие соседи подталкивали его. Он был совсем ребёнок, впал в отчаяние от голода и стал безрассудным от горя. Он встал из-за стола и, подойдя с миской и ложкой в руке к надзирателю, сказал, немножко испуганный своей дерзостью:
– Простите, сэр, я хочу ещё.
Надзиратель был дюжий, здоровый человек, однако он сильно побледнел. Остолбенев от изумления, он смотрел несколько секунд на маленького мятежника, а затем, ища поддержки, прислонился к котлу. Помощницы онемели от удивления, мальчики – от страха.
– Что такое?.. – слабым голосом произнёс, наконец, надзиратель.
– Простите, сэр, – повторил Оливер, – я хочу ещё.
Надзиратель ударил Оливера черпаком по голове, крепко схватил его за руки и завопил, призывая бидла.
Совет собрался на торжественное заседание, когда мистер Бамбл в великом волнении ворвался в комнату и, обращаясь к джентльмену, восседавшему в высоком кресле, сказал:
– Мистер Лимкинс, прошу прощенья, сэр! Оливер Твист попросил ещё каши!
Произошло всеобщее смятение. Лица у всех исказились от ужаса.
– Ещё каши?! – переспросил мистер Лимкинс. – Успокойтесь, Бамбл, и отвечайте мне вразумительно. Так ли я вас понял: он попросил ещё, после того как съел полагающийся ему ужин?
– Так оно и было, сэр, – ответил Бамбл.
– Этот мальчик кончит жизнь на виселице, – сказал джентльмен в белом жилете. – Я знаю: этот мальчик кончит жизнь на виселице.
Никто не опровергал пророчества джентльмена. Началось оживленное обсуждение. Было предписано немедленно отправить Оливера в заточение; а на следующее утро к воротам было приклеено объявление, что любому, кто пожелает освободить приход от Оливера Твиста, предлагается вознаграждение в пять фунтов. Иными словами, вознаграждение в пять фунтов и Оливер Твист были предложены любому мужчине или женщине, которые, занимаясь ремеслом, торговлей или чем-либо иным, нуждались в ученике». (Глава II повествует о том, как рос, воспитывался и как был вскормлен Оливер Твист). (451)
В этой сцене столкновение естественного стремления голодного ребёнка и равнодушного к нему мира выступает наиболее наглядно. Но у Диккенса, наряду с жестокими и бессердечными, всегда изображаются и добрые богачи, которые помогают главному герою. Диккенс верит, что возможен счастливый исход событий.
Поворотным моментом в творчестве писателя стала его поездка в Соединенные Штаты Америки. Раньше писателю казалось, что зло, которое он видел вокруг в современной ему Англии, связано с пережитками феодализма. Америка, которая не знала феодальных порядков, представлялась писателю некой идеальной страной. Но, оказавшись в Америке, он увидел то, чего не ожидал… Его, конечно, поразило рабство, которое в то время господствовало в стране. А кроме того, власть денег в Америке выступала даже в ещё более острой форме, чем в старой Европе. Всё это заставило Диккенса пересмотреть свои взгляды. От счастливых развязок он не отказался, но с тех пор стал придавать им иной, откровенно сказочный характер.
В этом смысле показательны "Рождественские рассказы". Они занимают центральное место в творчестве Диккенса. Это очень важный момент. Вообще, в Западной Европе всегда в большей степени, чем в России, почитали Рождество. Наиболее важным религиозным праздником в России и по сей день остается Пасха. Рождество у нас как-то скомкано уже по той простой причине, что оно не может следовать за Новым годом. Оно должно ему предшествовать. Новый год начинается после рождения Христа. И елку нужно ставить под Рождество. А у нас её ставят накануне Нового года, а потом она доживает до Рождества. Но и вообще России присуще скорее пасхальное сознание…
Для Диккенса Рождество – это необыкновенно важный праздник. "Это единственный день в календаре целого года, – говорил Диккенс, – когда все люди становятся как бы братьями, независимо от того, к каким социальным кругам они относятся". В «Пиквикском клубе» каждый день был праздником, а здесь это уже «единственный день в календаре целого года»…
В романе важна сама атмосфера Рождества. Люди собираются в теплой, светлой комнате, где рассказываются рождественские истории. Это рождественская ночь, между прочим. За окном темно, холодно. А в комнате топят, чувствуется домашний уют. В доме всегда уютно, когда на улице плохая погода. Диккенс вообще великий поэт дома. Эта его особенность проявилась уже в «Рождественских повестях». Дом для Диккенса – это не четыре стены и крыша, а некоторое внутреннее пространство. Человек должен иметь дом. Кстати, у Пушкина в "Медном всаднике" этот мотив главный: «Где же дом?» Дом героя уничтожен наводнением. Но как жить без дома? Для Диккенса чрезвычайно существенно ощущение этого малого мира.
Повесть Диккенса "Рождественская песнь в прозе" (1843) можно считать своего рода прологом к роману "Домби и Сын". Главный её герой – мрачный скряга Эбенезер Скрудж. У капиталиста Скруджа был компаньон, которого звали Джейкоб Марли. Он скончался в сочельник несколько лет назад, и теперь Скруджа занимает один-единственный вопрос: раньше его контора называлась "Скрудж и Марли", а теперь, когда нет больше Марли, неизвестно, как должно звучать её название. Никаких иных чувств, тем более – горя, он не испытывает.
О Скрудже сказано так: «Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать». (Строфа первая). (452)
Главная особенность его натуры – холодность. Это сказывается даже во внешнем облике. Он старик. «Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса…». С самого начала в тексте звучат такие сказочные мотивы. Вообще, от Скруджа исходит холод. Даже летом в его конторе ощущается стужа. И никто никогда не смеет обратиться к её владельцу. Ни единая душа никогда не спросит у Скруджа даже о том, как куда-нибудь пройти.
У Скруджа есть племянник. Он беден и весел. От него будто пышет жаром. Кроме того, он женат, что особенно возмущает Скруджа. Не имея дохода, он посмел жениться. И еще у Скруджа есть клерк Боб Крэтчит, – единственный человек, который работал на Скруджа и мог вынести все его нападки. Скрудж очень удивлен тем, что Боб Крэтчит ещё толкует о празднике. Какой праздник, если ты нищий! Боб очень привязан к своим многочисленным детям, особенно к маленькому сыну-калеке по имени Тим, относится к мальчику с огромным сочувствием и любовью, в то время как Скрудж считает, что бедняки вообще не должны жить, а больные – тем более. Чего о нём заботиться?
И вот в Рождественскую ночь происходит своего рода перерождение Скруджа. Ему являются святочные духи. Дух Прошлых лет напоминает Скруджу, каким он был в детстве и юности. Он был беден и добр, а богатство погубило его. Оно убило в нём все живые, естественные чувства. Скрудж вспоминает времена, когда он увлекался сказками, любил читать "Робинзона Крузо". Тогда он ещё был полон надежд и восторга и с радостью разделял их с близкими. В юности у него даже была невеста. Но он оставил её ради денег. Деньги вытеснили всё. Всё омертвили. Эти воспоминания пробудили в герое ощущение настоящих, подлинных ценностей человеческой жизни.
Второй дух – дух Рождества, дух Святок. С его помощью во сне Скрудж совершает прогулку по городу: видит украшенные к празднику улицы, нарядных радостных людей. Затем он наведывается в дом своего служащего Боба Крэтчита. Он видит бедность, но в то же время мир счастья, веселья, доброжелательности, заботы друг о друге. Предмет всеобщей любви здесь – малютка Тим. Но затем дух сообщает Скруджу, что Тим вскоре может умереть, если только «будущее не внесёт в это своих изменений», и эта весть почему-то приводит его в необыкновенное смятение.
Наконец Скруджу является третий святочный дух – это дух будущего, который должен открыть ему, что ждёт впереди. Проследовав за ним, Скрудж очутился на бирже, где знакомые ему люди говорили о смерти какого-то злобного скряги. Дрожь охватила Скруджа от головы до пят: этим скрягой был он. Весть о кончине Скруджа вызвала на бирже волнение. Но никто не горевал лично о нём, не вспоминал ни одним добрым словом, лишь должники радовались, что его больше нет на свете.
И вот под влиянием всего пережитого, неожиданных впечатлений этой необычной Рождественской ночи Скрудж меняется. Он вдруг решает отправиться на праздник в дом своего клерка Боба Крэтчита. Приносит индейку в качестве рождественского подарка семейству. И с радостью узнаёт, что малютка Тим жив. Именно Тим пробуждает во всех вокруг человечность. И даже в самом Скрудже. Я уже говорил, что больше всего Диккенса тревожило прагматичное, утилитарное отношение к людям. От Тима никакой пользы нет. У него нечего взять, ему можно только отдать. Когда речь идёт о калеке, это выступает с особой очевидностью. Диккенс использует в этой повести все атрибуты сказки. Скрудж преображается. И завершается всё весьма благополучно. Скрудж превращается в такого доброго друга, такого доброго хозяина, такого доброго человека, какие бывали только в старое доброе время, в старой доброй стране, в одном старом добром городе. Диккенс подчеркивает, что этот счастливый финал носит сугубо сказочный характер. Такое сочетание реализма и поэтики сказки составит позже важную особенность самого значительного романа Диккенса "Домби и сын".
«Домби и сын» (1846 —1848) – центральное произведение Диккенса. Собственно, «Домби и сын» – это название частной торговой фирмы, отсюда полное название книги «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт». (453)
Мистер Домби является хозяином этой фирмы, а сын… К сожалению, у него есть только дочь, и поэтому название не отвечает реальности. «В этих трёх словах заключался смысл всей жизни мистера Домби. Земля была создана для Домби и Сына, дабы они могли вести на ней торговые дела, а солнце и луна были созданы, чтобы озарять их своим светом… Реки и моря были сотворены для плавания их судов; радуга сулила им хорошую погоду; ветер благоприятствовал или противился их предприятиям; звёзды и планеты двигались по своим орбитам, дабы сохранить нерушимой систему, в центре коей были они. Обычные сокращения обрели новый смысл и относились только к ним: A. D. отнюдь не означало anno Domini {В лето [от рождества] господня (лат.).}, но символизировало anno Dombei {В лето [от рождества] Домби (лат.).} и Сына». (Глава I. Домби и сын).
Но вот наконец-то жена мистера Домби рожает наследника, и фирма «Домби и сын» обретает реальные основания носить такое название. В один момент совершаются два важнейших таинства: рождается ребёнок и от родов умирает мать. Эти события описываются в первой главе.
Однако мистер Домби не понимает глубинного значения этих таинств, для него рождение сына – это только появление фактического основания для того, чтобы фирма называлась «Домби и сын». Что касается смерти жены, «утверждать, что мистер Домби не был по-своему опечален этим сообщением, значило бы отнестись к нему несправедливо. Он был не из тех, о ком можно с правом сказать, что этот человек бывал когда-нибудь испуган или потрясён; но несомненно он чувствовал, что, если жена заболеет и зачахнет, он будет очень огорчен и обнаружит среди своего столового серебра, мебели и прочих домашних вещей отсутствие некоего предмета, которым весьма стоило обладать и потеря коего не может не вызвать искреннего сожаления. Однако это было бы, разумеется, холодное, деловое, приличествующее джентльмену, сдержанное сожаление». (Глава I. Домби и сын).
Главное она выполнила – родила наследника.
К дочери Флоренс мистер Домби всегда оставался абсолютно равнодушен. «Но что такое девочка для Домби и Сына? В капитале, коим являлись название и честь фирмы, этот ребёнок был фальшивой монетой, которую нельзя вложить в дело, – мальчиком ни на что не годным, – и только». (Глава I. Домби и сын).
Важнейший мотив, который связан с образом мистера Домби – это мотив холода. Он очень холоден, у него ледяное дыхание. Вообще, Диккенс и в этом романе во многом близок к поэтике сказки. Вот как он описывает крестины Поля, маленького сына мистера Домби: «После новой ледяной паузы маленькая прислужница, страдающая одышкой, чьё место на кладбище, а не в церкви, предложила подойти к купели. Ей пришлось немного подождать, пока участники брачной церемонии записывали имена. А тем временем сопящая маленькая прислужница отчасти из-за своей болезни, а отчасти из-за того, что участники мрачной церемонии уже забыли о ней, ходила по церкви. Сама свадьба, которая здесь была, казалась печальной. Невеста была слишком стара, жених слишком молод. Одноглазый, одряхлевший щёголь в монокле, вставленном вместо второго глаза, исполнял роль посаженного отца, в то время, как друзья дрожали от холода». (Глава I. Домби и сын).
Книга, в которой ведутся записи брачных церемоний и крестин, полна также записей о похоронах. Сама обстановка: «высокие, покрытые чехлами кафедра и аналой, угрюмый ряд пустых фамильных мест, тянувшихся под галереями, и пустые скамьи на галереях, поднимавшиеся к потолку и терявшиеся в тени большого мрачного органа; пыльные половики и холодные каменные плиты; унылые скамейки в приделах и сырой угол, где висела веревка от колокола, где были свалены черные козлы, употребляемые при похоронах, а также лопаты, корзины и свернутая кольцом зловещая веревка; странный, непривычный, раздражающий запах и мертвенный свет – все гармонировало между собою. Холодная и печальная картина». (Глава V. Рост, и крестины Поля).
Даже в купели, в которой крестят маленького Поля Домби, необычайно холодная вода, и мальчик, конечно же, схватывает простуду. Наконец священник «подошёл с кувшином теплой воды и, выливая её в купель, пробормотал, что здесь слишком холодно; впрочем, не хватило бы и миллиона галлонов кипятку, чтобы там стало теплее. Затем молодой священник, приветливый и кроткий, явно побаивавшийся младенца, появился, словно главный герой в рассказе с привидениями, – «высокая фигура, вся в белом», при виде коей Поль огласил церковь воплями и не умолкал до тех пор, пока его не вынули с почерневшим лицом из купели». Но и дома его окружает тот же холод.
« – Мистер Джон, – сказал мистер Домби, – будьте любезны занять место в том конце стола. Что у вас там, мистер Джон?
– У меня холодная телячья нога, сэр, – отозвался мистер Чик, усердно растирая окоченевшие руки. – А что у вас, сэр?
– Мне кажется, – отвечал мистер Домби, – у меня холодная телячья голова, затем холодная птица… ветчина… пирожки… салат… омары. Мисс Токс окажет мне честь и выпьет вина? <…> Вино оказалось таким нестерпимо холодным, что у мисс Токс вырвался тихий писк, который ей большого труда стоило превратить в «гм». Телятину принесли из такого ледяного чулана, что первый же кусок вызвал у мистера Чика ощущение, словно у него леденеют руки и ноги». (Глава V. Рост и крестины Поля).
Как видите, мотив холода пронизывает всё повествование. Этот холод исходит от самого мистера Домби. В его доме мальчик всё время замерзает.
У мистера Домби есть управляющий Джеймс Каркер. Если мистера Домби всегда сопровождает холод, то в образе Каркера подчёркнута другая выдающаяся деталь – зубы. «Мистер Каркер совершал в течение дня великое множество дел и давил своими зубами великое множество идей – в конторе, во дворе, на улице, на бирже зубы блестели и торчали устрашающе. Подошёл шестой час, и зубы мистера Кархена, взобравшись на лошадь, направились в путь». Это тоже устойчивый мотив в этом романе. Но главную роль, конечно, играет мотив холода.
Что такое этот холод? С одной стороны – это выражение бессердечия мистера Домби, его холодного, равнодушного отношения к миру и людям. Он признаёт только деловые, денежные отношения, никакие чувства ему не знакомы. Когда он нанимает кормилицу для своего новорожденного сына, он её предупреждает: «…Я желаю, чтобы это было принято во внимание при оплате. Затем, Ричардс, если вы будете ходить за моим осиротевшим ребёнком, я хочу, чтобы вы запомнили следующее: вы будете получать щедрое вознаграждение за исполнение некоторых обязанностей, причём я желаю, чтобы в течение этого времени вы как можно реже видели свою семью. Когда минует надобность в ваших услугах, когда вы перестанете их оказывать и не будете больше получать жалованье, всякие отношения между нами прекращаются. Вы меня понимаете?
Миссис Тудль как будто сомневалась в этом; что же касается до самого Тудля, то, очевидно, он нисколько не сомневался в том, что ничего не понимает.
– У вас у самой есть дети, – сказал мистер Домби. – В наш договор отнюдь не входит, что вы должны привязаться к моему ребёнку или что мой ребёнок должен привязаться к вам. Я не жду и не требую чего-либо в этом роде. Как раз наоборот. Когда вы отсюда уйдете, вы расторгнете отношения, которые являются всего-навсего договором о купле-продаже, о найме, и устранитесь. Ребёнок перестанет вспоминать о вас; и вы будьте так добры не вспоминайте о ребёнке». (Глава II, в которой своевременно принимаются меры по случаю неожиданного стечения обстоятельств, возникающих иногда в самых благополучных семействах).
Всё сводится к договору о найме, никаких эмоций здесь и быть не может.
Однако мотив холода имеет в романе и другой очень важный смысл. Первая часть книги посвящена судьбе сына мистера Домби маленького Поля. Этот мальчик прожил недолго и умер ребёнком, поэтому надежды мистера Домби на то, что в лице сына он приобретёт наследника фирмы, рухнули.
Почему умирает маленький Поль Домби? Потому что живое не может расти в подобной атмосфере. Холод – это нечто чуждое, враждебное жизни.
Холод преследует мальчика не только дома, но и в школе, в которую он был отдан отцом. Первая школа, в которую он попал, принадлежала миссис Пипчин:
«Эта знаменитая миссис Пипчин была удивительно некрасивая, зловредная старая леди, сутулая, с лицом пятнистым, как плохой мрамор, с крючковатым носом и жёсткими серыми глазами, по которым, казалось, можно было бить молотом как по наковальне, не нанося им никакого ущерба. По крайней мере сорок лет прошло с тех пор, как Перуанские копи свели в могилу мистера Пипчина, однако вдова его всё ещё носила чёрный бомбазин такого тусклого, густого, мёртвого и мрачного тона, что даже газ не мог её осветить с наступлением темноты, и присутствие её действовало как гаситель на все свечи, сколько бы их ни было. Все её называли «превосходной воспитательницей»; а тайна её воспитания заключалась в том, чтобы давать детям все, чего они не любят, и не давать того, что они любят: нашли, что этот прием оказывает чрезвычайно благотворное воздействие на их нравы. Она была такой злющей старой леди, что был соблазн предположить, не произошла ли какая-то ошибка в применении перуанских насосов, и не из копей, а из неё были выкачаны досуха все воды радости и млеко человеческой нежности.
Замок этой людоедки и укротительницы детей находился в крутом переулке Брайтона, где почва была ещё более, чем в других местах, кремнистой и бесплодной, а дома – ещё более, чем в других местах, ветхими и жалкими; где маленькие палисадники отличались необъяснимым свойством не рождать ничего, кроме ноготков, что бы ни было там посеяно, и где улитки постоянно присасывались к парадным дверям и другим местам, которые им не полагалось украшать, с цепкостью медицинских банок». (Глава VIII. Дальнейшее развитие, рост и характер Поля).
В доме миссис Пипчин ничего не растёт. Тот же холод наполняет всё вокруг. Естественно, что маленький Поль не смог здесь жить.
Вторая школа, в которой оказался мальчик, принадлежала мистеру Блимберу. О Блимбере в романе сказано, что у него была лысина. Но не просто лысина, а точно отполированная голова, на которой не росло ни единого волоска. Его дочь мисс Блимбер, главная воспитательница Поля, «усохла и покрылась песком, раскапывая могилы мёртвых языков. Живые языки не нужны мисс Блимбер. Они должны быть мёртвыми – безнадежно мёртвыми, – а тогда мисс Блимбер выроет их из могилы, как вампир». (Глава XI. Выступление Поля на новой сцене). У мисс Блимбер была холодная маленькая гостиная, где не было камина, но мисс Блимбер никогда не испытывала холода, и ей никогда не хотелось спать. В этом мертвящем холоде не могла развиваться молодая жизнь, и потому смерть маленького Поля Домби стала неминуемой.
Диккенс старается показать, и в этом отличие его произведений, скажем, от романов Бальзака, не столько власть денег, сколько бессилие их перед живой жизнью.
Маленький Домби спрашивает у отца:
– Папа, что такое деньги?
Мистер Домби очень рад этому вопросу своего сына и объясняет ему, какая великая сила заключена в деньгах. Но маленький Поль Домби говорит:
– Какая же это великая сила? Ведь они не спасли мою мать? Если я всё время хвораю и болею, значит, они не главное? Они не дали жизнь ни мне, ни моей матери.
Однако наряду с миром холода в романе Диккенса представлен и другой мир – это мир Соломона Джилса, одного из диккенсовских чудаков. Кстати, важную роль здесь играет также образ друга Джилса капитана в отставке Катля. Это тоже тип чудака, у которого есть одна особенность, для Диккенса это важный момент, – у него нет руки. Вместо руки у капитана жестяной крючок. Если в мире мистера Домби всё живое превращается в мёртвое, то у Катля, наоборот, мёртвое превращается в живое. Хотя у него есть вторая, вполне обычная рука, он именно этой жестяной рукой пожимает руку мистеру Домби, посылает воздушный поцелуй Флоранс, и вообще этот крючок приобретает какое-то удивительное обаяние, хотя, на самом деле это всего лишь кусок металла. Вещи точно одушевляются его теплом и чудачеством.
Он хочет подарить Полю свои старые часы:
«Капитан тотчас увлёк Уолтера в уголок и с великим усилием, от коего лицо у него очень раскраснелось, вытащил серебряные часы, которые были так велики и так плотно засунуты в карман, что выскочили оттуда как пробка.– Уольр, – сказал капитан, протягивая их и сердечно пожимая ему руку, – прощальный подарок, мой мальчик. Переводите их на полчаса назад каждое утро и примерно на четверть часа вечером, и вы будете гордиться этими часами.– Капитан Катль! Я не могу их принять! – вскричал Уолтер, удерживая его, ибо тот хотел убежать. – Пожалуйста, возьмите их. У меня есть часы.– В таком случае, Уольр, – сказал капитан, внезапно засунув руку в один из карманов и вытащив две чайных ложки и щипцы для сахара, которыми он вооружился на случай такого отказа, – возьмите вместо них вот эту мелочь из столового серебра.– Нет, право же, не могу! – воскликнул Уолтер. – Тысячу раз благодарю! Не выбрасывайте их, капитан Катль! – Ибо капитан собирался швырнуть их за борт. – Вам они пригодятся гораздо больше, чем мне. Дайте мне вашу трость. Я часто подумывал, что хорошо бы иметь такую. Ну, вот! Прощайте, капитан Катль! Берегите дядю! Дядя Соль, да благословит вас бог!» (Глава XIX. Уолтер уезжает).
Здесь, наоборот, любая, даже самая незначительная вещь, наполнена живым теплом.
Ещё один важный образ в романе – Тутс, с которым учился маленький Домби в школе Блимбера. Тутс – жертва школьного образования. Об этом герое сказано, что он стал терять мозги, как только у него начали расти усы. Когда умирает маленький Поль Домби, он решает навестить его сестру Флоренс, чтобы выразить ей своё сочувствие. На примере этого эпизода мы видим, что такое мир диккенсовских чудаков. «Мистер Тутс – не было на свете человека лучше его, хотя, быть может, нашлось бы несколько голов более ясных, – заботливо придумал эту длинную речь с целью доставить облегчение как Флоренс, так и самому себе. Но, обнаружив, что промотал своё имущество, в сущности, неразумно, расточив всё сразу, прежде чем он сел на стул, и прежде чем Флоренс вымолвила слово, и даже прежде чем сам он переступил через порог, он счёл уместным начать сначала.– Как поживаете, мисс Домби? – сказал мистер Тутс. – Я здоров, благодарю вас; как ваше здоровье? Флоренс подала ему руку и сказала, что хорошо себя чувствует. – Я себя чувствую прекрасно, – сказал мистер Тутс, садясь. – Да, я прекрасно себя чувствую. Не помню, – сказал мистер Тутс, минутку подумав, – чтобы я когда-нибудь чувствовал себя лучше; благодарю вас. – Очень мило, что вы пришли, – сказала Флоренс, принимаясь за свое рукоделие. – Я очень рада вас видеть. Мистер Тутс отвечал хихиканьем. Подумав, что это может показаться слишком развязным, он заменил его вздохом. Подумав, что это может показаться слишком меланхолическим, он заменил его хихиканьем. Не совсем довольный как тем, так и другим, он засопел. – Вы были очень добры к моему дорогому брату, – сказала Флоренс, в свою очередь повинуясь естественному желанию выручить его этим замечанием. – Он часто рассказывал мне о вас. – О, это не имеет никакого значения, – поспешно сказал мистер Тутс. – Тепло, не правда ли? – Прекрасная погода, – отвечала Флоренс. – Мне она по душе! – сказал мистер Тутс. – Вряд ли я когда-нибудь чувствовал себя так хорошо, как сейчас; очень вам благодарен.Сообщив об этом любопытном и неожиданном факте, мистер Тутс провалился в глубокий кладезь молчания. – Кажется, вы расстались с доктором Блимбером? – сказала Флоренс, помогая ему выкарабкаться. – Надеюсь, – ответил мистер Тутс. И снова полетел вниз. Он пребывал на дне, по-видимому захлебнувшись, по крайней мере десять минут. По истечении этого срока он вдруг всплыл на поверхность и сказал: Ну, всего хорошего, мисс Домби. – Вы уходите? – спросила Флоренс, вставая.– Впрочем, не знаю. Нет, ещё не сейчас, – сказал мистер Тутс, совершенно неожиданно усаживаясь снова. – Дело в том… видите ли, мисс Домби!. .– Говорите со мной смелее, – с тихой улыбкой сказала Флоренс, – я была бы очень рада, если бы вы поговорили о моем брате. – В самом деле? – отозвался мистер Тутс, и каждая чёрточка его лица, в общем не слишком выразительного, дышала сочувствием. – Бедняга Домби! Право же, я никогда не думал, что Берджесу и Ко – это модные портные (но очень дорогие), о которых нам случалось беседовать, – придётся шить это платье для такого случая. – Мистер Тутс был в трауре. – Бедняга Домби! Послушайте! Мисс Домби! – выпалил Тутс. – Что? – отозвалась Флоренс. – Есть один друг, к которому он последнее время был очень привязан. Я подумал, что, может быть, вам приятно было бы получить его как некий сувенир. Вы помните, как он вспоминал о Диогене? – О да! Да! – воскликнула Флоренс.– Бедняга Домби! Я тоже помню, – сказал мистер Тутс.При виде плачущей Флоренс мистеру Тутсу великого труда стоило перейти к следующему пункту, и он чуть было не свалился опять в колодезь. Но хихиканье помогло ему удержаться у самого края. – Видите ли, – продолжал он, – мисс Домби! Я бы мог украсть его за десять шиллингов, если бы они его не отдали, и я бы украл, но, кажется, они рады были от него избавиться. Если вы хотите его взять, он у двери. Я нарочно привёз его к вам. Это, знаете ли, не комнатная собачка, – сказал мистер Тутс, – но вы ничего против не имеете, правда?» (Глава XVIII. Отец и дочь).
Тутс – один из любимых героев Диккенса. Умом он не вышел, но у него чрезвычайно доброе сердце, а это самое главное для Диккенса. Все его чудаки плохо ладят с окружающим миром, все они не устроены в жизни. Но это добрые герои Диккенса.
Описание холода, сами образы школ, в которых учился маленький Поль Домби – всё это создано далеко не в реалистической манере. Это во многом напоминает сказку, но сказка у Диккенса как бы пронизывает сам стиль романа. Это художественный приём, позволяющий особым образом представить ту или иную жизненную ситуацию. Скажем, у Гофмана сказочность пронизывает самое существо его произведений, а у Диккенса это скорее стиль. С помощью поэтики сказки он пытается изобразить проблемы современной ему, реальной действительности. Но в то же время сказка пронизывает и саму структуру его романа.
Собственно главной героиней является Флоренс, хотя книга и называется «Домби и сын». Но истинная её тема – Домби и дочь…
После смерти маленького Поля мистер Домби решает вновь жениться. Его второй женой становится Эдит. Домби считал, что достаточно богат и может позволить себе не интересоваться чувствами женщины, которая вступает с ним в брак. Это лишнее. Но отношения со второй женой складываются очень сложно, она не выдерживает жизни в мире мистера Домби и решает бежать от него.
Я не буду рассказывать обо всех сложных сюжетных перипетиях. Важно, что существовал всё же один-единственный человек, которому мистер Домби доверял. Вообще, он признавал только деловые отношения, чувства считал выдумкой. Поэтому единственным человеком, которого он уважал, которому мог довериться, был его управляющий – мистер Каркер. Домби считал, что их отношения держатся на той самой основе, на которой только и могут строиться человеческие отношения – на выгоде. Домби ему хорошо платит и убеждён, что это обеспечивает надежность. Поэтому мистер Домби верил мистеру Каркеру. Но Джеймс Каркер был влюблён в Эдит, и именно он предложил ей бежать. Она его не любила, даже презирала, но нуждалась в помощи. Однако управляющий не только помог Эдит бежать от мужа, а ещё и разорил мистера Домби. Он готов был присвоить себе все его богатства. Но в конце концов мистер Каркер бросился под поезд и погиб.
Вообще, Эдит хорошо относилась к Флоренс, но мистер Домби всячески препятствовал их сближению. Флоренс всегда любила отца и пыталась найти с ним общий язык, особенно после смерти маленького брата. Но когда она узнала, что мистера Домби бросила жена и он пребывает в растерянности, потому что не ожидал такого поступка от Эдит, Флоренс «внезапно поддалась порыву любви», «всегда такой робкой, но сейчас, когда отца постигло несчастье, смелой и неудержимой». «Флоренс, не сняв шали и шляпы, сбежала вниз. Когда её легкие шаги раздались в холле, он вышел из своей комнаты. Она бросилась к нему, простирая руки и восклицая: «О папа, милый папа!» – словно хотела обвить руками его шею.
Это она бы и сделала. Но в безумии своем он злобно поднял руку и ударил её наотмашь с такою силой, что она пошатнулась, едва не упав на мраморный пол. И, нанеся этот удар, он ей крикнул, кто такая Эдит, и приказал идти к ней, раз они всегда были в союзе против него». (Глава XLV. Доверенное лицо).
Флоренс покинула дом мистера Домби навсегда. Вначале она жила у мистера Джюса. Уолтер Гей в это время совершал путешествие. Думали, что он утонул, но всё обошлось: он вернулся разбогатевшим и женился на Флоренс. К отцу она больше не приходила. Но с мистером Домби произошли большие перемены. «Он вспоминал, какою она была во время всевозможных событий, происходивших в покинутом доме. Он думал о том, что из всех, кто его окружал, она одна никогда не изменялась. Его сын в могиле, его надменная жена стала нечистой тварью, его льстивый друг оказался гнусным негодяем, его богатства растаяли, даже стены, в которых он искал убежища, смотрели на него как на чужого; она одна обращала на него всё тот же кроткий, ласковый взгляд. Да, до самой последней минуты! Она не изменялась в своем отношении к нему так же, как и он в своём отношении к ней, и она была потеряна для него.
По мере того как одна за другою исчезали словно дым его надежды – надежды, возлагавшиеся на малютку-сына, на жену, друга, богатство, – о, как рассеивался туман, сквозь который он её видел, и как вырисовывалось перед ним подлинное её лицо! О, оно вырисовывалось перед ним гораздо яснее, чем мысль о том, что он любил её так же, как и сына, потерял её так же, как потерял сына, и похоронил их обоих в безвременной могиле!
В своей гордыне – гордым он всё ещё оставался – он спокойно наблюдал, как светское общество покинуло его. Когда это случилось, он сам отшатнулся от общества. Подмечал ли он в нём жалость к себе или равнодушие, всё равно он его сторонился. Так или иначе, но общества следовало избегать. Он не знал ни единого человека, который был бы готов помочь ему в несчастье, кроме той, кого он выгнал». (Глава LIX. Возмездие).
Но Флоранс не было рядом, она была далеко.
И вот в один из дней, когда мистер Домби был уже близок к самоубийству, в его доме вновь появилась Флоренс. Она вернулась в Англию, узнала о несчастии отца и пришла, чтобы ему помочь. «– О, не смотрите на меня так странно, дорогой папа! Я никогда не хотела покидать вас. Я никогда об этом не думала ни раньше, ни после. Я просто была испугана, когда ушла, и не могла думать. Папа, дорогой, я изменилась. Я раскаиваюсь! Я знаю свою вину. Теперь я лучше понимаю свой долг. Папа, не отталкивайте меня, иначе я умру!
Шатаясь, он добрался до своего кресла. Он почувствовал – она обвила его руки вокруг своей шеи; он почувствовал – она сама обвила руками его шею; он почувствовал на лице её поцелуи; он почувствовал – её влажная щека прижалась к его щеке; он понял – о, с какой ясностью! – всё, что он сделал! К той груди, которой он нанёс удар, к сердцу, которое он почти разбил, она притянула его лицо, закрытое руками, и сказала сквозь рыдания:
– Папа, дорогой, я – мать! У меня есть ребенок, который скоро будет называть Уолтера так, как называю вас я. Когда он родился и я поняла, как он мне дорог, – тогда я поняла, что я сделала, покинув вас. Простите меня, дорогой папа! О, благословите меня и моего малютку!
Он бы это сделал, если бы мог. Он хотел воздеть руки и молить ее о прощении, но она быстро схватила его за руки и опустила их.
– Мой малютка родился на море, папа. Я молила бога сохранить мне жизнь, и Уолтер молился за меня, чтобы я могла вернуться на родину. Как только я сошла на берег, я вернулась к вам. Мы больше никогда не расстанемся, папа. Никогда не расстанемся! Его голову, теперь седую, поддерживала её рука, и он застонал, подумав о том, что никогда ещё его голова не покоилась на этой руке.
– Вы поедете ко мне, папа, увидите моего малютку. Это мальчик, папа. Его зовут Поль. Я думаю… я надеюсь… он похож…
Слёзы помешали ей договорить.– Дорогой папа, ради ребёнка, ради того, чье имя мы ему дали, ради меня простите Уолтера! Он так добр и ласков ко мне. Я так счастлива с ним. Он не был виноват в том, что мы поженились. Это была моя вина. Я так его любила.
Она теснее прижалась к нему и заговорила ещё нежнее, ещё более возбужденно:
– Я горячо люблю его, папа. Я готова умереть за него. Он будет любить и почитать вас так же, как и я. Мы научим нашего малютку любить и почитать вас; и мы скажем ему, когда он сможет это понять, что у вас был сын, которого звали Полем, что он умер и для вас это было тяжким горем, но что теперь он на небе, и все мы надеемся увидеться с ним, когда и для нас настанет время умереть. Поцелуйте меня, папа, в знак того, что вы помиритесь с Уолтером, с моим дорогим мужем, с отцом ребёнка, с тем, кто научил меня вернуться к вам! Научил меня вернуться к вам!
Когда она, снова залившись слезами, ещё теснее прижалась к нему, он поцеловал её в губы и, подняв глаза к небу, сказал: «О, боже, прости меня, ибо прощение нужно мне больше всего!» С этими словами он снова опустил голову и плакал над Флоренс и ласкал её, и долго-долго в доме стояла глубокая тишина. Они обнимали друг друга в сиянии солнечного света, проникшего вместе с Флоренс». (Глава LIX. Возмездие).
В дальнейшем происходит настоящее преображение мистера Домби. Он потерял богатство, но обрёл дочь. Он становится добрым дедушкой, теперь самая сильная его привязанность – это внуки. У Флоренс рождается сын, которому дают имя Поль, и маленькая дочь, которую зовут Флоренс. Но больше всего мистер Домби теперь любит не мальчика, а внучку.
«Но никто, кроме Флоренс, не знает о том, как велика любовь седого джентльмена к девочке. Об этом слухи не распространяются. Сама малютка иногда удивляется, почему он это скрывает. Он лелеет девочку в сердце своём. Он не может видеть её личико затуманенным. Он не может вынести, когда она сидит в сторонке. Ему чудится, что она считает себя заброшенной, хотя, конечно, это не так. Крадучись он идёт посмотреть на неё, когда она засыпает… Ему доставляет удовольствие, когда она по утрам приходит будить его. С какой-то особенной нежностью он ласкает её и целует, когда они остаются вдвоём. Девочка спрашивает иногда:
– Милый дедушка, почему ты плачешь, когда целуешь меня?
Он отвечает только: «Маленькая Флоренс! Маленькая Флоренс!» – и приглаживает кудри, затеняющие её серьезные глаза». (Глава LXII. Заключительная).
Так завершается этот роман.
Можно установить связь образа мистера Домби и с шекспировским королем Лиром, и с бальзаковским отцом Горио. Но у Горио было две дочери – старшая и средняя, и не было младшей, Корделии. А в романе Диккенса как раз нет старших дочерей, а есть младшая, которую он не любил и прогнал и которая вернулась к нему в самый трудный момент, когда он был уже близок к смерти. Однако это всё-таки не развитие шекспировского сюжета, а скорее вариант английской сказки, которая, кстати, в какой-то мере, легла и в основу шекспировской трагедии. В этой сказке король прогоняет свою любящую дочь, но она возвращается к нему в трудную минуту, и всё завершается счастливой развязкой. У Шекспира Лир не обрёл Корделию, было уже слишком поздно. А в романе Диккенса всё кончается, как в сказке. Недаром мистер Домби так привязывается к своей маленькой внучке. Диккенс не скрывает условной сказочности подобного финала. Флоренс в его романе – типично сказочная героиня.
Что лежит в основе такой сказочности у Диккенса? Конечно, он понимает, что в жизни так не бывает. И откровенно сказочный вариант развязки лишь показывает, насколько это далеко от реальной действительности. Диккенс не выдаёт финал своего романа за реальность, и мы чувствуем сказочность в самой художественной ткани произведения. Писатель достаточно трезво оценивает жизнь и понимает, что в действительности перемены в человеке, подобные преображению мистера Домби, маловероятны. Тому, что они произошли, способствовал реальный фактор: герой разорился, его обманули. Всё это, конечно, сыграло определённую роль в его нравственном преображении. Но Диккенс подчёркивает, что в его романе – сказочный исход, поскольку у сказки всегда хороший конец. Мистер Домби понял, что в жизни главное не деньги, а любовь. Недаром в финале он так полюбил свою маленькую внучку, девочку Флоренс.
Обращение Диккенса к сказке связано не только с необходимостью подчеркнуть, насколько то, о чём он пишет, нереально. Сказка – это, конечно, вымысел. Но в то же время именно в сказке, по убеждению Диккенса, находит своё выражение нечто чудесное, отражается истинная глубина жизни.
Литература второй половины XIX века
Поворотным моментом в истории европейской культуры середины XIX века стали революционные события 1848-го года, приведшие к политической реставрации буржуазных порядков. На этом, собственно, завершается романтическая Европа. Недаром писатели-реалисты начала и первой половины девятнадцатого столетия, такие как Стендаль, Бальзак, Диккенс, относили себя к романтикам. Хотя, конечно, таковыми они не являлись, но они ещё верили в возможность идеального бытия. Вообще, до 1848-го года ещё жила вера в то, что буржуазная демократия может нести с собой некую общественную справедливость. Эта вера в середине века рухнула.
Буржуазия больше не стоит во главе демократического движения в Европе, она стремится к стабилизации. Вроде бы всё спокойно, и можно рассчитывать на экономическое процветание, умножать капиталы, обогащаться. Но вот только идеалы следует отбросить. Это был первый подобный кризис. Правда, сама вера в идеальное общество не исчезает, её подхватывают социалистические и коммунистические движения, но в буржуазно-демократических кругах она рушится окончательно, и в этом смысле события 1848-го года стали поворотными. Эти события произвели большое впечатление на Флобера, на Герцена. Буржуазная республика расстреляла рабочие демонстрации, а потом отказалась и от части демократических свобод, поддержала режим Наполеона III, который совершил 2 декабря 1851 года фактически государственный переворот. Возникла Вторая империя, последовал период бонапартистской диктатуры во Франции, продлившийся с 1852 по 1870 годы.
Наиболее ярким автором, выразившим это новое мироощущение, был французский писатель Густав Флобер. Он родился в 1821 году в городе Руане, в семье известного врача. Интерес отца к науке передался и сыну, который поражал современников поистине энциклопедическими знаниями.
Флобер окончил Руанский лицей, а затем поступил в Парижский университет на юридический факультет. Но уже в 1844 году бросил учение и целиком посвятил себя литературе. Большую часть своей жизни Флобер прожил в маленьком родительском имении Круассе близ Руана. Флобера называли отшельником искусства. Он жил на ренту, которую оставил ему отец. Почти не выезжал из Круассе, лишь дважды совершил путешествия на Ближний Восток, что нашло отражение в его романе «Саламбо». Изредка наведывался в Париж. Умер Флобер в 1880 году.
Вся жизнь Флобера – это неустанный писательский труд. У него не оставалось времени даже на любовные связи, потому что нужно было писать. А зачем? Это сложный вопрос. Литература его не кормила, произведений он создал очень мало, хотя работал с утра до ночи. Флобером было написано всего три романа – «Госпожа Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств» и ещёё несколько рассказов. Над «Госпожой Бовари» он работал в течение 7 лет, «Саламбо» писал 7 лет, «Воспитанием чувств» – 20 лет. Флобер не стремился к литературной славе. К примеру, Бальзак писал много, но ему нужны были деньги, чтобы расплатиться с долгами, а кроме того, не давала покоя честолюбивая идея создания огромного романного цикла. Это был грандиозный замысел «Человеческой комедии». А Флоберу ничего подобного не было нужно: «Я не соловей, а славка с пронзительным голосом, которая прячется в лесной чаще, чтобы её не слышал никто, кроме неё самой. … Я пишу для себя, для себя одного, как курю или сплю». (Gustav Flober. Letters 1830-1855).
Давайте попытаемся понять, чем было для Флобера творчество, почему он так долго и мучительно работал над каждым словом и, в сущности, посвятил литературному труду всю свою жизнь? Прежде всего, Флобер резко отрицательно относился к установившемуся в его эпоху общественному порядку. Ему принадлежит знаменитая фраза: «89-ый год сокрушил королевскую власть и аристократию…». Это сказано о Великой Французской революции. «…48-ой год – буржуазию…». В 48-51 годах буржуазия, правда, не была сокрушена в буквальном смысле слова, но она утратила прежний моральный авторитет, отказалась от общественных идеалов. Французскую республику возглавил племянник Наполеона Бонапарта – Луи Наполеон, принявший имя императора Наполеона III. Французское крестьянство, в котором ещё жила вера в идеи его великого дяди, наряду с армией поддержало Наполеона III, и это помогло утверждению режима Второй империи. Но для Флобера это означало крах народа. «…51-ый год сокрушил – народ», – писал он. Из всего происшедшего Флобер делает вывод: «Не осталось ничего, кроме подлой и низкой черни, нас всех пришибло до уровня всеобщей посредственности. Республиканцы, реакционеры, синие, трёхцветные – все соперничают в своей глупости. Предоставив Империи идти своим путём, закроем двери, заберёмся как можно выше на башню из слоновой кости, на самую последнюю ступеньку, поближе к небу. Там порой холодно. Но… зато звёзды светят ярче, и не слышишь дураков…»
«Буржуа» для Флобера не столько социальная, сколько моральная характеристика. Вообще, для французского общественного сознания понятие «буржуа» созвучно русскому «мещанин». Окружающая действительность вызывала у Флобера отвращение. «Ненавижу стадность, устав, общий уровень. Жизнь мне омерзела до глубины души, вот моё исповедание веры. Все превратились в идиотов, мы слишком погрязли в материальном, надо вернуться к великим традициям и не придавать такого большого значения благополучию и деньгам. Всё превращается лишь в комбинацию хорошо сбалансированных экономических интересов, к чему тут добродетель. <…> Нам расхваливают материальное благополучие современного мира, бросая на прошлое взор величайшего сострадания. Мы принимаем вид превосходства, мы чванимся своим чистым бельем и благоустроенными домами, которые, увы, более пусты, чем обветшалые восточные караван-сараи, развалившиеся, с разгуливающим под ним ветром. Пустыми домами, в которых мы живём одни без богов и без фей, без прошлого и без будущего, без гордости наших предков, без религиозной надежды на дальнейшие времена, без славы, без герба у наших дверей и без распятия у нашего изголовья». Окружающая действительность вызывает лишь всплески неприязни, которые душат писателя: «Дерьмо подходит к горлу, как при ущемляющей грыже. Существует настоящий заговор против оригинального, всё, что надо зарубить себе на носу, – чем ты ярче и своеобразнее, тем хуже тебя встречает публика».
В этот период в Европе впервые возникает явление, которое принято называть массовой культурой. Это затронуло и литературу. Книгоиздательство превращается в форму бизнеса. Но то, что нравится широкому читателю, не нравится Флоберу. Иногда он бывал несправедлив в этом своём неприятии. Например, крайне отрицательно отнёсся к романам Дюма. Но его слова, адресованные Дюма, точны по отношению к массовой культуре. Откуда такой сказочный успех произведений Дюма? Флобер так это объясняет: «Просто, чтобы читать его романы, не надо никакой подготовки. Их фабула занимательна, а пока читаешь – развлекаешься».
Кстати, о своём романе «Госпожа Бовари» Флобер мог бы сказать словами братьев Гонкур, написавших в предисловии к «Жермини Ласерте…»: «Читатели любят лживые романы – этот роман правдив. Они любят книги, притязающие на великосветскость,– эта книга пришла с улицы. Они любят игривые безделушки, воспоминания проституток, постельные исповеди, пакостную эротику, сплетню, которая задирает юбки в витринах книжных магазинов, – то, что они прочтут здесь, сурово и чисто. <…> Читатели также любят книги утешительные и болеутоляющие, приключения с хорошим концом, вымыслы, способствующие хорошему пищеварению и душевному равновесию, – эта книга, печальная и мучительная, нарушит их привычки и повредит здоровью».
Флобер находится в резком конфликте с окружающим его миром. «Я пишу для двенадцати-пятнадцати человек», – признается он. Но что значит для него литература? Флобер уподобляет свой труд деятельности естествоиспытателя. К написанию книг, считает он, надо относиться, как относится к своим исследованиям ученый. Бальзак тоже называл себя доктором социальных наук и историком Франции. Но для Флобера образцом является именно естествоиспытатель, а не историк и не социолог. Почему? Потому что все социально-исторические понятия оценочны, независимо от того, хочет ли автор вложить в них свою оценку того или иного явления или нет. Если он говорит «монархия», то либо он сторонник монархии, либо её противник. Он неизбежно выражает какую-то позицию, его слово всё равно не может не нести в себе оценки. Естествоиспытатель же ничего не оценивает. Подсчёт ножек у сороконожки ничего не значит. Хорошо это или плохо? 40 ножек – это 40 ножек и всё. Понятия не несут никаких оценок, это не мировоззрение. Нам не приходит в голову спрашивать естествоиспытателя, как он относится к объекту своих исследований, – он лишь констатирует факт. Не следует задаваться вопросом, который часто задают историки, ставят в своих произведениях писатели, смысловой вопрос – зачем? Максимум, это вопрос – почему? Есть некие закономерности природы, которые подлежат изучению. Наука XIX века верила в эти закономерности. «Нечего требовать апельсинов от яблонь, солнца от Франции, любви от женщины, счастья от жизни…» (Gustav Flober. Letters 1830-1855).
Флобер стремится к объективности. Это одна из главных теоретических предпосылок его творчества – создание теории объективного романа. И первое, основное её положение: стремление относиться ко всему с позиций учёного, не задавать никаких смысловых вопросов, а лишь пытаться объяснить, как объясняет предмет своего исследования учёный. Для этого следует исключить из художественного произведения авторское начало, как бы убрать из него автора. В каком смысле? В том, в каком учёный старается максимально исключить себя из своего исследования. Всякий субъективный подход в науке не хорош, ученый должен объективно отображать факты. Отчасти это связано с теорией Флобера о научном, исследовательском романе, утверждением, что к людям следует подходить с тех же самых позиций, с каких исследователь рассматривает, к примеру, насекомых.
Однако вопрос имеет и другую составляющую. Конечно, нельзя исключить автора из художественного произведения, он ведь его писал. Автор выступает и как компонент самого художественного текста. Скажем, в произведениях романтиков образ автора очень важен. Возьмем, к примеру, роман Гюго «Собор Парижской Богоматери» – там масса авторских отступлений. У Стендаля и Бальзака это, может быть, выражено в меньшей степени, но мы тоже всегда чувствуем присутствие в тексте автора, особо воспринимаем авторское слово, которое не равно слову героя.
Так вот… Флобер прежде всего хочет убрать из повествования этот элемент авторского слова. Не должно ощущаться авторского присутствия, автор только показывает, а не оценивает. Но вместе с тем он необыкновенно высоко поднимает фигуру автора. Дело в том, что Флобер, с одной стороны, хочет создать научный роман, а с другой – видит задачу искусства в создании прекрасного. В этом, может быть, главное его назначение. Но прекрасное – это не содержание, а форма. Важно не «что», а «как» изображено. В произведениях Флобера необыкновенно весомую роль играет форма. Не важен объект изображения. Птица в клетке может быть не менее интересным предметом, чем люди в тюрьмах. Не левкои, и не розы сами по себе привлекают наше внимание – интересен способ их изображения. Главное – это форма, важно не «что», а «как».
Но что такое «форма» для Флобера? Прежде всего, форма произведения это и есть выражение присутствия в нем автора. Форма есть воплощенная авторская идея. В некотором смысле автор играет роль Господа Бога. Творец не может пребывать внутри созданного им мира, он всегда вне его. Так же и автор. Он всегда как бы вне своего произведения. И форма – это единственный способ выражения авторской мысли, поскольку никаких оценок быть не должно.
Флобер высоко ценил творчество Бальзака, но считал, что его романы следовало бы переписать – слишком они небрежны. Сам Флобер работал над словом необыкновенно тщательно и долго. Бальзак писал быстро, «Отец Горио» был создан им за полтора месяца, а позже Бальзак вообще стал диктовать свои книги. Флобер же писал годами, над каждой страницей трудился по несколько месяцев…
Он вообще считал, что до него прозы во Франции не существовало. Флобер хотел невозможного: чтобы проза создавалась, как стихи. В стихах, особенно классического стиля, каждое слово незаменимо. Если вы поставите на место одного слова другое, стих разрушится. Поэтому в стихе есть некоторая абсолютность слова, особенно если соблюдается строгая форма. Но даже если нет, то всё равно каждое слово в стихотворении – единственное, другое не подойдёт. Причем оно должно действовать не только своей смысловой стороной, но и звуковой. Так вот, Флобер хотел писать прозу, как пишут стихи. На его странице ни одно слово не было случайным. Но одно дело – писать таким образом стихотворение, а другое дело – роман. Конечно, Флобер работал над страницей очень долго. Он искал каждый раз единственное подходящее слово. В русском переводе это в каком-то смысле пропадает, но что-то важное всё равно сохраняется.
Почему он придавал такое большое значение форме? Приведу одно рассуждение Флобера: «В это трезвое время я должен затвориться в мастерской, шлифовать фразы и искать удовлетворение своему честолюбию в сочетании анализа и портрета, искать новые формы выражения чувства, делая вид, что я считаю сами чувства чем-то второстепенным. На самом деле, я не верю, что в искусстве есть что-то внешнее. Помню, как у меня забилось сердце, когда я увидел стену Акрополя, совершенно голую стену, слева, когда поднимаешься к Пропилеям, и я подумал: может ли книга, независимо от того, о чём она написана, произвести такое же впечатление? <…> Я не ремесленник, заботящийся о форме, я скорее – мистик. Обращаясь к форме, разгорается моя фантазия».
Не случайно поэты воспринимали рождение стиха как проявление божественного вдохновения. Только поэты, кстати. Прозаикам подобное никогда в голову не приходило. А поэтам казалось, что они творят что-то абсолютное. В этом проявлялось нечто, превосходящее человеческие возможности. Флобер тоже стремится создать нечто прекрасное, совершенное и таким образом приблизиться к абсолюту. Не в содержании, а именно в форме.
Искусство должно заменить ему Бога. «Мы, писатели, – …садовники, выращиваем цветы из выставленных напоказ горестей. Факт, преломленный в форму, возносится ввысь как чистый фимиам духа, к вечному, неколебимому, идеальному, абсолютному». Известно, что Флобер не был глубоко религиозным человеком. Он говорил: «Скука при жизни, могила после смерти и гниение вместо вечности. Я не знаю, в глубине души, может быть, я ни во что не верю, а может быть, я – мистик». Ему кажется, что благодаря форме он приобщается к чему-то, что превосходит доступные человеку измерения. Искусство для него – это не путь к Богу, а некое его замещение. Даже если Бога нет, существует нечто высшее, некий абсолют, ощущение которого дает художнику искусство.
Флобер признавался: когда он пишет, его преследует вкус плесени, кажется, что вокруг сырость и ползают мокрицы, и при этом он стремился создать прекрасное, совершенное художественное произведение. В этом заключается главный парадокс и загадка творчества Флобера.
Над романом «Госпожа Бовари» Флобер работал в течение семи лет и завершил его в 1856-м году. Книга писалась в эпоху Второй империи при Наполеоне III, но действие её разворачивается в тридцатые годы XIX века. Флобер не случайно обращается в своём произведении к тридцатым годам – он хочет по-новому представить те проблемы, которые изображал Бальзак в «Человеческой комедии». Роман Флобера носит подзаголовок «Провинциальные нравы». С этого я хочу начать.
Тема контраста Парижа и провинции играла важную роль в литературе первой половины XIX века. Скажем, первая часть романа «Красное и чёрное» Стендаля – это тоже изображение провинции, вторая часть представляет Париж. В «Человеческой комедии» есть два специальных раздела – «Провинциальные нравы» и «Парижские нравы», любимые герои Бальзака – это обычно молодые провинциалы, которых влечёт столица. Таков, например, Растиньяк и многие другие. Героям Бальзака и Стендаля просто необходим парижский опыт. Без этого они не могут понять мир, узнать жизнь по-настоящему. Жизнь в провинции даёт множество ложных представлений. Для того чтобы стать вровень со своим веком, им необходима столица: «Хочешь узнать Францию, приезжай в Париж».
Роман «Госпожа Бовари» – это во многом роман о падении Парижа. Главная его героиня Эмма Бовари тоже мечтает о столице. Она покупает карты Парижа, знает, какие пьесы идут в парижских театрах. Но не так трудно добраться до Париж,а а она никогда там не была. Это нечто вроде «Трёх сестер» Чехова, где героини мечтали о Москве. В своё время даже шутили, что «Три сестры» – пьеса о проблеме железнодорожного билета. Купили бы билеты на поезд и поехали. Но та Москва, в которую рвались чеховские сестры, это не реальный город, как и тот Париж, о котором грезит Эмма. Даже когда она видит рыбаков, которые направляются в Париж, она не может мысленно проследить их путь до конца, в какой-то момент воображаемая нить обрывается. Когда Леон уезжает в Париж, он пропадает как бы навсегда. Никаких вестей от него нет, ни письма – ничего.
Действие романа разворачивается в двух маленьких городках. Один, Тост, существует на самом деле. Второго нет на географической карте. Это город, который придумал Флобер: Ионвиль, своего рода символ провинции. Здесь происходят главные события романа. Ещё один реальный город, который изображен Флобером, – это Руан. В руанском монастыре училась Эмма, в руанской газете печатает свои заметки аптекарь Оме, в Руан Эмма приезжает на свидания с Леоном. Есть только одна дорога в пространстве романа – это дорога на Руан.
Немного забегаю вперёд… Когда Эмма переживает роман с Рудольфом, она мечтает отправиться с ним в дальние страны, даже покупает чемоданы и всё необходимое для поездки. Но Рудольф никуда ехать не собирается и сообщает ей об этом в письме. А потом Эмма случайно слышит, что он всё же куда-то уезжает. А куда ? В Руан. Других дорог нет.
Флобер точно хочет сказать своему читателю: чтобы узнать, что такое нынешняя Франция, не обязательно ехать в Париж. Достаточно побывать в провинции, в какой-нибудь маленьком городке, потому что вся французская жизнь стала провинциальной. Вместо Парижа Ионвиль – таково новое ощущение времени.
Но, кроме того, это и изменение масштабов. И это ещё одна важная тема романа Флобера. Это изменение масштабов осознавали все современники писателя. Великого Наполеона сменил его племянник Наполеон III, который казался пародией на знаменитого императора. Недаром Гюго, который написал памфлет против Наполеона III, назвал его «Наполеон маленький». Карл Маркс свою известную работу «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», посвящённую перевороту 2 декабря 1851 года, начинает такими словами: «Гегель замечает где-то, что все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй – как фарс».
Так вот, Флобер пишет фарсовый роман о мире, в котором на смену великому Парижу пришел маленький провинциальный Ионвиль. С этим связан и выбор героев. Главная героиня – отдельный вопрос, к нему мы ещё вернёмся. А вот об одном из персонажей второго плана хочу сказать несколько слов. У него нет особой сюжетной роли в романе, но он играет важную смысловую роль. Это аптекарь Оме. На примере этого образа показан крах просветительских идей. Оме заявляет, что стоит за бессмертные принципы 89-го года, что его Бог – это бог Сократа и Франклина. Он – борец с церквью, апологет науки и просвещения. Противостояние аптекаря с аббатом Бурнизьеном в романе – это пародия на борьбу великого просветителя Вольтера с клирикальной властью. Своим детям Оме дал громкие имена, одного назвав Наполеоном, другого – Франклином. Писатель утверждает: история движется от Наполеона Бонапарта к Наполеону Оме. К концу романа Оме расстается со своими просветительскими убеждениями, и завершается всё тем, что аптекарь удостаивается ордена Почетного Легиона. Флобер показывает измельчение, крушение идей просвещения.
Что такое провинциальные нравы, что вообще для Флобера значит тема провинции? Прежде всего провинция – это особое пространство и особое время. Я уже говорил, что в романе изображено пространство, в котором существует одна-единственная дорога – дорога, ведущая в Руан, центр этого ограниченного, замкнутого мира. Дальше Руана здесь никто уехать не может. Всё остальное, включая Париж, призрачно. Это мечта, не говоря уже о дальних странах, о которых грезит главная героиня романа Эмма. Что касается времени – это тоже особое, монотонно текущее, механически размеренное время. Один день здесь, как две капли, воды похож на другой. «Значит, так они и будут идти чередою, эти однообразные, неисчислимые, ничего с собой не несущие дни? Другие тоже скучно живут, но всё-таки у них есть хоть какая-нибудь надежда на перемену. Иной раз какое-нибудь неожиданное происшествие влечёт за собой бесконечные перипетии, и декорация меняется. Но с нею ничего не может случиться – так, видно, судил ей бог! Будущее представлялось ей тёмным коридором, упирающимся в наглухо запертую дверь». <…> Каждый день в один и тот же час открывал ставни на своих окнах учитель в чёрной шёлковой шапочке; с саблею на боку шествовал полевой сторож. Утром и вечером через улицу проходили почтовые лошади – их гнали по три в ряд к пруду на водопой. Время от времени на двери кабачка звенел колокольчик, в ветреные дни дребезжали державшиеся на железных прутьях медные тазики, которые заменяли парикмахеру вывеску». (Глава 9) (454)
Это время, не несущее никаких перемен, никаких скрытых возможностей. Здесь, собственно, ничего и не происходит. Конечно, в жизни Эммы порой случаются какие-то события, но они подобны камню, брошенному в стоячие воды пруда, – сперва идут круги, а потом всё успокаивается и снова возвращается в прежнее состояние.
Большинство героев романа вполне умещаются в рамках этого ограниченного пространства и монотонно текущего времени. Единственная героиня, которая тоскует и не может с смириться с данностью – это Эмма Бовари. Остальным даже такое ограниченное пространство слишком велико. Они обходятся меньшим. Вот, к примеру, Шарль Бовари, о котором в романе сказано: «Это была натура уравновешенная: на переменах он играл, в положенные часы готовил уроки, в классе слушал, в дортуаре хорошо спал, в столовой хорошо ел». Важно следующее: Шарль делает лишь то, что диктуется окружающим пространством, ничего другого ему и не нужно, он всегда вписан в заданные рамки.
Или аптекарь Оме. Он неотделим от аптеки, и, кажется, всегда несёт её в себе, мы это чувствуем. Он – фармацевт и говорит аптечными терминами. Так же и аббат Бурнизьен всегда несёт в себе церковь. Когда в финале романа они оба сидят возле постели умирающей Эммы Бовари, они то и дело засыпают, ссорятся, но когда просыпаются, то один каждый раз поливает комнату хлором, а другой кропит святой водой. Где Бурнизьен – там церковь, где Оме – там аптека. Даже смерть Эммы ничего не меняет в их мире. Они остаются верны тому пространству, частью которого являются. Или, скажем, герой, который сыграет дурную роль в жизни Бовари, торговец Лере. Он фактически её разорил, что стало одной из причин её самоубийства. Но он – разъездной торговец, где Лере, там лавка. Мы не видим его вне этой лавки, без неё Лере точно не существует.
В образе Эмма Бовари представлен крах романтических идей. Это героиня, которая наиболее близка самому Флоберу. Он признавался, что сам принадлежит к романтическому поколению, и очень мучительно переживал уход романтической эпохи в прошлое.
Большое влияние на Флобера оказал роман Сервантеса «Дон Кихот». Он необыкновенно высоко ценил эту книгу и считал, что ничего более великого не было и нет в истории мировой литературы. В какой-то мере «Госпожа Бовари» продолжает тему «Дон Кихота». Вообще «Дон Кихот» открывает собой важную эпоху в истории литературы, которая просуществовала очень долго, и только, может быть, совсем недавно завершилась. Это эпоха особого отношения к книге. Эпоха читателя, для которого книга воплощает собой некий идеальный мир. Человек читает книги, а потом пытается осуществить в жизни то, о чём в этих книгах написано.
С «Дон Кихота» Сервантеса начинается эпоха восприятия книги как некоего идеального мира, без которого жить невозможно. Скажем, пушкинская Татьяна обожает героинь «своих возлюбленных творцов» – Клариссу, Юлию. Она живёт этими книгами.
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты…
(«Евгений Онегин», X).
Героиня Флобера тоже живёт романами. Не случайно автор придаёт такое огромное значение книгам, которые она читает. Когда Эмма была пансионеркой монастыря, она читала очень много. И подобно Дон Кихоту, она тоже любила рыцарскую литературу: «Пятнадцатилетняя Эмма целых полгода дышала этой пылью старинных книгохранилищ».
«Там было всё про любовь, там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединённых беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слёзы и поцелуи, челны, озаренные лунным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как львы, кроткие, как агнцы, добродетельные донельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые, как урны <…> Позднее Вальтер Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить хижинами поселян, парадными залами и менестрелями. Ей хотелось жить в старинном замке и проводить время по примеру дам, носивших длинные корсажи и, облокотясь на каменный подоконник, опершись головой на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем. В ту пору она преклонялась перед Марией Стюарт и обожала всех прославленных и несчастных женщин… – все они, точно кометы, выступали перед ней из непроглядной тьмы времен…» (Глава 6).
Эмма представляет себе жизнь по аналогии с написанным в романах. И так же, как Дон Кихот, пытается осуществить идеи этих романов в действительности. Контраст между реальной жизнью и книжной, главная тема Сервантеса, продолжается у Флобера. Недаром он так высоко ценил Сервантеса. Но дело не только в этом. Герои Стендаля и Бальзака тоже, в общем-то, живут представлением о том, что существует некий идеальный мир. По-настоящему эта вера закончилась совсем недавно, лишь в наши дни. «Дон Кихот» сегодня – мёртвая книга, к ней уже никто не обращается. Вообще мало читают, но если и читают, то не Сервантеса…
Роман Флобера делится на три части, и это своего рода три больших круга жизни Эммы Бовари. Внутри них существуют ещё малые круги… Но мы начнём с трёх главных. Недаром Флобер разделил роман на три части. Первый круг связан с Шарлем Бовари, за которого Эмма вышла замуж. Она представляет Шарля по образцу тех героев, о которых читала в книгах. Возможно, Шарль был единственным мужчиной в жизни Эммы, который по-настоящему её любил. Но он менее всего походил на романтического героя.
И всё же, следуя мудрым с её точки зрения правилам, Эмма старалась уверить себя в том, что и сама любит мужа. «В саду при лунном свете она читала ему все стихи о любви, какие только знала на память, и со вздохами пела унылые адажио, но это и её самое ничуть не волновало, и у Шарля не вызывало прилива нежности, не потрясало его.
Наконец Эмма убедилась, что ей не высечь ни искры огня из своего сердца, да к тому же она была неспособна понять то, чего не испытывала сама, поверить в то, что не укладывалось в установленную форму, и ей легко удалось внушить себе, что в чувстве Шарля нет ничего необыкновенного. Проявления этого чувства он определенным образом упорядочил – он ласкал её в известные часы. Это стало как бы одной из его привычек, чем-то вроде десерта, который заранее предвкушают, сидя за однообразным обедом». (Глава 7).
Итак, первое разочарование Эммы – это разочарование в Шарле. Он никак не отвечал тем представлениям о романтической любви и романтических героях, которые она вынесла из книг. Когда они с Шарлем покидают Тост, Эмма сжигает остатки своего свадебного букета. Этим завершается первый круг её жизни. Но для романтического сознания разочарование в муже ещё не так страшно, поскольку можно найти любовь и вне брака. Кстати, на этом построены очень популярные романы Жорж Санд.
Во второй части романа Эмма снова влюбляется. Чувства к Леону носят сугубо платонический характер. Эмма представляет себя гётевской Лоттой, Леона – Вертером, что тоже вполне соответствует определенным литературным образцам. Но в центре второго круга жизни Эммы стоят другие отношения – это её роман с Родольфом. «Родольфу Буланже исполнилось тридцать четыре года; у этого грубого по натуре и проницательного человека в прошлом было много романов, и женщин он знал хорошо. Г-жа Бовари ему приглянулась, и теперь он всё думал о ней и о её муже.
"По-моему, он очень глуп… Она, наверно, тяготится им. Ногти у него грязные, он по три дня не бреется. Пока он разъезжает по больным, она штопает ему носки. И как же ей скучно! Хочется жить в городе, каждый вечер танцевать польку. Бедная девочка! Она задыхается без любви, как рыба без воды на кухонном столе. Два-три комплимента, и она будет вас обожать, ручаюсь! Она будет с вами нежна! Обворожительна!.. Да, а как потом от неё отделаться?" (Глава 7).
Когда Эмма становится его любовницей, как она это воспринимает? «"У меня есть любовник! Любовник!" – повторяла она, радуясь этой мысли, точно вновь наступившей зрелости. Значит, у неё будет теперь трепет счастья, радость любви, которую она уже перестала ждать. Перед ней открывалась область чудесного, где властвуют страсть, восторг, исступление. Лазоревая бесконечность окружала её; мысль её прозревала искрящиеся вершины чувства, а жизнь обыденная виднелась лишь где-то глубоко внизу, между высотами.
Ей припомнились героини прочитанных книг, и ликующий хор неверных жён "запел в её памяти родными, завораживающими голосами. Теперь она сама вступала в круг этих вымыслов как его единственно живая часть и убеждалась, что отныне она тоже являет собою образ влюблённой женщины». (Глава 9).
Итак, она снова уподобляет себя неким литературным образцам. Как только начался роман с Родольфом, Эмме сразу же вспомнились все книжные героини, которые тоже изменяли мужьям, имели любовников и в любви находили некое высшее счастье.
Надо сказать, Эмма искренне переживает любовное чувство. Но у неё масса иллюзий. Как полагается романтической героине, она готова порвать с мужем, уехать в какую-нибудь далекую страну, где она могла бы быть счастлива со своим возлюбленным. Родольф не знает, как от неё избавиться. Он соглашается уехать с Эммой, но в последнюю минуту решает ей написать. Как он пишет это письмо? У него хранилось множество любовных посланий, которые писали ему женщины. Он достает эти письма и начинает выбирать из них фразы, которые можно было бы включить в письмо, обращенное к Эмме. И вроде бы неплохо получилось. А в заключение, вспомнив, что надо бы прослезиться, он даже капнул воды на листок, чтобы возникло пятно. Таким он и отправил Эмме это письмо. Так завершился второй круг её жизни – попытка романтического бытия.
Третий круг – третья часть романа. Эмма заболела. Между прочим, она действительно, испытывала к Родольфу сильные чувства. Рудольф прекрасно владел романтическими штампами и поэтому вполне соответствовал тем представлениям о романтическом герое, которые сложились у Эммы под влиянием прочитанных книг. Леону это не давалось, а вот Родольф это умел. И Эмма очень тяжело пережила разрыв с ним. В третьей части она случайно встречает Леона, который вернулся из Парижа и поступил на службу в мотель. У неё начинается роман с Леоном – это третий её роман. Но этот роман Эммы уже лишён тех иллюзий, которые питали её чувства к Рудольфу. Набрасывая письма к Леону, «она видела перед собой другого человека – призрак, созданный из самых жарких её воспоминаний, самых прекрасных книг, самых мощных желаний». Она чувствует, что сама себя обманывает. Прежде Эмма верила, а здесь обман проникает в самую суть её отношений с Леоном. Конечно, она вынуждена скрывать эту связь: отправляясь на свидания с Леоном, говорит мужу, что берёт уроки музыки. Но теперь она не только других обманывает, но и саму себя. Она живёт в ложном, иллюзорном, фальшивом мире.
Вообще, в ходе жизни Эмма утрачивает множество иллюзий. Впрочем, с иллюзиями расставались и герои Стендаля, и герои Бальзака, но при этом они что-то и обретали. Эмма же лишается своей веры, получая взамен лишь ощущение внутренней пустоты. «Какое это было счастливое время! Беззаботное! Полное надежд! Как много было тогда иллюзий! А теперь не осталось ни одной. Эмма растратила их во время своих душевных бурь, растрачивала постепенно: в девичестве, в браке, в любви, на протяжении всей своей жизни, точно путешественник, оставляющий частицу своего состояния в каждой гостинице». (Глава 10).
Утрата иллюзий не дает героине никакого нового знания, она лишь теряет веру.
У Эммы оставался один-единственный путь, приемлемый для романтической героини, – покончить с собой. И она делает это. Но, во-первых, она выбрала очень неприглядный способ: отравилась мышьяком, у неё бесконечные рвоты и т.д. Во-вторых, непосредственной причиной её самоубийства стали долги. Она обращается сначала к Леону, затем к Родольфу, но и тот, и другой отказываются ей помочь.
И вот Эмма при смерти. Нетрудно догадаться, что последние минуты жизни человека – чрезвычайно важные. Эмма была без сознания.
«Внезапно на тротуаре раздался топот деревянных башмаков, стук палки, и
хриплый голос запел:
Девчонке в жаркий летний день
Мечтать о миленьком не лень.
Эмма, с распущенными волосами, уставив в одну точку расширенные зрачки,
приподнялась, точно гальванизированный труп.
За жницей только поспевай!
Нанетта по полю шагает
И, наклоняясь то и знай,
С земли колосья подбирает"
– Слепой! – крикнула Эмма и вдруг залилась ужасным, безумным, исступленным смехом – ей привиделось безобразное лицо нищего, пугалом вставшего перед нею в вечном мраке.
Вдруг ветер налетел на дол
И мигом ей задрал подол.
Судорога отбросила Эмму на подушки. Все обступили её. Она скончалась».
(Глава 8)
Образ слепого, кстати, всегда преследовал героиню. Когда она ездила на свидания к Леону, слепой олицетворял для неё чуждый мир, который её окружал. И именно этот слепой нищий, напевающий непристойную песенку, – последнее, что Эмма встречает в жизни. Флобер безжалостен к своей героине.
Но может быть, самый главный круг её жизни, за пределы которого она тоже так и не смогла вырваться, – это круг внутренний. Пошлость настигает Эмму в ней самой. Ещё девочкой она мечтала «улететь далеко в незапятнанные пространства, чтобы обрести новую молодость». А как она представляет себе свой медовый месяц? «Ехать бы шагом в почтовой карете с синими шелковыми шторами по крутому склону горы, слушать, как поёт песню кучер, как звенят бубенчиками стада коз, как глухо шумит водопад и как всем этим звукам вторит горное эхо! Перед заходом солнца дышать бы на берегу залива ароматом лимонных деревьев, а вечером сидеть бы на террасе виллы вдвоем, рука в руке, смотреть на звёзды и мечтать о будущем! Эмма думала, что есть такие места на земле, где счастье хорошо родится, – так иным растениям нужна особая почва, а на любой другой они принимаются с трудом. Как бы хотела она сейчас облокотиться на балконные перила в каком-нибудь швейцарском домике или укрыть свою печаль в шотландском коттедже, где с нею был бы только её муж в черном бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной шляпе и кружевных манжетах!» (Глава 7).
Флобер замечает: «В своих желаниях Эмма смешивала чувственные утехи роскоши с сердечными радостями, изысканность манер с тонкостью души. Разве любовь не нуждается, подобно индийским растениям, в искусно возделанной почве, в особой температуре? И потому вздохи при луне, долгие объятия и слёзы, капающие на пальцы в час разлуки, и лихорадочный жар в теле, и томление нежной страсти – всё это было для неё неотделимо от огромных замков, где люди живут в праздности, от будуаров с шёлковыми занавесками и мягкими коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на высоких подмостках, от блеска драгоценных камней и ливрей с аксельбантами». (Глава 9). Это не просто романтические мечтания. При помощи вещей она пытается создать своего рода эрзац выдуманного романтического мира. Она тратит деньги на то, чтобы обрести предметы, которые для неё воплощают собой этот мир. Когда она говорит, это тоже, между прочим, нередко звучит как пошлость. Эмма хороша только тогда, когда молчит. Но стоит ей начать облекать свои чувства в слова, они моментально превращаются в пошлость.
И всё-таки Флобер не случайно как-то признался: «Госпожа Бовари – это я». Наиболее близкий к Эмме герой – Леон, тоже романтичный юноша, начитавшийся романов: «Переходя от настроения к настроению, то весёлая, то таинственная, то говорливая, то безмолвная, то порывистая, то небрежная, она вызывала в нём тысячи желаний, пробуждала всё новые инстинкты и воспоминания. Она была для него героиней всех романов, главным действующим лицом всех драм, загадочной возлюбленной, воспетой во всех стихах. Леон находил, что плечи у неё смуглы, как у купающейся одалиски, талия у неё длинная, как у феодальных дам; она напоминала также бледную женщину из Барселоны, но прежде всего – она была ангел». Однако к концу романа он всё же решает остепениться, получить место старшего клерка, стать серьёзным человеком. Леон отказывается от восторженных чувств, от романтического преклонения. А Эмма никогда бы с этим не смирилась. И этот духовный порыв сближает Флобера с его героиней…
Флобер изображает полный крах иллюзий. Однако есть некоторое различие между столкновением романтических представлений с реалистической правдой жизни, которое мы видим, скажем, в романах Стендаля или Бальзака и тем, что встречаем в произведении Флобера. Герои Стендаля и Бальзака тоже, конечно, разочаровываются; они приходят в мир с идеальными представлениями и с иллюзиями, которые рушатся, соприкасаясь с действительностью. Но это крах иной. Утрачивая иллюзии, они приобретают некое новое знание жизни. Да и сами эти иллюзии отражают скорее таящиеся в них возможности. Героиня Флобера не чувствует в себе никаких возможностей. Кстати, все её романтические иллюзии, в общем-то, не имеют никакого отношения к реальности. Это точно сон, в котором она пребывает. Разочарование ни к чему её не приводит, ничему не учит. Она не стала более ясно смотреть на мир, не вынесла ничего из выпавших на её долю жизненных уроков. Даже готовая в любой момент начать новый круг, с каждым шагом она только всё более внутренне опустошается.
И, может быть, самое главное её разочарование – это разочарование в самой себе, в собственных возможностях. Эмма всё время ищет какие-то замены, эрзацы жизни. Не случайно непосредственной причиной её самоубийства явилось то, что она запуталась в долгах. При помощи вещей она пытается как-то компенсировать то, чего не находит в действительности. Все её романтические мечты украшены этими вещами. И лишь однажды, можно сказать, она ощутила гармонию, соприкоснулась с реальностью своей мечты – это был бал в Вобьесаре. Но и здесь мы ощущаем, что это та же самая пошлость, которая сопутствует Эмме и в её обыденной жизни.
Единственное, что отличает Эмму от всех остальных героев и за что её любит Флобер, – это страдание. В её душе всегда присутствует какая-то неизбывная тоска. Сам Флобер считал, что идеального мира не существует, есть лишь тоска по идеальному, и именно эта тоска возвышает человека над обыденностью. Эта тоска, пожалуй, единственное, что есть в Эмме от романтической героини.
В произведении Флобера происходит не только крах, но и победа над этим далёким от идеала миром, единственная, которую признавал писатель, – победа его искусства. Флоберовская теория объективного романа нашла в этой книге яркое выражение. Прежде всего, здесь убран автор как элемент художественного текста. Первая глава, к примеру, начинается с описания того, как Шарль приходит в школу. Этой сценой, собственно, открывается роман. «Когда мы готовили уроки, к нам вошёл директор, ведя за собой одетого по-домашнему "новичка" и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий» (Часть первая. Глава 1). Это «мы» – не Флобер. Описание даётся от лица одного из учеников, глазами которого мы видим Шарля. И в дальнейшем эту «точку зрения» Флобер передает то одному, то другому своему герою: мы видим Эмму глазами Шарля, Шарля глазами Эммы, Эмму глазами Рудольфа, Рудольфа глазами Эммы и т.д. Мы всегда видим мир глазами кого-то из героев.
Флобер достигает объективности пересечением этих разнонаправленных «видений». Подобный приём в дальнейшем будет широко использоваться в литературе. Вообще, нельзя сказать, кто первым его применил, но одно несомненно: в творчестве Флобера этот приём приобрёл необыкновенную важность. Во-первых, в его романе психология растворена в том, как герой видит мир. Скажем, о первой жене Шарля сказано: «Она была безобразна, суха, как палка, и вся покрыта угрями, зубы у неё были длинные». Это не только объективная характеристика жены Шарля, но и выражение его отношения к этой женщине. Раз он так её видел, вряд ли он её любил. Эмма же, наоборот, кажется ему прекрасной, может быть, даже совсем не такой, какая она на самом деле.
В романе Флобера мы всегда видим мир глазами кого-то из героев. С этим связана ещё одна особенность – монтажность флоберовского письма. Он создаёт портреты персонажей монтажным образом, то есть не дает законченного описания внешности, а выстраивает образ постепенно, план за планом. Это, в сущности, кинематографический метод. Вот, к примеру, портрет Эммы, какой её впервые увидел Шарль: «Шарля поразила белизна её ногтей. Они были блестящие и узкие на концах, отполированы лучше дьеппской слоновой кости и подстрижены в форме миндалин». Затем дано описание рук, взгляд Шарля движется выше. «Однако руки у девушки были не очень красивы, – пожалуй, недостаточно белы и слишком сухи в суставах; да и вообще они были длинноваты, лишены мягкой округлости в очертаниях». Его взгляд останавливается на глазах: «Но зато действительно прекрасны были глаза – тёмные, от длинных ресниц казавшиеся чёрными, – и открытый, смелый и доверчивый взгляд» (Часть первая. Глава 2). Он обращает внимание на её пухлые губы, линию волос – «такой прически сельскому врачу никогда ещё не приходилось видеть». Портрет Эммы дается монтажно. Мы следуем за движением взгляда Шарля, видим то, что попадает в поле его зрения. Это мир, каким видит его герой.
Но в то же время автор присутствует в тексте, но в особой роли. Прежде всего, Флобер точно отбирает детали, которые бы говорили сами за себя, без всяких авторских комментариев. К примеру, в кабинете Шарля лежит словарь медицинских терминов, ведь он – сельский врач. Но об этом словаре сказано: он был потрепанный, но не разрезан. Шарль ни разу не удосужился в него заглянуть, и это характеризует героя как врача. А как, в таком случае, словарь истрепался? Видимо, не раз переходил от одного сельского врача к другому, но никто его так и не раскрыл. Или, скажем, первая встреча Эммы с Леоном, когда она приезжает в Ионвилль, о которой у Флобера сказано: «До конца обеда они успели обо всём поговорить, всё обсудить: парижские спектакли, названия романов, новые кадрили, свет, которого оба не знали» (Глава 2). Вот такая деталь: герои обсуждают парижские спектакли и названия книг. Но дело в том, что ни один, ни другой в Париже никогда не были, и столичные спектакли, как, впрочем, и книги, могли представлять только по названиям.
Строго отбирая детали, делая их максимально выразительными и точными, Флобер как бы убирает авторское слово из повествования, чтобы заставить «говорить» само окружающее пространство. Мы видим мир глазами героев. Но, в то же время, видим его и глазами автора, который всегда остается над происходящим. Я уже упоминал, что, пожалуй, самым счастливым мигом в жизни Эммы оказался бал в Вобьесаре. Всё, что она видит на этом балу, производит на неё необыкновенное впечатление, напоминает ей образы из тех книг, которые она когда-то читала. Лишь однажды она столкнулась в реальности с миром, в котором ей хотелось бы жить, и который не похож на ту провинцию, где ей жить приходится. Мы видим этот мир восторженными глазами Эммы, но, в то же время, и глазами Флобера. Понимаем, что этот мир тоже достаточно пошл, и то, что он так нравится Эмме, характеризует её.
При этом никто из героев никогда ничего не осмысливает. Это очень важный момент. В романах Бальзака и Стендаля герои всё время размышляют над происходящим. У Флобера же Эмма, пройдя через все круги своей жизни, так ничего и не поняла, она готова вновь всё начать сначала. Может быть, душа её опустошилась, но никакого нового знания о себе и о мире она не вынесла. Поэтому смысловая сторона целиком принадлежит автору, и в этом смысле роль автора у Флобера гораздо выше, чем в романах Стендаля или Бальзака. Скажем, Жюльен Сорель осмысляет мир в «Красном и чёрном» во многом созвучно тому, что хотел бы сказать сам Стендаль, во всяком случае, многое из собственных размышлений автор передал своему герою. То же самое у Бальзака. То, что открывает для себя Растиньяк в финале «Отца Горио», или то, что проповедует Вотрен, – это во многом близко самому автору. Во всяком случае, именно устами своего героя Бальзак выражает собственное понимание мира.
А у Флобера нет такого героя, от имени которого он мог бы выступить как автор. В «Госпоже Бовари» вообще никто ничего не понимает. Единственная героиня, которая ему близка, живёт тоскуя, это Эмма. Но она тоже ничего не понимает. Поэтому смысловая оценка целиком принадлежит автору. Но как же она проявляется в произведении? Прежде всего – в символике деталей, которые играют очень важную роль в романе Флобера. С одной стороны, каждая деталь имеет прямое, реальное значение, а с другой – обладает вторым, символическим смыслом, который выявляет в ней автор.
К примеру, образ круга. Это один из важнейших, бесконечно повторяющихся образов в романе. Круг – это нечто бесперспективное. Вся жизнь Эммы, в сущности, – сплошные круги. Начав движение, она каждый раз возвращается к исходной точке. Вообще, круг – это совершенная фигура, но у Флобера круг обретает иное символическое значение. Я уже упоминал о том, какую важную роль в жизни героини играл бал в Вобьесаре, где она вальсирует с виконтом. Пара кружится в танце, – вполне реальная деталь, ведь вальс построен на круговых движениях. Однако в системе романа образ круга становится выражением бессмысленности бытия. О Шарле сказано: «Он выполнял свои скромные обязанности, словно рабочая лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу и сама не знает, что делает». Даже мысли Эммы обычно кружились, «цеплялись за случайное, подобно её борзой, которая бегала кругами по полю, тявкала вслед желтым бабочкам». (Глава 7).
Или вот как происходит первое свидание Эммы с Леоном. Им, конечно, было всё равно, где находиться, лишь бы вдвоем. Но Леон почему-то решил, что лучше всего им будет в карете. Ехать им некуда, и карета с влюбленными кружит по городу. «И на набережной, среди тележек и бочонков, и на улицах, у угловых тумб, обыватели широко раскрывали глаза, дивясь столь невиданному в провинции зрелищу: карета с опущенными шторами всё время появляется то там, то сям, замкнутая, словно могила, и проносится, раскачиваясь, как корабль в бурю». Может показаться, что это вполне случайная деталь, но с точки зрения общего смысла она важна в романе – это всё то же движение по кругу. Так об одном из жителей городка, вполне эпизодическом персонаже, сказано: «Он отлично играл во все карточные игры, был хорошим охотником и обладал прекрасным почерком; дома он завёл токарный станок и для забавы вытачивал кольца для салфеток, которыми с увлечением художника и эгоизмом буржуа загромождал всю квартиру». Конечно, он мог бы смастерить на этом токарном станке всё, что угодно, но у него почему-то получались кольца. И таких примеров множество, я привёл лишь несколько, чтобы показать, какую роль в романе Флобера играет этот образ.
Глубоко символичен также чёрный цвет. «Будущее представлялось ей тёмным коридором, упирающимся в наглухо запертую дверь». «Следующий день был для Эммы очень мрачным. Всё кругом казалось ей покрытым какой-то чёрной дымкой, колыхавшейся на поверхности вещей». Когда героиня приезжает в Ионвиль, первым человеком, которого она встречает, оказывается священник Бурнизьен в чёрном одеянии. «Каждый день в один и тот же час открывал ставни учитель», это ладно, но дальше следует: «в чёрной шёлковой шапочке». В завершение первой части Эмма сжигает остатки своего свадебного букета, и хлопья пепла уносятся в трубу, точно «чёрные бабочки». Кстати, когда Эмма с Леоном кружат в карете, они не хотят разговаривать, поскольку возница может их услышать. Они пишут друг другу записки, которые Эмма затем разрывает и выбрасывает из окна. И эти клочки разлетающейся вокруг бумаги тоже напоминают бабочек. Но это их первое свидание с Леоном, и пока это – белые бабочки. Позже они станут чёрными. В подобной символичности очень наглядно выступает авторская мысль.
Ещё один важный мотив романа Флобера – это стиснутое, ограниченное пространство. Мотив тесноты то и дело возникает в повествовании, начиная, скажем, с описания первого приезда Эммы в Ионвиль, где «её окружает маленькое кладбище, обнесённое низкой каменной стеной и до того тесное, что старые, вросшие в землю плиты образуют сплошной пол, на котором трава вычерчивает правильные зелёные четырехугольники». Это ощущение тесноты пронизывает весь роман, и завершает его сцена, в котором тело Эммы укладывают в гроб. И как он устроен? «Эмму положили в дубовый гроб, а этот гроб заключили в два стальных и так как внешний оказался слишком просторным, то промежутки пришлось забить шерстью из тюфяка». Теснота настигает героиню даже в гробу, поэтому все эти детали, разумеется, приобретают символический характер.
Для того чтобы до конца было понятно, какова в романе роль автора, приведу ещё один пример: сцена сельскохозяйственной выставки, где происходит первое знакомство Эммы с Родольфом. Здесь мы тоже воспринимаем мир глазами, в данном случае – ушами героя. Эмма сидит рядом с Родольфом. Эта ситуация знакома любому. Каждый когда-нибудь присутствовал на мероприятии, где кто-то выступает с трибуны, но вы слушаете его краем уха, ведя одновременно разговор с тем, кто сидит рядом. Может быть, на секунду обращаете внимание на оратора, а потом вновь погружаетесь в беседу. Сельскохозяйственная выставка Эмму нисколько не интересует, а вот всё, что говорит Родольф, ей очень нравится. Одновременно она слышит и то, что громко вещает председатель. Поэтому его речь дается в романе так, как слышит её Эмма.
Писатель монтирует слова Родольфа и фрагменты выступления председателя собрания:
– «Господа! Позвольте мне с самого начала (прежде чем перейти к предмету нашего сегодняшнего собрания, и я убеждён, что все вы разделяете мои чувства), позвольте мне, говорю я, принести дань восхищения нашей высшей власти, правительству, монарху, господа, королю, нашему обожаемому государю, ибо он неусыпно печётся как о благо всего общества, так равно и о благе отдельных лиц, ибо он твёрдой и вместе с тем мудрой рукою ведёт государственную колесницу среди неисчислимых опасностей, коими грозит бурное море, и не забывает ни о мире, ни о войне, ни о промышленности, ни о торговле, ни о земледелии, ни об изящных искусствах».
– Мне бы надо отсесть, – сказал Родольф.
– Зачем? – спросила Эмма.
Но как раз в эту минуту голос советника достиг необычайной силы.
– «Прошли те времена, господа, – разглагольствовал он, – когда междоусобица обагряла кровью наши стогны; когда собственник, негоциант и даже рабочий, мирным сном засыпая ввечеру, невольно вздрагивали при мысли о том, что их может пробудить звон мятежного набата; когда злокозненные учения дерзко подрывали основы…»
– Меня могут увидеть снизу, – пояснил Родольф, – и тогда надо будет целых две недели извиняться, а при моей скверной репутации…
– О, вы клевещете на себя! – сказала Эмма.
– Нет, нет, у меня гнусная репутация, уверяю вас.
– «Но, господа, – продолжал советник, – отвращая умственный взор свой от этих мрачных картин, я перевожу глаза на теперешнее состояние нашего прекрасного отечества, и что же я вижу? Всюду процветают торговля и ремесла; всюду новые пути сообщения, подобно новым кровеносным сосудам в государственном организме, связывают между собой различные его части; наши крупные промышленные центры возобновили свою деятельность; религия, воспрянув, всем простирает свои объятия; в наших гаванях снова тесно от кораблей, доверие возрождается, и наконец-то Франция вздохнула свободно!..»
Иногда Флобер монтирует фразы так, что одно точно переходит в другое:
– Мы, бедные женщины, лишены и этого развлечения! – заметила Эмма.
– Грустное развлечение – счастья оно не приносит.
– А счастье есть на земле? – спросила Эмма.
– Да, в один прекрасный день оно приходит, – ответил Родольф.
– "И вы это поняли, – говорил советник, – вы, земледельцы и батраки,
вы, скромные пионеры великого дела цивилизации, вы, поборники
нравственности и прогресса! Вы поняли, говорю я, что политические бури,
безусловно, более разрушительны, нежели потрясения атмосферы…"
Иногда эти отрывки монтируются без всяких авторских вставок:
– "За разведение ценных культур…" – выкрикнул председатель.
– Вот, например, когда я к вам заходил…
– "…господину Бизе из Кенкампуа…"
– …думал ли я, что сегодня буду с вами?
– "…семьдесят франков!"
– Несколько раз я порывался уйти и всё-таки пошёл за вами, остался.
– "За удобрение навозом…"
– И теперь уже останусь и на вечер, и на завтра, и на остальное время,
на всю жизнь!
– "…господину Карону из Аргейля – золотая медаль!"
– Я впервые сталкиваюсь с таким неотразимым очарованием…
– "Господину Бепу из Живри-Сен-Мартен…"
– …и память о вас я сохраню навеки.
– "…за барана-мериноса…"
– А вы меня забудете, я пройду мимо вас, словно тень.
– "Господину Бело из Нотр-Дам…"
– Но нет, что-то от меня должно же остаться в ваших помыслах, в вашей
жизни?
– "За породу свиней приз делится ex aequo [поровну (лат.)]…» (Глава 8).
На примере этой сцены можно представить очень наглядно: всё, что происходит, мы воспринимает от лица Эммы. Это основной принцип романа. То, что говорит Родольф, Эмме кажется поэзией, чем-то, относящимся к тому миру, о котором она грезит. Она давно мечтала о любви и вот, наконец, слышит слова, которые уже перестала ждать, перестала надеяться, что в её жизни такое когда-нибудь произойдет. Но теперь, слава Богу, у неё может появиться любовник. То, что говорит председатель, ей кажется пошлостью. Но, благодаря монтажу, Флобер показывает, что это лишь разные проявления пошлости, одна – пошлость общественной жизни, другая – пошлость жизни частной. Смысловая оценка принадлежит Флоберу, хотя здесь нет прямого авторского слова. Но действует форма, в данном случае – монтажное построение текста.
Чтобы завершить эту тему, хочу перейти к главному из того, о чём я уже сказал. Что значит – Флобер создает прекрасное? Всё, что говорит его героиня, вообще, все её реплики звучат как пошлость. Повторю, Эмма хороша, когда она молчит. Но писатель часто прибегает к особому приёму. Это, так называемая, несобственно-прямая речь, которая в какой-то мере выражает то, что чувствует Эмма, но сама героиня никогда бы не смогла выразить это словом, и поэтому за неё это делает автор. Красота стиля позволяет Флоберу передать внутренний мир героини, её переживания. «В самом деле, ведь не все же такие, как Шарль. Муж у неё мог быть красив, умён, благовоспитан, обаятелен, – за таких, наверно, вышли замуж её подруги по монастырскому пансиону. Как-то они поживают? От шума городских улиц, от гуденья в зрительных залах, от блеска балов их сердца радуются, их чувства расцветают. А её жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки её сердца». (Глава 7). Эмма чувствует что-то подобное, но рассказать о своих чувствах, облечь их в слова она не способна. Автор сам пытается передать переживания героини, и это один из важных художественных приёмов Флобера.
Если в самых общих чертах определить, что такое «прекрасное» в романе Флобера, так это – видимый смысл. Каждая деталь становится в его произведении зримым выражением стоящего за вещами смысла. У Флобера такими значимыми деталями живёт всё произведение.
Проиллюстрирую это одним, совсем простым примером, каких в романе можно найти сколько угодно. «Но особенно невыносимо было во время обеда, внизу, в крохотной столовой с вечно дымящей печью и скрипучей дверью, с промозглыми стенами и влажным от сырости полом. Эмме казалось, что ей подают на тарелке всю горечь существования, и когда от вареной говядины шёл пар, отвращение клубами подымалось в её душе». (Часть первая. Глава 9). В этом фрагменте заключена модель всего произведения Флобера. Во-первых, здесь присутствует образ времени. «Но особенно невыносимо было во время обеда». Обед – это то, что происходит ежедневно, а «один день как две капли похож на другой». Это и образ пространства, главная примета которого – теснота. Это пространство «внизу, в крохотной столовой», «с вечно дымящей печью и скрипучей дверью, с промозглыми стенами и влажным от сырости полом», которое сужается, точно наступает на героиню. И всё это как бы сосредотачивается в одной точке – тарелке, на которой ей подают варёную говядину. Кстати, тарелка – тоже круг. На этом примере мы видим, как рождается символика в романе Флобера: пар, который исходит от говядины, становится выражением отвращения, которое клубами поднимается в душе Эммы, и ей кажется, что на этой дымящейся тарелке ей подают «всю горечь существования». В каждой детали живёт целое, Флобер заставляет каждую подробность излучать смысл. Ему действительно удается создать прекрасное произведение из отвратительного для него жизненного материала.
Здесь следует внести некоторые уточнения. Старые художники, пытаясь изобразить внутренний смысл действительности, отбрасывали случайные детали. Они хотели показать, как мир прекрасен. Пытались сделать очевидным это потаенное внутреннее начало жизни, которое может быть скрыто за поверхностью, но прекрасное произведение выражало именно этот внутренний, глубинный смысл, гармонию Вселенной. Флобер ставил перед собой задачу прямо противоположную: форма необходима для того, чтобы показать бессмысленность существования. Это не жизнь, излучающая смысл, а искусство, которое освещая действительность, делает очевидной бессмыслицу. Задача Флобера прямо противоположна задачам представителей старого искусства. Мастера первой половины века ещё пытались этот смысл отыскать. Скажем, Диккенс находит духовную опору в сказке, Бальзак – в мифе, а Флобер – только в форме. Жизнь смысла лишена, но искусство может показать эту бессмыслицу жизни, и тем самым несёт в себе смысл.
Вообще, XIX век был полон жалоб художников, признававшихся, как трудно им изображать буржуазную действительность, в отличие от средневековых авторов, перед которыми разворачивались картины ярких нравов, значительных натур, больших страстей. Герцен писал, что мещанин во фраке – это нечто такое, что художнику не передать. Но искусство развивается, и на примере Флобера это особенно заметно. Творцы именно потому были вынуждены сосредоточить основное внимание на форме, что жизненный материал становился всё более непривлекательным. Именно поэтому в XIX веке начинается активизация формы, в частности, в произведениях Флобера. Вообще, как известно, неблагоприятные условия нередко оказываются полезны. Они развивают в людях волю, заставляют их преодолевать трудности, которые ставит перед ними жизнь. Однако в неблагоприятных условиях исключается одно – возможность гармонического развития.
Натурализм –
художественное направление второй половины XIX века, связанное прежде всего с именем французского писателя Эмиля Золя (1840 – 1902).
На творчество Золя, несомненно, большое влияние оказал Бальзак. Золя тоже стал создателем литературной эпопеи, правда, основанной на другом принципе, нежели «Человеческая комедия». Сам он так определил отличие своей позиции от той, которой придерживался Бальзак: «Мой роман будет не столько социальным, сколько научным». Бальзак называл себя историком Франции, представителем социальных наук. Предмет его исследований: «мужчины, женщины и вещи». Золя же внёс в эту бальзаковскую формулу существенную поправку, заявив, что в своих романах он «подчиняет мужчин и женщин вещам».
Художественному творчеству Золя предшествовали его теоретические работы: «Натурализм в театре», «Писатели-натуралисты», «Экспериментальный роман» и т.д. Поэтому начнём с его теоретических воззрений. В чём заключается главная идея Золя? В том, чтобы уподобить труд писателя труду учёного. Вообще, это уподобление отчасти возникает уже у Бальзака и Флобера. Но сам Бальзак стремился понять законы общества, мыслил себя социологом, а это не совсем точная наука. Флобер, хотя и ориентировался на позицию естествоиспытателя, но придавал огромное значение форме. Он ставил своей задачей создание прекрасного, а это вообще не входит в задачи учёного. Золя же в своем писательском труде стремится следовать естественнонаучным принципам: изучать факты, точно воспроизводить их, одним словом, действовать как учёный. Форме Золя не придает никакого значения. Прежде всего, убеждён он, необходимо исследовать саму действительность…
Вот, например, как Золя представляет работу над романом о театре. Для начала, считает он, нужно постараться окунуться в театральную жизнь: наблюдать, записывать всё, что видишь, и собирать в папку. Кстати, у самого Золя была масса таких папок, кипы бумаг-протоколов, в которых хранились записи различных разговоров, заметки, сны. Так поступает учёный: наблюдает, фиксирует происходящее на бумаге, систематизирует, обобщает. О чём говорят артисты, что их интересует, как они работают над ролями, спектаклями, какие перед ними встают задачи.
Ещё один важный момент: необходимо сохранять абсолютную объективность, не пытаться направлять происходящее, задавать какие-то наводящие вопросы, а просто наблюдать и записывать. Объекты исследования не должны даже видеть тебя. Как сторонний наблюдатель, ты лишь фиксируешь то, что разворачивается на твоих глазах. Затем необходимо произвести отбор материала. На этом этапе писатель тоже работает как учёный: отбирает то, что наиболее типично, характерно для данной среды. В результате, внимательно изучив весь собранный материал, автор отбирает то, что может быть использовано в произведении. Затем придумывается сюжет. Сюжет по сути своей тоже должен быть подобен научному эксперименту, отсюда название такого типа произведения: «экспериментальный роман». Писатель ставит своих героев в определенные жизненные ситуации, которые их испытывают.
Конечно, Золя отдавал себе отчет в том, что изучение театра – это изучение социальной среды. Так можно изучать биржу и, вообще, любой социальный объект. Это выражает социальную типичность героев, в то время как индивидуальность – это качества, данные человеку природой. Индивидуальность для Золя – это биологический ряд, а социальное – это типичность…
И всё же надо сказать: эта теория в целом неблаготворна для искусства. Безусловно, Золя – большой художник. Но, во-первых, из его теоретических установок вытекает полная детерминированность человека той социальной средой, в которой он пребывает. Писатель отбирает то, что наиболее типично. Для социологии это неплохой принцип, но не для искусства. Конечно, можно, например, создать модель студента. Социологическую модель, в которой будут собраны черты, характерные для типичного молодого человека. Но хочу надеться, что каждый заметит, что лично он в подобную модель не укладывается.
Теперь, что касается индивидуальности. Конечно, в природе всё индивидуально – на протяжении всей истории человечества не существовало двух одинаковых людей, как не встречается двух одинаковых листочков на ветке дерева. Может, со временем в наш мир войдёт клонирование… Пока, слава Богу, этого нет. Но это уже не природа. Варианты индивидуального многообразия действительно бесконечны, это правда. Но на самом деле индивидуальность человека не определяется его физиологическими параметрами. Индивидуальность человека – это не неповторимость кошки. Двух одинаковых кошек тоже не бывает, но человеческая индивидуальность – это нечто другое, прежде всего, тот внутренний мир, который делает его исключительным, единственным. Поэтому чисто природно-физиологическое начало тоже вряд ли является здесь определяющим.
Наконец, ещё один момент, который также вызывает возражения. Золя утверждает: не надо подходить к объекту исследований с вопросами, лучше наблюдать объективно. Конечно, объективность требуется и учёному и художнику, это правда, но и художнику и учёному необходимо также уметь задавать вопросы. Только нестандартные вопросы рождают оригинальные ответы. Если не задавать вопросов, ничего никогда не узнаешь. Вот почему предложенный Золя метод, в сущности, не годится для творчества. Но всё же Золя – большой художник. Не потому, что не следовал собственным установкам – в целом он их придерживался. Но было ещё что-то, что не укладывалось даже в его собственные теоретические установки.
Главное произведение Золя – это двадцатитомный цикл «Ругон-Маккары» (полное название – «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи»). Принцип, который положен в основу этой эпопеи, иной, чем у Бальзака. Первый роман цикла «Карьера Ругонов» был написан в 1871 году, заключительный, «Доктор Паскаль», – в 1893 году. Если говорить о содержании «Ругон-Маккаров» в широком смысле – это изображение Франции времён Второй империи, начиная с прихода к власти Наполеона III и до поражения страны во франко-прусской войне 1870-го года. Однако фактически Золя поднимает в «Ругон-Маккарах» проблемы, которые возникли уже во времена Третьей республики, с утверждением в Европе господства финансового капитала, то есть в ту историческую эпоху, когда жил и писал сам Золя.
Родоначальница рода Аделаида Фук была замужем дважды: первый раз за Ругоном, второй – за Маккаром, отсюда собственно название эпопеи «Ругон-Маккары». Её первый муж Пьер Ругон проходит путь от батрака до лавочника. Его дети сумели подняться выше. Эжен Ругон становится министром при Наполеоне III, это описывается в книге «Его превосходительство Эжен Ругон». Другой брат, Аристид, становится крупным бизнесменом, он – герой романа «Деньги». Третий сын, Паскаль, становится врачом. Кроме того, в семье родилось две дочери – Марта и Сидония. Второй муж Аделаиды Маккар был пьяницей, и рождённые от него дети пошли по нисходящей. Лиза стала торговкой, это героиня романа «Чрево Парижа». Жервеза, героиня романа «Западня», – прачка. Что касается её детей: Анна стала проституткой, Этьен – рабочий, разве что Клод стал художником. Позже сын Урсулы, которая была внучкой Аделаиды Фук, Муре, женится на дочери Пьера Руггона – Марте. Это Октав Муре, герой романа «Дамское счастье». Таким образом, все эти произведения объединяют родственные связи героев. В эпопее Золя разворачиваются одновременно как бы два разных смысловых ряда: один связан с темой наследственности, другой – социальный. Завершают эпопею романы «Разгром», это, собственно, уже конец Второй империи, и «Доктор Паскаль», герой которого вычерчивает генеалогическое древо семьи Ругон-Маккаров. Хочу сразу отметить, что Золя всё-таки не придаёт проблеме наследственности столь уж существенного значения. Конечно, не будет лишним знать, скажем, что Этьен Лантье, герой романа «Жерминаль», – сын прачки Жервезы, героини романа «Западня», но это не обязательно. Это мало что даёт для понимания романа, может, лишь добавляет какие-то детали. Главный фактор для Золя всё-таки социальный. Биологические характеристики играют известную роль, но они не определяют структуру романов. Цикл «Ругон-Маккары» не составляет единого целого, в отличие от «Человеческой комедии» Бальзака.
В произведениях Золя меняется сам объект изображения. Это сказывается уже в самих заглавиях его произведений: «Чрево Парижа» – так называется городской рынок, или «Дамское счастье» – это название магазина, или, скажем, «Деньги». У Бальзака романы назывались именами героев: «Отец Горио», «Кузина Бетта», «Гобсек», или были связаны с некой проблемой, поставленной в произведении, к примеру, – «Утраченные иллюзии». А здесь главное действующее лицо – рынок «Чрево Парижа» или магазин «Дамское счастье». У Золя происходит такой сдвиг. Я не знаю, читали ли вы в детстве книги, наверное, кто-то читал. Но хочу сказать, что дети, читая книги, нередко пропускают описания. Читать таким образом романы Золя нельзя. Главное в них, самые впечатляющие, значительные страницы – это именно описания, сюжет не столь важен.
В своё время Г.Э. Лессинг в программном трактате «Лаокоон» доказывал, что описание противопоказано искусству слова, нельзя описывать подробно. А романы Золя – это прежде всего описания. Что же, значит, знаменитый теоретик искусства ошибался? Нет, не ошибался. Дело в том, что у трактата Лессинга есть подзаголовок: «О границах живописи и поэзии». Лессинг считал, что живописный образ мы должны схватывать мгновенно, например, внешность человека. Когда последовательно описываются подробности – лицо, глаза, руки и т.д., мы, воспринимая одно, забываем предыдущее, и целое не складывается, поэтому описание, по мнению Лессинга, противопоказано искусству слова. Но Золя изображает то, что нельзя изобразить одномоментно. Когда он показывает рынок или магазин, читатель точно движется по этому рынку или магазину. Кстати, рынок описывается в разные моменты дня, начиная с самого раннего утра, с рассвета. То же самое магазин: надо войти в него, оглядеться, рассмотреть прилавки, разом всего не увидишь. Одну витрину ещё можно окинуть взглядом, но магазин – это огромное торговое пространство, которое надо охватить целиком. То, что имеет в виду Золя, это, в сущности, принципы совсем другого вида искусства – кинематографа. Недаром самые глубокие страницы о романах Золя написаны великим теоретиком и практиком экранного искусства С. Эйзенштейном. Он преподавал режиссуру во ВГИКе и со студентами изучал романы Золя, утверждая, что каждое из этих произведений представляет собой своего рода монтажные листы.
С этим связан ещё один важный момент, характерный для романов Золя. Это описание мира вещей. Продовольственный рынок – это огромное количество снеди, магазин «Дамское счастье» – множество различных товаров. Бальзак тоже придавал огромное значение вещам. Но что такое вещь в художественном мире Бальзака? Вещь для него – это нечто, характеризующее героя, его социальное, имущественное положение, вкусы. Жизнь человека опосредована вещами, и их изображение – это важная характеристика героя. А что изображает Золя? Какие вещи? Это вещи, которые ещё никому не принадлежат, ведь это магазин. Они никого не характеризуют. Это новые вещи.
В романах Золя вещь становится самостоятельным героем. Кстати, он сам сформулировал этот принцип, заявив, что «подчиняет мужчин и женщин вещам». Это главное отличие произведений Золя от романов Бальзака. Кстати, это тоже близко к природе кино. Дело в том, что в театре, на принципы которого опирался Бальзак, вещь не существует вне героя. Что такое пустая сцена с вещами? Ничто. Вещь должна играть в театре. А кинофильм может быть и без людей: одни лишь вещи в кадре. В этом смысле Золя действительно предвосхитил появление нового вида искусства – кинематографа. Именно вещи оказываются подлинными героями произведений Золя.
Описание рынка, мира вещей и продуктов является центральной темой романа «Чрево Парижа». Рынок для Золя такой же символ эпохи, каким для Гюго был Собор Парижской Богоматери, – символ Средневековья. В культуре второй половины XIX века рынок воплощал собой то, что прежде олицетворял собор, ибо главной особенностью европейской буржуазной цивилизации стали материальный прогресс, изобилие, в том числе и товаров. Вещь, рынок, магазин… Материальная сфера жизни выдвинулась на первый план. Если Флобера все эти процессы ещё тревожили и смущали, то Золя становится поэтом этого нового типа цивилизации.
Один из современников писателя так отозвался об этом романе: «…За всё наше столетие с самого его начала у нас был сооружен единственный оригинальный памятник, памятник естественный из почвы нашей эпохи – это центральный рынок. Это смелое произведение, что ни говорите, но оно является пока лишь робким проблеском нового 20 века. Вот почему давно с честью церковь святого Евстафия отошла на задний план, святой Евстафий пустует без набожных молельщиков, а рынок рядом с ним расширяется, грохочет, он полон жизни…». Изображение рынка составляет главную особенность романа Золя, его художественный смысл.
Вот, например, как описывается лавка Лизы Кеню: «То был мир лакомых кусков, мир сочных, жирных кусочков. На первом плане, у самого стекла витрины, выстроились в ряд горшочки с ломтиками жареной свинины, вперемежку с баночками горчицы. Над ними расположились окорока с вынутой костью, добродушные, круглорожие, жёлтые от сухарной корочки, с зелёным помпоном на верхушке. Затем следовали изысканные блюда: страсбургские языки, варенные в собственной коже, багровые и лоснящиеся, кроваво-красные, рядом с бледными сосисками и свиными ножками; потом – чёрные кровяные колбасы, смирнехонько свернувшиеся кольцами, – точь-в-точь как ужи; нафаршированные потрохами и сложенные попарно колбасы, так и пышущие здоровьем; копчёные колбасы в фольге, смахивающие на спины певчих в парчовых стихарях; паштеты, ещё совсем горячие, с крохотными флажками этикеток; толстые окорока, большие куски телятины и свинины в желе, прозрачном, как растопленный сахар. И ещё там стояли широкие глиняные миски, где в озерах застывшего жира покоились куски мяса и фарша. Между тарелками, между блюдами, на подстилке из голубых бумажных стружек были разбросаны стеклянные банки с острыми соусами, с крепкими бульонами, с консервированными трюфелями, миски с гусиной печенкой, жестянки с тунцом и сардинами, отливающие муаром. В двух углах витрины стояли небрежно задвинутые туда ящики – один с творогом, а другой битком набитый съедобными улитками, начиненными маслом с протертой петрушкой. Наконец, на самом верху, с усаженной крючьями перекладины свешивались ожерелья сосисок, колбас, сарделек, – симметричные, напоминающие шнуры и кисти на роскошных драпировках; а за ними показывали свое кружево лоскутья бараньих сальников, образуя фон из белого мясистого гипюра. И на последней ступеньке этого храма брюха, среди бахромы бараньих сальников, между двумя букетами пурпурных гладиолусов, высился алтарь – квадратный аквариум, украшенный ракушками, в котором плавали взад и вперёд две красных рыбки». (Глава 1).
Люди у Золя становятся органичной частью этого грандиозного натюрморта. Хозяйка лавки Лиза Кеню «…была воплощением благополучия, устойчивого и блаженного изобилия, облик её как бы дополнял все эти утробные радости. Это была красивая женщина. Она занимала своей особой всю ширину дверного проема, однако была не чрезмерно полной, хотя и полногрудой, в расцвете своих тридцати лет. Она только что встала, но уже гладко причесалась на прямой пробор, и её напомаженные, словно лакированные волосы лежали двумя плоскими прядками на висках. Это придавало ей особенно опрятный вид. Её безмятежное тело отличалось прозрачной белизной, а кожа была тонкая и розовая, как у людей, живущих постоянно среди обилия жиров и сырого мяса. Она казалась, пожалуй, серьезной, медлительной и очень спокойной, со строгим очерком губ и чуть-чуть улыбающимися глазами. Накрахмаленный белый воротничок, стягивавший её шею, белые нарукавники до локтей, белый передник до самых кончиков туфель позволяли видеть лишь край её черного кашемирового платья, округлые плечи и плотно обтянутую, непомерно пышную грудь, которую подпирал корсет. На всей этой белизне играло яркое солнце. Но залитая светом женщина, синеволосая и розовотелая, в белоснежных нарукавниках и переднике, даже не щурилась и, сохраняя мягкое выражение глаз, с блаженным спокойствием принимала свою утреннюю солнечную ванну, радуясь половодью рынка…»
Вся смысловая сторона романа выражена в этих описаниях: вещи одухотворяются, грань между ними и людьми исчезает. Это и значит «подчинять мужчин и женщин вещам».
К примеру, Золя описывает мужа Лизы: «Он был толст, слишком толст для своих тридцати лет. Он вылезал из передника, из сорочки, из белья, в котором походил на громадного, спелёнутого младенца. Его выбритое лицо казалось вытянутым вперед и чем-то напоминало свиное рыло. Кеню день-деньской возился со свининой и руки его постоянно погружались в это мясо, жили в нём…». С одной стороны, писатель одухотворяет вещи, а с другой – овеществляет человека. Этот роман Золя во многом продолжает традиции натюрморта, но особенность его в том, что частью этого натюрморта оказываются люди.
Однако за всем этим в романе Золя скрывается определённый символический смысл: прежде всего – образы, символизирующие женское начало, рождающее всё это материальное изобилие мира. С подобной символикой связаны многие сравнения у Золя: «…абрикосы, лежавшие на мху, отливали янтарем, горячими тонами заходящего солнца, которое золотит затылок брюнеток в том месте, где кудрявятся мелкие волосики. Вишни, подобранные ягода к ягоде, были похожи на слишком узкие губы улыбающихся китаянок; монморанжи – словно толстые губы жирной женщины; английские вишни – более продолговатые и серьёзные; шпанские – заурядные, в синяках, измятые поцелуями…»
Второй роман Золя, на котором следует остановиться, – «Дамское счастье» или, если перевести французское заглавие точнее, «Для счастья дам», так он называется в оригинале. Повторю, Золя рассматривал свои произведения как своего рода социологические исследования, и в «Дамском счастье» он тоже уловил одну очень важную тенденцию в развитии позднего европейского капитализма, а именно – вытеснение мелкой торговли крупными универсальными магазинами. Маленькие лавочки старых торговцев вытесняет огромный современный магазин «Дамское счастье». Это является социологической темой романа. Однако его художественный смысл к этому социологическому пласту не сводится. Художественная тема романа иная – это описание магазина «Дамское счастье». Магазин, собственно, и есть главный его герой.
Приведу несколько примеров. В этом романе тоже существенна символика женского начала, поскольку магазин дамский. «Две аллегорические фигуры – откинувшиеся назад смеющиеся женщины с обнажённой грудью – держали развёрнутый свиток, на котором было написано: «Дамское счастье». Отсюда сплошной цепью расходились витрины: одни тянулись по улице Мишодьер; другие – по Нев-Сент-Огюстен, занимая, помимо угольного дома, ещё четыре, недавно купленных и приспособленных для торговли, – два слева и два справа. Эти уходящие вдаль витрины казались Денизе – это главная героиня романа – бесконечными». Девушка потрясена обликом этого роскошного магазина. «В этот день была устроена специальная выставка корсетов, состоящая из целой армии безголовых и безногих манекенов, выставлявших под шёлком одни торсы и плоские кукольные груди, полные болезненной похотливости. Люди разглядывали их, и останавливавшиеся женщины давили друг друга перед окнами, толпа грубела от жадного желания… Под этой страстью улицы кружева слегка дрожали, ниспадали и таинственно скрывали недра магазина. Даже штуки сукна, толстые и четырёхугольные, дышали соблазном. Пальто всё больше и больше оживало на оживающих манекенах, а большое бархатное манто, гибкое и тёплое, вздувалось как будто на человеческих плечах, на вздымавшейся груди, на трепещущих бёдрах. Весь этот перкаль и батист, разбросанные по прилавкам, брошенные и сложенные, начинают затем жить жизнью тела, сталкиваясь с благоухающими, тёплыми от аромата любви. Белое облако делало священным принявшую ночное крещение, и как только оно уносилось, розовый блеск колена, мелькнувшего на фоне белизны, сводил людей с ума. Округлённые груди манекенов раздували материю, широкие бёдра подчёркивали тонкость талии с обеих сторон. Витрины по рассчитанному плану без конца отражали и умножали манекены, населяя улицу этими прекрасными продажными женщинами, цена которых обозначена на месте их головы…». Как видите, завершает описание символ: манекен, у которого вместо головы – ценник. Так что при всей детальной достоверности и подробности, описания Золя не лишены символического смысла.
Мелкие торговые лавочки разоряются, не выдерживая соперничества с новым грандиозным магазином. Но и сами их владельцы заворожены его силой и масштабами. «Старик Буруа стоял в тени, поглощённый созерцанием победоносной выставки…» и т.д.
Прежде обладание той ли иной вещью говорило о социальном статусе человека. Вещь определяла его материальное положение, вкусы и т.д. – то есть определенным образом служила характеристикой персонажа. Но Золя изображает вещи, которые никого не характеризуют. Это вещи, выставленные на продажу, у них ещё нет владельца. Страсть, жажда обладания этими вещами охватывают толпу, но сами эти вещи никому не принадлежат. Они вообще не являются частью быта.
Золя открывает новое отношение к вещам, которое будет свойственно будущему XX веку. Дело в том, что в XIX веке вещь была ещё неразрывно связана с человеком. Например, в «Вишневом саде» Чехова Гаев обращается к мебели: «Дорогой, многоуважаемый шкаф», поскольку этот старый книжный шкаф – живая часть образа жизни его предков, как и старая известь, покрывающая потолки, или кровать, на которой когда-то спали его деды. Он пытается сохранить эти предметы, которые несут в себе воспоминания о прошлом, о его семье, может, о его детстве. В ХХ веке вещь утратила эту энергию и это своё значение. Местом для вещи стали либо витрина, либо – свалка. У нас это еще не столь ярко выражено, как на Западе, но тоже уже достаточно проявляется. Например, машина меняется не потому, что она плохая, а потому что не новая. Старую вещь никто не ценит. Вещь должна быть новой, а старая никому не нужна, её выбрасывают. Золя предчувствовал это ещё в XIX столетии. Это новое отношение к вещам, которое в его эпоху только зарождалось.
Главная героиня романа – молодая девушка Дениза. Вообще, Золя был чутким художником, улавливал какие-то новые, впервые возникающие явления, на это был направлен его взгляд. И его героиня, пожалуй, – первый в европейской литературе образ женщины, которая работает. До сих пор полем приложения женских сил оставалась семья, дом, дети, для женщины была важна любовь, а не труд. Здесь же главная героиня хочет работать, она приехала из провинции и поступает на службу в магазин. Это новый тип женщины, новый тип героини.
Вообще, в магазине «Дамском счастье» работать очень трудно. Его хозяин Октав Муре суров со своими сотрудниками и за любую провинность с ними расстаётся. Денизу тоже вначале прогоняют, потом, правда, она возвращается. Но героиня влюбляется в Октава Муре. «Она любила его за творческий размах, любила всё больше и больше за каждое новое проявление его мощи, хотя её и душили слёзы при виде неотвратимых страданий людей, с которыми приходилось сталкиваться Октаву Муре… Она даже понимала, что всё идёт, как надо, что все эти жертвы, эти отбросы цивилизации нужны для оздоровления Парижа грядущих лет…»
Что такое образ Октава Муре в романе Золя? Это новый образ капиталиста. Его особенность заключается в том, что он является как бы неотъемлемой частью магазина. Все его человеческие качества определяются этой социальной ролью. Он должен быть энергичен, иначе «Дамское счастье» не будет успешно, должен сохранять хладнокровие по отношению к своим работникам, иначе, если он будет добрым, магазин тоже не сможет развиваться. Он должен быть изобретателен, предприимчив. Все его качества вполне этим исчерпаны. У него есть ещё одно свойство – он пользуется успехом у женщин. Ему нравятся женщины, у него много любовниц, но это тоже необходимо герою как владельцу «Дамского счастья». Октав Муре – соблазнитель, недаром организовал магазин женского платья. В этом он весь. Герой Бальзака никогда не исчерпывался своей социальной ролью, всегда оставался какой-то человеческий остаток, и этот остаток, может, составлял самое главное даже в таких людях, как Гобсек, или Горио. Героя Золя социальная роль определяет целиком. Сам метод Золя заключается в попытке писать именно таким образом, отбирая только социально детерминированное, заданное и отбрасывая всё остальное.
Теперь о любовном конфликте в этом романе. Молодая героиня Дениза, которой очень симпатизирует автор, приезжает из провинции в Париж вместе со своим маленьким братом. Уже в первой сцене она заворожена витриной «Дамского счастья», затем она поступает туда продавщицей и влюбляется в хозяина магазина Октава Муре. Сначала он не обращает на новую работницу никакого внимания. Позже всё меняется, и он уговаривает Денизу стать его любовницей, но она отказывается. Муре готов купить её за любую цену, предлагает даже всю выручку магазина, лишь бы она уступила. Но она тверда и добродетельна. Тогда он предлагает ей женитьбу, она соглашается, и всё кончается хорошо. Я не знаю, что хотел сказать этим Золя. Возможно, он хотел показать, какая она добродетельная. Но на самом деле здесь проявилось другое. Героиня поступила более чем расчётливо и добилась всего. Если бы Золя показал, что Октав полюбил её и она стала для него важнее, чем магазин, доходы, тогда бы это было победой каких-то иных, духовных ценностей над голым расчетом. Однако здесь Октаву Муре просто пришлось заплатить дороже, что он и сделал. Но это даже пошло на пользу делу: став женой владельца магазина, Дениза придумала новый способ организации труда. Она оказалась более гуманна, решив пойти на то, что в последнее время очень широко используется. Ей казалось, что не надо слишком жёстко эксплуатировать служащих, лучше заинтересовывать их материально: так они станут работать безо всякого нажима. В итоге любовь только укрепила бизнес. Магазин достиг процветания…
Вторая группа произведений Золя посвящена жизни рабочих. Писатель одним из первых обратился к этой теме. Она нашла отражение в двух его романах: «Западня» и «Жерминаль». Начнём с романа «Западня». Сначала Золя хотел назвать этот роман так, как никогда прежде не называл свои произведения, – «Простая жизнь Жервезы Маккар», по имени главной героини. Жервеза, – действительно, главная его героиня, и в чём-то само это произведение напоминает типичные романы XIX века. Это роман об утрате иллюзий юности. Но это не иллюзии Эммы Бовари с её книжными мечтаниями. У героини Золя мечта самая обыкновенная – как-то устроиться в жизни, создать семью. Лишь этого она хочет. Но её мечта о нормальной жизни оказывается ещё более несбыточной, чем, скажем, грёзы Эммы Бовари. В конце концов Золя передумал называть роман именем героини и назвал его «Западня».
В этом романе есть два ключевых слова, которые во многом определяют содержание всей книги. Первое звучит по-русски не так, как по-французски. По-русски оно означает «опускаться» – героиня опускается, скатывается на дно. Но французское слово, хотя это и не имеет никакой этимологической основы, означает «корова» и потому несёт в себе ещё один смысл – «оскотинивание», хотя само по себе никакого отношения к скоту не имеет. А второе слово – это «западня», которое по-французски означает буквально «удар по голове».
Самые простые вещи, которые окружают героиню романа Жервезу, превращаются в своего рода западню, в которую она в конце концов попадает. У неё было два мужа. Первый – Лантье, от которого у неё родились дети, и второй муж – Купо. Второй муж, оставшись без работы, повадился ходить в кабак и в результате спился. Вслед за ним спилась и сама Жервеза. Зять Карла Маркса, знаменитый французский социалист Поль Лафарг, упрекал писателя за то, что тот считал пьянство главным бичом общества. В этом якобы вся идея книги: закройте кабаки, откройте школы. Однако он был не совсем прав. Возможно, Золя действительно выступал с такой социальной программой, однако художественный смысл романа к протесту против пьянства не сводится. Настоящая западня, по мнению писателя, – это весь уклад жизни, который окружает Жервезу.
Приведу в качестве примера одну сцену из этого романа. Это ещё относительно благополучный период жизни Жервезы. Золя описывает её именины. На празднество собираются гости, и она угощает их жареным гусем: «Огромный, золотистый, блестевший от жира гусь был водворен на место, однако на него набросились не сразу. Компания застыла в молчаливом и почтительном удивлении. Гости подмигивали друг другу и восхищенно покачивали головами: «Чёрт возьми! Ну и красавец! Какие ляжки, какое брюхо!»
– Да, видно, его не морили голодом! – воскликнул Бош.
Тут принялись разбирать гуся по всем статьям. Жервеза рассказала, что это была лучшая птица, которую она нашла у торговца живностью в предместье Пуассоньер; когда гуся прикинули на весах у соседа-угольщика, в нём оказалось двенадцать с половиной фунтов. Целая мера угля ушла на то, чтобы его зажарить, а жиру вытопилось три миски. Виржини перебила Жервезу и похвасталась, что видела птицу, как только её принесли из лавки; хотелось съесть её сырьем, говорила портниха, кожа у неё была тонкая, белая, ни дать ни взять как у хорошенькой блондиночки! Мужчины засмеялись, сластолюбиво причмокивая. Одни супруги Лорийе поджимали губы, задыхаясь от злости при виде такого великолепного гуся на столе у Хромуши.
– Однако не будем же мы есть его целиком, – проговорила наконец Жервеза. – Кто берётся его разрезать?.. Нет, нет, только не я! Он слишком велик, я и подступиться-то к нему боюсь.
Купо предложил свои услуги. Бог мой, что может быть проще: ухвати ножку или крылышко и тяни к себе. Как ни кромсай гуся, вкуса не испортишь. Но все запротестовали и вырвали у него нож: когда он брался что-нибудь резать, на блюде получалось настоящее крошево. Стали выбирать, кому бы доверить это дело. Наконец г-жа Лера кокетливо сказала:
– Послушайте, такая честь принадлежит только господину Пуассону… Ну конечно же господину Пуассону…
Но так как присутствующие, казалось, недоумевали, она прибавила, желая польстить полицейскому:
– А то как же, ведь господин Пуассон прекрасно владеет оружием.
И она передала ему кухонный нож. Все были удовлетворены и одобрительно улыбнулись. Пуассон поклонился, резко, по-военному, кивнув головой, и придвинул к себе гуся. Жервеза и г-жа Бош, сидевшие поблизости, отстранились, чтобы не мешать ему. Он резал медленно, оттопырив локти, и так смотрел на гуся, словно хотел пригвоздить его к блюду. Когда под кухонным ножом затрещали кости, Лорийе в порыве патриотизма воскликнул:
– Эх, будь это казак!..
– Разве вам приходилось драться с казаками, господин Пуассон? – спросила привратница.
– Нет, только с бедуинами, – ответил полицейский, отделяя крыло. – Казаков уж давно нет.
Тут наступила глубокая тишина. Шеи вытянулись, глаза были прикованы к ножу. Пуассон приготовил компании сюрприз. Резким движением он в последний раз взмахнул ножом, задняя часть птицы отделилась и встала торчком, гузкой кверху, – получилась как бы епископская митра. Раздались восторженные крики. Право, только старые вояки ещё умеют развлечь общество. Между тем из гусиного зада хлынула струя подливки; Бош принялся балагурить.
– Становлюсь первым в очередь, – сказал он, – пусть гусь делает пипи прямо мне в рот.
– Вот сквернослов! – воскликнули дамы. – Этакий сквернослов, право!
– Свинья он, больше никто! – сказала разъяренная г-жа Бош. – Замолчи, слышишь! От твоих слов с души воротит… Такого и в казарме не услышишь… Вы знаете, он это неспроста, хочет один всё слопать!
Среди поднявшегося шума Клеманс настойчиво повторяла:
– Господин Пуассон, послушайте, господин Пуассон… Оставьте мне гузку, хорошо?
– Милая моя, гузка принадлежит вам по праву, – захихикала г-жа Лера, как всегда на что-то намекая.
Между тем гусь был разрезан. Дав обществу вдоволь полюбоваться "епископской митрой", Пуассон покончил и с ней и разложил куски на блюде. Оставалось отведать гусятины. Но дамы жаловались на жару и уже начинали расстегивать платья. Купо воскликнул, что он у себя дома, а до соседей ему нет дела, и широко распахнул дверь; пирушка продолжалась под грохот экипажей, на виду у прохожих, толкавшихся на тротуаре. Челюсти гостей успели отдохнуть, в желудках освободилось местечко, – можно было продолжать обед, и все дружно принялись за гуся. От одного вида этой великолепной птицы, говорил шутник Бош, он так проголодался, будто и не едал телятины со свининой.
Ножами и вилками работали на славу, никто из собравшихся не помнил, чтобы ему приходилось так объедаться. Отяжелевшая Жервеза навалилась на стол и молча запихивала себе в рот огромные куски белого мяса, боясь отстать от остальных; ей было только немножко совестно перед Гуже: теперь он видит, какая она обжора. Впрочем, Гуже сам уплетал за обе щеки, а вид раскрасневшейся от еды Жервезы только подбодрял его. Да и, кроме того, она казалась такой милой, такой доброй, несмотря на свою жадность! Она не разговаривала, зато всё время заботилась о дедушке Брю и отрывалась от своей тарелки, чтобы положить ему кусочек повкусней. Трогательно было видеть, как эта лакомка отказывалась от гусиного крылышка ради бедняги, который глотал, не разбирая, всё подряд и сидел понурившись, отупев от еды, – да и не мудрено, ведь он небось забыл даже вкус мяса. Лорийе злились по-прежнему; они решили отыграться на гусе и уничтожали его с остервенением. Казалось, они готовы проглотить блюдо, стол, всю прачечную, лишь бы разорить Хромушу. Дамам захотелось поглодать косточки, ведь глодать косточки – дамское занятие. Г-жа Лера, г-жа Бош и г-жа Пютуа занялись гусиными ребрышками, а мамаша Купо, обожавшая шейку, рвала с нее мясо двумя последними зубами. Виржини любила поджаристую корочку, и гости по очереди любезно передавали ей гусиную кожу, отодрав её от своих кусков».
Дух обжорства охватывает всех собравшихся.
Но дальше эта реальная картина переходит в символическую: «Животы вздувались на глазах. Женщины пухли как беременные. Эти чёртовы прорвы чуть не лопались от обжорства. Они сидели, разинув рты, подбородки их лоснились от жира, лица были похожи на задницы и красны, как рожи у раздобревших богачей…». Кажется, не люди едят гуся, а гусь поглощает людей. Здесь срабатывает та же самая западня. А ведь это был самый благополучный период в жизни героини.
Но, конечно, куда более серьёзной ловушкой для неё оказывается перегонный куб, заставляющий спиваться: «Однако она колебалась. От анисовки её немного тошнило. Хорошо бы выпить чего-нибудь покрепче, чтобы обожгло желудок. И она как бы невзначай поглядывала на страшную машину за своей спиной. Этот проклятый котёл, круглый, как туго набитое брюхо, и его длинный извивающийся хобот пугали и притягивали её, даже холодок пробегал по спине. Ни дать ни взять медные кишки какого-то чудовища, какого-то злого волшебника, который капля по капле выпускает из своей утробы огненную влагу. Настоящий источник отравы, дьявольского пойла, которое следовало бы варить где-нибудь в подвале, – уж очень омерзительно выглядела эта стряпня! И всё же Жервезе хотелось подойти поближе, понюхать, чем пахнет кухня папаши Коломба, отведать гнусного зелья, пусть даже она обожжет себе язык и кожа с него слезет, как перчатка». (Х).
И вот, наконец, её смерть: «Домовладелец разрешил Жервезе занять его конуру под лестницей. Теперь она ютилась в этой дыре и, лежа на гнилой соломе, щелкала зубами от голода и холода. Как видно, земля не принимала ее. Она стала вовсе слабоумной, и ей даже в голову не приходило, что можно выброситься из окна во двор и покончить с жизнью раз и навсегда. Смерть все ближе подкрадывалась к ней, понемногу отнимала силы, но ей было суждено дотащиться до конца той проклятой дорожки, на которую она вступила. Никто так и не узнал, отчего она умерла. Поговаривали о лихорадке. На самом деле она погибла от нищеты, от грязи, от усталости – от тяжести своей загубленной жизни. Она сдохла потому, что совсем оскотинилась…»
В романе «Западня» Золя хочет показать, насколько подобная жизнь «оскотинивает» человека. В этом смысле среда, которая окружает Жервезу, символична. Каждая деталь, любая примета быта, вроде грязного белья, обретает в романе символический смысл, превращается в орудие порабощения, которое опускает человека на самое дно.
Один из сыновей Жервезы Этьен Лантье становится героем романа «Жерминаль», как бы продолжения «Западни». Однако этот роман представляет собой нечто иное. Действие книги происходит в рабочем посёлке Монсу, где живут и трудятся углекопы. Механик Этьен Лантье в поисках работы приезжает в этот шахтерский посёлок. Вообще, во многом описанное в этом романе близко к «Западне». Здесь тоже очень подробно изображен быт рабочих. Показано семейство Маэ, в котором поселяется Лантье, где люди голодают, спят по очереди, потому что нет места для всех и не у каждого есть постель. Жизнь их всё более оскотинивает. Но содержание этого романа другое. Главное событие здесь – забастовка, бунт против тех условий, в которых живут рабочие. И собственно, хотя формально героем романа является Этьен Лантье, возглавивший стачку, на самом деле впервые подлинным героем произведения становится масса.
И в своих теоретических представлениях о писательском труде, и в своей художественной практике Золя всегда имел в виду не индивидуальную, а массовую психологию. Индивидуальную психологию Золя как раз не удавалось выразить. Что касается массовой психологии, то она именно так – модельно – и выражается. Изображение богачей, «толстых», как Золя называет их в «Чреве Парижа», или покупательниц магазина «Дамское счастье», охваченных эйфорией, – это не индивидуальная психология, а скорее одержимость коллективной эмоцией. Золя впервые открывает то, что станет важной особенностью XX века, – феномен массы. Главный герой романа – масса, и собственно самые сильные его сцены – это её изображение.
Мы к этому ещё вернемся, а пока хочу коснуться другой, чисто художественной проблемы. Дело в том, что основной принцип Золя-писателя – это монтаж. Как известно, С. Эйзенштейн был склонен находить элементы монтажного построения произведения у большинства великих авторов, даже у Пушкина. Если бы захотел, наверное, мог бы отыскать этот приём и у Гомера: в его поэмах немало строится на сравнениях и монтаже. В какой-то мере монтаж существовал всегда, это свойство человеческого мышления вообще. Но в том смысле, о котором говорил Эйзенштейн, монтаж по-настоящему был открыт именно Золя. Впрочем, Эйзенштейн это понимал. Хотя он и находил монтажные приёмы в произведениях Пушкина, всё же признавал, что Пушкин не для кино. А вот Золя для кино. Не случайно в рамках учебного курса во ВГИКе, где Эйзенштейн преподавал режиссуру, он изучал со студентами-режиссёрами романы Золя, считая, что каждая страница здесь – готовый монтажный лист. На примере творчества Золя Эйзенштейн учил будущих режиссеров писать сценарии и снимать фильмы.
Так что же такое монтаж в романах Золя? Он имеет три функции. Первая – монтаж создает единый образ пространства и времени. Свои описания Золя строит монтажно, потому что у него это, как правило, не описание пространства в чистом виде, а наблюдение за его движением, за изменениями пространства во времени. Скажем, он описывает рынок, начиная с раннего утра, и здесь всё время возникают какие-то новые картины. Эта самая элементарная форма монтажа – монтаж времени и места, которая как раз и составляет отличие кинематографа от живописи и литературы. В литературе превалирует временной план, в живописи – пространственный. А для кинематографа характерно единство пространства и времени.
Вторая функция монтажа заключается в том, что с помощью монтажных соединений передаётся смысловая сторона романа. Монтаж играет смыслообразующую роль. Такую роль, кстати, монтаж играет в «Дамском счастье». Уже в первой сцене романа, где мы видим героиню, вовсе не сюжет, а само противопоставление её маленькой фигурки и огромного здания нового парижского магазина с его яркими витринами, со стилизованными манекенами, с огромной выставкой вещей выражает главную суть романа. С одной стороны – возвышающийся над всем вокруг магазин «Дамское счастье», а с другой – улочка, где расположены старые торговые лавки, которые не способны выдержать этого противостояния и вскоре будут сметены. Само сопоставление масштабов здесь – чисто монтажный приём, позволяющий выразить одну из главных идей романа.
Третья функция монтажа (она играет важнейшую роль в романе «Жерминаль») – это изображение массы. Массу нельзя изобразить иначе, только с помощью монтажа. Главным героем этого романа Золя является масса, а главная тема – стачка. Я бы хотел сказать несколько слов об отношении Золя к стачке и к её участникам. С одной стороны, он им сочувствует, а с другой – показывает бунт как опасную, разрушительную стихию: «То был красный призрак революции. В этот кровавый вечер на исходе века он увлекал всех, как неотвратимый рок. Да! Придёт время, и предоставленный самому себе своевольный народ будет так же метаться по дорогам и проливать кровь богачей, рубить им головы и сыпать золото из распотрошенных сундуков. Так же будут вопить женщины, и мужчины будут щелкать волчьими челюстями. Такие же лохмотья, такой же грохот сабо, такое же страшное месиво грязных тел и чумного дыхания сметут старый мир в жестокой схватке. Запылают пожары, в городах не останется камня на камне, люди опять вернутся к жизни лесных дикарей: после повальной оргии и кутежа, во время которых бедные в одну ночь опустошат погреба и упьются женами богатых, не останется ничего – ни гроша от былого богатства, никакого следа прежних прав, и так до дня, когда, быть может, родится новая земля». (Часть пятая. Глава V).
Появляется дочь хозяина Сесиль, и толпа набрасывается на неё, принимается издеваться, хотя она – человек тихий, никому не делавший дурного. «И женщины, соперничая друг с другом в диких выходках, теснились вокруг Сесиль, показывая ей свои лохмотья, и каждой хотелось хоть чем-нибудь донять эту дочь богачей. Она, конечно, из того же теста, что и они; и не одна из этих разодетых барынь вся прогнила, хоть и напяливает на себя всякие финтифлюшки. Хватит, довольно несправедливостей, пора заставить и этих шлюх, которые тратят по пятидесяти су на стирку своих юбок, одеваться, как работницы!
Сесиль, очутившись в кругу разъяренных женщин, вся дрожала, ноги у неё подкашивались, и она двадцать раз повторяла заплетающимся языком одну и ту же фразу:
– Прошу вас, сударыни, не причиняйте мне зла.
Вдруг она хрипло закричала: она почувствовала на своей шее чьи-то холодные пальцы. Её схватил дед Бессмертный, к которому девушку отнесло потоком. Старик, казалось, опьянел от голода; долгая нищета притупила его разум, неизвестно откуда взявшееся озлобление вывело из состояния вечной покорности. Человек, спасший на своём веку от смерти немало товарищей, задыхаясь от рудничного газа, рискуя собственной жизнью при обвалах, не мог устоять перед искушением задушить эту девушку; он и сам не в состоянии был бы объяснить, почему его так притягивала к себе её белая шея. Старый калека не произнёс в тот день ни слова и, сжимая пальцами горло Сесиль, казалось, поглощен был воспоминаниями.
– Нет, нет! – вопили женщины. – Надо оголить ей зад! Оголить зад!
Как только в доме увидели, что происходит на улице, Негрель и г-н Энбо храбро отворили дверь и бросились выручать Сесиль. Но толпа напирала на садовую решетку, и выйти не было возможности». (Часть пятая. Глава V).
Чтобы спасти девушку, Этьен предложил бежать к лавочнику Мегра. Но тот уже давно морил посёлок голодом. Сцена расправы над лавочником даёт отчетливое представление о том, что такое монтаж в романах Золя.
«В ту же минуту раздалось улюлюканье:
– Смотрите, смотрите, кот на крыше!.. Бей кота!
Толпа заметила Мегра на крыше сарая. Несмотря на полноту, лавочник сгоряча с необычайной ловкостью вскарабкался на стену, не обращая внимания на ломавшиеся доски, и теперь, лежа плашмя на крыше, пытался пробраться к окну. Но крыша была крутая, ему мешал живот, ногти обламывались. Всё же он дотянулся бы доверху, но его стала пробирать дрожь от страха, что его побьют камнями, – невидимая толпа продолжала кричать внизу:
– Бей кота! Бей кота… надо его прикончить!
Внезапно пальцы его ослабели, он скатился, как шар, зацепившись за водосточную трубу, и упал на дорогу у смежной стены так неудачно, что раскроил себе череп о тумбу. Брызнул мозг. Мегра был мёртв. Наверху его жена, побледнев, прильнула лицом к стеклу и всё смотрела.
Сперва все были ошеломлены. Этьен остановился, топор выскользнул у него из рук. Маэ, Левак и остальные, забыв про лавку, обернулись к стене, по которой текла тонкая красная струйка. Крики прекратились, в наступающих сумерках водворилась тишина.
Но тут же возобновилось улюлюканье. Женщины бросились вперёд, опьяненные видом крови.
– Значит, есть бог на небе! А, боров, вот и покончено с тобой!
Они окружили ещё теплый труп, со смехом глумились над ним, обзывая грязным рылом размозженную голову покойника; несчастные, лишённые хлеба насущного люди изрыгали в лицо мертвеца свою застарелую злобу.
– Я должна тебе шестьдесят франков, на, получай, вор! – в бешенстве крикнула Маэ. – Теперь ты больше не откажешь мне в кредите… Погоди-ка! Погоди! Надо тебя ещё откормить! Она обеими руками стала рыть землю и неистово запихивала ему в рот целые пригоршни.
– На, жри, жри!.. Ел нас поедом, а теперь жри сам!
Брань повисла в воздухе, а покойник, лежавший неподвижно на спине, уставился огромными глазами в небо, с которого спускалась ночь. Земля, которую Маэ втиснула ему в рот, была тем хлебом, в каком он ей отказал. И отныне он будет питаться только этим хлебом. Не принесло ему счастья, что он морил голодом бедняков.
Но женщинам нужно было мстить ещё и ещё. Они кружили вокруг трупа, подобно волчицам. Каждая стремилась надругаться над ним, облегчить душу какой-нибудь дикой выходкой.
Раздался пронзительный голос Прожженной:
– Надо его выхолостить, как кота!
– Да, да! Как кота!.. Как кота!.. Слишком много гадостей творила эта сволочь!» ». (Часть пятая. Глава V).
Я думаю, сцену не надо комментировать. Эйзенштейн был прав, по форме это, действительно, готовый монтажный лист. Смена планов как в образцовом сценарии. Золя показывает стачку двойственно. На первый взгляд это страшная, озверевшая толпа, готовая всё на своем пути разрушить. Но в то же время Золя понимает, что люди доведены до такого состояния самими нечеловеческими условиями своего существования. Это скорее предостережение писателя: если европейский капитализм не предпримет каких-либо шагов, чтобы изменить бедственное положение рабочих – вот чем это грозит обернуться: неизбежным крахом всей европейской цивилизации.
Стачка, в конце концов, была подавлена, рабочих вынудили вернуться в шахты. Но злоба осталась жить…
В романе представлены три лидера этого движения. Один из них – это главный герой романа Этьен Лантье, последователь идей Маркса и Первого Интернационала. Второй – социалист Роснер, склонный скорее к умеренным соглашениям, и третий – это русский анархист Суворин. Золя был достаточно близок с Тургеневым, который в то время жил в Париже, и об анархистах знал по рассказам русского писателя. Этьен решает вернуться в шахту, но Суворин не хочет допустить примирения. Он – анархист, и то, что рабочие готовы покориться, кажется ему недопустимым. Он устраивает в шахте обвал. Среди погибших оказалась Катарина, которую Этьен любил. Сам Этьен выжил чудом. Он поднимается на поверхность из шахты. Этим завершается роман. И в общем, Золя изображает здесь поражение, никто ничего не сумел добиться. Старуха Маэ, которая играет важную роль в этом произведении, потеряла мужа, сына, дочь и теперь вынуждена сама идти работать в шахту. Она провожает Этьена, покидающего поселок. «Этьен с глубоким волнением смотрел ей вслед: какая она усталая, забитая, лицо бледное, из-под синего чепчика выбиваются выцветшие волосы, – плодовитая самка, дородное тело которой безобразили холщовые штаны и блуза. В её последнем рукопожатии он почувствовал рукопожатие товарища – крепкое, долгое и безмолвное, Этьен всё понял; в глазах её светилась спокойная уверенность. До скорого свидания! Но тогда уже это будет решительный бой». (Перевод: Н. И. Немчинова).
Роман не случайно называется «Жерминаль». По календарю французской революции это название апреля, месяца весенних всходов. Так что название книги тоже глубоко символично. Хотя стачка практически ничего не изменила в жизни рабочих, но всё-таки она была необходима, считает Золя. Благодаря стачке произошёл важный перелом в их сознании, люди показали, что они не смирились и никогда не смирятся с несправедливостью. И это, по мнению писателя, таит в себе надежду на перемены.
Кроме цикла «Ругон-Маккары», Золя создал ещё ряд циклов: «Три города», «Четыре Евангелия». Однако финалом его биографии стало участие на стороне защиты в знаменитом деле Дрейфуса, громком судебном процессе, переросшем в социальный конфликт. Вообще, начиная с XIX века в Европе, и в частности, во Франции, утвердился тип писателя, который оставался сторонним наблюдателем происходящего. Дело писателя – творить, работать над художественными произведениями. Золя вернул литературной деятельности ту активную роль, которую она играла в предшествующем XVIII веке. Золя как защитник Дрейфуса повторил поступок Вольтера, выступившего в своё время в защиту несправедливо обвинённого Каласа. Заняв столь определенную нравственную позицию (Золя опубликовал обращенное к французскому президенту открытое письмо, в котором говорилось о предвзятости военного суда и об отсутствии у обвинителей серьёзных улик против Дрейфуса), писатель произвёл огромное впечатление на современников как во Франции, так и за её пределами. Анатоль Франс писал, что Золя явился «целой эпохой в истории человеческой совести». Чехов, который вообще не любил Золя, поскольку его художественный метод действительно был ему глубоко чужд, писал: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Как писателя, я мало любил его, но зато как человека, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его очень высоко….». Соотечественники тоже не слишком признавали Золя – писателя, тем не менее, он был удостоен великой чести быть похороненным в Пантеоне, усыпальнице выдающихся людей Франции, но ни как автор «Ругон-Маккаров», а как защитник Дрейфуса.
Европейская «новая драма»
Её основатель Генрик Ибсен родился в 1828 году в городе Шиен, умер в 1906 в норвежской Кристиании. Вообще, Норвегия в те времена во многом являлась отсталой страной. Но это отставание носило особый характер. Не то чтобы Норвегия была отброшена в прошлое какими-то драматическими событиями, а просто все исторические процессы здесь развивались гораздо медленнее, чем в других европейских государствах. Существенно, что почвой норвежского капитализма служило крестьянство, которое, кстати, не знало крепостной зависимости – то есть норвежский крестьянин всегда был свободным. По словам Энгельса, "норвежский мелкий буржуа – сын свободного крестьянина, и вследствие этого он настоящий <человек> по сравнению с опустившимся немецким мещанином». Норвежский капитализм, начавший формироваться достаточно поздно, тем не менее, складывался очень органично, чего, пожалуй, нельзя сказать ни об одной другой европейской стране.
Литература Норвегии тоже примерно до второй половины XIX века воспринималась как нечто обособленное, скорее как некое провинциальное явление. Но с середины XIX века норвежская литература переживает значительный подъём и выдвигает крупнейшего драматурга эпохи – Генрика Ибсена. Собственно говоря, XIX век был великим веком романа, а в драме это столетие впервые сумел выразить именно Ибсен.
Деятельность Ибсена как драматурга началась в середине XIX века, в 50-е годы. Ибсен переехал в Христианию, столицу страны, нынешний город Осло, где стал одним из руководителей художественного театра. Ранние драмы Ибсена были глубоко связаны с норвежским фольклором. Эта традиция вообще характерна для норвежской литературы, и прослеживается вплоть до творчества выдающейся норвежской писательницы XX века Сигри Уннсет (1882–1949), автора знаменитых романов «Кристин, дочь Лавранса» (три тома, 1920–1923) и «Улав Эудунссён» (четыре тома, 1925–1927), удостоенных Нобелевской премии.
В 1864 году Ибсен покинул Норвегию. В целом около четверти века писатель провёл в эмиграции: жил в Риме, в Дрездене, Мюнхене. За эти годы он лишь дважды посетил Норвегию, а окончательно вернулся на родину только в 1891 году.
Хотя в своих драмах Ибсен и не изображал ничего иного, кроме норвежской действительности, мира, в котором, по точному замечанию Энгельса, «люди ещё обладают характером и инициативой и действуют хотя зачастую с точки зрения иноземных понятий довольно странно, но самостоятельно", европейский опыт всё же заметно повлиял на его произведения. Может, великое значение творчества Ибсена в том и состоит, что он подошёл к европейским проблемам как норвежец, увидел их со стороны. Но, в то же время, и к скандинавским реалиям он отнёсся с позиций европейца. Всё это сделало Ибсена не только норвежским, но и великим европейским писателем.
Несколько слов о драме, написанной перед отъездом в Европу. «Борьба за престол», произведение 1864 года, завершает ранний период творчества Ибсена. Это историческая драма о прошлом Норвегии, как и все ранние его произведения (историческую основу для драмы «Борьба за престол» Ибсен взял из двух источников: «Саги о Хоконе Хоконсоне» (1265) Стурлы Турдсона и «Истории норвежского народа» (1857) П. А. Мунка). Действие драмы условно можно отнести к XIII веку, но та проблема, которую Ибсен здесь поднимает, оказывается в высшей степени актуальной.
Драма изображает один из важных эпизодов истории Норвегии. Отсюда название «Борьба за престол», хотя более точным было бы другое, которое тоже принадлежит Ибсену: «Дерево, из которого делают королей». Главные герои этой драмы – это два претендента на норвежский престол, Хокон Хоконсон и ярл Скуле. Вначале Скуле полагает, что законным наследником престола является действующий король Хоконсон, которого поддерживает и народ и аристократия, и поэтому его собственное стремление к короне представляется ему не совсем правомерным. Но, и это существенный момент в драме Ибсена, епископ Николай вселяет в Скуле сомнения, пытается убедить его в том, что молодой король – незаконный властитель Норвегии, хотя страна и достигла при нём невероятного расцвета. Епископ уверяет, что Хокон Хоконсон, якобы не родился королем, был подкидышем, и поэтому у ярла Скуле куда больше оснований претендовать на норвежский трон. Надо сказать, что до конца драмы этот вопрос остается открытым. В финале епископ умирает, так и не раскрыв всей правды. И это не случайно: в драме Ибсена это не имеет никакого значения.
У Хокона Хоконсона есть серьёзное преимущество – наследник. У Скуле наследника нет. У него есть дочь, но она не может взойти вслед за отцом на престол. Он мечтал бы иметь сына. Но и эта проблема оказывается решённой. Приходит женщина, которая когда-то в юности была его любовницей, и говорит, что у них есть сын. Это юноша, которого она приводит с собой. Ярл Скуле несказанно рад: у него теперь есть наследник, всё благополучно. Ещё до появления этой женщины, которую он когда-то любил, происходит его разговор с бродячим певцом, по имени Ятгейр. Скуле говорит Скальду: «Будь у меня дочь сыном, я бы не спрашивал у тебя, какого дара мне не достаёт. Мне надо иметь возле себя кого-нибудь, кто не знал бы иной воли, кроме моей, повиновался мне слепо, верил бы в меня неколебимо, прилепился бы ко мне всей душой на добро и на зло, жил бы для того, чтобы освещать и согревать мою жизнь и умер бы, если я паду. Дай мне совет, Скальд.
– Возьмите себе собаку, государь, а человека на это не хватит, долго пришлось бы вам искать такого человека».
Тогда Скуле обращается к скальду Ятгейру:
– Хочешь быть ты моим сыном? Ты унаследуешь корону Норвегии, ты обретёшь страну и государство, если согласишься быть мне сыном, жить для моего дела и верить в меня. Откажись от своего призвания, не слагай больше песен, и я поверю тебе.
– Нет, слишком дорого обошлась бы мне корона.
– Поразмысли хорошенько, король выше скальда!
Не всегда.
Ты пожертвуешь лишь несложенными песнями.
Несложенные песни всегда самое прекрасное!
Но мне надо найти человека, который верил бы в меня, лишь одного-единого. Я чувствую, будь он у меня – я спасён!
Но тут в стан мятежников приходит сообщение, что Хокон Хоконсон наступает, и скальд произносит такие слова:
– Если суждено кому-то пасть сегодня ночью, я с радостью первый сложу за вас голову.
– Ты? Но ты не захотел жить для меня!
– Можно сложить свою голову за дело другого, но жить можно только для себя.
Сила Хокона в том, что у него есть идея. Это новая идея, которую не знала прежняя Норвегия. За этой идеей – будущее. Хокон Хоконсон стоит во главе народного движения. «Счастливейший, вот величайшие дела совершает – счастливейший. Тот на кого требования времени сходят сами собой, словно в порыве, походя, родят мысли, которые он сам не понимает, но которые указывают его пути, куда они ведут, он сам не знает, но всё-таки идёт и идёт, пока не услышит радостных криков народа. Остановится, оглядится и с удивлением поймёт, что совершил великое дело».
Им владеет идея превращения Норвегии в единое национальное государство. До сих пор правители страны руководствовались известным римским принципом «разделяй и властвуй». Но Хоконсон стремится не просто создать сильное государство, в котором не будет противоречий между различными областями и правителями, а чтобы норвежцы стали единый народом. Эта великая идея даёт Хокону Хоконсону силу и уверенность. Но жаждущий власти ярл Скуле решает украсть у него эту идею. Скуле сам провозгласит её, и за ним пойдут люди.
Главная проблема здесь: можно ли вообще похитить чужую идею?
Сын бесконечно верит Скуле, готов ради него, кажется, на всё. Скуле потрясён – это то, о чём он мечтал. Он говорит: как же ты решился пойти ради меня на преступления? Но сын отвечает, что не ради него, а во имя идеи готов даже пожертвовать жизнью. Теперь он только тень Скуле, он – ничто.
Всё завершается, как и положено, победой короля Хокона Хоконсона, победой национальных сил. Единственное, на что оказался способен мятежник Скуле, – это то, что в своё время предрёк ему скальд: он вышел к разгневанному народу, который его растерзал.
Можно умереть за чужую идею. Но жить нужно своей…
Однако тема, которую поставил Ибсен в этой драме, не может быть грубо сведена лишь к проблеме плагиата. Она имеет и более широкий смысл. Это проблема, которая пройдёт через всё творчество Ибсена – проблема человеческой личности.
Вообще, на творчество Ибсена большое влияние оказали идеи датского философа Серена Кьеркегора. Слава основоположника экзистенциализма к Кьеркегору пришла достаточно поздно, уже в следующем, XX веке. В XIX веке его имя мало кто знал, и может быть, идеи философа открылись европейцам именно благодаря драмам Ибсена. Для того чтобы представить, что за человек был Кьеркегор, приведу один факт. Немецкий философ Ф. Шеллинг, крупнейший теоретик немецкого романтизма, предшественник Гегеля, читал свой последний курс в университете. Когда-то его лекции собирали огромные аудитории, он был очень популярен. Но в этот период слава его осталась в прошлом, идеи романтизма были забыты, начиналась новая эпоха. Поэтому у Шеллинга было очень мало слушателей, всего трое. И это были Фридрих Энгельс, Михаил Бакунин и Кьеркегор.
Кьеркегор утверждал субъективный характер истины, и с этой позиции резко критиковал Гегеля: «Истина – это не только форма знания, она – форма бытия, она неотделима от всего существования человека». Кьеркегор всячески подчеркивал в истине личностное начало. Раньше считалось, что главное – это объективность, а он выдвинул на первый план субъективность, индивидуальность, оригинальность, неповторимость, порой даже парадоксальность истины.
Философ считал, что существуют два типа безумия. Первый – это гипертрофия субъективного. Яркий пример подобного безумия – это Дон Кихот, который верит лишь в реальность своего воображения, не соотнося его с объективной действительностью. То, что волнует Дон Кихота, нисколько не занимает окружающих. Дон Кихот выпадает из мира, он безумен, потому что живёт в сфере собственных вымыслов. Но есть и другой тип безумия – объективный. В этом случае человек принимает нечто за истину, значимую для всего человечества, и «монотонно, с достоинством высокоучёного пономаря» это повторяет. Такой вид безумия, состоящий в отсутствии внутреннего, Кьеркегор считал даже более пугающим, чем субъективное помешательство. Охваченному первым страшно посмотреть в глаза, чтобы не открыть глубину безумия, а на второго трудно отважиться взглянуть – из страха перед возможностью обнаружить нечеловеческий застывший взгляд.
Конечно, здесь есть две стороны. Во-первых, нельзя вообще высказать такой мысли, которая бы не была уже кем-то высказана до тебя: всё уже было когда-то. Но, с другой стороны, любая истина должна пройти через субъективное. Если принять её механически, повторять как магнитофон, можно крутить это сколько угодно, но к истине это не будет иметь никакого отношения. Любая идея, мысль должны пройти через собственное сознание, душу человека. Если идею просто механически усвоить, то цена ей – грош. Вот ярл Скуле пытался повторить Хокона Хоконсона, и ничего из этого не вышло. Украсть чужую мысль нельзя, плагиат в чистом виде невозможен.
В Европе Ибсен написал три философские драмы: «Бранд», «Пер Гюнт» и «Кесарь и Галилеянин». Наиболее значительная из них, «Бранд», имеет подзаголовок, для Ибсена очень существенный: «Действие происходит в наши дни». Сам язык этого произведения для европейского сознания кажется весьма архаичным. Драма похожа на «Фауста» Гёте или «Каина» Байрона. «Бранд» был создан Ибсеном в 1865-ом году, когда уже широкую известность получили произведения Бальзака, Стендаля, Флобера, романы Золя. Так в то время в Европе уже не писали. Художественный язык драмы Ибсена напоминал литературу начала века, но по своей проблематике она оказалась более чем современной.
Главный герой драмы – молодой пастор Бранд. То, что центральный перонаж – священник, конечно, необыкновенно важно, но только понимать это следует не буквально, а в более широком смысле. Например, герой говорит о себе: «Я не писец проповедей, я не церковный свод идей». Он даже не уверен до конца, является ли христианином. Бранд – священнослужитель в каком-то ином, внеконфессиональном смысле. Его интересует человеческая душа, он спасает души. Начало драмы – описание голода. Жители деревни умирают от голода, а человека, ставшего их священником, это совершенно не волнует. Но когда умирающий обращается к Бранду с просьбой исповедовать его перед смертью, хотя это и сопряжено с огромными опасностями, необходимостью преодолеть реку, на которой начался ледоход, его ничто не может остановить. Речь идёт о спасении человеческой души! Бранд очень остро чувствует свою главную задачу.
Его мучает, что современные люди стали своего рода дробями:
Попробуй обойди наш край
И в души всех людей вникай;
Поймёшь – умеют в наши дни
Всем понемногу быть они:
Чуть важными по воскресеньям,
Чуть чтущими завет отцов,
Чуть падкими на наслажденья
(Как их отцы, в конце концов);
Чуть тронутыми за попойкой,
Когда про маленький, но стойкий,
Не знавший палки до сих пор
Народец горный грянет хор;
Чуть щедрыми на обещанья,
Чуть трезвыми на совещанье,
Как данный на пиру обет
Сдержать, но без потерь и бед, –
Да, да, они чуть-чуть во всём,
Чуть-чуть в хорошем и в плохом, –
Они в большом и малом – дроби,
В добре и в зле, в любви и в злобе;
Всего ж страшней, что дроби часть
Берёт над всем остатком власть! (455)
(Действие второе)
Человеку стало важно «жить», а не «быть»:
Вы жизнь и веру разлучили;
Вам быть не важно, лишь бы жили;
Хоть дух возвысить вы стремитесь,
Но полной жизнью жить боитесь;
Вам нужен – в зле, в добре скитальцы –
Бог, что на всё глядит сквозь пальцы;
Как род людской – того же толка,
С большою плешью под ермолкой!
Но этот дряхлый бог – не мой;
Мой – буря там, где ветер – твой,
Где твой лишь глух, мой – беспощаден,
Вселюбящ там, где твой прохладен;
Мой – Геркулес в венце побед…
(Действие второе)
Главная задача Бранда – попытаться помочь людям вернуть утраченную целостность, а путь к ней, по мнению Бранда, один – вновь научить людей совершать выбор. Но этот выбор должен быть абсолютным. Он выражается формулой «всё – иль ничего», иначе это не выбор, а компромисс.
Иногда Ибсена упрекали в том, что выбор в его драме носит формальный характер. Конечно, важно, чтобы человек делал выбор, но важно и что он выбирает. Бранда не интересует, что выбирать, главное – выбирать, исходя из принципа «всё – иль ничего», а содержание выбора для него не столь существенно. Справедлив ли этот упрек? Нет, не справедлив. Во-первых, для Ибсена люди делятся на две категории: тех, которые выбирают, и тех, кто на это не способен. Сначала надо решиться сделать выбор, а уже потом думать о том, что ты выбираешь. Надо, прежде всего, быть способным выбирать. Кроме того, и это самое главное, выбор Бранда содержателен: человек, в сущности, всегда выбирает самого себя. «Ужас – личности утрата, компромисс – вот сатана».
Мать Бранда всю жизнь копила деньги, а теперь она при смерти. Бранд требует, чтобы мать отдала всё собранное на строительство церкви. Она согласна отдать половину, даже три четверти. Но нет. Бранд требует, чтобы мать отдала всё. Таков его принцип, и поэтому он не приходит к умирающей ни как сын, ни как священник, поскольку женщина отказалась сделать выбор.
Первый конфликт драмы – это конфликт Бранда с доктором. Это очень важный момент. Так же, как профессия священника символична, так и профессия врача в драме несёт явный символический смысл. Он – врач, занят исцелением тела, а Бранд – священник, его интересует дух. И второе. Врач стремится облегчить человеческие страдания. Не всегда в его силах сохранить жизнь человеку, но врач всегда пытается помочь, в нем живёт дух милосердия. От смерти не спасёшь, но муки, страдания можно облегчить, можно поддержать больного. В этом долг врача. Доктор очень осуждает Бранда за то, что тот не идёт к умирающей матери.
Да, силы воли quantum satis
Вписал в свой счёт конторский ты,
Но, прест, твой conto caritatis
Весь сплошь – лишь белые листы!
(Действие третье)
Но Бранд – противник всякой гуманности, которую он считает малодушием:
Гуманность! Дряблой лжи отстой!
Вот всей земли завет пустой!
Им маскирует каждый трус
Бессилье взять деянья груз;
Ничтожество, что дел не хочет,
Им лень свою прикрыть хлопочет;
Вот щит, спасающий от бед,
Чтоб легче нарушать обет,
Чтоб лилипутов из людей
Создал гуманный свод идей!
Гуманен был ли Бог с Христом?
(Действие третье)
Христос, молясь в Гефсиманском саду, просил Отца небесного, чтобы его «миновала чаша сия». Но Бог послал сына на крест. Гуманность?!
Бранду посчастливилось: он встретил прекрасную женщину, Агнес, которая его полюбила. На деньги, которые оставила мать, он будет строить храм, а сам становится настоятелем в одном из северных приходов. Он пользуется огромной популярностью у своих прихожан, его проповеди имеют успех. Бранд вроде бы счастлив, но его сын Альф тяжело заболевает. У мальчика – чахотка, и, по словам врача, единственное спасение для него – это поездка на юг. Бранд решает оставить приход и уехать в Италию, чтобы спасти сына, который его очень любит и который так дорог его жене Агнес. Но доктор, вполне одобряя этот шаг, всё-таки напоминает Бранду: когда он просил его проявить милосердие к матери – тот не послушался.
Вы стали попросту отцом.
Я не корю вас в этот раз:
Вот так, с поломанным крылом,
Величья больше стало в вас,
Чем в эдаком борце-титане!
Прощайте! Зеркало припас
Я вам, – себя увидев в нём,
Вздохните: "Боже! Вот каков
Герой, штурмующий богов!"
(Действие третье).
Теперь Бранд поступает правильно, а тогда, с матерью, нет. И Бранд отказывается уезжать. Мальчик умирает. Но прихожане необыкновенно признательны своему священнику, который не бросил приход, даже пожертвовал сыном ради них. Его популярность и авторитет только возросли.
Ещё один конфликт Бранда – это конфликт с мэром Фогтом. Мэр всегда солидарен с большинством. Вообще, сам Ибсен был противником большинства. Он даже написал специальную драму «Доктор Штокман (Враг народа)», герой которой идёт против большинства. Большинство – это сила, но не всегда правда. Когда истина становится достоянием большинства, она утрачивает всякую энергию. Мэр на стороне большинства, и поскольку оно стоит за Бранда, он меняет своё отношение к священнику.
Главные символические цвета Бранда – это чёрный и белый. Это черная ряса на фоне белого снега, а цвет Фогта – серый. Это смесь чёрного и белого, цвет компромисса.
Но, но!
Кричу – "серо", а не "черно"!
В гуманный век должны стараться
Сходиться мы, а не бодаться;
У нас свободная страна,
Где есть общественное мненье;
К чему ж особое сужденье,
Бела ли вещь или черна?
Итак, скажу двумя словами:
Вы – первый, большинство за вами;
Отныне к бывшему врагу
Я примыкаю, как могу, -
И упрекнут меня едва ли,
Что я не стал бороться дале…
Я вижу, судит здесь народ
Меня за мелочность забот;
Другое больше уважая,
Чем повышенье урожая;
Дань на общественный алтарь
Несут не так легко, как встарь;
А не хотят играть соседи
В одну игру, – не быть победе!
Мне горько бросить план работ
По осушению болот,
Мосты, дороги, удобренья,
Но, Боже! если мы в сраженье
Не можем сразу победить, -
Мудрей в сторонку отступить,
Отнюдь не ссориться со всеми,
Надежду возложив – на время…
Лишился тем же я путём
Народного благоволения,
Каким снискал его, – но рвенье
Моё вернёт его потом.
(Действие четвертое).
Итак, суть Фогта – это следование настроениям большинства. Его поведение направлено на достижение материального прогресса: надо заботиться не о душе, а о материальном благополучии:
Нет, видит Бог, не так совсем, –
Я пекся лишь о благе края!
Но кто же станет спорить с тем,
Что человек, творить стараясь,
Ждёт компенсации всегда
За плод удачного труда?
Конечно, если кто умён,
Способен, делен, – хочет он
Собрать плоды своих работ,
А не точить кровавый пот
Всю жизнь за голую идею!
Не откажусь я от забот
О пользе ради высших дум.
Не раздарю чужим весь ум:
Семьёй большою я владею –
Жена и дочек целый полк, –
Пристроить их мой первый долг;
Идеей голод не уймёшь,
Идеей жажду не зальёшь.
Кто дом, как я, большой имеет,
Меня поймёт; тому ж, кто смеет
Корить меня, ответ один:
Он, видно, скверный семьянин.
(Действие четвертое).
Фогт хочет вернуть себе доброе имя в народе:
Большое дело дам им снова,
На полный ход пущу притом,
Вновь стану первым петухом
И им не дам избрать другого!
Он на многое готов ради этого:
Для пользы округа не прочь
Я горькой нищете помочь:
Я ей построю чумный дом,
Да, чумный дом – и тем зараз
Других спасу от всех зараз;
С арестным домом воедино
Связать удобно этот дом,
Чтоб запер следствие с причиной
Один засов с одним замком –
Двойное стойло с разгородкой;
А там уж разговор короткий,
Как разойдусь, пристроить в срок
Под ту же крышу флигелёк
Для выборов, для угощенья,
Для важных дел и развлеченья,
С трибуной, залом для гостей
И всяких праздничных затей, -
Ну, словом, не поймите грубо,
Род политического клуба!
(Действие четвертое).
Этот дом, предназначенный «для выборов, для угощенья, для важных дел и развлеченья», есть некоторый символ его идеалов…
Третий конфликт Бранда – это конфликт с мэром Пробстом. Произошло одно важное событие, к которому мы ещё вернемся: Бранд построил церковь на деньги матери, новую церковь. И здесь он сталкивается с государством, представителем которого является в драме Пробст. Государству, интересы которого Пробст выражает, не нужна свобода личности, ему ближе идея равенства:
Ведь государство – вряд ли знать
Могли вы это – вполовину
Республиканец. Хоть оно
Свободу гонит, как чуму,
Но любо равенство ему,
И потому оно должно
Все горы превращать в равнину;
А ваша цель была обратной:
Вы увеличили стократно
Различье взглядов у прихода,
Как никогда в былые годы!
Вы личность создали, а ране
Тут были только прихожане;
По чести, скверная услуга!
Затем и поступает туго
Налог подушный, подоходный,
Что церковь перестала вдруг
Быть шапкою, для всех пригодной!
(Действие пятое).
Мэр требует, чтобы Брад служил интересам государства. Бранд отказывается.
Ибсен вообще был резким критиком государства. «Свобода, равенство и братство, – писал он, – то же самое, чем были дни блаженной гильотины. Но этого не хотят понять политики, вот почему я их ненавижу. Эти люди хотят социальных революций – внешних, политических, а всё это мелочи, нужна революция человеческого духа. Государство – это проклятие для индивида. Чем куплена государственная мощь Пруссии? Подавлением индивида, превращением его в политическое и географическое понятие. Долой государственное иго – вот революция, в которой я готов принять участие. Подрывайте само понятие государство, ставьте условием общественности лишь добрую волю и духовное единение людей. Это и будет началом достижения той единственной свободы, которая чего-нибудь стоит. Перемена форм правления – не что иное, как игра в бирюльки».
Бранд вступает в противостояние с властью. Он отказывается служить в подчинённой государству церкви, и зовёт свою паству уйти вместе с ним в горы. Этому предшествует одно очень важное событие – смерть жены Бранда, Агнес. Она очень тяжело перенесла гибель сына, жила лишь воспоминаниями о мальчике. И вот к ней приходит цыганка и просит отдать вещи умершего ребенка. Агнес готова с ними расстаться, но хочет оставить себе на память чепчик. А Бранд говорит: «Всё – иль ничего». Дело принципа.
Наступает Рождество. Агнес зажигает огни на ёлке. Может, она и не до конца в это верит, но ей хочется думать, что дух ушедшего из жизни сына где-то рядом. В сущности, она ради него украсила эту ёлку. Но Бранд не может её понять. Мальчик умер. Надо смотреть на вещи трезво, а не утешаться иллюзиями. Сына больше нет. Если его душа и существует по-прежнему, то где-то в ином, недоступном человеку мире, не надо себя обманывать – это недостойно. Агнес соглашается с Брандом и… умирает.
И вот финал этой драмы. Бранд ведёт людей в горы, где должна быть ледяная церковь. Вначале они ему верят и идут за священником. Но люди хотят знать, когда же они, наконец, доберутся? Однако, в ответ слышат, что важно идти, а не прийти.
Как долог бой? Пока ты жив!
Пока всех жертв не положив,
Ты не придёшь к концу межи,
Расторгнув цепи соглашенья,
Почуяв воли торжество,
Изгнав трусливые сомненья
Пред долгом: всё – иль ничего!
(Действие пятое).
Но люди хотят всё-таки окончания пути. В это время появляются Фогт и Пробст, которые сулят им облегчение участи и всякие материальные блага. Люди видят, что священник ведёт их в неизвестность и отворачиваются от него. Они бросают в него камни. Бранд остаётся один. Единственная, кто остаётся рядом, решает сопровождать его до конца – это пятнадцатилетняя цыганка Герд, которая даже принимает его за Христа. Это она ещё в самом начале звала его в горы, но тогда он не хотел этого делать.
Г е р д (не слушая его)
Идём смотреть оленье стадо,
Его обвал убил зимой,
Теперь растаял снег с весной…
Б р а н д
Нейди туда! Там так опасно!
Г е р д (показывая вниз)
Нейди туда! Там так ужасно!
(Действие первое).
Теперь Бранд решается совершить этот путь, но видит, что все остальные его покинули. И здесь ему является видение:
Он взглядывает наверх; там появляется мерцающее пятно, которое быстро растёт в тумане, это ж е н с к а я ф и г у р а в светлой одежде, в накинутой на плечах мантии.
В и д е н и е (улыбается, простирает к нему руки)
Бранд, я здесь, опять с тобой!
Б р а н д (в смятении вскакивает)
Агнес! Агнес! Что ж тут было?!
В и д е н и е
Бред горячки, милый мой,
Но туман утратит силы!
Б р а н д
Агнес!!
(Хочет броситься ей навстречу.)
В и д е н и е (вскрикивает)
Нет! Не подходи!
Видишь – пропасть между нами:
Водопад бурлит под льдами,
Мчится, плещет впереди…
(Нежно.)
Ты не грезишь: это бденье,
Прочь умчались привиденья, –
Ты был болен долгий срок,
Пил безумья горький сок,
Видел в тяжком сновиденьи,
Что жена твоя ушла…
Б р а н д
Ты жива! Жива! Хвала…
В и д е н и е (быстро)
Тсс!.. Докончишь в час иной…
Время кратко, – в путь, за мной!
Б р а н д
О, но Альф?
В и д е н и е
Он также жив.
Б р а н д
Жив?
В и д е н и е
Здоров, румян, красив;
То был бред, очнись скорей.
Вся борьба твоя – лишь сон.
Альф – у матери твоей,
Мать здорова, вырос он;
Церковь есть ещё в селенье.
Хочешь – сроют во мгновенье;
Вновь внизу, как в добрый год,
Тяжко трудится приход.
<…>
В и д е н и е
Бранд! Иди за мною…
Б р а н д
Вновь я брежу…
В и д е н и е
Кончен бред,
Но ты слаб – стеречь я буду
Твой покой…
Б р а н д
Я крепок!
В и д е н и е
Нет,
Стережёт тебя повсюду
Ужас грез, видений ложь, –
Вновь туманом ускользнёшь
Ты от нас – жены и сына,
Вновь пройдёшь по всем мытарствам,
Коль побрезгаешь лекарством…
Б р а н д
Дай скорее!
В и д е н и е
Ты мужчина,
Сам возьми – в тебе причина!
Б р а н д
Назови же!
В и д е н и е
Всех видений злое пламя
Рождено тремя словами, -
Зачеркнуть их надо смело,
Сделать память – книгой белой,
Б р а н д
Три слова?
Что же?..
В и д е н и е
"Всё – иль ничего!"
Но Бранд отказывается:
То, что долг велит святой:
Воплотить мои мечты,
В яви – призрак воссоздать!
В и д е н и е
Ха! Нельзя! Забыл, куда
Путь приводит?
Б р а н д
В путь опять!
В и д е н и е
Пробуждённый и свободный,
К скачке страхов безысходной
Ты опять вернёшься?
Б р а н д
Да,
Пробуждённый и свободный!
В и д е н и е
Дашь и сына!
Б р а н д
Дам и сына!
В и д е н и е
Бранд, опять?
Б р а н д
Таков мой долг.
В и д е н и е
Жертв бичом хлестать мне плечи,
Чтобы голос сердца смолк?
Насмерть? Да?
Б р а н д
Таков мой долг…
В и д е н и е
Не забудь: за жертвы, беды
Нет наград в твоей борьбе, –
Ты не поднял дух прихода,
Изменили все тебе!
Б р а н д
Я наград не ждал себе!
Не себе искал победы!
В и д е н и е
Тем, кто в шахтах роет ходы!
Б р а н д
И один даст свет для многих!
В и д е н и е
Для потомков душ убогих!
Б р а н д
Мощной воле нет предела:
И один исполнит дело!
В и д е н и е
Но изгнал Он, не забудь,
Человека вон из рая,
Пропасть вырыл Он без края,
Не прейдёшь ты бездн эфира!
Б р а н д
Нам открыт стремленья путь!
В и д е н и е (с грохотом исчезает; туда, где оно находилось, врывается туман; раздаётся резкий и пронзительный голос ускользающего призрака)
Так умри – ненужный миру!
Бранд остается верен себе до конца. Но в герое всё-таки происходит некоторая перемена:
Долго я во тьме морозной
Шёл путём закона грозным, –
Ныне всё объято светом!
До сих пор искал я доли -
Быть скрижалью Божьей воли,
Но отныне солнцем лета
Будет жизнь моя согрета.
Треснул лёд: могу молиться,
Мир любить, в слезах излиться!
Герд удивляется:
Что с тобой? Ты плачешь? Ты?
Жарких слёз стекает стая,
Вон дымятся два следа
Так, что каплями стекая,
Тает вечный саван льда,
Так, что лёд на сердце тает,
На душе слезой вскипает,
Так, что ризы льдов спадают
С престола снежного навек…
(Трепеща.)
Что же раньше никогда
Ты не плакал, человек?..
Она видит на вершине эту ледяную церковь и коршуна, кружащегося над ней, который воплощает для неё зло, и стреляет в птицу. Выстрел вызывает снежный обвал. На Бранда движется эта снежная лавина. Но перед смертью он всё-таки хотел бы знать: правильно ли понимал волю Бога?
Боже! В смертный час открой -
Легче ль праха пред Тобой
Воли нашей quantum satis?..
Лавина погребает его и засыпает всю долину…
Голоса свыше, который раздаётся сквозь раскаты грома, Бранд не слышит, но драма Ибсена завершается словами:
Он есть – Deus caritatis!
Он – Бог милосердия…
Ибсен признавался, что в самые ответственные, высокие моменты своей жизни чувствовал себя Брандом. Это любимый герой Ибсена. Но дело в том, что главный принцип Бранда «всё – иль ничего» действителен лишь для духа. Идти, даже если прийти не дано, – таково требование нашего духа. Дух действительно не признаёт никаких компромиссов, и он, действительно, никогда не сможет остановиться на своём пути, непременно должен пребывать в движении. Но человек не состоит из одного лишь духа, он – часть природы, и сама его жизнь – это компромисс, между прочим. Тело не может существовать по принципу «всё – иль ничего». Оно не может всегда находиться в дороге.
Как быть? У Ибсена нет однозначного ответа…
И всё-таки один ответ звучит в финале драмы. Принцип «всё – иль ничего», конечно, высокий, достойный, и человек, подобно Бранду, может жить, придерживаясь его. Но вот чего он делать не вправе, так это требовать самоотречения и жертвенных поступков от других. К другим надо быть снисходительным. Кстати, Христос, который является неким абсолютным, вневременным примером для людей, взошёл на крест сам, принял грехи и муки мира на себя, а других он миловал и прощал. Вина Бранда, по убеждению Ибсена, в одном: он требовал следовать абсолюту не только от себя, но и от других. Он не знал жалости и милосердия…
Реалистические драмы Ибсена были написаны в 80-е годы. И здесь Ибсен воплотил все художественные достижения, которые возникли в европейской литературе во второй половине XIX века.
Эти годы были временем стабилизации европейского капитализма. Отшумели революционные бури, ушли в прошлое события Парижской Коммуны. В общем, всё стало более или менее спокойно. Однако стабильность была очень кратковременной. Не пройдет и трёх десятилетий, как от всего этого затишья ничего не останется. Наступит 1 августа 1914 года, вспыхнет Первая мировая война, и весь прежний мир будет сметён.
Наиболее чуткие художники заранее ощущали какие-то неявные сдвиги. Внешне жизнь казалась по-прежнему спокойной, но в искусстве, в философии довольно остро проявилось тревожное предчувствие, ощущение, что нечто назревает.
Ибсен задолго до драматических события начала XX века ощутил внутреннее неблагополучие внешне благополучного мира. В этом отношении очень важной прелюдией к его драмам стало его письмо в стихах. В нём рассказывается о корабле, созданном по самым высоким для того времени стандартам, который направлялся из Европы в Америку. Это было очень комфортабельное, благоустроенное судно, погода стояла прекрасная, никаких штормов ничто не предвещало. Вообще, всё было замечательно. Но почему-то пассажиров в пути охватывало какое-то странное беспокойство. Они не могли понять, в чём дело, потому что никаких внешних причин для тревоги не было – надёжный современный корабль, море, солнце, а людям не по себе. И лишь позже выяснилось, что в трюме корабля находился труп. Так вот, этот образ есть некоторая метафора всех реалистических драм Ибсена, в которых присутствует ощущение надвигающейся катастрофы.
Первой и, кстати, самой популярной реалистической пьесой Ибсена стала его драма «Кукольный дом» (1879). Каковы её особенности? Наиболее важная: Ибсен создаёт произведение драматического поля. В «Кукольном доме» представлены разные судьбы героев. Внешне, конечно, они объединены сюжетом. Скажем, главных героев – Нору и Хельмера – связывает счастливый брак, муж недавно получил пост директора банка, всё у них вроде бы благополучно. А вот, скажем, их друг, доктор Ранк, болен наследственным сифилисом, и в конце драмы выясняется, что у него прогрессирующий паралич. Его судьба не связана непосредственно с судьбой Норы, никакой сюжетной связи здесь нет, просто развивается болезнь. Но и брак героини в конце концов расстраивается: Нора уходит из дома. Кстати, доктор Ранк в этой драме – образ, подобный трупу, спрятанному в трюме комфортабельного корабля. В финале он оставляет друзьям карточку с крестом – в знак того, что больше не появится в их доме, его ждёт смерть. Это разные судьбы, а то, что их объединяет, – это общее драматическое поле. Все герои здесь – некое порождение мира, отражение его состояния.
Кроме того, в драме Ибсена особую роль играет подтекст. Вообще, подтекст существовал всегда, не может быть текста, в котором бы не было подтекста. Без подтекста можно представить разве что разговор на иностранном языке. Кстати, на этом приёме построена известная драма Э. Ионеско «Лысая певица», где герои общаются, пользуясь разговорником, и получается абсурд. Без подтекста бывают военные приказы. Там, действительно, никакого подтекста: надо выполнять то, что велено. Во всех остальных случаях подтекст существен. Поэтому, скажем, одна и та же пьеса часто без всяких изменений текста по-разному интерпретировалась в разные эпохи, разными актёрами, разными театрами. Текст оставался прежний, но менялся подтекст.
В драме Ибсена отсутствуют, так называемые, «реплики в сторону». Подобные отступления играли важную роль в старой драме, где герой бросает реплики, не относящиеся к действию, т. е. говорит одно, а в сторону как бы то, что думает про себя. В драмах Ибсена подобные вещи перенесены в подтекст. Текст – это только то, что говорится. Никаких дополнительных высказываний, которые бы выражали мысли персонажей, или что-то иное, скрытое, у Ибсена нет, он это убирает. Поэтому важную роль приобретает ремарка, причём ремарка, уточняющая жест. Жест вообще несёт огромную смысловую нагрузку в театре Ибсена. Конечно, жест был важен и в старом театре, но интерпретация его принадлежала актёру. А у Ибсена жест изначально задан в ремарках.
В драмах Ибсена подтекст становится даже более важен, чем текст. Немирович-Данченко однажды очень хорошо сказал о подтексте: «Когда птица ходит, в подтексте – она умеет летать». В старой драме подтекст, как правило, дополнял текст: вносил различные смысловые оттенки, углублял. Особенность драм Ибсена в том, что в них подтекст начинает контрастировать с текстом. Возникает ярко выраженный контраст текста и подтекста. В тексте изображается внешнее благополучие, а в подтексте – полный разлад мира. В этом заключается главное художественное открытие Ибсена-драматурга.
В «Кукольном доме» нашёл отражение опыт реалистического искусства XIX века. В этой драме нет той символики, той условности, которая, скажем, характерна для ранних драм Ибсена «Бранд» или «Пер Гюнт». В ней дана реалистически точная картина жизни. Я уже говорил, правда, в другой связи, что в драмах Ибсена большую роль играет ремарка. В этой драме существенна ремарка к первому акту, которая вводит нас в мир «Кукольного дома». Как и при чтении реалистического романа XIX века, здесь надо быть очень внимательным к малейшим деталям: «Уютная комната, обставленная со вкусом, но недорогой мебелью. В глубине, в средней стене, две двери: одна, справа, ведёт в переднюю, другая, слева, в кабинет Хельмера. Между этими дверями пианино. Посредине левой боковой стены дверь, ближе к авансцене окно. Около окна круглый стол с креслами и диванчиком. В правой стене, несколько подальше вглубь, тоже дверь, а впереди изразцовая печка; перед нею несколько кресел и качалка. Между печкой и дверью столик. По стенам гравюры. Этажерка с фарфоровыми и прочими безделушками, книжный шкафчик с книгами в роскошных переплётах. На полу ковёр. В печке огонь. Зимний день». (456)
Всё это требует максимальной приближенности зрителя к сцене. Мы должны подробно рассмотреть обстановку, как бы вжиться в неё. Каждая деталь здесь говорит о многом. Недорогая мебель – герои небогаты. Книжный шкаф с изданиями в роскошных переплётах тоже характеризует обитателей дома. В этой драме, в сущности, осуществляется принцип, который впоследствии провозглашал Станиславский: сцена должна представлять собой гостиную, в которой отсутствует четвёртая стена. Однако у Ибсена в топографии самой сцены, не говоря уже о драме в целом, возникает своя особая символика.
Итак, перед зрителем уютная комната. Но в ней есть дверь. На двери висит почтовый ящик, и когда позже Крогстад опустит в него письмо, мы услышим звук упавшего на дно конверта, – это сыграет очень важную роль в жизни героини. За дверью – внешний мир, который вторгается в мир частный, внутренний, и дверь символизирует границу между ними.
Кроме того, в драме присутствует вертикальное построение пространства. Этажом ниже живет доктор Ранк. Это друг Хельмера, кстати, влюблённый в Нору. Но в финале драмы его ждёт могила. У доктора Ранка – наследственный сифилис. Уже сданы все анализы, и Ранку известно, что не осталось никаких надежд на выздоровление. То, что квартира доктора Ранка расположена на нижнем этаже – не случайно. Это сродни образу «трупа в трюме», о котором Ибсен писал в своем раннем письме в стихах.
И, наконец, существует ещё одна координата – верхний этаж, где Нора станет встречать Новый Год и танцевать тарантеллу. Зритель, правда, этого не увидит. Но в гостиной в этот момент окажутся подруга Норы фру Линне и Крогстад, которым будут слышны звуки музыки, доносящиеся сверху. Таким образом, в драме Ибсена реальное пространство обретает ещё и некое дополнительное символическое измерение.
Я уже говорил, что герои Ибсена существуют как бы в едином драматическом поле. В этой драме соединились разные личные истории – история доктора Ранка, история фру Линне и Крогстада, но в центре – история двух главных героев, Норы и Хельмера, поэтому нередко эту драму именуют также и по имени главной героини «Нора». События драмы разворачиваются под Рождество. Приближается праздник, украшена ёлка, Нора приносит подарки детям. Кажется, это такой благополучный, уютный мир. Тем более, что Хельмер, муж героини, получил наконец должность директора банка, так что материальное положение семьи обещает укрепиться. Впереди праздник. И все здесь вроде бы очень любят друг друга. Когда приходит Нора, Хельмер с ней подчеркнуто внимателен, ласков, хотя считает, что жена – транжира: опять растратила деньги на всякие праздничные безделушки. И даже шутливо корит её, взяв за ушко. Нора так непрактична! Хельмер смотрит на неё сверху вниз. Кстати, жесты здесь тоже очень существенны…
Но в этот праздничный мир вторгаются и другие герои. Приезжает подруга Норы – фру Линне. Она несчастлива, в отличие от Норы, жизнь которой, казалось бы, сложилась вполне удачно. В своё время фру Линне вышла замуж за человека, которого не любила, думала спасти тем самым семью, но никому это не помогло. Она надеялась, что муж богат, а он оказался беден, и теперь, став вдовой, она и вовсе осталась без средств. Она никому не помогла, жизнь её разбита, все жертвы были ни к чему. В самом начале пьесы обозначен этот контраст благополучной Норы и её неблагополучной подруги фру Линне.
Тем временем в комнату входит ещё один персонаж – частный поверенный Крогстад. Фру Линне знакома с Крогстадом. Едва он появился на пороге, она заметно встрепенулась – когда-то этих людей связывала любовь. Вообще, прежде Крогстад занимался неблаговидными вещами, зарабатывал ростовщичеством, но он тоже рано овдовел, остался один с детьми на руках. Наконец он как-то устроился в банке. Но Хельмер, став новым директором банка, выгоняет Крогстада со службы. Почему он это делает? Они с Крогстадом были когда-то друзьями, разговаривали запросто, а теперь Хельмер боится, что это может навредить его репутации: человек с такой сомнительной славой, и с ним на «ты»! Поэтому Хельмер считает лучшим решением уволить бывшего друга со службы.
И вот Крогстад обращается к Норе. Вообще, кажется, что главная героиня драмы, действительно, легкомысленная «певунья», «пташка», «белочка, любящая сладости», но всё это не совсем так. Всё не столь просто в её жизни. Когда-то Хельмер тяжело заболел, и, чтобы избавиться от недуга, врачи посоветовали ему поехать на юг, к морю. Нора заняла деньги на поездку у Крогстада, ничего не сказав об этом мужу. Она до сих пор выплачивает этот долг, выкраивая средства на оплату процентов из семейного бюджета и даже подрабатывая тайком от мужа. Когда Хельмеру кажется, что она тратит деньги легкомысленно, на самом деле она пытается расплатиться с Крогстадом. И вот теперь Крогстад заявляет, что всё расскажет Хельмеру, если Нора не добьётся от мужа, чтобы его оставили в банке. Она не понимает, ведь всё аккуратно ему выплачивает. Но Крогстад на это отвечает: она подписала вексель от имени своего отца, допустив при этом серьёзную оплошность – указала дату уже после его смерти. Подделка финансового документа – это уголовное преступление, и если Хельмер уволит Крогстада, об этом станет известно. Крогстад хорошо знает Хельмера: он не потерпит скандала, не допустит, чтобы все узнали, что его жена подделала подпись! Крогстад советует Норе как можно скорее поговорить о нём с мужем.
Нора пытается убедить Хельмера не увольнять Крогстада, но Хельмер её даже не слушает. В этой сцене важен жест и, кстати, подтекст. Нора просит Хельмера. Он отвечает: нет, я не оставлю Крогстада, человека с такой репутацией, на службе в банке. Нора не решается рассказать мужу правду и начинает говорить о чем-то постороннем, но в ремарке указано, что в этот момент руки она держит на голове Хельмера, поглаживает его волосы. То есть продолжает просить. Но это передано не словом, а жестом.
Нора поняла, что ей не уговорить Хельмера, а Крогстад настаивает. Вот-вот всё станет известно…
События развиваются двояко. Приближается Рождество, а за ним и новогодний праздник. Нора просит мужа отложить в эти дни все дела, даже не заглядывать в почтовый ящик. Внешний ход драмы, её текст – это подготовка к празднику. А подтекст начнет проявляться, как только праздник закончится, и Хельмер прочтёт письмо. Крогстад опускает его в почтовый ящик. Этого не видно, но слышен звук падающего на дно конверта. Нора знает, что письмо уже в доме, и единственное, что теперь в её силах, – это отвлечь Хельмера предпраздничными хлопотами, разговорами о том, как она появится в обществе, какое платье наденет, и как будет танцевать тарантеллу. В тексте – подготовка к торжеству, в подтексте – ожидание развязки.
Самые простые детали здесь обретают драматизм. Нора примеряет праздничное платье, а в это время Крогстад опускает в почтовый ящик роковое письмо. Такая обычная вещь, как примерка наряда становится драматичной, потому что героиня слышит, как конверт падает в ящик. Особенно это заметно, когда Нора репетирует тарантеллу, которую она должна танцевать перед гостями. В этой сцене более сложный подтекст. Нора репетирует танец, зная, что после произойдет её разговор с Хельмером и он узнает правду. Аккомпанирует ей доктор Ранк, которому известно, что он обречён. Тут как бы сплетаются две линии. Видя, как Нора репетирует, Хельмер замечает: «Ты так танцуешь, как будто бы речь идёт о жизни и смерти». Самые обычные вещи в драме Ибсена начинают излучать драматизм. Благодаря подтексту самые простые слова, которые, казалось бы, ничего не значат, обретают вдруг иной, глубинный смысл.
Например, Хельмер говорит Норе: «Знаешь, Нора… не раз мне хотелось, чтобы тебе грозила неминуемая беда и чтобы я мог поставить на карту свою жизнь и кровь – и всё, всё ради тебя». (Действие третье).
Казалось бы, пустая фраза. Но очень скоро наступит момент, когда ему на самом деле придётся что-то ради неё сделать. Благодаря этому все пустые слова, которые он когда-то, не задумываясь, произносил, обретают особый смысл.
И вот развязка этой драмы. Фру Линне договаривается с Крогстадом и, кстати, вместо него поступает на службу в банк. Оба они уже немолоды, одиноки, жизни их разбиты, и вряд ли что-то хорошее ждёт их впереди. Но всё-таки они решают соединить свои судьбы. Вначале в драме была одна счастливая семья и двое несчастных героев. Теперь, если и не счастье, то хотя бы относительное благополучие, кажется, ждёт фру Линне и Крогстада. Фру Линне просит Крогстада, чтобы тот вернул Норе злосчастный вексель. И он опускает в почтовый ящик второе письмо, в котором возвращает Норе её долговое обязательство. Таково условие их брака с фру Линне.
Наступает, наконец, праздничный вечер. Внизу в комнате – фру Линне и Крогстад, а сверху доносятся звуки музыки. На верхнем этаже – танцы, но мы-то знаем, что на самом деле Нора ждёт ужасной развязки, которая неминуемо случится, как только она спустится вниз.
Нора приходит к гостям. Появляется Хельмер… И здесь возникает ещё один важный подтекст. Хельмер очарован Норой, она кажется ему восхитительной, особенно танцующая в праздничном наряде. Но он всё-таки решает заглянуть в почтовый ящик, нет ли писем. Нора говорит Хельмеру: «Сначала я сниму маскарадный костюм».
Эта фраза приобретает символический смысл: до сих пор был маскарад, теперь начнется жизнь. Ещё один существенный момент: приходит доктор Ранк и прощается со всеми. Он благодарит друзей «за огонёк», за подаренное ему душевное тепло и оставляет на память открытку с чёрным крестом: больше он не появится в этой уютной комнате, его ждёт могила. Разные сюжетные линии здесь точно сливаются в одно целое.
А после Хельмер вскрывает первый конверт. Он в ужасе от прочитанного. Дело в том, что он представляет собой тип человека, с которым боролся Бранд. Для него важно, как на него посмотрят другие. Он живёт, всецело ориентируясь на реакцию со стороны. Поэтому книги на его полках непременно в роскошных переплётах и прочее… Достигнув, как ему кажется, благополучия, он не хочет держать поблизости неблагополучного Крогстада… Когда Хельмер всё-таки прочитывает письмо, Нора его успокаивает, говорит, что покончит с собой: «Раз меня не будет на свете, ты свободен». На что Хельмер ей отвечает: «Мне-то какой будет прок из того, что тебя не будет на свете… Ты погубила всё мое будущее». «Дело надо замять во что бы то ни стало. А что касается нас с тобой, то нельзя и виду подавать: надо держаться, как будто всё у нас идёт по-старому. Но это, разумеется, только для людей.» Он заявляет, что Нора, разумеется, останется в доме, но он больше никогда не допустит её к воспитанию детей. Но затем Хельмер открывает второй конверт. И тогда вновь появляется прежний Хельмер. Как Нора мила! Да, да, конечно, всё это она совершила ради него. Его репутация спасена, теперь он будет ещё больше заботиться о своей жене. Однако для Норы всё переменилось. Всё, что на протяжении драмы казалось жизнью, на самом деле было игрой.
Фру Линне с самого начала не могда понять, почему Нора сразу не рассказала Хельмеру, что заняла деньги, ведь всё это было сделано ради него. Ответ Норы был таков: «Это перевернуло бы вверх дном все наши отношения. Наша счастливая семейная жизнь перестала бы тогда быть тем, что она есть». (Действие первое).
Хельмеру нужна Нора – прелестная «куколка-певунья»! Она это знала и играла предложенную ей роль. То, что мы принимали за её жизнь, всегда было театром, а теперь она снимает маску. Последний монолог Норы – это первый серьезный разговор с Хельмером. Она говорит, что ни отец, ни муж не любили её по-настоящему, им только нравилось быть влюблёнными. Отец звал её куколкой-дочкой и забавлялся ею, как она своими игрушками. Потом она попала в дом Хельмера, где её поили, кормили, одевали. Её делом было забавлять мужа. Она стала куколкой-женой. Отсюда название драмы «Кукольный дом».
Чего ждала Нора, почему она боялась рассказать Хельмеру правду? В глубине души она всё-таки надеялась, что муж возьмёт ответственность на себя, скажет, что это не она, а он виноват во всём. Она не хотела, чтобы ради неё он жертвовал репутацией и карьерой. Она ждала чуда, теперь она больше в чудеса не верит. Она считает, что её брак был обманом. Оказалось, что она любила не Хельмера, а совсем другого человека, которого создало её воображение. Он – как все, а она ждала чуда.
Героине «Кукольного дома» присуща высокая норма Бранда. Она не знает, как должна поступить, но всё же решает покинуть дом Хельмера. Она знает, что общество осудит её за этот шаг. Она – жена, мать, и не имеет права бросать семью из-за минутной слабости мужа. Она и сама не уверена, что права, но всё же хочет во всём разобраться и скажет в финале: «Я все эти восемь лет жила с чужим человеком и прижила с ним троих детей…» (Действие третье).
Нора уходит. Она рвёт все связи, чтобы утвердить себя. Как сложится её судьба в дальнейшем, мы не знаем…
Эта драма Ибсена прозвучала в своё время необыкновенно остро. Главная тема века – тема утраченных иллюзий – получила в ней новый, неожиданный поворот. Нора расстается с иллюзиями, как расставались с иллюзиями все прежние герои романов, от Жюльена Сореля до Эммы Бовари. Но всё-таки главным мотивом литературы XIX века всегда было иное: человек расставался с иллюзиями и принимал законы мира, в котором вынужден был жить. Или погибал.
Для Ибсена эта проблема выглядела иначе. Она заключалась не в том, что живого человека, в данном случае – женщину, превращали в куколку. У Ибсена главное, что в игрушке пробуждалась живая душа. Это тема пробуждения человеческого «я». Современники, правда, были склонны рассматривать эту драму в духе модного тогда, да и сейчас, кажется, достаточно распространённого феминизма, считали, что речь идёт об освобождении женщины, о женском равноправии и т.д. Ибсен говорил, что не знает, что такое феминизм. Для него речь в драме шла об освобождении человека. Если выразиться языком Ибсена, о том моменте, «когда мы, мёртвые, пробуждаемся – так называется последнее его произведение – и узнаём, что никогда не жили». Эта мысль особенно отчётливо звучит в поздних драмах Ибсена. Героиня «Кукольного дома», Нора, пробуждается ещё с желанием начать новую жизнь. Последняя ремарка драмы – стук ворот. Нора покинула дом Хельмера, а значит, осталась какая-то надежда. Такого финала у Ибсена больше уже никогда не будет.
Следующая драма – «Привидения» (1881) – выражает взгляд на жизнь, который и в дальнейшем будет характерен для театра Ибсена. В этой драме, кстати, много похожего на «Кукольный дом». В «Кукольном доме» тоже, собственно, ничего не происходило. Никаких новых событий, поворотов сюжета. Ведь изменило жизнь Норы вовсе не то, что Крогстад написал письмо её мужу, а то, что он его забрал. Выясняется лишь то, что было в прошлом. Это драма развязки. В «Кукольном доме» это ещё не так обнажено, поскольку в финале Нора всё-таки уходит от мужа, и создаётся впечатление, что её что-то ждёт впереди.
«Привидения» – это в чистом виде драма развязки. Главная героиня здесь – фру Элене Алвинг. Её муж капитан и камергер Алвинг умер довольно давно. На полученные в наследство деньги она строит приют. Возвращается домой её сын Освальд, молодой художник. В первом акте происходит её разговор с пастором Мандерсом. Здесь мы видим в образе героини прямое продолжение темы Норы. Когда-то фру Алвинг ушла от мужа к пастору Мандерсу. Но пастор заставил её вернуться к мужу и с тех пор считал этот поступок своим главным жизненным подвигом. Он отказался от любви и вернул Элене на путь добродетели. Она вернулась к мужу и через год родила от него сына, Освальда. Пастор Мандерс – это вариант Хельмера. Ему важно, как на него посмотрят другие. И собственно то, что он заставил любимую женщину вернуться к мужу, было в основном продиктовано тем, что он боялся вызвать осуждение в обществе. Например, когда он видит, что фру Элене читает какие-то легкомысленные современные романы, он не возражает, но замечает, что не следует делать это при всех. Его волнует, что подумают другие. Фру Элене рассказывает ему о своей жизни с камергером Алвингом, который ей бесконечно изменял, пьянствовал, с которым она была глубоко несчастна. Мандерс говорит Элене: ваша жизнь – замаскированная пропасть. И первая тайна здесь – это тайна камергера Алвинга.
А второй акт – это тайна её сына. Она воспитала Освальда вдали от отца, не хотела, чтобы тот видел его распутную жизнь. Освальд вырос за границей. И теперь он вернулся. Освальд неизлечимо болен – от отца ему достался наследственный сифилис. Здесь снова звучит тема доктора Ранка, только она уже как бы вплетена в сам главный сюжет.
Третий акт – Освальд впадает в безумие, таков результат болезни. Вот вкратце сюжет этой драмы. Это как бы продолжение истории Норы. Фру Элене – своего рода Нора, вернувшаяся в дом Хельмера.
Почему драма называется «Привидения»? В чём смысл такого названия? И что такое тема наследственности в этой драме? Дело в том, что у Ибсена символика никогда не возникает сама по себе, она обязательно вырастает из какой-то реалистической детали. Он, в общем-то, старается сохранить язык реализма, хотя придаёт происходящему глубинный символический смысл. Так Освальд обнимает служанку Регину, не зная, что на самом деле это его сестра. Мать Регины была любовницей его отца, она тоже дочь камергера Алвинга. Когда эту сцену видит фру Алвинг – когда-то она застала мужа, точно так же обнимавшего мать Регины – ей кажется, будто прошлое вновь возникло перед её глазами. Привидения – это мёртвые, которые восстали из могил. «Мне почудилось, что предо мной выходцы с того света. Но я готова думать, что и все мы такие выходцы, пастор Мандерс. В нас сказывается не только то, что перешло к нам по наследству от отца с матерью, но дают себя знать и всякие старые отжившие понятия, верования и тому подобное. Всё это уже не живёт в нас, но всё-таки сидит ещё так крепко, что от него не отделаться. Стоит мне взять в руки газету, и я уже вижу, как шмыгают между строками эти могильные выходцы. Да, верно, вся страна кишит такими привидениями; должно быть, они неисчислимы, как песок морской. А мы жалкие трусы, так боимся света!..» (Действие первое). (457)
Это как бы призраки прошлого, мёртвое, которое вдруг вновь обрело жизнь.
Когда фру Алвинг узнаёт о неизлечимой болезни сына, она пытается понять, что же всё-таки произошло в её жизни. Вот что она говорит о муже: «Ему пришлось прозябать тут, в небольшом городе, где никаких радостей ему не представлялось, одни только развлечения. Никакой серьёзной задачи, цели жизни, а только служба. Никакого дела, в которое он мог бы вложить свою душу, а только "дела". Ни единого товарища, который бы способен был понять, что такое, в сущности, радость жизни, а только шалопаи-собутыльники» (Действие третье. Сцена третья). Может, камергер Алвинг – жертва того мира, в котором он жил. Может быть то, что он стал пьянствовать и вёл распутный образ жизни, было каким-то протестом против той пустоты, в которой он волей судьбы оказался? Никакой задачи, никакой цели, только служба, никакого дела, только дела, ни единого товарища, который смог бы понять, а только шалопаи и собутыльники. Фру Элене чувствует здесь и свою вину: «У нас только и разговору было, что о долге, обязанностях – о моих обязанностей, об его обязанностях… И, боюсь, наш дом стал невыносим для твоего отца, Освальд, по моей вине» (Действие третье. Сцена третья). Понятно, что жизни не существует без обязанностей, даже любовь их накладывает, но когда возникает «ты должен» – всё меняется. И порой «здесь любви наступает конец».
Теперь вернёмся к главному вопросу – судьбе Освальда. Вообще, в этой драме всё кончается трагически. Приют, который построен фру Элене на деньги, оставленные Алвингом, сгорает в пожаре, а Освальд впадает в безумие. Тема наследственности не случайна в этой драме. Не исключено, что на Ибсена известное влияние оказали идеи Золя, но тема наследственности у него обрела новый, символический смысл. Это мёртвое прошлое, которое давит на настоящее. Кроме того, в этой драме очень важен пейзаж. Вообще, Освальд приехал с юга. Он очень любит южную природу, а здесь всё время пасмурно, идёт дождь, и он мечтает лишь о том, чтобы выглянуло наконец солнце. Драма завершается в тот момент, когда на небе появляется солнце. Последние слова Освальда: «Солнце… Солнце…» В этот момент он впадает в безумие, солнце восходит для него слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить.
Драма «Привидения» есть некий ответ «Бранду». Конечно, дух человека свободен и, как сказано в Библии, «витает, где хочет». Но люди не созданы из одного лишь духа. Кроме того, над ними довлеет прошлое, и сбросить этот груз никому не дано. Можно сколько угодно призывать живительное светило и оставаться, в сущности, мёртвым. Нужно что-то менять в самой каждодневной действительности, а не только в сфере духа.
Литература XX столетия.
Начнём с хронологических рамок. Вообще, все новые века в Европе, кроме двадцать первого, начинались не строго по календарю, а где-то к середине второго десятилетия. Так, скажем, восемнадцатый век берёт начало в 1715 году, с момента смерти французского короля Людовика XIV. Девятнадцатый век стартовал в 1815, когда окончательно рухнула наполеоновская империя. Наступление двадцатого века совпало с началом Первой мировой войны, пришлось на 1 августа 1914 года. Как писала Ахматова, «приближался не календарный – настоящий Двадцатый Век». Духовно же новые века всегда начинали проявляться уже где-то в конце предшествующих. Скажем, девятнадцатый век открылся эпохой романтизма. Истоки двадцатого столетия как духовного явления можно проследить с конца девятнадцатого. К сожалению, двадцать первый век вступил в силу ровно в 2001 году, с событий 11 сентября, без всякой предварительной духовной подготовки. Он буквально обрушился на человечество. К предыдущим векам люди всё же успевали подготовиться: в целом жизнь не менялась, но какие-то предпосылки, признаки назревающих перемен всегда начинали проявляться заранее…
В истории XX века можно обозначить ряд периодов. Первый – примерно с конца XIX века и до начала Первой мировой войны. Это время, когда изменения происходили лишь в сфере духовной. Общего строя жизни они не затрагивали. Второй – это период между двумя мировыми войнами. Третий – после окончания Второй мировой войны и примерно до середины 80-х годов, точнее – до распада СССР. Заключительный период – это последние десятилетия XX века, в которые происходили глобальные геополитические и глубочайшие духовно-нравственный и культурный кризисы.
Прежде чем начать разговор собственно о литературе, несколько слов об общественных факторах, которые определили особенности XX века в целом. Первое – это появление феномена массы. А что такое масса? Мы очень часто употребляем выражения «средства массовой информации», «массовый зритель» и прочее. Но для сравнения, в XIX веке существовали другие понятия – аристократия, народ… В России XIX века огромную роль играла интеллигенция. И лишь в XX веке появилось понятие – масса. Что это такое? Прежде всего, масса – это неструктурированная людская общность. Кстати, массы возникли с появлением городов. В деревне никогда не было масс, потому что деревня – это структурированная общность. Масса могла возникнуть только в городе, причём в крупном городе. Поэтому, пока Россия оставалась аграрной, крестьянской страной, масс в ней не было.
Даже в течение дня человек неоднократно входит в различные общности. Скажем, если вы едете в метро – вы пассажир, и все, кто вас окружает, образуют вместе с вами некоторую общность. Она никак не структурирована, но вместе с другими людьми вы в данном случае составляете пусть и временное, но единство. Если идёте по улице – вы прохожий. В данном случае вы просто двигаетесь в одном направлении. А вот когда, скажем, люди смотрят одни те же телепередачи, читают одни и те же газеты, слушают одни и те же радиоканалы, они – часть массы. Каждый из нас – её часть. Масса, толпа – это некое анонимное объединение. В мирных условиях это нормально, и ничего опасного в этом нет, но не дай бог возникнет какая-то критическая ситуация. В такие моменты масса – это нечто страшное, потому что поведение людей в толпе абсолютно безответственно. Кроме того, коллективные эмоции очень заразительны. Хорошо, если люди в толпе объединены некой «позитивной идеей», но всё негативное здесь крайне опасно. Даже в мирное время нередко можно увидеть, как какой-нибудь молодой человек, спеша в метро, запросто толкает пожилую женщину или ребёнка, а случись нечто экстремальное? Это неструктурированная человеческая общность.
И противостоит массе уже не интеллигенция и не аристократия, а некая малочисленная элита. Кстати, этот термин в последнее время тоже довольно часто употребляется. Противопоставление массы и элиты имеет много разных аспектов, но нас в данном случае интересуют вопросы, связанные с культурой.
Дело в том, что понятие «масса» связано с ещё одним моментом, который очень существен для XX века – это противопоставление культуры и цивилизации. До XX столетия подобного разделения не существовало: культура и цивилизация были понятиями абсолютно тождественными. Но уже начиная с конца XIX века, эти понятия стали противопоставляться. Цивилизация, конечно, требует от членов общества определённого уровня образованности. Необразованный человек может быть культурным, но не цивилизованным. Средневековые люди были культурными, но не были цивилизованными. Кстати, русское крестьянство было, как правило, безграмотным, но обладало очень высокой самобытной культурой. Так что цивилизация предполагает как минимум грамотность. Человек должен окончить школу, овладеть какими-то базовыми навыками. Но основа современной цивилизации – это всё-таки потребление её достижений. Мало что надо уметь и знать, чтобы пользоваться достижениями современной цивилизации. К примеру, ничего не стоит, скажем, включить телевизор. Для этого совершенно не обязательно понимать, как он устроен, нужно просто нажать кнопку, взять в руки пульт и переключать каналы. Всё доступно. Так же обычно люди пользуются бытовой техникой, даже компьютером… Каждый может этому научиться.
Вообще, я бы сказал так: в области цивилизации прогресс существует, это бесспорно, а вот в культуре вряд ли можно говорить о чём-то подобном. Античная культура нисколько не ниже Средневековой, она просто другая. Цивилизация связана с техническим прогрессом. Уровень цивилизации меняется. Мир античного человека и мир современного в этом смысле – совершенно различны. Но невозможно согласиться с тем, что Платон уступает какому-нибудь даже самому блестящему современному мыслителю…
Культура требует двух составляющих – творчества и традиции, без этого культуры нет. Цивилизация не нуждается ни в творчестве, ни в традиции. Масса может быть цивилизованна, но не обязательно культурна. Скажем, в русской деревне сохранялись предания, обычаи, ремесла. Всё это культура. Это была определенная традиция, передававшаяся из века в век. А когда лишь переключают кнопки, это цивилизация. Хочу сразу уточнить: когда я говорю о верности традициям, то не имею в виду, что надо обязательно им следовать. Бывали эпохи, в которые традиция действительно была очень сильна, но двадцатый век, напротив, ломал традиции. Важную роль в искусстве XX века играл авангард, а это совсем не традиционная сфера. Это была ломка традиций. Но чтобы ломать, надо их знать. Пикассо ломает традиции, но сперва он их осваивает, вырастает из них органично. Поэтому культура гибнет, когда нет традиции и нет творчества, а есть лишь потребление.
Конечно, неизвестно, как будет развиваться культура в дальнейшем, но уже сегодня можно утверждать: XX век завершил собой культуру в том виде, какой она сложилась, начиная с эпохи Возрождения, и его исход – конец этого типа культуры. XXI век пока не выдвинул чего-то принципиально нового. То, что возникло в XXI веке и разовьётся дальше, очевидно, будет связано с новейшими технологиями… Это будет цифровое, компьютерное явление. Неизвестно, преобразится ли это в какую-либо культурную форму или останется тем, чем является сейчас. Ведь что такое компьютер? Это невероятно быстрый доступ к огромному, просто неохватному объёму информации, которую невозможно получить никаким иным способом. Однако информация – это не культура. Мы живём в век информации. Но передача информации не требует никаких традиций, а также творчества, и, что самое важное, она не требует от человека сопереживания. Культура – это то, что нужно пережить, что необходимо пропустить через собственную душу, личность, а с информацией работает мозг. Я не знаю, что из этого может возникнуть с годами, но пока мы живём в информационную эпоху.
В этом смысле XX век завершил культуру в том её старом понимании, какое существовало на протяжении многих веков. Это было её завершением, хотя творцам XX века казалось, что они начинают нечто небывалое, рушат традиции, но на самом деле они подводили итоги.
Теперь хочу коснуться вопроса не самого главного, но достаточно существенного в культуре XX века. Дело в том, что искусство XX века резко отталкивается от массового. В XX веке возникла массовая культура, чего не знали предшествующие эпохи. Население стало грамотным, а литература и искусство превратились в форму бизнеса, порой достаточно прибыльного, в сущности, стали массовой культурой. В противовес этой массовой культуре формировалась культура, которая отталкивалась от всего спекулятивного, элитарная культура, в широком смысле – европейский авангард. Главной его задачей было не стать предметом массового спроса. Это было сознательное отталкивание от принципов массовой культуры.
Конечно, подобное и раньше случалось: читатель, зритель не принимали творчество того или иного художника. Скажем, Стендаль не был понят современниками, признание к нему пришло достаточно поздно. Но в двадцатом веке возникает другая ситуация – это осознанное отталкивание художников от вкусов массовой аудитории, желание творить лишь для узкого круга культурной элиты. Это резкое противопоставление массы и элиты, существенное для XX века. Авторы сознательно стремились к тому, чтобы широкая публика не приняла их произведения. Но вся трагедия европейского авангарда заключалась в том, что он довольно быстро стал осваиваться массовой культурой. Каждый раз приходилось придумывать нечто новое, для того чтобы отмежеваться, уйти как можно дальше от принципов массовой культуры. В конце концов дошли до молчания, до пустой страницы. А когда исчерпал себя авангард, завершился XX век.
Это лишь одна сторона процессов, которые вызвали к жизни явление авангарда. Но есть и более глубинные вещи, которые связаны с изменением самой картины мира в XX столетии. Это очень многое определило и в культуре вообще, и в европейском авангарде в частности. Наиболее ярко этот глубинный сдвиг сумел выразить Фридрих Ницше (1844-1900). Это философ, который, можно сказать, предвосхитил XX век, ощутил его приближение очень остро. Человек трагической судьбы, и прижизненной, и посмертной. Случилось так, что философия Ницше легла в основу идеологии немецкого фашизма, чего он, конечно же, не хотел. Однако был в начале XX века и период, правда, довольно короткий, в который Ницше, будь он жив, мог бы радоваться своей славе, поскольку не было ни одного крупного писателя, ни одного мыслителя, который бы не испытал в той или иной степени влияния его идей.
Ницше жил в XIX веке, но сумел ощутить, быть может, самую суть того, что произошло в следующем двадцатом столетии. Именно ему принадлежит знаменитое заключение: «Бог умер». Но здесь я бы хотел уточнить: Бог умер – это не значит, что Бога нет. Ницше никак нельзя отнести к атеистам. И, в сущности, когда переживаешь чью-то смерть, то ощущаешь прежде всего отсутствие. Ницше писал: «Не должны ли мы наконец пожертвовать всем утешающим, святым, исцеляющим, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, блаженство и справедливость в будущем? Не должны ли мы пожертвовать самим Богом и, из жестокости к себе, обоготворить камень, безмозглость, тяжесть, судьбу, ничто? Пожертвовать Богом ради “ничто”– это парадоксальное таинство последней жестокости выпало на долю нашего поколения». (Nietzsche Friedrich. Nachgelassene Werke, 1881–1886. S. 89.)
Что имел в виду Ницше, говоря: «Бог умер»? «Мы искали смысл во всём происходящем, а его нет. Искатель падает духом. Что такое этот смысл? Это исполнение высшего нравственного канона во всём происходящем, это вера в нравственный порядок, торжество любви и гармонии во взаимоотношениях людей. Это вера, что человечество приблизится к всеобщему счастью и тому подобное. А мы пришли к выводу, что не достигается никакой цели, не достигается ничего… Бог – это ведущее представление, которое держало все предшествующие эпохи. Для сверхчувственного в различных проявлениях. Для идеалов, для норм, для принципов и правил, для целей, которые как бы учреждены над всем сущим, чтобы придать сущему цель, порядок и, как вкратце говорят, смысл».
Итак, Бог есть некий абсолют. И вот вера в этот абсолют рухнула. «Высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем»?»
«В сущности человек теряет веру в свою ценность, если через него не действует бесконечно ценное целое».
Ницше очень остро ощутил то, что в дальнейшем составит важнейшую особенность культуры. До XX века существовала философия декартовского типа. Каждый человек мог встать на некую абсолютную точку зрения, и с этой позиции судить о мироздании. В этом, в сущности, и заключался культ разума. Утверждался трансцендентный субъект, который как бы извне обозревал мир и своё собственное бытиё. Разум здесь носил всеобщий характер, и каждый мог достичь этой объективной, рациональной точки зрения, как бы подняться мыслью на некую всеобщую абсолютную высоту.
Эта идея рухнула в XX веке. Никому не дано встать на объективную точку зрения. Тому есть много причин. И первая, кстати, связана с развитием науки. Это появление теории относительности Эйнштейна, которая выдвинула картину мира, просто исключающую существование высшей, абсолютной координаты. Кроме того, важную роль сыграло открытие феномена бессознательного. Оказалось, что сфера нашего разума – это только поверхностный слой. В основе процессов сознания лежит область подсознательного, понять которую мы не способны. Нам кажется, что мы смотрим на вещи рационально, но на самом деле это иллюзия.
Писатели XIX века, скажем, прекрасно понимали, что сознание человека социально обусловлено. И это являлось одной из важнейших особенностей реализма девятнадцатого столетия. В романах Бальзака сознание каждого героя определено его положением в обществе, однако он делает исключение для себя как автора. Он считает, что его сознание свободно от подобных привязок, и как автору, ему дано представить объективную картину. В двадцатом веке эта идея рухнула. Сознание автора столь же детерминировано, как и все прочие. Никто не способен увидеть мир объективно. Кроме того, сознание человека включено в систему определенных культурных представлений. Средневековье – это один мир, эпоха Возрождения – другой, современность – третий. Существует определённый тип культурного сознания, свойственный эпохе в целом, который влияет на менталитет каждого отдельного её представителя. Поэтому невозможно встать на объективную точку зрения. Людям она недоступна. Философ Мишель Фуко, например, утверждал, что задача человека XX века – «помыслить немыслимое». А уж это тем более невозможно!
Кроме того, любой автор понимает, что язык, которым он располагает, – это не его язык, а язык вообще. Когда я пытаюсь выразить нечто средствами существующего языка – это говорит сам язык, а вовсе не я. Это касается и культурного сознания. Человеку не дано взглянуть на вещи объективно. Это важный момент, и Ницше это первый так остро ощутил. Он почувствовал глобальное крушение прежних, старых идеалов. В этом смысле он предвосхитил процессы даже за пределами XX века.
Вообще, в людях всегда жило стремление к идеальному миру. И это стремление остаётся, только представления об идеальном мире не стало. Человеку, конечно, тесно в этой данности, он рвётся куда-то, за её пределы. Но ничего не получается, потому что рваться некуда, повсюду его ждёт пустота. Это и означает «Бог умер», потому что для человека не существует больше никакого иного, идеального мира. Ницше, в общем, был склонен считать, что мир это не космос, а хаос. Сознание людей XIX столетия, по его мнению, не было религиозным. XX век вообще стал веком веры в науку, а не в религию. Но люди XIX века, думая, что они верят в науку, на самом деле верили в Бога как высшее начало. Они ещё полагали, что в мире царит некий разумно устроенный порядок, а это значит, что у него есть источник, что существует некий творец, и сущее подчиняется его законам. Представление, что мир сотворён разумно, ещё жило в XIX веке. В XX веке все эти рациональные категории перестали работать. И ещё. Конечно, человек XIX века не полагался на божественное провидение. Но он верил в прогресс. А что такое прогресс? Это то же самое божественное провидение. XIX век отрицал Бога, но на самом деле верил в него. А к исходу века, по словам философа, «Бог умер», и вместе с ним рухнули все прежние представления. Вместо рационального порядка предстал хаос.
Идеи, которые проповедовал Ницше, стали очень популярны в двадцатом веке. Особенно его философия жизни. Собственно, существует одно-единственное непреложное понятие: жизнь. Это нечто основополагающее, естественное, что противостоит искусственному. Но всё дело в том, что представление о живом, о природе вообще у Ницше существенно видоизменилось. В XVIII веке образом живого служило растение. Природа мыслилась как исключительно добрая сила. Побыть на природе – это всегда хорошо. Кроме того, извечные природные циклы несут в себе надежду на возрождение. А у Ницше символическим отображением природного становится животное – это уже нечто другое. Животное умирает. Сама жизнь во времена Ницше начинает восприниматься как смертоносная, роковая сила. Живые существа – лишь мгновенные её проявления, преходящие, конечные образы. Разумеется, жизнь находит продолжение в потомках и так далее, но каждый отдельный индивид обречён. Дерево с каждой новой весной вновь оживает, а кошка гибнет. Жизнь смертоносна. Сам мир – это игра стихийных, разрушительных сил, стоящих по ту сторону добра и зла. С подобными представлениями связана эстетика Ницше.
Уже в самой ранней своей работе, посвящённой происхождению греческой трагедии «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм» Ницше утверждает, что в основе греческой трагедии лежит дионисийское начало. Это понятие он значительно расширяет, выводит далеко за рамки заявленной проблемы. В дионисийском начале заключена суть древних мистерий: человек сливается с непостижимой, пьянящей стихией, погружается в инстинктивную бездну. Он чувствует себя приобщённым к некой извечной непроницаемой тайне бытия. Хаос не может быть понят рационально. В него можно только погрузиться, ощутить, проникнуться этими особыми иррациональными потоками, и это есть чисто экстатический иррациональный момент…
Однако греческая трагедия, греческое искусство вообще были неразрывно связаны также и с другим, противоположным началом, олицетворением которого являлось солнечное божество Аполлон. И Ницше тоже различает эти полярные начала, дионисийское и аполлоническое. Дионисийское в искусстве – это сама стихия жизни, которую нельзя постичь рационально. Аполлоническое – это начало света, меры, строгой формы. Старые художники полагали, что форма есть отражение скрытой гармонии Вселенной. В художественном мире действительно всё может быть гармонично, но это всегда – произвольная конструкция.
Сам Ницше по своим художественным вкусам был сторонником строгой формы. Но форма не отражает ни истинной сущности жизни, ни объективного устройства мироздания. В лучшем случае она являет потребность самого художника видеть мир гармонично. Это как бы два полюса абстрактной живописи. Один – плывущая краска, хаос, а другой, наоборот, – очевидная конструкция, геометрически выверенные, правильные элементы. Ницше предвосхитил многое из этих будущих процессов…
Поэзия французского символизма
стала первым явлением европейской литературы, в котором предстало новое мироощущение. Она начала складываться ещё в конце XIX века и независимо от Ницше образно выразила то, что тот передал языком философии. Кроме того, французский символизм во многом определил общее развитие всей европейской поэзии следующего, XX столетия. Наиболее ярким представителем этого направления, одним из тех, кто заложил его основы, стал Шарль Бодлер. Поэт родился в 1821, умер в 1867 году, фактически был современником Флобера. Но расцвет французского символизма падает всё же на конец XIX века…
Шарль Бодлер представляет собой тип поэта, который наиболее характерен для французского символизма. Это образ, так называемого, проклятого поэта, своего рода отщепенца, который совершенно не устроен, не укоренён в жизни, не вписывается ни в какой социум, нередко ведёт бродяжнический образ жизни и прочее. Как писала Марина Цветаева:
Есть в мире лишние, добавочные,
Не вписанные в окоём.
(Не числящимся в ваших справочниках,
Им свалочная яма – дом.)
(Поэт).
Примерно так Бодлер жил и так окончил свою жизнь.
Главное произведение Бодлера – это стихотворный сборник «Цветы зла», опубликованный в 1857 г. Первое, что здесь бросается в глаза с самого начала, – заявленный уже в заглавии сборника мотив разрыва искусства и морали. Отчасти это был сознательный авторский эпатаж. В эпоху Второй империи, когда Бодлер создавал свои стихи, очень много говорилось о морали в искусстве. Бодлер хорошо знал цену буржуазной морали. «Эти буржуазные идиоты, – писал он в «Моём обнажённом сердце», – непрестанно твердящие: «аморальный, аморальность в искусстве» и прочие глупости, напоминают мне пятифранковую проститутку Луизу Вильдье, которая однажды, первый раз в жизни, пошла со мной в Лувр и при виде бессмертных статуй и картин начала краснеть, закрывать лицо, на каждом шагу тянула меня за рукав и спрашивала, как можно было публично выставить такую непристойность». Недаром книга Флобера «Госпожа Бовари» была осуждена как безнравственное произведение. Поэтому «Цветы зла» – это отчасти протест против подобной лицемерной буржуазной проповеди морали в искусстве. Но произведение Бодлера к этому не сводится.
«Цветы зла» – трагическая книга. Прежде всего Бодлер пытается расширить сферу поэзии. В поэтическом творчестве он пытается сделать то, чего французские реалисты достигали в романной форме. Раньше поэзия изображала мир идеала, мир природы. Бодлер же обращает поэзию к язвам жизни, к реальным проблемам современности. Он показывает город: картины парижской действительности составляют важные разделы сборника.
Но в то же время перед нами лирика. В центре произведения стоит «Я» поэта. Это человек не только перед лицом общества, но и перед лицом мироздания. Речь идёт о человеке вообще, а не только о социальных проблемах, которые волновали писателей-реалистов.
Поэт стремится представить неприглядные, тёмные стороны человеческой души. Он призывает читателя вместе с ним заглянуть в собственную душу, увидеть, как далека она от идеальных представлений. «Цветы зла» – своеобразная исповедь, открывающая трагедию современного человека. Ещё Ницше утверждал, что в человеке заложено два противоборствующих начала: одно влечёт его к Богу, другое – к дьяволу. Существует радость восхождения, но и восторг падения. Отсюда два важнейших раздела книги Бодлера.
Но отчасти эта двойственность связана ещё и с любовью Бодлера к двум очень разным женщинам. Одна из них, мадам Сабатье, – это некая идеальная любовь поэта. Другая, гаитянка Жанна Дюваль – женщина, которая позже фактически его погубила.
Ранние стихи Бодлера, в которых присутствует образ проклятого поэта, ещё носят романтический характер: от поэта отворачивается мать, его ненавидят люди, он чужой среди них. Но именно поэтому поэт здесь ещё близок к Богу:
Но что ж Поэт? Он твёрд. Он силою прозренья
Уже свой видит трон близ Бога самого.
(«Благословение»)
Но в дальнейшем, независимо от Ницше, Бодлер приходит к ощущению, что Бог умер. Стремление к идеалу – это стремление к ничто. Небеса пусты. В ранний период творчества земная красота в глазах поэта ещё несёт в себе отблеск небесного. Природа – это храм, священное место, где человек вступает в общение с небом, и он ощущает божественное присутствие. Но Бог умер, и сердце повисает над бездной. Время – это разрушительная сила, а мир вовсе не космос, а хаос.
«Безжизненна земля и небеса беззвёздны».
(«De profundis clamavi») (458)
Тема, которая пронизывает многие стихи Бодлера, – это жажда небытия. Поэт не может смириться с этим миром и готов любой ценой обрести от него свободу:
Когда-то, скорбный дух, пленялся ты борьбою,
Но больше острых шпор в твой не вонзает круп.
Надежда! Что ж, ложись, как старый конь, будь туп, -
Ты слабых ног уже не чуешь под собою.
Забудь себя, смирись! Так велено судьбою.
О, дух сражённый мой, ты стал на чувства скуп:
Нет вкуса ни к любви, ни к спорту, ни к разбою…
"Прощай!" – ты говоришь литаврам и гобою;
Там, где пылал огонь, стоит лишь дыма клуб…
Весенний нежный мир уродлив стал и груб.
Тону во времени, его секунд крупою
Засыпан, заметён, как снегом хладный труп,
И безразлично мне, земля есть шар иль куб,
И всё равно, какой идти теперь тропою…
Лавина, унеси меня скорей с собою!
(«Жажда небытия» Перевод В. Шора)
Очень характерно в этом смысле стихотворение «Плавание», кстати, блистательно переведённое Мариной Цветаевой:
Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
За каждым валом – даль, за каждой далью – вал.
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Ах, в памяти очах – как бесконечно мал!
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.
Что нас толкает в путь? Тех – ненависть к отчизне,
Тех – скука очага, ещё иных – в тени
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни -
Надежда отстоять оставшиеся дни.
В Цирцеиных садах, дабы не стать скотами,
Плывут, плывут, плывут в оцепененье чувств,
Пока ожоги льдов и солнц отвесных пламя
Не вытравят следов волшебницыных уст.
Но истые пловцы – те, что плывут без цели:
Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт,
Что каждую зарю справляют новоселье
И даже в смертный час ещё твердят: – Вперёд!
<…>
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода – куда черней чернила,
Знай – тысячами солнц сияет наша грудь!
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем всё, что есть,
На дно твоё нырнуть – Ад или Рай – едино! -
В неведомого глубь – чтоб новое обресть! (459)
Это жажда бегства от мира. Но это бегство не к идеалам, а в небытие.
Особую роль в поэзии Бодлера играет тема красоты. Красота открывает путь к безбрежности. Но что значит эта безбрежность – неизвестно, возможно, то же ничто…
Теперь несколько слов о поэтике Бодлера. Его стихи положили начало французскому символизму. В качестве примера приведу стихотворение из книги «Цветы зла», которое, может быть, точнее других выражает особенности поэзии Бодлера, да и вообще его мироощущения. Это знаменитое стихотворение «Падаль»:
Вы помните ли то, что видели мы летом?
Мой ангел, помните ли вы
Ту лошадь дохлую под ярким белым светом,
Среди рыжеющей травы?
Полуистлевшая, она, раскинув ноги,
Подобно девке площадной,
Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги,
Зловонный выделяя гной.
И солнце эту гниль палило с небосвода,
Чтобы останки сжечь дотла,
Чтоб слитое в одном великая Природа
Разъединённым приняла.
И в небо щерились уже куски скелета,
Большим подобные цветам.
От смрада на лугу, в душистом зное лета,
Едва не стало дурно вам.
Спеша на пиршество, жужжащей тучей мухи
Над мерзкой грудою вились,
И черви ползали и копошились в брюхе,
Как чёрная густая слизь.
Всё это двигалось, вздымалось и блестело,
Как будто, вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело,
Дыханья смутного полно.
И этот мир струил таинственные звуки,
Как ветер, как бегущий вал,
Как будто сеятель, подъемля плавно руки,
Над нивой зёрна развевал.
То зыбкий хаос был, лишённый форм и линий,
Как первый очерк, как пятно,
Где взор художника провидит стан богини,
Готовый лечь на полотно.
Из-за куста на нас, худая, вся в коросте,
Косила сука злой зрачок,
И выжидала миг, чтоб отхватить от кости
И лакомый сожрать кусок.
Но вспомните: и вы, заразу источая,
Вы трупом ляжете гнилым,
Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,
Вы, лучезарный серафим.
И вас, красавица, и вас коснётся тленье,
И вы сгниёте до костей,
Одетая в цветы под скорбные моленья,
Добыча гробовых гостей.
Скажите же червям, когда начнут, целуя,
Вас пожирать во тьме сырой,
Что тленной красоты – навеки сберегу я
И форму, и бессмертный строй.
( XXIX. Перевод Эллиса)
Первый план стихотворения – противопоставление образа прекрасной женщины, которой посвящены стихи, и отвратительной падали. Кстати, в переводе Эллиса, очень хорошем, лошадь – это выдумка. У Бодлера не сказано, что это именно лошадь. Там просто падаль, а «лошадь дохлая» это, так сказать, контраст. Однако он снимается в стихотворении. Кроме того, сам вид падали здесь напоминает женское тело:
Полуистлевшая, она, раскинув ноги,
Подобно девке площадной,
Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги,
Зловонный выделяя гной.
Второй момент, который здесь возникает, это противопоставление живого и мёртвого. Но и оно тоже мнимое. Дело в том, что падаль эта по-своему жива:
Всё это двигалось, вздымалось и блестело,
Как будто, вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело,
Дыханья смутного полно.
И этот мир струил таинственные звуки,
Как ветер, как бегущий вал…
Вообще, символичность всегда была присуща искусству, но в старой поэзии присутствовали, как правило, устоявшиеся, традиционные символы. Бодлер же берёт нечто реальное и превращает в грандиозный символ. По убеждению поэта, любая вещь, всё что угодно может стать символом, даже нечто отвратительное, как, к примеру, эта падаль.
В стихотворении Бодлера важен ещё один мотив, который в русском переводе пропадает:
Спеша на пиршество, жужжащей тучей мухи
Над мерзкой грудою вились,
И черви ползали и копошились в брюхе,
Как чёрная густая слизь.
С одной стороны, здесь использовано слово «Le ver», что по-французски значит «червь». Но одновременно это «злые духи», вообще силы разрушения. Поэтому образ падали превращается ещё и в грандиозный образ мироздания. Кроме того, французское слово «червь» здесь скорее «всякая сволочь». Поэтому речь в стихотворении идёт не только о поругании после смерти, но и о поругании при жизни. Смерть и жизнь, прекрасное и отвратительное у Бодлера максимально сближены.
А что остаётся? Остаётся одно: строгая, совершенная форма бодлеровского стиха.
Скажите же червям, когда начнут, целуя,
Вас пожирать во тьме сырой,
Что тленной красоты – навеки сберегу я
И форму, и бессмертный строй.
Форма и строй – стихотворение следует этим законам. Но одновременно изображается отвратительная падаль… Как это сосуществует? По-своему эту идею передавал Ницше, говоря о возникновении греческой трагедии из столкновения противоположных начал. Бодлер выразил это независимо от Ницше, но таково было общее мироощущение, возникшее в этот период.
Французский поэт Поль Верлен, хотя и не был склонен к каким-либо декларациям, тем не менее создал поистине манифест всего французского символизма. Родился Верлен в 1844, умер в 1896 году. Ранние его стихи написаны под влиянием Бодлера.
В начале семидесятых Верлен познакомился с начинающим поэтом А. Рембо, что изменило не только его творчество, но и судьбу.
Верлена и Рембо в течение нескольких лет связывали сложные, драматические отношения. Дружба «дрянных мальчишек», «чертыхателей» переросла, по собственному выражению поэтов, «в жестокую страсть». Вообще, Верлен в этот период строил планы женитьбы: ради невесты бросил пить, посвятил ей сборник стихов, долго добивался её руки… Но, вступив наконец в брак, так и не сумел ужиться с женой. К тому же Рембо всеми силами пытался вырвать товарища из атмосферы несвободы, царившей, по его мнению, в мелкобуржуазном, чуждом богеме семействе жены. Бегство Верлена из семьи, которое не остановило даже рождение сына, относится к периоду сближения с Рембо. Но однажды в ссоре Верлен выстрелил в Рембо. Он лишь ранил его в запястье, однако угодил в тюрьму, где пробыл довольно долго и где обратился к религии. Слава пришла к Верлену при жизни, но он умер таким же неприкаянным и одиноким, каким был всю жизнь.
Программным произведением Верлена стало его знаменитое стихотворение «Искусство поэзии».
За музыкою только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.
Не церемонься с языком
И торной не ходи дорожкой.
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.
Так смотрят из-за покрывала,
Так зыблет полдни южный зной.
Так осень небосвод ночной
Вызвёзживает как попало.
<…>
Так музыки же вновь и вновь.
Пускай в твоём стихе с разгону
Блеснут в дали преображённой
Другое небо и любовь.
Пускай он выболтает сдуру
Всё, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря…
Всё прочее – литература.
(Перевод Б. Пастернака)
В этом стихотворении отчётливо выражено противопоставление музыки и литературы. Главное в поэзии – музыкальный строй, всё прочее, как сказано у Верлена, – литература. Ницше, кстати, тоже был убеждён, что поистине дионисийское искусство – это музыка. В стихе музыкальное начало играет необыкновенную роль. Вообще, стихи может писать каждый. В Китае в своё время любой чиновник должен был владеть стихосложением, без этого не принимали на службу. Знаменитый китайский государственный и политический деятель XX века Мао Цзэдун считал себя поэтом, потому что прошёл эту старую школу и умел писать стихи. Но настоящая поэзия – это нечто другое. Это внутреннее ощущение музыки. Поэзия рождается, а не сочиняется.
Владимир Маяковский, например, считал, что ритм – это главный источник энергии в стихах. Вот как, по его словам, создавалось стихотворение «Сергею Есенину», ставшее откликом на его смерь. Поэт шёл по Мясницкой улице в Москве, а в его сознании звучало: та – ра – ра – «вы ушли», та – ра – ра – «в мир иной». Сначала возник некий ритм, а уже затем пришли слова:
Вы ушли,
как говорится,
в мир в иной.
Ритмическое, музыкальное начало в стихах является первоосновой. Однако стихотворение – это сочетание музыки и слова. Если бы Маяковский написал просто «та-ра-ра», ничего бы не получилось. У разных поэтов сочетание это может быть разным: для одних более важным является ритм, для других – мелодика, звучание самого слова, но без соединения этих двух начал поэзии не существует.
Слово проявляется не только своей смысловой, но и звуковой стороной. Это в поэзии не менее важно, чем смысл. Известный русский психолог Л. Выготский описывает ребёнка, который говорит: корова называется корова, потому что у неё рога; а телёнок, потому что рога у него пока ещё маленькие; а лошадь – потому что у неё вообще нет рогов… В этом детском рассуждении – желание узнать слово. Почему нечто так называется? Поэзия даёт ответ на этот вопрос.
Но есть принципиальная разница между классической поэзией и стихами двадцатого века, в частности, поэзией символизма. Приведу простой пример. Что такое классическая поэзия? Скажем, стихи А.С. Пушкина. Вот знаменитое описание балерины Истоминой в поэме «Евгений Онегин»:
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьёт, то разовьёт
И быстрой ножкой ножку бьёт.
(Глава I – Строфа XX)
«Блистательна, полувоздушна» – в пушкинской строке много гласных, много воздуха. Слово «летит» дважды повторяется, оно лёгкое, как и слово «пух», мы на слух ощущаем эту легкость.
Представители поэзии двадцатого века считали, что они не могут говорить на уже существующем языке. Каждый поэт должен создавать свой собственный, особый язык. Наиболее крайняя форма, может, самый яркий пример подобного явления представлен в «заумных» стихах одного из крупнейших представителей русского авангарда Велимира Хлебникова. Или, к примеру, известные строчки поэта-футуриста А. Кручёных:
Дыр бул щыл
убеш щур
скум
вы со бу
р л эз…
Надо сказать, это осмысленный текст. Только его не перевести. Допустим, мы не знаем турецкого языка и, услышав речь на турецком, практически ничего не поймем. А в данном случае – это язык самого поэта. Однако в звучании стиха мы всё-таки что-то улавливаем…
Чтобы было понятно, приведу другой пример. Скажем, знаменитая «Поэма Горы» Марины Цветаевой. Здесь тоже целый поток слов, связанных с образом горы. Для нас важно их звучание:
…Та гора была, как грудь
Рекрута, снарядом сваленного.
Та гора хотела губ
Девственных, обряда свадебного
Требовала та гора.
– Океан в ушную раковину
Вдруг-ворвавшимся ура!
Та гора гнала и ратовала.
Та гора была, как гром.
Зря с титанами заигрываем!
Той горы последний дом
Помнишь – на исходе пригорода?
Та гора была – миры!
Бог за мир взымает дорого!
Горе началось с горы.
Та гора была над городом.
<…>
Та гора была, как горб
Атласа, титана стонущего.
Той горою будет горд
Город…
(I-VIII)
Все эти слова, которые связаны здесь с «горой», никакого отношения к смыслу этого слова не имеют, однако они объединены этим образом. Поэтому это «Поэма горы». И это язык самой Цветаевой.
В стихотворениях Поля Верлена музыкальное начало играет едва ли не ведущую роль. Не случайно один из главных его сборников носит название «Романсы без слов». Они, конечно, со словами. Но названа так книга не случайно. Приведу в качестве примера знаменитое стихотворение «Хандра», которое много раз переводилось разными поэтами. Есть перевод, сделанный Б. Пастернаком, который, кстати, очень любил стихи Верлена:
И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?
О дождик желанный,
Твой шорох – предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.
Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.
Хандра ниоткуда,
Но то и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.
А вот более близкий к оригиналу перевод И. Эренбурга:
Сердце тихо плачет,
Словно дождик мелкий,
Что же это значит,
Если сердце плачет?
Падая на крыши,
Плачет мелкий дождик,
Плачет тише, тише,
Падая на крыши.
И, дождю внимая,
Сердце тихо плачет,
Отчего – не зная,
Лишь дождю внимая.
И ни зла, ни боли!
Всё же плачет сердце,
Плачет оттого ли,
Что ни зла, ни боли?
В переводе, конечно, многое пропадает. Есть французское выражение «al pluie», что буквально означает «идёт дождь». Это безличная форма «al pluie», а стихотворение Верлена начинается так: «al Pleurer, dans mon coeur». «Pleurer» значит плакать, сказать «al Pleurer» в безличной форме нельзя по-французски. А Верлен это делает, и получается: «плачется в моём сердце», всё построено на звуковом сочетании: «al pluie» и «al Pleurer». Что это такое? Это своеобразный пейзаж души, музыка падающего дождя. Но где идёт этот дождь? В сердце или за окном – этой границы в стихотворении Верлена нет. Это хандра самой природы.
Соловью, глядящему с высокой ветки на своё отражение, кажется, будто он упал в реку. Он сидит на вершине дуба и всё-таки боится утонуть.
(Сирано де Бержерак)
Тени деревьев, таясь за туманом седым,
В озере тают, как дым,
А на вершине среди настоящих ветвей
Плачет навзрыд соловей.
Путник, не так ли и ты, отражённый на дне,
Видишь свой лик в глубине,
А на ветвях безутешней, чем трель соловья,
Плачет надежда твоя.
P.M. Рильке, один из самых значительных поэтов-модернистов XX века, писал:
Как страшно близок нам любой
предмет:
Он обнял нас и к нам упал
в объятья.
Единое пространство там, вовне,
И здесь, внутри. Стремится птиц
полёт
И сквозь меня. И дерево растёт
Не только там: оно растёт
во мне,
– так Рильке отозвался о живописи Сезанна.
И сила поэзии Верлена именно в этом: в его стихах нельзя отделить субъективное от объективного, внешнее от внутреннего…
Жизнь самого трудного поэта французского символизма Стефана Малларме (1842-1898) заметно отличалась от биографий других поэтов-символистов: он служил преподавателем английского языка, вёл вполне благовидное существование. В его судьбе и характере не было ничего от образа изгоя, проклятого поэта. Писал он очень мало, по вторникам собирал у себя литераторов и читал им стихи, излагал свои поэтические теории. Это были знаменитые «вторники» Малларме.
Мировоззрение Малларме построено на идее «Бог умер». Поэзия по самой сути своей стремится к идеальному миру, в этом её предназначение. Но идеальное, по мнению Малларме, не имеет почвы не только в реальном, но и в трансцендентальном мире. И поэтому стремление к идеальному – это тяга в никуда. «Небеса пусты…» – эта мысль достаточно чётко выражена в ранних стихах Малларме, в частности, в его стихотворении «Лазурь»:
Прекрасна, как цветы, в истоме сонной лени,
Извечная лазурь иронией своей
Поэта тяготит, клянущего свой гений
В пустыне мертвенной унынья и скорбей.
Бреду, закрыв глаза, но чувствуя повсюду:
Взор укоряющий разит меня в упор
До пустоты души. Куда бежать отсюда?
Какой дерюгой тьмы завесить этот взор?
Всплыви, густой туман! Рассыпь свой пепел синий,
Свои лохмотья свесь с подоблачных высот,
Подобных осенью чернеющей трясине!
Воздвигни над землёй глухой безмолвный свод!
Любезная печаль, всплыви из глубей Леты,
Всю тину собери, камыш и ряску дай,
Чтоб в облаках заткнуть лазурные просветы,
Пробитые насквозь крылами птичьих стай!
Ещё! И чёрный дым в просторе пусть клубится,
Из труб взмывая ввысь, густеет едкий чад,
Пусть мрачной копоти плавучая темница
Затмит последий луч и гаснущий закат!
Раз небеса мертвы, к материи взываю:
Дай мне забыть мой Грех, мой Идеал, Мечту
И муку тяжкую, дай добрести к сараю,
Где спать и мне, как всем, блаженному скоту.
Желаю здесь почить, лишь эту мысль лелею,
Поскольку мозг, пустой, как брошенный флакон,
Не даст уже румян, чтоб расцветить идею,
Способен лишь зевнуть и кануть в вечный сон.
Всё тщетно! Слышится лазури голос медный,
Гудит колоколов далёкий гулкий бой,
В душе рождает страх его напев победный,
И благовест парит над миром голубой!
Над мукой он мечом вознёсся неизбежным,
Клубится синей мглой, полоской давних бурь.
Куда ещё бежать в отчаянье мятежном?
Преследует меня лазурь! лазурь! лазурь!
(Перевод А. Ревича)
Лирический герой не может найти себе пристанища на земле; извечная лазурь небес продолжает увлекать его в какой-то иной, запредельный мир, которого, может быть, и нет на самом деле…
Этот мотив присутствует в знаменитом стихотворении Малларме «Лебедь». Вообще, образ лебедя – традиционный в поэзии. Он встречается ещё у римского поэта Горация. Замечательное стихотворение, посвящённое лебедю, есть у Бодлера. И вот образ лебедя в стихотворении Малларме:
Бессмертный, девственный, властитель красоты,
Ликующим крылом ты разобьёшь ли ныне
Былое озеро, где спит, окован в иней,
Полётов ясный лёд, не знавший высоты!
О, лебедь прошлых дней, ты помнишь: это ты!
Но тщетно, царственный, ты борешься с пустыней:
Уже блестит зима безжизненных уныний,
А стран, где жить тебе, не создали мечты.
Белеющую смерть твоя колеблет шея,
Пространство властное ты отрицаешь, но
В их ужасы крыло зажато, всё слабея.
О призрак, в этой мгле мерцающий давно!
Ты облекаешься презренья сном холодным
В своём изгнании – ненужном и бесплодном.
(Перевод В. Брюсова)
Этот образ замёрзшего лебедя, который не в силах подняться в небеса и даже в мечтах не создал той страны, куда бы мог улететь, – это образ поэта, как ощущает его Малларме.
Самое сложное в стихах Малларме – их абсолютная непереводимость. Они строятся как своеобразные загадки и до сих пор вызывают самые разные толкования. В сущности, поэзия Малларме – это поэзия молчания. К примеру, молчание очень существенно в драмах Метерлинка, а в поэзии – это стихи Малларме. Можно задаться вопросом: если поэт молчит, зачем тогда писать стихи? Но молчание Малларме выразительно. Он хочет, чтобы читатели поняли, о чём он молчит. И в то же время, молчание всегда загадочно. Сказать с уверенностью, о чём молчит человек, мы никогда не можем. Нам остается только догадываться. Это загадка, а загадка, на самом деле, не имеет разгадки. Это дети думают, что они разгадывают загадки, а на самом деле всё как раз наоборот. Загадка – это превращение обычного в необычное, загадочное. Приведу простой пример: «Без рук, без топорёнка построена избёнка». Что это такое? «Гнездо» – ответит любой. Но на самом деле главная загадка здесь: как же она построена без рук, без топорёнка… Поэтому и у загадок Малларме разгадки не существует.
Вот ещё строчка из его стихотворения в точном переводе: «Трубы высоко, из золота, распростёртого на пергаменте». Что это такое? Есть одна версия, во всяком случае, так толкуют эту поэтическую строчку критики: у Малларме хранился манускрипт с похожими изображениями на тему сюжета оперы Р. Вагнера «Валькирии». Но таков, возможно, лишь тот конкретный визуальный повод, который породил подобные образы. Однако читатель это знать не обязан.
Смысл стихов Малларме заключается в следующем. По его словам, поэт как субъект должен устраниться из стиха и дать волю самим словам. Трубы, золото, пергамент… Каждое слово здесь существует как бы само по себе. Но вместе они рождают целый ряд образов и ассоциаций. Поэт отступает на второй план с тем, чтобы заговорил сам язык во всём возможном своём многообразии и многозначности. И одновременно за всем этим стоит какое-то настроение, без чего нет лирики.
Чтобы было яснее, пример, близкий Малларме: абстрактная живопись. Можно нарисовать зелёную траву, и это будет, так сказать, реалистическая картина. Экспрессионисты могут изобразить траву красной: у всех трава зелёная, а у них более выразительная – красная. Но абстрактная живопись построена на другом принципе – это просто цвета: зелёный, красный… И каждый порождает множество ассоциаций. За цветом не стоит какой-либо конкретный предмет, образ; цвет сам по себе многозначен. И это подобно той новой поэзии, которую создал Малларме. Это поэзия слов, где каждое слово выступает во всем многообразии своих смыслов. Может быть, такие стихи – некоторая крайность, именно потому Малларме как поэт остаётся исключением. Но выдвинутый им принцип многозначности слова стал одним из важнейших в поэзии двадцатого века.
В завершение коротко ещё об одном удивительном поэте французского символизма. Артюр Рембо родился в 1854 году, умер в 1891. Вообще 37 лет – это возраст, в котором ушли из жизни Пушкин, Маяковский… Артюр Рембо тоже умер в 37. Но особенность Рембо в том, что всё его творчество заняло лишь четыре года его жизни. Рембо писал стихи с пятнадцати до девятнадцати лет, а всё последующее время больше ничего не писал. Он был действительно, по-видимому, гениальным поэтом, поскольку даже у самых великих мало стихов, созданных в юности, которые бы остались в веках. А стихи Рембо живут. Это не значит, что он превосходил других, просто он очень рано сложился как поэт.
В творчестве Рембо можно выделить два периода, как бы странно это ни звучало, поскольку поэтическая карьера завершилась, когда ему было всего девятнадцать. Первый период – с пятнадцати до семнадцати лет, а второй – с семнадцати до девятнадцати. Но с самого начала в Рембо присутствовал дух бунтарства, и уже ранние его стихи – это своего рода вызов, эпатаж, стремление нарушить все существующие нормы. Приведу одно ранее стихотворение Рембо «Мои возлюбленные крошки»:
Промыта слёзным гидролатом
Капустка облаков;
Померк под чем-то склизковатым
Блеск ваших башмаков.
Чудные луны пялят бельма,
Круглее, чем кочан.
Мои страшила, было б дельно
Вам отколоть канкан!
Любовь у нас не шла к упадку
Лазурное мурло!
Я жрал мокриц и яйца всмятку,
Когда бы ни взбрело.
А белое мурло в поэты
Меня произвело
Отбить бы ей за то котлеты
По первое число!
<…>
Топчите глиняные плошки
Причуд недавних лет!
Гоп-гоп! Так превратитесь, крошки,
На миг в кордебалет!
<…>
Под лунами, что пялят бельма,
Круглее, чем кочан,
Мои страшила, было б дельно
Вам отколоть канкан!
(Перевод Д. Самойлова)
В 1871 году Рембо бежит в Париж и, видимо, принимает какое-то участие в событиях Парижской коммуны, поражение которой он воспринял крайне болезненно. Это нашло отражение в его творчестве. Прежде всего это стихи «Париж заселяется вновь», «Руки Жан-Мари». Второй период начинается уже после поражения Парижской коммуны. Это время, когда Рембо, в сущности, становится поэтом французского символизма. Он создаёт новую теорию творчества, смысл которой выразил в одном из писем другу: «Первое, чего должен достичь тот, кто хочет стать поэтом, – это полное самопознание; он отыскивает свою душу, её обследует, её искушает, её постигает. А когда он её постиг, он должен её обработать! Задача кажется простой… Нет, надо сделать свою душу уродливой. Представьте себе человека, сажающего и выращивающего у себя на лице бородавки… Я говорю, надо стать ясновидцем, сделать себя ясновидцем. Поэт превращает себя в ясновидца длительным, безмерным и обдуманным приведением в расстройство всех чувств. Он идёт на любые формы любви, страдания, безумия. Он ищет сам себя. Он изнуряет себя всеми ядами, всасывает их квинтэссенцию. Неизъяснимая мука, при которой он нуждается во всей своей вере, во всей сверхчеловеческой силе; он становится самым больным из всех, самым преступным, самым проклятым – и учёным из учёных! Ибо он достиг неведомого, так как взрастил больше, чем кто-нибудь другой, свою душу, и такую богатую! Он достиг неведомого, и пусть, обезумев, утратит понимание своих видений, – он их видел! <…> Итак, поэт – поистине похититель огня. Он отвечает за человечество, даже за «животных». <…> Найти соответствующий язык, – к тому же, поскольку каждое слово – идея, время всеобщего языка придёт! <…> Этот язык будет речью души к душе, он вберёт в себя всё – запахи, звуки, цвета, он соединит мысль с мыслью и приведёт её в движение…» (май 1871г).
В сущности, Рембо хочет полностью отключить разум, отдавшись каким-то иррациональным, неведомым, не поддающимся пониманию силам, дать волю своим видениям, которые, как ему кажется, могут открыть нечто сокровенное.
Этот новый взгляд на поэтическое творчество нашёл отражение в программном стихотворении Рембо, которое до сих пор пользуется заслуженной популярностью. Это стихотворение «Пьяный корабль»:
Когда, от бечевы освободившись, я
Поплыл по воле Рек, глухих и непогожих,
На крашеных столбах – мишени для копья —
Кончались моряки под вопли краснокожих.
Теперь я весь свой груз спустил бы задарма —
Фламандское зерно и а́нглийские ткани,
Пока на берегу шла эта кутерьма,
Я плыл, куда несло, забыв о капитане.
В свирепой толчее я мчался в даль морей,
Как мозг ребёнка, глух уже другую зиму.
И Полуострова срывались с якорей,
От суши отделясь, проскакивали мимо.
Шторм пробуждал меня, возничий жертв морских,
Как пробка, на волнах плясал я десять суток,
Презрев дурацкий взор огней береговых,
Среди слепых стихий, утративших рассудок.
В сосновой скорлупе ворочалась волна,
И мне была сладка, как мальчику кислица
Отмыла все следы блевоты и вина
И сорвала рули, когда пошла яриться.
С тех пор я был омыт поэзией морей,
Густым настоем звёзд и призрачным свеченьем,
Я жрал голубизну, где странствует ничей
Завороженный труп, влеком морским теченьем.
Где вдруг линяет синь от яркости дневной,
И, отгоняя бред, взяв верх над ритмом тусклым,
Огромней ваших лир, мощней, чем чад хмельной,
Горчайшая любовь вскипает рыжим суслом.
(Перевод Д. Самойлова)
Образ корабля, плывущего без руля и без ветрил, который всецело находится во власти морской стихии, – это, собственно, и есть символ творчества, требующего от поэта абсолютного, безраздельного погружения в иррациональное, в хаос бытия. Поэт готов погибнуть в этой стихии, но в то же время слияние с ней наполняет его каким-то непостижимым восторгом.
Другое важное для понимания Рембо стихотворение, которое выражает его новый взгляд на мир и поэтику, называется «Гласные». К этому стихотворению можно относиться двояко: с одной стороны, как к стихам, а с другой, как к определенной поэтической программе:
«А» чёрный, белый «Е», «И» красный, «У» зелёный,
«О» голубой – цвета причудливой загадки:
«А» – чёрный полог мух, которым в полдень сладки
Миазмы трупные и воздух воспалённый.
Заливы млечной мглы, «Е» – белые палатки,
Льды, белые цари, сад, небом окроплённый;
«И» – пламень пурпура, вкус яростно солёный —
Вкус крови на губах, как после жаркой схватки.
«У» – трепетная гладь, божественное море,
Покой бескрайних нив, покой в усталом взоре
Алхимика, чей лоб морщины бороздят;
«О» – резкий горний горн, сигнал миров нетленных,
Молчанье ангелов, безмолвие вселенных:
«О» – лучезарнейшей Омеги вечный взгляд! (460)
(Перевод В.Микушевича.)
Можно рассматривать это как стихотворение по-своему хорошее. Все гласные Рембо выстраивает как некую шкалу в диапазоне от альфы до омеги:
«А» чёрный, белый «Е», «И» красный, «У» зелёный…
И, наконец, омега, последняя буква греческого алфавита:
«О» – резкий горний горн, сигнал миров нетленных,
Молчанье ангелов, безмолвие вселенных:
«О» – лучезарнейшей Омеги вечный взгляд!
Это, действительно, целая художественная программа, и в таком качестве она вызывает возражения. Я думаю, Рембо хотел, чтобы звуковая сторона слова, в частности, гласные, несли определённый смысл. Но дело в том, что гласная может менять звучание, в зависимости от разных звукосочетаний. Можно, как Малларме, взять слово в качестве основы, можно пойти дальше – использовать морфему. Так, например, работал Хлебников. Но гласная сама по себе не является структурной единицей, поэтому попытка Рембо создать стихи, где каждый звук выражал бы определенный образ, ни к чему привести не могла, кроме разрушения смысла.
Но Рембо было тесно в рамках стихосложения. Он решил создать второй сборник «Озарения». Это стихи в прозе, в которых он пытается выразить свое мироощущение. Это видения поэта, и они, безусловно, искренни. Рембо доводил себя до глубоко иррационального, экстатического состояния, а затем излагал эти необычные впечатления в стихах, подчеркивая, что «один владеет разгадкой сих диковинных шествий». Приведу одно из подобных озарений Рембо: «От колокольни к колокольне я протянул канаты, гирлянды – от окна к окну, золотую цепь – от звезды к звезде, и я пляшу».
Последний сборник Рембо, который завершает его творчество, но не жизнь, называется «Пора в Аду». Здесь он, собственно, подводит итоги своей поэтической деятельности. Это единственное произведение, которое было напечатано при жизни поэта. Многие стихи Рембо при его жизни не публиковались, а этот сборник был издан. Рембо очень этого хотел. Эту историю он посвятил дьяволу: «Да, много же я взял на себя! Но не раздражайтесь так, любезный Сатана, умоляю вас! И в ожидании каких-нибудь запоздалых мелких пакостей позвольте поднести вам эти мерзкие листки из записной книжки проклятого – вам, кому по душе писатели, начисто лишённые писательских способностей». (Перевод Ю. Стефанова)
Рембо во многом разочаровался. И прежде всего это касается его теории стиха. Одна из глав этого произведения носит название «Алхимия слова»:
«О себе самом. История одного из моих наваждений.
Я издавна похвалялся, что в самом себе ношу любые пейзажи, и смехотворными мне казались знаменитые творения современной живописи и поэзии.
Мне нравились рисунки слабоумных, панно над дверями, афиши и декорации бродячих комедиантов, вывески, народные лубки, старомодная словесность, церковная латынь, безграмотное скабрезное чтиво, романы, которыми упивались наши прадеды, волшебные сказки, детские книжонки, старинные оперы, глупенькие припевы, наивные ритмы.
Я грезил о крестовых походах, пропавших без вести экспедициях, государствах, канувших в Лету, о заглохших религиозных войнах, об изменившихся в корне нравах, о переселениях народов и перемещениях материков: я верил во все эти чудеса.
Я изобрел цвета гласных! А – черный, Е – белый, И – красный, О – синий, У – зеленый. – Я учредил особое написание и произношение каждой согласной и, движимый подспудными ритмами, воображал, что изобрел глагол поэзии, который когда-нибудь станет внятен сразу всем нашим чувствам. И оставлял за собой право на его толкование.
Все началось с поисков. Я записывал голоса безмолвия и ночи, пытался выразить невыразимое. Запечатлевал ход головокружений. <…>
Разное поэтическое старье пришлось весьма кстати моей словесной алхимии.
Я свыкся с простейшими из наваждений: явственно видел мечеть на месте завода, школу барабанщиков, руководимую ангелами, шарабаны на небесных дорогах, салоны в озерной глубине, видел чудищ и чудеса; название какого-нибудь водевильчика приводило меня в ужас.
А потом разъяснял волшебные свои софизмы при помощи словесных наваждений.
В конце концов я осознал святость разлада, овладевшего моим сознанием. Я был ленив, меня томила тяжкая лихорадка, я завидовал блаженному существованию тварей – гусениц, олицетворяющих невинность в преддверии рая, кротов, что воплощают в себе дремоту детства.
Характер мой ожесточался. Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов». (Перевод Ю. Стефанова)
А теперь во всё это поэт больше не верит. Он отказывается от поэзии, отказывается от творчества вообще: «И это я! Я, возомнивший себя магом или ангелом, свободным ото всякой морали, повергнут на землю, вынужден искать призвание, любовно вглядываться в корявое обличье действительности!..
Не обманулся ли я? Быть может, доброта ещё покажется мне сестрою смерти?
А теперь попрошу прощения за то, что кормился ложью. И в путь.
Ни единой дружеской руки! Где же искать поддержку?
Да, новые времена по меньшей мере суровы. Ибо я могу сказать, что одержал победу: скрежет зубовный, шипенье огня, чумные стенанья – всё это стихает. Изглаживаются нечистые воспоминания. И тают мои последние сожаления: зависть к нищим, разбойникам, спутникам смерти, ко всем отверженным. – Проклятые, если б я мог за себя отомстить!
Нужно быть безусловно современным.
Никаких славословий, только покрепче держаться за каждую завоеванную пядь. Что за жестокая ночь! Засыхающая кровь испаряется с моего лица, и нет за мной ничего, кроме этого ужасного деревца!.. Духовная битва столь же груба, как и человеческое побоище, но видение справедливости – это радость, доступная лишь Богу.
И, однако, настал канун. Примем же всякий прилив силы и подлинной нежности. И на заре, вооружившись страстным терпением, вступим в сказочные города.
Что я там говорил о дружеской руке? Слава Богу! Я силён теперь тем, что могу посмеяться над старой лживой любовью, заклеймить позором все эти лицемерные связи – ведь мне довелось видеть преисподнюю и тамошних бабёнок, – и мне по праву дано будет духовно и телесно обладать истиной». («Прощай». Перевод Ю. Стефанова)
Рембо оставил поэтическое творчество, когда ему было всего девятнадцать. Некоторое время он бродяжничал, путешествовал по Африке, Аравии. Надеясь разбогатеть, занимался торговлей, в том числе продажей оружия и рабов. Но он так и не сумел обрести богатства, в этом смысле ничего у него не получилось. В Адене у Рембо начались мучительные боли в ноге. Он отправился на лечение в Марсель, где ногу ампутировали, однако было уже слишком поздно: врачи диагностировали рак кости. Рембо намеревался вновь отплыть в Африку, но вынужден был вернуться в марсельский госпиталь, где вскоре скончался. В день смерти поэта в учётной книге госпиталя была сделана запись, сообщавшая, что «скончался негоциант Артюр Рембо».
Позже исследователи никак не могли поверить, что столь одарённый поэт действительно больше не писал стихов, надеялись, что, может быть, где-то он всё-таки оставил какие-то черновики, записи, но ничего так и не было обнаружено. Рембо дошёл до тупика в конце своей жизни. Тем не менее, это был необыкновенно яркий и самобытный человек.
С личностью и творчеством Рембо глубоко связаны произведения великого европейского драматурга Метерлинка…
Морис Метерлинк прожил достаточно долгую жизнь. Он родился в Бельгии в 1862, умер во Франции 1949 году. Но наиболее значительные его произведения приходятся на конец XIX – начало ХХ века. Метерлинк создал новую теорию театра. Он считал, что старая драматургия себя изжила. Конечно, он отдавал должное предшественникам, скажем, Шекспиру, но считал, что в современности писать для театра так, как писал когда-то Шекспир, невозможно и бессмысленно. По мнению Метерлинка, человеческая жизнь трагична по самой своей сути, и поэтому нет никаких оснований искать особые драматические приёмы, как это делала драматургия прошлого. Он говорил, что Гамлет, конечно, глубоко трагичен, но и любой старик, ожидающий смерти, не менее трагическая фигура.
Метерлинк ставил перед собой странную задачу: убрать из драмы действие, заменить действие ожиданием. Все его драмы – это, в сущности, ожидание смерти. Смерть для Метерлинка – это встреча с чем-то неизбежным, роковым. Никто не знает, что такое смерть. Это одна из величайших тайн. Для Метерлинка смерть означает не просто уход человека из жизни – это встреча с чем-то непостижимым. Но Метерлинк пытается пойти ещё дальше. Он хочет создать театр без слов: театр молчания. Он убеждён, что слова только прикрывают молчание, и потому настоящее общение между людьми происходит не в разговоре, а лишь тогда, когда они молчат. Не случайно в самые важные минуты жизни человек обходится без слов.
Правда, в одном Метерлинк всё же ошибался: он считал, что можно создать театр марионеток, и если добиться того, что они не будут двигаться и разговаривать, то, собственно, можно будет обойтись и без актёров. Но это не так. Дело в том, что марионетка как раз и должна непременно двигаться, иначе она мертва, в отличие от актера – человека, за молчанием и статичностью которого скрываются живые чувства и мысли.
Надо сказать, первые наиболее яркие постановки ранних драм Метерлинка шли в театре, который как раз по сути своей был глубоко чужд театру марионеток – это был Московский Художественный театр под руководством К. С. Станиславского. Спектакль по пьесе Метерлинка «Синяя птица» сыграл важную роль в его становлении.
Исключительная особенность Метерлинка-драматурга в том, что его герои не имеют имен: автор хочет показать человеческую судьбу вообще, а не судьбу какого-то отдельного конкретного индивида. Так, к примеру, в пьесе «Непрошенная» (1891) изображается семья: отец, две дочери, старик-дед, которые присутствуют на сцене, а за сценой находится женщина – мать этих детей, жена этого отца, дочь этого деда. Она больна, зритель её не видит, и главное в этой драме – это ожидание её смерти. Драма завершается в тот момент, когда она умирает.
В драме «Там внутри» (1894) тоже двойная сцена. Мы видим окно, за которым течёт обычная жизнь, но мы ничего не слышим. Там живёт счастливая, благополучная семья, которая всем очень довольна. Но они как бы за стеклом, а на сцене старик и молодой человек, который пришёл сообщить, что дочь этих людей утопилась. То есть, он должен сообщить о её гибели. Они ни о чем не подозревают, а ему страшно рассказать им правду. Но времени очень мало, вот-вот принесут труп, выловленный из моря. Старик заговаривает с юношей, но просто для того, чтобы с кем-то поговорить. Между ними не возникает никакого контакта…
В «Непрошенной» противостоят друг другу два персонажа – дядя и дед. Дед слеп. Вообще, тема слепоты играет важную роль в драматургии Метерлинка, но слепота здесь – это особый вид зрения. Это зрение, которому доступно незримое. Дед ничего вокруг не видит, но он очень остро чувствует. В этом образе выражен тот тип сознания, которому дано ощутить таинственную, неочевидную сторону жизни. А дядя – полная ему противоположность.
Дверь в комнату не закрывается, потому что в неё должна войти смерть. И завершается пьеса «Непрошенная» тем, что смерть всё-таки приходит, главная героиня умирает. «Непрошенная» – это пьеса о том, что люди живут, не подозревая о том страшном, что неминуемо их ожидает. Как говорит старик в пьесе, они настолько беспечны, что даже не могут представить себе всего ужаса своего существования…
Наиболее символичная из трёх одноактных драм Метерлинка – «Слепые» (1890). У героев этой драмы тоже нет имён. Метерлинк изображает приют для слепых, среди которых есть слепорожденные, есть люди, которые по какой-то причине потеряли зрение, есть даже одна сумасшедшая. Единственный зрячий обитатель приюта – это её грудной ребёнок. Слепых вывели на прогулку, но поводырь внезапно умер по дороге. Слепые его ждут, но зритель с самого начала понимает, что поводырь мёртв – таково содержание пьесы, и в ней, как и в других произведениях Метерлинка, нет никакого действия, только ожидание.
Люди живут рядом, но, в сущности, не знают друг друга. Каждый существует в одиночестве. Скажем, в «Непрошенной» один из героев скажет: «Не знать, где находишься, не знать, откуда идёшь, не знать, куда идёшь, не отличать полдня от полуночи, лета от зимы… И эти вечные потёмки, вечные потёмки…» (461) Таков, по мнению драматурга, человеческий удел вообще.
В числе героев пьесы «Слепые» есть те, кто ищет какого-то рационального решения: раз нет поводыря, значит надо что-то предпринять, пожаловаться. Но кому жаловаться? Не важно. Главное, к кому-то обратиться. Потом появляется собака и приводит слепых к мёртвому поводырю. Им не выйти из леса, они не видят ничего вокруг и не знают обратной дороги. Одна из слепых безумна. Она всё время испытывает какую-то необъяснимую тревогу. Но вот юная слепая берёт на руки её младенца и восклицает: «О, как он плачет!.. Что с тобой?.. Не плачь!.. Не бойся! Бояться нечего, мы здесь, возле тебя… <…> Скажи нам, что ты видишь?» (462) Она поднимает ребенка повыше, надеясь, что тот увидит дорогу и выведет их из леса.
Речь героев в пьесе, кажется, лишена смысла – это скорее некий музыкальный лейтмотив, выражение смертельного беспокойства. Одновременно, всё в драме наполнено символикой – сама слепота символична, как и образ указующего путь младенца.
Но как понимать подобный финал? Можно по-разному, вероятно, но есть интерпретация, которая представляется наиболее справедливой, во всяком случае, возможной. Смерть старика-поводыря – это смерть Бога. Заменить его некому, остался только зрячий ребёнок. Конечно, образ дитя в искусстве всегда символизировал собой надежду. Но в данном случае эта надежда несбыточна. Беспомощному младенцу не помочь заблудившимся в пути слепцам.
Мы остановимся на творчестве поистине выдающихся писателей, определивших главные направления развития европейской литературы в XX веке.
Франц Кафка (1883 – 1924) родился в Праге, где и прожил всю свою жизнь. Чехия в то время была частью Австро-Венгерской империи, поэтому сочинения Кафки можно отнести скорее к австрийской, чем к чешской литературе. К тому же свои произведения он писал на немецком, хотя чешский язык знал прекрасно. Кафка – необычный писатель. Окончив Пражский университет и защитив степень доктора права, он служил чиновником в страховой конторе: занимался страхованием производственных травм, выступал в защиту клиентов в суде, пока из-за обострившегося туберкулеза не вышел досрочно на пенсию. Вообще, главным делом своей жизни, «оправдывающим всё существование», Кафка считал литературу. Но при жизни он почти не печатался. Им было опубликовано всего несколько коротких рассказов, которые не привлекли к себе никакого внимания. Перед смертью Кафка даже выразил желание, чтобы впоследствии было сожжено всё им написанное. К счастью, воля Кафки не была исполнена, посмертно были изданы все его произведения.
Кафка – автор трёх романов и ряда новелл. Две его книги так и остались незавершёнными. Это «Америка», первый роман Кафки, над которым он работал между одиннадцатым и шестнадцатым годами и последний роман «Замок». Но не смерть оборвала работу над этой книгой, писатель сам оставил её в 1922 году. Что касается романа «Процесс», написанного в 1914-15 годах, между «Америкой» и «Замком», то этот роман внешне производит впечатление завершённого. Герой умирает в финале, поэтому можно считать, что книга дописана, хотя уверенности в этом всё же нет.
Может быть, самая сильная книга Кафки – «Замок», но её нельзя понять без «Процесса». Главный герой романа «Процесс» – некий Йозеф К. Начинается действие с того, что герой пробуждается рано утром, в день своего рождения. Он живёт ничем не примечательной, размеренной жизнью: служит в банке, занимая там весьма солидное положение прокуриста, неплохо зарабатывает. В общем, всё у него складывается более или менее благополучно. Но вот однажды герою сообщают, что он арестован. Пришедшие в дом стражники ведут себя вызывающе: съедают его завтрак, пытаются забрать вещи, не считая нужным ничего объяснить. Затем ему сообщают, что против него начат судебный процесс, и хотя он остается пока на свободе, даже может отправиться на службу, но в воскресенье непременно должен явиться в суд. В чём его обвиняют, он и понятия не имеет.
Вначале, видя стражников, Йозеф К. решает, что это какое-то недоразумение. Такого просто не может быть, ведь он живёт в уважающем законы государстве, повсюду царят мир и порядок, и никто не посмеет преследовать его без причины в его же собственном жилище. Герой привык ко всему относиться с чрезвычайной легкостью, считая, что дело плохо только тогда, когда действительно становится очень плохо. Он привык ничего не предпринимать заранее. Но в возникшей ситуации это казалось ему неправильным. Всё происходящее могло бы сойти за нелепую шутку, которую неизвестно почему, может быть потому, что сегодня ему исполнилось тридцать лет, решили сыграть с ним коллеги. В чём его обвиняют, он не знает. Но все посматривают на него с каким-то скрытым подозрением: и в доме, где он живет, и на службе люди отчего-то начинают его сторониться.
В следующее воскресенье Иозеф К. решает отправиться в суд, здание которого находится на одной из отдалённых улиц Праги. Никаких указаний на то, что в данном многоквартирном доме располагается суд, нет, но он всё же поднимается по лестнице, надеясь увидеть хоть какое-нибудь подтверждение, или табличку, и доходит так до самого верхнего этажа, до чердака. На него по-прежнему смотрят недоверчиво. Чтобы как-то объяснить встречным своё появление в этом месте, он произносит фразу, которая первой приходит в голову. Спрашивает: «Здесь ли живёт столяр Ленн?» «Да, пройдите», – отвечают ему.
Йозеф К. оказывается в зале суда. Суд представлен Кафкой в очень неприглядном, сниженном виде: судьи плохо одеты, дышать в зале нечем, всё происходит словно на чердаке. Вначале Йозеф К. готов возмутиться: во-первых, секретарь даже не знает его фамилии, а, кроме того, это безобразие – невинного человека заставляют явиться в суд, обвиняют непонятно в чём. Он видит собравшуюся вокруг толпу и думает, что люди по крайней мере будут к нему благосклонны, как-то прислушаются к его словам. Вначале ему кажется, что кто-то даже сочувствует. Но потом он замечает, что на всех одинаковые отличительные значки, собравшиеся в зале – служащие судебной канцелярии, и слова, которые он произносит, уходят фактически в пустоту, никто его не слышит. Позже он снова является в суд и заглядывает как бы невзначай в свод законов, лежащий на столе судьи, а, оказывается, что это и не законы вовсе, а порнографические открытки….
Дело в том, что роман Кафки можно рассматривать по-разному. Первый уровень понимания – психологический. Мы не уверены в объективности того, что происходит с героем, скорее всего, события разворачиваются в мире его сознания. Вообще весь строй этого романа напоминает сновидение. Хотя Йозеф К. и проснулся в начале книги, но всё происходит как будто во сне. Даже сам финал истории слишком напоминает сон. Я не утверждаю, что именно так надо воспринимать произведение, но такое прочтение возможно. Во всяком случае, психологический уровень здесь существен: мы не можем отделить то, что было на самом деле, от того, что лишь представляется герою.
Очень похож на ситуацию сна и момент, когда Йозеф. К. спрашивает проходящих мимо: «Здесь ли живет столяр Ленн?», а потом открывает дверь и оказывается в зале суда. Или, например, история превращения свода законов в порнографические открытки. Это тоже довольно распространенный ход. Зигмунд Фрейд, кстати, современник Кафки, кроме того, тоже австриец, правда, живший в Вене, в своей теории сновидений объяснял, что во сне нередко происходят подобные замещения. Герой знает, что нельзя заглядывать в свод законов, представление о запретном ассоциативно связывается у него с порнографическими открытками, и один образ в его сознании замещается другим. Таков принцип сновидения, как понимал его Фрейд.
Но можно трактовать «Процесс» Кафки и как сатирическое произведение. В мире, изображённом в романе, царит полное беззаконие. Герой даже не знает, в чём его обвиняют, а в финале его приговаривают к смертной казни. Что касается судей, они настолько беспринципны и сластолюбивы, что свод законов для них – это порнографические открытки. Поэтому всё это вполне можно рассматривать как некую сатирическую фантазию, такую же, скажем, как у Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города». Однако это не совсем справедливо. В романе Кафки не свод законов предстаёт как порнографические открытки, а порнографические открытки как свод законов. И неизвестно, как человека осудят, опираясь на такие законы. Поэтому это не смешно, а страшно.
У Кафки вообще все обыденные вещи приобретают полуфантастический характер. Как заметила близкая приятельница писателя Милена Есенская: «Для него жизнь является чем-то совершенно иным, чем для всех других людей; деньги, биржа, пункт для обмена валюты, даже пишущая машинка – вещи в его глазах абсолютно мистические (и они действительно таковы, только мы, другие, этого не видим), они для него самые удивительные загадки. Нет у него убежища, нет крыши над головой. Поэтому он целиком во власти того, от чего мы защищены. Он – как голый среди одетых».
Одним словом, к роману Кафки можно подходить по-разному, и все эти подходы работают. Можно, как я уже сказал, считать, что всё, изображенное писателем, – кошмарный сон героя, всё происходящее лишь «кажется» Йозефу К., он так это воспринимает. А как на самом деле, мы не знаем.
Ещё один уровень романа – социальный. Это отражение полного бесправия, беспомощности человека в мире. Кстати, некоторые исследователи видели в Кафке чуть ли не провидца, который во многом предвосхитил обвинительные процессы, которыми был полон XX век. Герой романа и сам не знает, за что его судят, в суде царят беззаконие и произвол…
Но есть и ещё один уровень произведения – символический. Вся человеческая жизнь в каком-то смысле – подобный процесс, и все мы приговорены к смертной казни, хотя толком не знаем, за что. Понять роман Кафки – значит, понять связь всех этих смысловых пластов…
Йозеф К. поначалу считает затеянное против него разбирательство нелепым, безобразным недоразумением, из-за которого он безвинно страдает. Но в то же время он ищет разные способы воздействия на судей, надеясь как-нибудь опротестовать обвинения. Приезжает его родственник, приводит к адвокату, который, используя какие-то свои связи, может попытаться ему помочь. С той же целью Йозеф обращается к художнику, который пишет портреты судей, и у него тоже есть возможности как-то повлиять на их решение. То есть, герой Кафки хочет любой ценой добиться оправдания. С одной стороны, он презирает процесс, а с другой – ищет возможности оправдаться. Этот психологический пласт очень важен в романе. Герой презирает систему, но происходит это потому, что сам он из неё выпал, а это всегда болезненно. Он был чиновником, вполне обеспеченным и всеми уважаемым, а теперь все смотрят на него с подозрением. В действительности мы, кстати, очень часто сталкиваемся с подобным: человек, выпав из некой системы, начинает её критиковать, бороться, а сам только и мечтает снова стать её частью.
Но ситуация Йозефа К. имеет в романе Кафки несколько иной смысл. Вообще, личность рождается в тот момент, когда выпадает из системы, когда в человеке просыпается его экзистенциальное «я». Недаром Лени, секретарша адвоката Гульда, на вопрос Йозефа К., почему она, собственно, так тянется к клиентам своего начальника, ответит: «Во всех них есть что-то привлекательное». А привлекательно в них то, что в критической ситуации в них проснулось их индивидуальное «я», они выпали из системы. Покидать систему всегда неуютно. Иозеф К. это чувствует, оказавшись в положении изгоя. И теперь он судит систему.
Вообще, всякий чиновник априори в той или иной степени виновен. На Йозефе К. тоже лежит вина, потому что он сам был частью системы, только раньше этого не замечал. Положение героя в этом смысле двойственно. Он обращается с просьбой о помощи к художнику Титорелли, но тот говорит, что оправдание вообще не бывает полным. Конечно, у него есть связи, и он может добиться, чтобы Иозефа К. оправдала какая-нибудь промежуточная инстанция. Но есть и некий высший суд, который полномочен в любой момент отменить принятое прежде решение и возобновить процесс. Поэтому лучший из возможных для него вариантов – волокита. Затягивать расследование можно сколько угодно, практически бесконечно, а так, глядишь, и жизнь пройдёт. Художник советует Йозефу К. избрать именно этот путь, поскольку добиться оправдания возможно только в какой-нибудь низшей инстанции, решение которой не даёт никаких гарантий. В любой прекрасный день можно снова оказаться обвиняемым.
Наиболее важным смысловым моментом в романе является встреча Йозефа с тюремным священником. Капеллан, с которым знакомится герой, рассказывает ему притчу. Сюжет притчи таков. Приходит крестьянин к вратам закона, но только не обычного, земного, а высшего, того Закона, который исходит от самого Бога. Страж, стоящий у врат, говорит крестьянину: «Я не могу тебя пропустить, и если бы даже сделал это, впереди – другие стражники, которые всё равно тебя остановят. Поэтому жди». Чтобы крестьянин не думал, что привратник не хочет ему помочь, или упущена какая-то возможность, тот время от времени брал у крестьянина взятки. Просидел так человек у врат очень долго. «Он столько лет изучал привратника и знал каждую блоху в его меховом воротнике, он молил даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже померк свет в его глазах, и он не понимал, потемнело ли всё вокруг, или его обманывало зрение…» Пришло время умирать. Но перед смертью у человека возникла вдруг одна странная мысль: а почему никто, кроме него, не захотел войти в эти врата? Он задает этот вопрос привратнику, а тот ему отвечает: «Потому что эти врата существовали только для тебя, и теперь они закрываются».
Может, всё-таки надо было попытаться войти, а человек так и не решился… Однако прежде чем врата затворились перед героем притчи навсегда, он увидел свет, струящийся сквозь них. Кстати, привратник этого света не заметил, а человек его увидел. Увидел и умер.
В чём смысл притчи? Речь здесь идёт уже о Законе в абсолютном, высшем смысле этого слова. Человек искал истину, но найти её так и не смог, потому что не рискнул к ней приблизиться. Тут возможны два толкования: может быть, страж сказал человеку правду, и до истины всё равно не добраться. А может, искатель проявил слишком мало усердия, не приложил достаточно усилий. Как бы то ни было, он не прошёл врата. И всё-таки в финале он видит свет. Человеку не удалось приблизиться к этому нездешнему свету, ворота закрылись. Но благодаря свету он увидел тьму. Без света тьмы не различить. Крот, живущий под землёй, не знает, что такое тьма, ведь ему не известно, что такое свет…
Йозеф К. ощутил свет. Ему не открылась истина, но стал очевиден мир, в котором он жил. Ему открылась тьма. Самое страшное – это тьму принимать за свет, самое скверное – абсурд принимать за истину. Он выпал из системы и понял ужас действительности, в которой истина остается сокрыта. Йозефа К. убивают. Приходят двое, ведут его куда-то за город и там исполняют приговор: просто расправляются с ним, как бандиты. Йозеф К. мог бы закричать, и не исключено, что кто-нибудь пришёл бы ему на помощь. Он видит проходящих мимо знакомых, но почему-то молчит: «Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, – начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен, что на этом пути мне в спутники даны эти полунемые, бесчувственные люди и что мне предоставлено самому сказать себе всё, что нужно». <…> «Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.
– Как собака, – сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его». (Перевод Р. Райт-Ковалева).
Может, всё это герою лишь приснилось, а может, его убили на самом деле. Всё-таки заключительные слова в романе произносит сам Йозеф К. В любом случае, он понял, что живёт в мире абсурда и осознанно принял вынесенный ему смертный приговор.
Кстати, почему он вообще пошёл в суд? Есть два ответа на этот вопрос. С одной стороны, он – законопослушный чиновник. Ему говорят «надо», и на него это действует. Но, с другой стороны, само понятие суда существует для него ещё в своем высоком, идеальном смысле, хотя в романе мы видим только сниженные его проявления. Это тоже одна из важных тем произведения: слова утратили свой подлинный смысл. Суд – это полный произвол, само это слово ничего уже не значит. Когда-то Йозеф К. верил в слова. Теперь он в них не верит. Свет, который ему открылся, сделал очевидной окружающую тьму, и герой больше не хочет жить в этой тьме…
Марсель Пруст – великий французский писатель, один из основоположников модернизма в литературе – родился в 1871 году, умер в 1922. Писатель с детства страдал тяжёлой формой астмы, и в какой-то момент болезнь обострилась настолько, что последние одиннадцать лет своей жизни он практически не выходил из дома. В эти годы Прустом было создано самое значительное его художественное произведение – цикл романов «В поисках утраченного времени».
Первый том «В сторону Свана» прошёл почти незамеченным. Зато второй «Под сенью девушек в цвету», опубликованный в 1919 году, был удостоен престижной Гонкуровской премии. Затем последовали остальные части эпопеи.
При жизни Пруста было издано четыре книги цикла: «В сторону Свана», «Под сенью девушек в цвету», «У Германтов» и «Содом и Гоморра». Последующие три тома «Пленница», «Беглянка» и «Обретённое время» не были завершены писателем и увидели свет уже после его смерти. В настоящее время эпопея Пруста полностью переведена на русский язык. Но если вы не собираетесь читать её целиком, все семь книг, то лучше ограничиться первыми четырьмя, которые были опубликованы при жизни писателя.
Что представляет собой грандиозное произведение Пруста? В его заглавии, собственно, и выражена главная его мысль – поиски утраченного времени. Во многом, хотя это и не надо понимать буквально, это воспоминания автора. Недаром главный герой цикла носит то же имя, что и автор – Марсель. Собственно, есть только одна часть во всей эпопее Пруста – книга, посвящённая любви Свана, которая написана как бы о другом человеке. Всё остальное – это рассказ автора о самом себе. Конечно, это не автобиография. Но здесь действительно в какой-то мере даны воспоминания Пруста.
Хотелось бы сразу подчеркнуть одно важное обстоятельство. «В поисках утраченного времени» – это не мемуары и не исповедь. В мемуарах обычно описываются факты и события, свидетелем которых был автор, люди, с которыми он встречался. В исповеди человек стремится рассказать о самом себе, о собственных переживаниях: его интересует не столько внешний мир, сколько он сам. Произведение Пруста – это не то и не другое. Это нечто совсем особое.
Обычно, когда повествование ведётся от первого лица, герой играет роль автора. Он рассказывает о себе. А здесь автор – герой, а не герой – автор. Что я имею в виду, постараюсь объяснить в дальнейшем. Это мир человеческого сознания. Только правильно меня поймите, но другого мира у человека нет! Это совсем не значит, что нет мира объективного. К примеру, стол существует объективно, но он существует как бы специально для каждого из нас в нашем собственном сознании. Каждый как бы воссоздает его мысленно, в каком-то смысле заново творит его для себя. И может быть, стол, который вижу я, совсем не похож на тот, каким он представляется другим, хотя стол и существует объективно. Можно, конечно, думать, что видишь мир объективно. Но Пруст так не считал. Он знает, что изображает мир своего сознания. Этот мир меньше объективного мира, но и больше него одновременно. А главное – он другой.
Приведу простой пример, чтобы было понятно, о чём речь. Всем прекрасно известно, что Земля вращается вокруг Солнца. Но в мире нашего сознания Солнце вращается вокруг Земли. Кстати, по радио каждый день сообщают, когда солнце восходит и когда заходит, хотя, на самом деле, это не так. Но дело в том, что сами понятия «восхода» и «захода» имеют целый ряд культурных корней и ассоциаций. Все вещи, которые нас окружают, несут в себе некий особый символический смысл. В нашем сознании, отдаём мы себе в этом отчёт или нет, они наделены этим символическим смыслом. И поэтому нельзя сказать, изображает Пруст самого себя, свой внутренний мир или же мир внешний? Он изображает мир своего сознания…
В романе Кафки тоже присутствует мир сознания героя, и там тоже читателю очень трудно определить, где кончается объективность и начинается субъективное… Мы не можем твёрдо сказать, что Кафка описывает в «Процессе»: своё сознание или объективный мир. Грани здесь стёрты.
У Пруста грани не стёрты. Он знает, что изображает именно мир своего сознания. Но он никогда не забывает, что существует и другой мир, который и больше и меньше его внутреннего, субъективного мира. Он не выдаёт мир субъективный за объективный. Этого смешения, которое присуще творчеству Кафки, у Пруста нет.
И второе, может быть, самое главное. Это не совсем воспоминания. Обращаясь в памяти к прошлому, мы выстраиваем его так, как представляем сегодня. Осмысливаем, пытаемся понять, выстраиваем причинно-следственные связи. В романах Пруста этого нет, не это его задача. Ему принадлежит фраза, которую надо воспринять правильно: «Только благодаря забвению мы время от времени вновь обнаруживаем существо, которым мы были раньше, потому что мы уже не мы, а оно, потому что оно любило то, к чему мы теперь равнодушны». Пруст не пытается осмыслить прошлое, он пытается его заново пережить. То, что мы помним, наслаивается на множество других, более поздних впечатлений, и поэтому мы не можем это пережить заново. А пережить мы можем только то, что забыли. Поэтому важно то, что забыто, а не то, что помнится.
Наверное, так в жизни каждого бывает: какое-то случайное движение, особое освещение… Могут быть разные поводы. И вдруг в сознании возникают картины прошлого. Состояние, которое было когда-то, вдруг возвращается. Такова и попытка заново пережить прошедшее время. Это не осмысление жизни, а особое её переживание. Это и есть утраченное время, которое Пруст стремится воскресить в своём произведении.
Пруст убеждён, что по-настоящему мы можем пережить только прошлое. Настоящее мы не переживаем, потому что каждую минуту думаем о будущем. Нас заботит, что будет дальше. И поэтому настоящее для нас проходит неощутимо. А вот когда мы вспоминаем, то можем прошедшее время точно пережить заново. Это именно переживание, а не осмысление, но переживание, которое мы осознаем. Ушедшее время как бы вновь возвращается к нам.
Теперь о том, с чего я начал: в романе не герой-автор, а автор-герой. «Величие подлинного искусства в том, чтобы обрести заново, ухватить и постигнуть действительность, от которой мы живём вдали и уходим тем дальше, чем сильнее сгущается и становится непроницаемым привычное затверженное представление, которым мы подменяем действительность, ту действительность, так и не познав которую, мы в конце концов умираем, хотя она есть не что иное как наша жизнь. Подлинная жизнь, наконец-то открытая и высветленная и потому единственная по-настоящему прожитая нами жизнь есть литература: та жизнь, которая в известном смысле осуществляется в каждом человеке в любое мгновение совершенно так же, как в художнике. Но люди её не видят, так как не пытаются вынести её на свет: их прошлое – это нагромождение бесчисленных негативов, которые пропадают втуне, так как владелец их не проявил». (463)
Главная идея Пруста заключается в этой попытке заново и уже осмысленно пережить свою жизнь. Я подчеркиваю: пережить, а не вспомнить. А что значит осмысленно её пережить? Это значит возродить прошедшее время в настоящем, как бы почувствовать его вновь, погрузиться эмоционально в событие прошлого.
Вот, например, как Марсель вспоминает детство. Он вспоминает, что мама порой не приходила к нему попрощаться перед сном и он плакал. Так этот плач до сих пор ему слышится. Он до сих пор плачет. Это и есть осмысленная память…
Пруст придавал необыкновенную значимость воображению, считал, что без воображения вообще ничего не существует. Кстати, само воспоминание невозможно без воображения. Такое осмысленное переживание связано со словом. Вспоминая нечто, мы должны это как-то назвать. Настоящее можно и не называть. Но прошлое обязательно выражается в слове. А слово будит воображение. Каждое слово многозначно. В книгах Пруста очень важны разные имена, названия… Не случайно, к примеру, прежде, чем впервые попасть в театр, Марсель читает афиши. Он ещё не видел спектакль, но уже начинает представлять…
Ещё один важный момент: в нашем видении мира огромную роль играет искусство. В жизни мы этого порой не осознаем, но в том виде воспоминаний, о котором идёт речь, это существенно. Это важно в произведении Пруста. «Было время, когда все вещи сейчас же узнавались на картинах Фромантена и не узнавались на картинах Ренуара». «Люди со вкусом говорят нам сегодня, что Ренуар великий художник в духе восемнадцатого века. Но, говоря это, они забывают Время, и что его потребовалось немало, в самом девятнадцатом, чтобы Ренуар был признан великим художником. Чтобы добиться такого признания, оригинальный художник, оригинальный писатель действуют на манер окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно. Когда оно закончено, врач говорит нам: "А теперь смотрите!" И вот мир (который был сотворён не единожды, но творится всякий раз, как является оригинальный художник) предстаёт перед нами полностью отличным от прежнего, но совершенно ясным. По улице идут женщины, не похожие на тех, что были прежде, потому что это женщины Ренуара, те самые, ренуаровы, в которых мы раньше отказывались признавать женщин. Экипажи тоже ренуаровы, и вода, и небо: нам хочется прогуляться по лесу, похожему на тот, который в первый день казался нам всем чем угодно, но только не лесом, а, например, ковром с многочисленными оттенками, где, однако, не хватало как раз тех, что свойственны лесу. Такова новая и преходящая вселенная, которая только что была сотворена. Она просуществует до ближайшей геологической катастрофы, которую вызовут новый оригинальный художник или новый оригинальный писатель». («У Германтов». Здесь и далее перевод Н.Любимова).
Недаром считается, что лондонские туманы были открыты импрессионистами. Конечно, туманы существовали и прежде, но до появления картин Моне их просто не замечали. Их увидели по-настоящему только после того, как стала известна живопись импрессионистов. Так же, как до рождения кино люди иначе видели мир. С появлением кинематографа восприятие стало монтажным. Вообще, человек воспринимает мир через призму искусства, прочитанных книг, между прочим…
Но всё дело в том, что Пруст это осознает. И поэтому любая вещь вызывает в его сознании множество ассоциаций. Он всё время вспоминает. Вместе с тем у Пруста есть твёрдое понимание того, что мир, который мы видим вокруг, это не тот мир, который существует на самом деле. Всегда остаётся какая-то непроницаемая, тёмная сторона, которая нам недоступна. Мы не можем её разглядеть. «Какую бы глубокую симпатию мы ни испытывали к живому существу, мы воспринимаем его главным образом чувством, следовательно, оно остаётся для нас непрозрачным, оно представляет собой для нас мёртвый груз, который наша впечатлительность не в силах поднять. Если с живым существом случается несчастье, то лишь крохотная частица нашего общего о нём представления приходит в волнение; более того: само это существо волнуется лишь небольшой частью того общего представления, которое сложилось у него о себе. Находка первого романиста состояла в том, что он додумался до замены непроницаемых для души частей равным количеством частей невещественных, то есть таких, которые наша душа способна усвоить…» (По направлению к Свану»).
Живого человека мы не можем постичь до конца, а художественный образ создан таким образом, что он вполне укладывается в нашем сознании. И поэтому мы невольно, осознаём это или нет, наслаиваем на своё восприятие какого-то конкретного человека те представления, которые связаны с искусством. Однако они никогда его не исчерпывают. Всегда остаётся нечто скрытое, нераспознанное.
Более того, Пруст подчеркивает: мы всегда видим мир только с какой-то одной, единственной точки зрения. А увидеть мир одновременно с разных сторон нам не дано. «Когда мне приходилось бывать в Жуи-ле-Виконт, я сперва видел какую-нибудь одну часть канала; только свернёшь за угол – глядь, уже другая, а та исчезла. Как я ни пытался мысленно их соединить, толку от этого было мало. Совсем иное дело, когда смотришь с колокольни святого Илария: оттуда открывается общий вид на всю сеть. Только самую воду не различишь, – можно подумать, что город разделён на части широкими ущельями: словно каравай разрезали на куски, но они ещё не отвалились. Чтобы получить полное представление, нужно быть одновременно на колокольне святого Илария и в Жуи-ле-Виконт». («По направлению к Свану»).
Важную роль в романе играет история любви Марселя к Альбертине. Но Альбертина каждый раз выступает в повествовании Пруста по-новому. «Лицо человеческое подобно божественному лику. Это целая гроздь лиц, которые находятся в разных плоскостях и которые нельзя увидеть одновременно».
И даже в третьей книге, когда происходит сближение героя с Альбертиной, это её качество остается неизменным. «Словом, уже в Бальбеке Альбертина казалась мне разной; теперь, словно до невероятия ускорив изменения перспективы и изменения окраски, какие представляет нашему взору женщина при встречах с ней, я решил уложить все эти встречи в несколько секунд, чтобы опытным путём воссоздать явление разнообразия человеческой личности и вытащить одну из другой, как из футляра, все заключенные в ней возможности, и на коротком расстоянии от моих губ до её щеки увидел десять Альбертин; эта девушка была подобна многоглавой богине, и та, которая открывалась моим глазам после всех, как только я пытался приблизиться к ней, пряталась за другую. Пока я к ней наконец не прикоснулся, я по крайней мере видел её, от неё исходило легкое благоухание. Но увы! – для поцелуя наши ноздри и наши глаза так же плохо расположены, как плохо устроены губы, – внезапно мои глаза перестали видеть, мой нос, вдавившийся в щеку, уже не различал запаха, и, так и не узнав вкуса желанной розы, я понял по этим невыносимым для меня признакам, что наконец я целую щеку Альбертины». («У Германтов». II).
Итак, нам не дано охватить целое. Вот почему в любви, по убеждению Пруста, огромную роль играет воображение: «Решающим условием, необходимым для того, чтобы зародилась любовь, условием, при наличии которого все остальные кажутся уже неважными, является уверенность, что некое существо имеет отношение к неведомому нам миру и что его любовь нас туда ведёт. Даже те женщины, которые якобы судят о мужчине только по его наружности, на самом деле видят в его наружности излучение некоего особенного мира. Вот почему они любят военных, пожарных; форма заставляет их быть снисходительными к наружности; когда женщины целуются с ними, им чудится, что под панцирем бьётся необыкновенное сердце, бесстрашное и нежное; юный властелин или наследный принц для одержания наиболее отрадных побед в чужих странах, где он путешествует, не нуждается в красивом профиле, без которого, пожалуй, не мог бы обойтись биржевой заяц». («По направлению к Свану». «Комбре»).
Тема любви – одна из центральных в произведении Пруста. Лично для него наиболее важным было его чувство к Альбертине, но всё же особенно показательна та часть романа, где описывается любовь Свана к Одетте. Здесь, собственно, дана модель изображения любовного чувства, которая пройдёт потом через все книги Пруста. Дело в том, что Одетта – куртизанка, и поначалу она совершенно не нравилась Свану. Он долго оставался к ней равнодушен, и многое в ней ему было даже неприятно. Но однажды он вдруг заметил сходство этой женщины с героиней картины Боттичелли «Сепфора». Он стал видеть её сквозь призму этого художественного образа. Даже вместо фотокарточки на столе поставил гравюру. И с этого момента возникает его страстная любовь к Одетте, потому что теперь он видит в реальной женщине боттичеллевский образ, видит её глазами искусства.
С одной стороны – живопись, а с другой – музыка. Хотя Одетта и довольно плохо играла на рояле, но она всё же исполняла любимые сонаты Свана. И это тоже в немалой степени питало его любовь к ней. «…Но ведь прекрасные видения, которые остаются у нас после музыки, часто возносятся над теми фальшивыми звуками, что извлекаются неумелыми пальцами из расстроенного рояля. Короткая фраза всё ещё связывалась в представлении Свана с его любовью к Одетте. Он живо чувствовал, что эта любовь не имеет ничего общего с внешним миром, что она никому, кроме него, непонятна, он сознавал, что никто так высоко не ценит Одетту, как он, – ведь всё дело было в тех мгновеньях, которые проводил он с нею вдвоём». («По направлению к Свану». Часть вторая. «Любовь Свана»).
И ещё один важный момент. Чувство, которое пронизывает и отношение Марселя к Альбертине, и отношение Свана к Одетте условно можно назвать ревностью. Однако, это не совсем ревность, а нечто гораздо большее. Что делает Одетта, когда Сван её не видит? Неизвестно. Эта мысль безумно мучает героя. Может быть, это и ревность. Он ревнует и, кстати, у него для этого есть все основания: у Одетты масса любовников. Но не в этом дело. Важно, что существуют две Одетты. Одна – та, которую он видит, и другая, которую он не видит.
Но таково отношение Пруста к жизни вообще. Есть мир, который мы видим, и мир, который от нас скрыт. В мире, который доступен Свану, Одетта связана с живописью Боттичелли, с музыкой, но есть и другая Одетта, которую он никогда не увидит и не узнает. Ему не даёт покоя наличие этого иного – непроницаемого, неизвестного в ней. И это не просто ревность. В этом вся концепция Пруста: существует другая, непостижимая сторона жизни. Первая целиком пронизана различными культурными ассоциациями, а вторая темна, непонятна, но она существует, и это мучает героя. Всегда остаётся нечто тайное, скрытое от глаз. Возможно, если бы этого не существовало, не было бы и страсти Свана к Одетте. «И все же Сван сильно сомневался, чтобы всё, о чём он мечтал, чтобы тишина и спокойствие создали благоприятную атмосферу для его любви. Если б Одетта перестала быть для него существом вечно отсутствующим, влекущим, вымышленным; если б его чувство к ней уже не было бы тем таинственным волнением, какое вызывала в нём фраза из сонаты, а выродилось в привязанность, в благодарность; если б между ними установились нормальные отношения, которые положили бы конец его безумию и его тоске, то, вне всякого сомнения, повседневная жизнь Одетты показалась бы ему малоинтересной, да у него давно уже возникали такие подозрения…» («По направлению к Свану».Часть вторая. «Любовь Свана»).
Когда однажды Сван сквозь конверт прочитал её письмо к Форшвилю, то убедился, что если бы выздоровел, Одетта стала бы ему безразлична. И кстати, когда он на ней, наконец, женится, Одетта действительно перестаёт его интересовать. Поэтому сама его любовь – это выражение его представления о действительности, где есть очевидная сторона, вся пронизанная культурными, художественными ассоциациями, это бесконечные воспоминания с самыми разными включениями, а есть и другая – скрытая от глаз, которая волнует, тревожит, будит воображение…
Есть ещё один важный мотив. А хочет ли видеть эту скрытую сторону Пруст? Нет, не хочет. Он знает, что она существует, всегда ощущает её присутствие. Но для него гораздо важнее тот мир воображения, который определяет его отношение к действительности. Приведу два примера. Первый – это эпизод в первой книге, первая встреча героя с герцогиней Германтской. Дело в том, что прежде он много о ней слышал, само её имя рождало в его сознании массу ассоциаций и душевных состояний. И вот однажды герцогиня приехала, он смог увидеть её в церкви, и она была похожа на многих других женщин, которые встречались вокруг, но не имела ничего общего с тем образом герцогини Германтской, который был создан его фантазией, существовал в его душе.
В первую минуту он переживает настоящее разочарование. «Думая прежде о герцогине Германтской, я ни разу не поймал себя на том, что воображение рисует мне её на гобелене или на витраже, переносит её в другое столетие, творит её не из того вещества, из какого сделаны другие люди, – вот чем было вызвано моё разочарование. Мне никогда бы не пришло в голову, что у неё могут быть красные щеки, сиреневый шарф, как у г-жи Сазра, да и овалом лица она живо напоминала мне некоторых моих домашних, в связи с чем у меня закралось подозрение, – впрочем, тут же рассеявшееся, – что эта дама в своей первооснове, во всех своих молекулах, пожалуй, существенно отличается от герцогини Германтской, что её тело, не имеющее понятия о том, какой у неё титул, принадлежит к определённому женскому типу, к которому могут относиться и жёны врачей и коммерсантов. «Так это и есть герцогиня Германтская?» – наверное, читалось на моём лице, пока я внимательно и изумленно рассматривал её облик, естественно, ничего общего не имевший с теми, которые под именем герцогини Германтской столько раз являлись мне в мечтах, потому что вот этот облик, в отличие от других, не был создан по моему хотению – он только что бросился мне в глаза впервые, в церкви; потому что его природа была иная; потому что его нельзя было окрасить в любой цвет, как те, что покорно впивали в себя оранжевый оттенок одного-единственного слога, – он был до того реален, что всё в нём, вплоть до прыщика, рдевшего под крылом носа, удостоверяло его подвластность законам жизни, подобно тому как в театральном апофеозе морщинка на платье феи или дрожание её мизинца обличают материальную сущность живой актрисы, а если б не это, нас бы взяло сомнение: не проекция ли это волшебного фонаря?» («По направлению к Свану»).
Но затем он заставляет себя иначе взглянуть на герцогиню: «И, останавливая взгляд на светлых её волосах, на голубых глазах, на выгибе её шеи и не обращая внимания на черты, которые могли мне напомнить другие лица, я мысленно восклицал, изучая этот преднамеренно неоконченный набросок: «Как она прекрасна! Как в ней чувствуется порода! Передо мной и впрямь горделивая Германт, из рода Женевьевы Брабантской!» И моё внимание, освещавшее её лицо, до такой степени обособляло его, что, восстанавливая в памяти венчание, я уже никого не вижу, кроме неё и сторожа, ответившего утвердительно на мой вопрос, не герцогиня ли Германтская эта дама. <…> Я, как сейчас, вижу над пышным шёлковым сиреневым шарфом её ласково удивлённые глаза, выражение которых она дополняла несмелой улыбкой, не предназначавшейся никому в отдельности, рассчитанной на то, чтобы каждый мог воспользоваться её частицей, – несмелой улыбкой жены сюзерена, которая в чём-то извиняется перед своими вассалами и которая их любит. Я смотрел на герцогиню не отрываясь, и наконец её улыбка упала и на меня. Тут я вспомнил взгляд, который она остановила на мне во время службы, голубой, как луч солнца, прошедший сквозь витраж с Жильбертом Дурным, и сказал себе: «Ну, конечно, она меня заметила!» Я вообразил, что понравился ей, что, уйдя из церкви, она будет думать обо мне и что, быть может, нынче вечером, в Германте, ей станет без меня грустно. <…> Её глаза голубели, как барвинок, и этот барвинок нельзя было сорвать, но предназначала она его мне; а солнце, хотя его и грозила накрыть туча, пока, напрягая все свои силы, забрасывало стрелами лучей площадь и ризницу, окрашивало в цвет герани разостланные для пущей торжественности красные ковры, по которым с улыбкой ступала герцогиня Германтская, и добавляло к их шерсти розовую бархатистость, вносило в праздничное ликование особую мягкость, строгую нежность, какою проникнуты иные места в «Лоэнгрине», иные картины Карпаччо и которая объясняет нам, почему Бодлер применяет к звуку трубы эпитет «сладостный».». («По направлению к Свану»). И здесь она – именно та самая герцогиня Германтская, которую герой создал своим воображением.
Из реального творится художественный образ. (Именно так, между прочим, поступают документалисты. Они тоже создают образ из предстоящего взгляду). Вот почему я говорю, что в произведении Пруста существует не автор-герой, а герой-автор. Пруст преображает реальность, непрестанно превращает действительную её картину в картину художественную.
Иногда, правда, ему приходится невольно сталкиваться с реальностью, какая она есть, но он тут же это отбрасывает. Так однажды он увидел свою бабушку. Он очень любил её, любил тот образ, который сложился в его воображении. Но однажды, войдя в комнату, он внезапно «увидел на диване красную при свете лампы, рыхлую, ничем не примечательную, больную, задумавшуюся, бродившую поверх книги слегка безумными глазами, удрученную, незнакомую… старуху». («У Германтов»). Это видение длилось всего лишь мгновение. А потом вновь возник тот знакомый образ бабушки, которым он так дорожил…
Пруст сыграл очень важную роль в искусстве ХХ века. В сущности, именно он разрушил иллюзорное представление о возможности объективного изображения мира. Мы можем показать мир лишь таким, каким мы его видим, каким мы его воспринимаем. А увидеть, какой он есть на самом деле, нам не дано – ни узнать, ни передать тем более…
Это открытие имело множество последствий в искусстве ХХ века. Во-первых, что касается романного жанра, повествование всё чаще стало вестись от первого лица. Это один из существенных моментов в литературе ХХ столетия. На этом, к примеру, построена вся проза Э. Хемингуэя. Это не обязательно буквально повествование от первого лица. Это может быть и роман, написанный от третьего лица, так называемая несобственно-прямая речь. Но мир изображается таким, каким его видит герой… Второй вариант – это появление множества рассказчиков. Так, например, построены романы У. Фолкнера, в частности, «Шум и ярость», где три разных героя рассказывают одну и ту же историю. Затем, правда, Фолкнер решил написать и четвертую – уже «от себя». Но и она не претендует на объективность. Это всего лишь ещё одна версия происшедших событий. И, наконец, третье – это подчеркнуто условная форма. Автор создаёт некую условную модель реальности и никак не претендует на объективность представленной им картины.
Впервые со всей остротой эти процессы ощутил Лев Толстой в поздний период своего творчества. Ему принадлежат критические высказывания о том, что искусство есть ложь и произвол, и вредно людям. Писать не о том, что есть настоящая жизнь, а о том, что о жизни думает автор, – кому это важно? То есть, поскольку нельзя писать объективно, то надо ли писать вообще…
Но художник ХХ века только и делает, что показывает, как он видит, и что он об этом думает. Из этого, однако, не надо делать печальных выводов. Скорее наоборот. Дело в том, что каждый видит мир по-своему, и это видение представляет собой абсолютную ценность. Больше так никто мир не увидит. Поэтому запечатлеть то, как воспринимаешь именно ты – единственная возможная позиция для художника. Но к этому я бы хотел ещё добавить: надо суметь показать мир действительно таким, каким ты его видишь, а не таким, каким он, может быть, представляется твоему сознанию. Кстати, оно у нас чрезвычайно клишировано, и мы совсем не видим реальность, а только думаем, что видим.
Пруст это понимал. То, что нам не довелось расшифровать, прояснить собственным усилием, то, что было выявлено ещё до нас, нам не принадлежит. По-настоящему наше лишь то, что мы сами осознали, извлекли из неразличимой тьмы и неведомое остальным. Вот если это удалось – тогда это действительно ценно. А если это заимствовано, если художник видит лишь то, что видят все вокруг – грош тому цена.
Томас Манн - одна из самых значительных фигур в литературе ХХ века. Писатель родился в Германии в 1875, умер в 1955 году. Томас Манн любил круглые даты. Когда ему исполнилось двадцать пять и завершился старый XIX век, он написал свой первый роман «Будденброки». За этот роман Манн был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1929 году. Приближаясь к пятидесятилетию, он создал второй великий роман «Волшебная гора».
Кроме того, Манн собирался умереть ровно в 70 лет, в возрасте, в котором ушла из жизни его мать. И он действительно смертельно заболел в этот год. У писателя обнаружился рак легких. Но он выжил. Он вообще считал, что человек умирает лишь тогда, когда даёт согласие на смерть. Томас Манн в тот момент такого согласия не дал. Конечно, ему сделали удачную операцию, что в те годы было величайшей редкостью. Даже сегодня операции по удалению опухоли не всегда проходят успешно. Но Томас Манн считал, что остался жить не поэтому: в тот момент он не мог умереть, поскольку должен был завершить работу над романом «Доктор Фаустус». Пережив семидесятилетие, он умер ровно в восемьдесят.
Томас Манн как писатель не знал периода ученичества. Уже первый его роман «Будденброки» был воспринят как классическое произведение. Читая эту книгу, трудно поверить, что она написана молодым, начинающим автором. Кажется, что она принадлежит умудрённому опытом, немолодому человеку. Этот роман во многом автобиографичен. В истории рода Будденброков отразилась история семьи самого Томаса Манна – известного купеческого рода из города Любек. Вообще, писатель очень часто обращался к каким-либо фактам собственной биографии. В образе одного из главных героев – сенатора Томаса Будденброка – он изобразил своего отца. А себя он во многом представил в образе маленького Ганно Будденброка, младшего представителя рода, хрупкого, болезненного юноши, влюблённого в искусство. Кстати, этот роман имеет примечательный подзаголовок: «История гибели одного семейства».
Когда вышло в свет это произведение, многие жители города Любека узнали себя в его героях. Но людям редко нравится, как их изображают художники. И тогда Т.Манн вынужден был написать статью, которая называлась «Бильзе и я». Бильзе – это имя ныне заслуженно забытого писателя-натуралиста, современника Томаса Манна. В этой статье Т.Манн выразил некоторые важные особенности своей художественной манеры, на которые хотелось бы обратить внимание. Это важно для понимания его творчества.
Томас Манн отмечает, что в своих произведениях он всегда обращается к реальности. Однако он не копирует реальность, а одухотворяет её. К примеру, Шекспир в «Ромео и Джульетте» или в «Отелло» тоже использует готовые сюжеты, заимствованные из итальянских новелл. Но он наполняет их собственной мыслью, и эти известные истории приобретают под его пером совершенно другой, новый смысл. Кстати, в «Гамлете» он тоже использовал хронику датского летописца Саксона Грамматика, создателя шестнадцатитомного труда «Деяния данов»… А Томас Манн точно так же обращается с реальностью. Он списывает с реальной действительности, но при этом преображает её, одухотворяет собственной мыслью, подобно тому, как Шекспир преображал известные образы литературных первоисточников. Томас Манн называет это «высоким переписыванием».
Приведу один из примеров такого «переписывания» в романе «Будденброки». Речь идёт о последнем отпрыске рода, маленьком Ганно Будденброке. В конце романа он умирает от брюшного тифа. Так вот. Томас Манн взял статью из Энциклопедического словаря и очень точно описал, как протекает болезнь. Фактически он эту статью переписал. Но не совсем. Дело в том, что в процессе развития брюшного тифа существует некая кризисная точка: если человеку удаётся пережить этот кризис, у него появляется шанс на выздоровление; в ином случае, достигнув этой критической точки, больной умирает. Всё это соответствует данным научной медицинской статьи. Но описывая это кризисное состояние, Т. Манн добавляет, что в этот момент для человека как бы звучат два голоса: голос жизни и голос смерти. Если голос жизни оказывается силён – больной выздоравливает, если нет – умирает. Поэтому герой Томаса Манна погибает от брюшного тифа, но не только от него. В нём слишком слаб был голос жизни… Именно такой подход писатель называет «высоким переписыванием».
Новеллы Т. Манна – особый жанр. Дело в том, что новелла – это всегда фрагмент действительности. Не случайно Джованни Боккаччо, допустим, соединил свои новеллы в единый сборник «Декамерон», где в целом они выражают некую цельную концепцию мира. Что касается такого автора, как Мопассан, он тоже не издавал своих новелл по отдельности. Они выходили сборниками под общим названием. Единственная новелла, вышедшая как самостоятельное произведение, – это «Пышка». Мопассан был учеником Флобера, и Флобер не позволял ему печататься, считая, что тот не достиг ещё достаточного мастерства. И тогда Мопассан решил сам опубликовать свою первую новеллу. Но в дальнейшем никогда больше этого не делал. Это всегда были сборники.
Новеллы Томаса Манна представляют собой нечто иное. В сущности, это большой жанр. Содержания каждой хватило бы на целый роман. Поэтому для писателя это просто концентрированная форма.
К примеру, новелла «Тонио Крёгер» (1903), которая очень важна в творчестве Томаса Манна. Во-первых, в ней выступает важнейшая для писателя тема судьбы художника. Она возникает уже в ранних его новеллах. А кроме того, в этом произведении впервые осуществлено то, что будет потом вообще свойственно манере Т. Манна и в наиболее сложной форме проявится в романе «Доктор Фаустус». А в наиболее простой форме это предстает уже в «Тонио Крёгере».
Когда вышел в свет роман «Волшебная гора», Т. Манн выступил перед американскими студентами. Писателю задали вопрос: что требуется для того, чтобы лучше понять его произведение? Томас Манн ответил: нужно его перечитать. И объяснил, почему: «Себя я должен отнести к музыкантам среди писателей. Роман всегда был для меня симфонией, произведением, основанным на технике контрапункта, сплетением тем, в котором идеи играют роль музыкальных мотивов. Вы, наверное, уже встречали кое-где высказывания о том влиянии – я и сам указывал на него, – которое оказало на моё творчество искусство Рихарда Вагнера. Я отнюдь не отрицаю этого влияния, в частности, я считаю себя последователем Вагнера в использовании лейтмотива, который я перенёс в искусство повествования, но не так, как это делали Толстой и Золя и как это делал в своё время я сам в моём юношеском романе "Будденброки", где лейтмотив применяется лишь в целях натуралистического подчеркивания характерной детали, так сказать механически, а по-другому – в духе музыкальной символики. Первую попытку в этом направлении я сделал в "Тонио Крёгер". Техника, которую я там использовал, применена в "Волшебной горе" в гораздо более широких рамках, здесь она максимально усложнена и пронизывает весь роман. Отсюда-то и вытекает мое высокомерное требование прочитать "Волшебную гору" дважды. Понять до конца этот комплекс взаимосвязанных по законам музыки идей и по-настоящему оценить его можно лишь тогда, когда тематика романа уже знакома читателю и он может толковать для себя смысл перекликающихся друг с другом символических формул не только ретроспективно, но и забегая вперед». (Т. Манн. «Путь на Волшебную гору»).
Это принцип, который широко применялся в кинематографе в его лучшую пору, скажем, в фильмах Ф. Феллини или А. Тарковского. Их надо смотреть как минимум дважды, поскольку, пока не увидишь финала, не поймёшь до конца некоторых мотивов. Важен повтор. Поэтому произведения Т. Манна требуют повторного чтения.
В новелле «Тонио Крёгер» это выступает относительно просто. Новелла делится на ряд эпизодов. В первом эпизоде герою Тонио Крёгеру 14 лет, он возвращается из школы вместе со своим другом Гансом Гансеном. В следующем эпизоде ему уже 16, он влюблён в Инге Хольм, и это лишь одна маленькая сценка, в которой его прогнали с урока танцев. В третьем эпизоде герой предстаёт уже зрелым писателем. Здесь происходит его разговор с русской художницей Елизаветой Ивановной. Четвёртый короткий эпизод – посещение Тонио Крёгером родного города. И пятый – герой на северном курорте катается на лыжах и встречает там своих давних друзей. Вся новелла построена как серия эпизодов, взятых из разных периодов жизни главного героя. И, конечно, здесь присутствует хронологическая последовательность. Но главный принцип построения новеллы – музыкальный повтор, развитие основной темы, которая пронизывает всё произведение.
Кроме того, в новелле много символичного. Первая её тема: противопоставление «бюргер-художник». Но это также и противопоставление севера и юга. Уже в имени и фамилии героя – Тонио Крёгер – заложен некоторый значимый контраст. Фамилия у него немецкая, северная – Крёгер, а имя Антонио совсем не немецкое. Он обязан этим именем своей матери-южанке, которая была привезена отцом, как сказано в тексте новеллы, из страны, расположенной в самом низу карты. Кроме того, это проявляется во внешности героя. Его друг Ганс Гансен – типичный немец. У него немецкое имя и немецкая фамилия. Он белокур и голубоглаз, как и положено немцу. А Тонио – темноволосый, у него лишь чуть заметная голубизна глаз.
Этот контраст севера и юга имеет явный символический смысл. Дело в том, что это контраст бюргера и художника. Ганс Гансен – прекрасный спортсмен, первый ученик… Тонио тянется к нему и всячески добивается его дружбы. А Тонио учится плохо, ему больше нравится читать книжки, он очень любит стихи. Мать довольно безразлично к этому относится, она – южанка, сама – натура творческая, играет на рояле. Отец же сыном недоволен. Он вообще считает, что Тонио следует ругать за то, что он не такой, как все. «Мы же не южане!» – то и дело повторяет он мальчику.
Главное содержание этого первого эпизода: по дороге из школы Тонио пытается проводить Ганса Гансена до дома. К ним присоединяется ещё один мальчик – сын директора банка Эрвин Иммерталь. Заходит разговор о лошадях, в котором Тонио не может принять участия. Но он только что прочёл драму Ф. Шиллера «Дон Карлос»: его очень взволновала сцена, где король плачет от одиночества, и он пытается как-то заинтересовать этим впечатлением Ганса Гансена. Но тот в присутствии Иммерталя даже не называет Тонио по имени. В этом имени, по его мнению, ощущается что-то непочтенное. Ганс Гансен обращается к нему по фамилии – Крёгер. Приятели расстаются, а Ганс даже обещает когда-нибудь прочитать драму «Дон Карлос».
Тема «бюргер-художник» получит своё дальнейшее развитие в следующем эпизоде, рассказывающем о любви героя к Ингеборг Хольм:
«Белокурая Инге, Ингеборг Хольм, дочь доктора Хольма, жившего на Рыночной площади, посреди которой высился островерхий и затейливый готический колодец, была та, кого Тонно Крёгер полюбил в шестнадцать лет.
Как это случилось? Он сотни раз видел её и раньше. Но однажды вечером, в необычном освещении, он увидел, как она, разговаривая с подругой, задорно засмеялась, склонила голову набок, каким-то своим, особым жестом поднесла к затылку руку, не очень узкую, не слишком изящную и совсем ещё детскую руку, и при этом белый кисейный рукав, соскользнув, открыл её локоть, услышал, как она со свойственной только ей интонацией проговорила какое-то слово, обыкновенное, незначащее слово, но в голосе её послышались теплые нотки – и его сердце в восхищении забилось куда более сильно, чем некогда, когда он ещё несмышленым мальчишкой глядел на Ганса Гансена». (464)
Автор описывает урок танцев. Тонио перепутал фигуры и теперь стоит у окна, делая вид, что смотрит в окно, а на самом деле смотреть некуда – жалюзи опущены, он смотрит в себя… Ему хотелось бы, чтобы к нему подошла Ингеборг, положила бы ему руку на плечо, со словами: «Иди к нам, я люблю тебя…». Но он знает, что этого никогда не случится. И, наверное, ему здесь не место. Лучше сидеть дома, писать стихи. Когда-нибудь он станет знаменитым, в этом он не сомневается. Его рассказ уже взяли в один журнал. Правда, он не был пока напечатан. Но выйдут другие. Может, тогда он произведёт впечатление на Инге Хольм? Нет! Он знает, что нет! Вот на другую девушку, дочь адвоката Магдалену Вермерен, которая вечно спотыкается, на неё – бесспорно. А на Ингеборг никакого впечатления подобное не произведёт. И всё-таки ему нужна только Инге Хольм. Здесь тоже звучит повтор: Инге и Ганс Гансен похожи друг на друга. Тонио же по-прежнему одинок…
Это важнейшие мотивы новеллы: север и юг, бюргер и художник… Вообще, тема «бюргер – художник» в творчестве Томаса Манна достаточно сложна. Понятие «бюргер» не сводится к понятию «буржуа», которое присутствует в нашем сознании. Т. Манн вкладывает в него несколько иной смысл, близкий к понятию «мещанин». Только в России оно всегда было скорее отрицательным, а в Германии – положительным. В сущности, это вопрос о классовом характере морали. Конечно, мораль не может полностью определяться классовой принадлежностью, поскольку имеет некоторые всеобщие основания. Но тем не менее, она социально окрашена. Дворянская мораль иная, чем бюргерская. Дворянин должен быть храбрым, самоотверженным. А вот бюргерство для Томаса Манна – это обязанности, ценности семьи, трудолюбие, ответственность… Бюргер заботится о собственном доме, о близких, он занят хозяйством. И бюргер противостоит художнику. Художник – это мечты, фантазии, свобода, игра. Поэтому контраст севера и юга – это и контраст бюргера и художника. Тонио в достаточной мере – художник, но он ищет любви «обыкновенных», голубоглазых и белокурых бюргеров и не находит её.
А второй контраст – это контраст востока и запада. Для Германии восток – это Россия, а запад – Франция. Запад в новелле представлен в образе учителя танцев г-на Кнаака, который прогнал Тонио Крёгера из танцевального класса, когда тот перепутал фигуры. «Уходя из гостиной, полагалось с поклонами пятиться к двери; подавая стул, не хватать его за ножку, не волочить за собою, но нести, взявши за спинку, и бесшумно опустить на пол. И уж конечно, никак нельзя было стоять, сложив руки на животе и высунув кончик языка; а если кто-нибудь всё же позволял себе это, господин Кнаак умел так зло воспроизвести его позу, что у бедняги навек сохранялось к ней отвращение.
Таковы были уроки изящных манер. А уж в танцах господин Кнаак положительно не знал себе равных. В гостиной, откуда выносили всю мебель, горела газовая люстра и свечи на камине. Пол посыпался тальком, и безмолвные ученики стояли полукругом. В соседней комнате за раздвинутыми портьерами располагались на плюшевых креслах мамаши и тётки и в лорнеты наблюдали за тем, как господин Кнаак, изогнувшись и двумя пальцами придерживая полы сюртука, упруго скачет, показывая ученикам отдельные фигуры мазурки. Если же ему хотелось окончательно сразить публику, он внезапно, без всякой видимой причины, отрывался от пола, с непостижимой быстротою кружил ногою в воздухе, дробно бил ею о другую ногу и с приглушённым, но тем не менее сокрушительным стуком возвращался на бренную землю… "Ну и обезьяна", – думал Тонио Крёгер».
Так вот, Кнаак – это Франция, здесь важна форма. А восток – это Россия. Она представлена в новелле образом приятельницы Тонио Крёгера, русской художницы Елизаветы Ивановны. Вот как в новелле описывается её мастерская:
«– Я не помешаю? – спросил Тонио Крёгер с порога мастерской.
Держа шляпу в руке, он стоял, почтительно склонившись, хотя Лизавета Ивановна была его другом и у него от неё не было никаких тайн.
– Помилуйте, Тонио Крёгер, зачем эти церемонии! – отвечала она с характерной для неё отрывистой интонацией. – Кому не известно, что вы получили хорошее воспитание и умеете вести себя в обществе! – С этими словами она переложила кисть в левую руку, в которой держала палитру, протянула ему правую и, покачав головой, со смехом взглянула ему прямо в глаза.
– Да, но вы работаете, – отвечал он. – Позвольте мне посмотреть. О, вы изрядно продвинулись! – И он стал попеременно рассматривать эскизы в красках, прислоненные к спинкам стульев по обе стороны мольберта, и большой расчерченный квадратными клетками холст, где на фоне путаного, схематического наброска углем уже возникали первые красочные пятна.
Это было в Мюнхене, на Шеллингштрассе. Мастерская помещалась в верхнем этаже здания, стоявшего в глубине двора. За широким окном, глядевшим на северо-запад, царила синева небес, птичий щебет; солнце; юное сладостное дыхание весны, лившееся сквозь открытое окно, мешалось с запахом фиксатива и масляных красок, наполнявшим обширную мастерскую. Золотистый вечерний свет, не встречая преград, заливал нагие просторы мастерской, без стеснения освещал выщербленный пол, загроможденный кистями, тюбиками с краской и всевозможными бутылочками некрашеный стол, этюды без рам на неоклеенных стенах, обветшавшую шёлковую ширму неподалеку от дверей…»
Что характерно для России, по мнению писателя? В Европе – строгие правила, прагматизм, упорядоченность, здесь – постоянный беспорядок… Вообще, в России, конечно, никогда не было особой политической свободы. Но Россия всё-таки всегда оставалась наиболее вольной страной. Нравы русские всегда были очень вольны. Вообще, понятие «воля» очень характерное. Не случайно Россия – родина анархизма. Люди здесь чувствуют себя максимально свободно. Порядка нет, но беспорядок – выражение свободы.
Есть ещё одна особенность, которая вообще не свойственна человеку Запада, но присуща людям в России. Это очень ярко отразилось в русской литературе. Люди легко исповедуются друг другу. Скажем, в романе Достоевского Мармеладов, впервые увидев Раскольникова, не колеблясь, всё ему о себе рассказывает. Или герой «Крейцеровой сонаты» Толстого едет в поезде и выкладывает рядом сидящему незнакомцу глубоко интимные подробности своей супружеской жизни. Для западного человека подобное невозможно.
В одном из эпизодов новеллы Тонио Крёгер, ставший к тому времени известным писателем, попадает в мастерскую русской художницы Лизаветы Ивановны, и там происходит его исповедь.
Царящая в мастерской русской художницы особая непринужденная атмосфера располагает к откровенности, и Тонио Крёгер открывает ей свою душу. В этой исповеди выступает, может быть, главная проблема его как художника. Он всё же стал писателем, как мечталось в детстве, но чувствует, что положение писателя его не вполне устраивает, не даёт ему счастья. Дело в том, что как писатель он выпадает из обыденного течения жизни. Это происходит по разным причинам. С одной стороны, его идеал – это бюргерство, которое представлено в новелле образами Ганса Гансена и Инге Хольм. Но в то же время сам Тонио стремится погрузиться в какие-то иррациональные глубины. Он говорит, что знал одного фабриканта, который писал стихи. Но прежде тот сидел в тюрьме. Можно себе представить! Преуспевающий фабрикант вряд ли станет писать стихи. Художник должен всегда оставаться в жизни наблюдателем: он как бы смотрит на всё со стороны, не участвует в происходящем. Любое его переживание становится материалом для творчества. Поэтому занятие искусством – это, в общем-то, скорее проклятие, чем призвание. Но, может быть, самая глубокая причина разачарования Тонио Крёгера в том, что он хотел бы писать для голубоглазых и белокурых, хотел бы, чтобы ему рукоплескали Ганс Гансен и Ингеборг Хольм, а они никакой потребности в его творчестве не испытывают. И характерный для той эпохи лозунг "искусство для искусства", на самом деле, в глазах Томаса Манна и его героя означает лишь «искусство для людей искусства». Это художество для художников. Единственные почитатели, которые интересуются произведениями Тонио Крёгера, – это его собратья по перу. Они способны оценить литературную форму, стиль. Но, собственно, это единственная аудитория, которой он как автор располагает. Бюргерам его творения не интересны.
Елизавета Ивановна не вполне с этим согласна. Она немного иначе смотрит на призвание писателя. «Я только глупая женщина, пишущая картины, и если у меня находится, что возразить вам, если мне иногда удаётся защитить от вас ваше собственное призвание, то, конечно, не потому, что я высказываю какие-то новые мысли, – нет, я лишь напоминаю вам то, что вы и сами отлично знаете… По-вашему, выходит, что целительное, освящающее воздействие литературы, преодоление страстей посредством познания и слова, литература как путь к всепониманию, к всепрощению и любви, что спасительная власть языка, дух писателя как высшее проявление человеческого духа вообще, литератор как совершенный человек, как святой – только фикция, что так смотреть на вещи – значит смотреть на них недостаточно пристально?
– Вы вправе всё это говорить, Лизавета Ивановна, применительно к творениям ваших писателей, ибо достойная преклонения русская литература и есть та самая святая литература».
Это важное различие между востоком и западом. Русская литература, может быть, до конца XX века, действительно, выполняла подобную роль. В России литература как бы заменяла собой общественно-политическую жизнь. А. Блок когда-то справедливо заметил: "Вопрос, что важнее – Аполлон Бельведерский или печной горшок – это чисто русский вопрос". Русскую литературу всегда волновала нравственная сторона жизни. Но герой новеллы Томаса Манна – не русский писатель. Он немецкий писатель. И проблемы, которые его волнуют, в Германии мало кому интересны. Тонио говорит Лизавете Ивановне: «Я люблю жизнь, это признание. Примите, сберегите его, – никому до вас я ничего подобного не говорил. Про меня немало судачили, даже в газетах писали, что я то ли ненавижу жизнь, то ли боюсь и презираю её, то ли с отвращением от неё отворачиваюсь. Я с удовольствием это выслушивал, мне это льстило, но правдивее от этого такие домыслы не становились. Я люблю жизнь… Вы усмехаетесь, Лизавета, и я знаю почему. Но, заклинаю вас, не считайте того, что я сейчас скажу, за литературу! Не напоминайте мне о Цезаре Борджиа или а какой-нибудь хмельной философии, поднимающей его на щит! Что он мне, этот Цезарь Борджиа, я о нём и думать не хочу и никогда не пойму, как можно возводить в идеал нечто исключительное, демоническое. Нет, нам, необычным людям, жизнь представляется не необычностью, не призраком кровавого величия и дикой красоты, а известной противоположностью искусству и духу: нормальное, добропорядочное, милое – жизнь во всей её соблазнительной банальности – вот царство, по которому мы тоскуем. Поверьте, дорогая, тот не художник, кто только и мечтает, только и жаждет рафинированного, эксцентрического, демонического, кто не знает тоски по наивному, простодушному, живому, по малой толике дружбы, преданности, доверчивости, по человеческому счастью, тайной и жгучей тоски, Лизавета, по блаженству обыденности!»
Затем герой отправляется в родной город, который стал совсем не таким, каким был прежде, когда он его оставил. Город переменился. И хотя Тонио теперь – известный писатель, никто его не узнает, никто не читал его книг. Его даже принимают за преступника и готовы задержать (здесь как бы очевидно реализуется эта внутренняя метафора). А потом он заезжает на северный курорт. Вообще, направляется на север. Я уже говорил, что в новелле очень важен контраст севера и юга. Действие эпизода происходит зимой, Тонио приезжает в надежде покататься на лыжах, отдохнуть. И здесь он неожиданно встречает тех, кого так любил в детстве: Инге Хольм и Ганса Гансена. Теперь они муж и жена.
Это чистый повтор мотива. Здесь всё повторяется. Ганс Гансен и Ингеборг Хольм напоминают герою детство. «Ганс Гансен не изменился нисколько. На нём по-прежнему был бушлат с золотыми пуговицами и выпущенным из-под него матросским воротником; матросскую шапочку с короткими лентами он держал в опущенной руке и беззаботно помахивал ею». И Ингеборг, которую он любил когда-то в детстве, кажется, всё та же. «Он любил их обоих не в силу каких-то свойств, им одним присущих, или их схожей манеры одеваться, – его пленяло в них тождество расы, типа, принадлежность к одной и той же породе людей – светлых, голубоглазых, белокурых, породе, вызывающей представление о чистоте, неомраченном благодушии, весёлости, простом и горделивом целомудрии… Он видел их, видел, как Ганс, широкоплечий, узкобедрый, ещё более здоровый и стройный, чем в ту далёкую пору, стоял там в своём матросском костюме, видел, как Ингеборг, лукаво смеясь, по-особенному подняла и закинула за голову руку, не слишком узкую, не слишком изящную руку девочки-подростка, и при этом движении рукав соскользнул с её локтя. И вдруг тоска по родине с такой силой сдавила его грудь, что он непроизвольно ещё глубже попятился в темноту, чтобы никто не заметил нервного подергиванья его лица…
«Разве я забыл вас? – спрашивал он себя. – Нет, я никогда вас не забывал! Ни тебя, Ганс, ни тебя, белокурая Инге! Ведь это для вас я работал, и, когда мой труд вознаграждался рукоплесканиями, я потихоньку оглядывался, нет ли среди рукоплещущих вас обоих…»
Здесь словно возвращается тот давний урок танцев: они снова танцуют, и Тонио снова одинок. «Ингеборг следовало бы прийти, заметить, что он ушёл, тайком прокрасться за ним и, положив руку ему на плечо, сказать: «Пойдём к нам! Развеселись! Я люблю тебя!..» Но она не пришла. Ничего такого не случилось. Всё было как тогда, и, как тогда, он был счастлив. Ибо сердце его жило…»
Это чистый повтор мотива. А завершается повесть письмом, которое Тонио Крегер пишет русской художнице Лизавете Ивановне.
«Я стою между двух миров, ни в одном не чувствуя себя дома, и потому мне приходится круто. Вы, художники, называете меня обывателем, а обыватели хотят меня арестовать… Я же толком и сам не знаю, что больше меня огорчает. Бюргеры глупы; но вам, поклонники красоты, обвиняющим меня во флегме и в отсутствии возвышенной тоски, не плохо было бы понять, что существует творчество столь глубокое, столь Предначертанное и роковое, что нет для него ничего сладостнее и желаннее, чем блаженная обыденность.
Я восхищаюсь холодными гордецами, что шествуют по тропе великой, демонической красоты, презирая человека, но не завидую им. Ведь если, что может сделать из литератора поэта, то как раз моя бюргерская, обывательская любовь к человечному, живому, обыденному. Всё тепло, вся доброта, весь юмор идут от неё, и временами мне кажется, что это и есть та любовь, о которой в Писании сказано, что человек может говорить языком человеческим и ангельским, но без любви голос его всё равно останется гудящей медью и кимвалом бряцающим.
Сделанное мною – ничто, самая малость, всё равно что ничто. Я добьюсь большего, Лизавета, – обещаю Вам. Сейчас, когда я пишу, ко мне в комнату доносится рокот моря, и я закрываю глаза. Я вглядываюсь в неродившийся, ещё призрачный мир, который требует, чтобы его отлили в форму, упорядочили, вижу толчею теней, отбрасываемых человеческими фигурами, эти тени машут мне – воплоти и освободи нас! Среди них есть трагические, есть смешные, есть и такие, в которых представлено, то и другое, – к ним я привержен всей душой. Но самая глубокая, тайная моя любовь отдана белокурым и голубоглазым, живым, счастливым, дарящим радость, обыкновенным.
Не хулите эту любовь, Лизавета: она благодатна и плодотворна. В ней страстное ожидание, горькая зависть, малая толика презрения и вся полнота целомудренного блаженства».
Кстати, эти последние строчки почти дословно повторяют эпизод в начале новеллы, где описывается время, когда Тонио Крёгер так страстно добивался дружбы Ганса Гансена. Этот первый отрывок завершается такими словами: «Тонио прошёл под старинными приземистыми городскими воротами, миновал гавань и стал круто подниматься по ветреной и мокрой улице к родительскому дому. Сердце его в эти минуты жило: оно было переполнено тоской, грустной завистью, легким презрением и невинным блаженством».
Основной принцип построения текста здесь – музыкальный. Собственно, уже в первом эпизоде, где описывается дружба Тонио с Гансом Гансеном, заложена вся структура новеллы, которая разворачивается в дальнейшем… С одной стороны, здесь конечно существует последовательность, а с другой – работает принцип повтора. Развивая тему любви героя к «голубоглазым и белокурым», которые не испытывают никакой потребности в духовном, Томас Манн сам это остро ощущал. Он хотел, чтобы искусство было связано с жизнью. Писатель чувствовал, насколько они далеки. Но в этот период он ещё надеялся, что подобная гармония возможна…
Наиболее глубокое выражение тема судьбы художника нашла в последнем великом произведении Томаса Манна – романе "Доктор Фаустус". Писатель начал с этой темы в "Тонио Крёгере" и завершил ею своё творчество. Работа над «Доктором Фаустусом» продолжалась между 1943 и 1947 годами. Писатель обобщил в этом произведении сложный опыт развития искусства первой половины XX века. Кстати, эти «белокурые и голубоглазые», к которым так тянулся герой его ранней новеллы Тонио Крёгер, в период фашизма превратились в «белокурых бестий», а сам Томас Манн стал одним из наиболее активных борцов с фашизмом.
Томас Манн прошёл довольно сложный путь. В период Первой мировой войны и после неё он занял позицию человека, далёкого от политики. Он не желал вмешиваться в общественно-политические процессы, считая, что художник не должен интересоваться подобными вещами вообще, и даже написал "Размышления аполитичного", которые, правда, позже не включил в последнее своё прижизненное собрание сочинений. Но когда произошла революция в Германии и возникла Германская республика, Томас Манн резко изменил свои взгляды. Он очень рано ощутил опасность фашизма. Это предчувствие звучит уже в его романе "Волшебная гора". А когда фашисты пришли к власти, Томас Манн эмигрировал. Хотя Гитлер и предлагал писателю вернуться в страну, но он ответил отказом. Сначала Томас Манн жил в Швейцарии, а когда началась Вторая мировая война, уехал в Соединенные Штаты, опасаясь, что Швейцария может быть оккупирована немцами.
Роман "Доктор Фаустус" – из числа центральных и самых сложных для понимания произведений XX века. Книга охватывает множество серьёзнейших тем. Кроме того, она затрагивает достаточно специфические музыковедческие проблемы. Томас Манн, который всегда интересовался музыкой, работая над "Доктором Фаустусом", изучал новейшие музыкальные теории и даже пользовался консультациями крупнейшего теоретика музыки XX века Арнольда Шёнберга. Если такому знатоку музыки, как Томас Манн не хватало знаний, то что говорить о читателе, которому довольно сложно погружаться в чисто музыковедческие сферы. Поэтому вопросов музыки мы будем касаться лишь в той степени, в какой это необходимо для понимания романа. Томас Манн говорил, что это, конечно, роман о музыке. Но он не только о музыке. Это роман о судьбе человеческого гения в глубоко кризисную, трагическую эпоху.
Начнём с заглавия книги. "Доктор Фаустус"… Далее следует подзаголовок: "Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом". Повествование ведётся не от автора, а от лица друга Адриана Леверкюна доктора философии Серенуса Цейтблома, который рассказывает его историю. Образ рассказчика – это вообще характерная особенность литературы XX века. Но сейчас я на другое хочу обратить внимание. Для русского читателя это может быть незаметно, но для немецкого звучит странно. Зачем подчеркивать, что речь идёт именно о немецком композиторе? Это же роман на немецком языке, действие происходит в Германии. Если бы главный герой книги был, к примеру, французом или русским, тогда, может, и следовало бы уточнить его немецкое происхождение, а здесь это же само собой разумеется…
Дело в том, что прилагательное чаще всего является определением; определение ограничивает существительное. Композитор может быть немецким, французским, английским, испанским и так далее. Композитор – более широкое понятие, а прилагательное конкретизирует, как бы сужает его рамки. Томас Манн иначе относился к прилагательным. Кстати, обратите внимание: Тонио Крёгер любил «белокурых и голубоглазых» – это тоже прилагательные. Для Томаса Манна прилагательное в некотором смысле шире существительного. Немцем может быть композитор, врач, художник, кто угодно. Это только одно из проявлений немецкого духа. И поэтому он подчёркивает, что это немецкий композитор.
С этим связаны две важнейшие темы романа. С одной стороны – это судьба художника, а с другой – судьба Германии. И поэтому это книга о немецком композиторе, но, в то же время, композитор – это как бы выражение немецкого вообще. Роман представляет собой биографию Адриана Леверкюна, с которым рассказчик был знаком с раннего детства. И первое, что он отмечает в своём герое, – это душевный холод. Даже мальчиком тот был чрезвычайно холоден. Сам Адриан Леверкюн скажет о себе: «Похоже… я скверный малый, ибо нет во мне горячности». Он редко с кем переходил на "ты", даже к своему ближайшему другу Цейтблому всегда обращался по фамилии. Единственный человек, с которым он был на «ты» и называл по имени, это скрипач Руди, Рудольф Швердтфегер. Но ему это дорого обошлось.
Адриан Леверкюн с детства был точно обречён надо всем смеяться. В школе он был первым, но плохим учеником. Человек необыкновенно одарённый, он учился легко и блистательно, но был плохим учеником, потому что никогда не отдавал себя учению. Всё вызывало в нём усмешку. Ни к чему он не мог отнестись до конца серьёзно, без иронии. И не случайно вначале он поступает на богословский факультет, надеясь, что богословие сможет как-то обуздать это его качество. Тут уж не до иронии. Однако очень скоро он с сожалением обнаруживает, что и современное богословие превратилось в пародию.
Впрочем, была и другая причина, по которой он выбрал, а затем оставил богословский факультет. У него, несомненно, было призвание – быть музыкантом. Но музыкой он начал заниматься поздно, и поэтому не мог стать исполнителем. Хотя была и ещё одна, более глубокая причина, почему это ему не удалось. Исполнительская карьера требует общения с публикой. А ему всегда было безразлично, как будет воспринята людьми его игра… Он вообще не был способен общаться. Поэтому ему оставалось только одно – композиторство.
В своё время большое впечатление на Адриана Леверкюна произвели лекции профессора Венделя Кречмара, посвященные теории и истории музыки. Он написал Кречмару письмо, в котором выразил своё желание обратиться к музыке и опасение, что у него, может быть, нет для этого достаточных оснований: «…ведь и у меня, как у всех, слёзы навертываются на глаза, а позыв к смеху всё-таки непреодолим. Спокон веку я проклят смеяться перед лицом всего таинственно-впечатляющего; от этого-то чрезмерно развитого чувства комического я и удрал в теологию, понадеялся, что она уймёт мой злополучный зуд, – но лишь затем, чтобы и в ней обнаружить пропасть ужасающего комизма. Почему почти все явления представляются мне пародией на самих себя? Почему мне чудится, будто почти все, нет – все средства и условности искусства ныне пригодны только для пародии? <…> И такого-то отчаявшегося человека, такую ледяную статую вы объявляете «одарённым» музыкантом, призываете меня к музыке?» (XV). (465)
В музыке, по его выражению, слишком много тепла, "коровьего, хлевного тепла". Но Адриан Леверкюн холоден. Как он может быть композитором? Слушая музыкальное произведение, он чувствует, как оно сделано, и ему хочется разъять эту форму на составляющие. Но он достаточно глубок для того, чтобы понимать, что искусство к этому не сводится. В искусстве скрыта какая-то тайна, а он, видимо, лишён этого ощущения. Все эти сомнения он выразил в письме своему учителю. А Кречмар ему на это ответил: то, о чём говорит Адриан, это особенности современного композитора вообще. Именно такие люди и нужны сейчас искусству.
Однажды в разговоре с Цейтбломом, своим другом и биографом, Адриан Леверкюн так определил трудности, которые испытывает как художник. Это очень важный момент для понимания романа. Сначала я прочту то, что говорит герой, а потом постараюсь прокомментировать его слова: «В произведении искусства много иллюзорного; можно даже пойти ещё дальше и сказать, что оно само по себе как «произведение» иллюзорно. Оно из честолюбия притворяется, что его не сделали, что оно возникло и выскочило, как Афина Паллада, во всеоружии своего блестящего убранства, из головы Юпитера. Но это обман. Никакие произведения так не появлялись. Нужна работа, искусная работа во имя иллюзии; и тут встаёт вопрос, дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей науки, нашего понимания правды такая игра, способен ли ещё на неё человеческий ум, принимает ли он её ещё всерьёз, существует ли ещё какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодовлеющим и гармоническим целым, с одной стороны, и зыбкостью, проблематичностью, дисгармонией нашего общественного состояния – с другой, не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая, и особенно прекраснейшая, – ложью? <…> «Произведение искусства! Это обман. Обывателю хочется верить, что оно ещё существует. Но это противно правде, это несерьёзно». (XXI).
То, что я сейчас скажу, носит несколько приблизительный характер, но для понимания романа, может быть, этого будет достаточно. Существуют два типа искусства. Хочу сразу исключить античное искусство, которое занимает особое место. Но есть, скажем, искусство Востока, средневековое искусство – то, что больше всего занимает Адриана Леверкюна, и искусство Нового времени, которое начинается с эпохи Ренессанса. Первый тип искусства – это прежде всего торжество канона. Это твёрдые принципы формы, которым должен следовать художник. Кроме того, искусство в Средние века никогда не выступало как нечто самостоятельное. Искусство носило прикладной характер, включалось в обряд, было одной из составляющих богослужения. Создавались церковные хоралы, расписывались стены храмов и так далее… Существовали определенные правила, незыблемые каноны, скажем, иконописи, предписывавшие, как надо писать иконы, определённые трафареты. Поэтому искусство не было отделено от мастерства. Конечно, это мог быть замечательный художник, но творил он всё-таки, следуя изначально заданным правилам. Индивидуальное, личностное начало в таком искусстве отсутствовало… Мы не знаем создателей средневековых соборов, не знаем имён большинства иконописцев. Это было безличностное искусство.
А вот искусство Нового времени совершенно другого типа… Его примета – появление картин. Картина – это некоторый прообраз подобного типа искусства вообще. Первое условие существования картины: она представляет собой нечто самодостаточное. Картина – это замкнутый в себе особый мир. Ещё одна важная особенность: картина создает художественную иллюзию. Она должна производить впечатление некоторого гармоничного целого. Я хочу сразу уточнить, что такое художественная иллюзия. Это не то, что должно обязательно походить на реальность, на повседневную действительность, не та иллюзия, которая возникает в реалистическом романе, допустим. Нет, художники Ренессанса изображали Мадонн. Но иллюзия заключалась в том, что искусственное производило впечатление естественного, нарисованное – живого. Богоматерь в иконе – это очень условный образ, а, скажем, "Сикстинская мадонна" Рафаэля или мадонны Леонардо да Винчи воспринимаются как реальные женщины. Изображение производит впечатление живого – в этом заключается главная особенность искусства Нового времени. Искусственное в нём выглядит как естественное. Это завершенное гармоническое целое – такова важнейшая особенность этого типа искусства.
Но возникает один вопрос. Музыка же не иллюзорное искусство. Нарисованная женщина должна походить на реальную, даже если изображена мадонна, Афродита, или спящая Венера, как, скажем, на прекрасной картине Тициана. А почему музыкальное искусство тоже иллюзорно? Какая это музыка? Приведу пример немузыкальный: лирические стихи. Пушкин в "Евгении Онегине" использует четырёхстопный ямб и 14-строчную строфу с точной системой рифмовки. Это абсолютно строгая форма, она всюду проявляется. Но когда мы читаем некоторые отрывки из "Евгения Онегина", нам кажется, что это живая речь:
"Куда? Уж эти мне поэты!"
– Прощай, Онегин, мне пора.
"Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?"
– У Лариных. – "Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?"
– Ни мало. – "Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых (слушай, прав ли я?),
Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лён, про скотный двор…"
– Я тут ещё беды не вижу.
"Да, скука, вот беда, мой друг".
– Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу… – "Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленской; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей, и пера,
И слёз, и рифм et cetera?..
Представь меня". – Ты шутишь. – "Нету".
– Я рад. – "Когда же?" – Хоть сейчас.
Они с охотой примут нас.
(Глава третья. I-II).
Иллюзия заключается в том, что искусственное производит впечатление естественного.
Так вот. Музыка – это тоже иллюзорное искусство. В ней тоже существуют каноны. И тем не менее, когда композитор творит, следуя этим канонам, довольно строгому художественному порядку, он выражает свои непосредственные чувства, высказывает то, что хочет, и делает это естественно. Музыка разделяет общее представление об иллюзорном. Иллюзия основана на том, что искусственное здесь тоже производит впечатление естественного – это главное.
При этом возникает ещё один важный момент, который отмечает Адриан Леверкюн. Условием естественности искусственного является гармония, ибо всё живое гармонично, в том числе наш организм. Если в художественном произведении не присутствует гармония, не возникнет впечатления естественного. Поэтому музыка тоже представляет собой гармоническое целое.
Но Адриан Леверкюн считает, что иллюзия – это обман. Почему? Важная причина заключается в том, что художественное произведение не только что-то изображает. Оно создает некоторую модель мироздания, исходя из того, что мир устроен всё-таки гармонично. Но теперь больше нет никакой гармонии. И думать, что произведение может быть образом целого, нет совершенно никаких оснований. Это занимало творцов когда-то – идея, что искусственное может казаться естественным, что возможна гармония культуры и природы, но эта иллюзия рухнула. Теперь мы знаем, что цивилизация и природа никогда не достигнут согласия, и само представление, что возможно такое живое гармоническое целое – ложь…
И, наконец, ещё один существенный момент. Пушкин, например, пользуется 4-х стопным ямбом, а впечатление такое, что он так совершенно естественно разговаривает. Для современного художника подобное невозможно. Это ложь, считает Адриан Леверкюн. Как можно разговаривать ямбом?! Мы, конечно, не знаем, как возник классический музыкальный язык. Древние мыслители полагали, что изначально это была музыка небесных сфер… Нам это не известно доподлинно… Но сам этот язык отражает всё-таки некую глубинную структуру мира, и благодаря этому человек может выразить на языке музыки свои чувства. Но Адриан Леверкюн приходит к выводу, что теперь это невозможно! Обычно люди над подобными вопросами не задумываются. А вот Адриан Леверкюн задумался, и он понимает, что это не он говорит, а сам язык, которому присуща некая собственная, особая логика. Поэтому он приходит к заключению: искусство – это обман.
Какой вывод делает из всего этого Адриан Леверкюн? Он начинает с того, чем завершается искусство XX века. Он пародирует все существующие формы. Может, это свойство его духа – ничего не принимать всерьёз, смеяться надо всем. Но такова, впрочем, природа всякой пародии. Она всегда подчеркивает условность формы. Так, скажем, появление "Дон Кихота" Сервантеса сразу же сделало очевидной условность прежнего рыцарского романа. Сервантес, в сущности, убил рыцарский роман. Но это пародировался лишь отдельный жанр…
А герой Томаса Манна берёт музыку в целом. Он пародирует все существующие её формы. Он их использует, но в пародийных целях. Это характерно для современного постмодернизма. Адриан Леверкюн с этого начинает, но завершает он авангардом. Он решает создать новую музыкальную теорию. Её принципы излагаются в 22-й главе книги и являются по сути изложением музыкальной системы Арнольда Шёнберга. Надо сказать, самого Шёнберга обидел этот роман, и Томас Манн даже был вынужден сделать такое уточнение в конце книги: «Нелишне уведомить читателя, что манера музыкальной композиции, о которой говорится в главе XXII, так называемая двенадцатизвуковая, или серийная техника в действительности является духовной собственностью современного композитора и теоретика Арнольда Шёнберга и в некоей идеальной связи соотнесена мною с личностью вымышленного музыканта – трагическим героем моего романа. Да и вообще многими своими подробностями музыкально-теоретические разделы этой книги обязаны учению Шёнберга о гармонии». (Эпилог).
Правда, писатель признавался, что ему не очень-то хотелось добавлять подобное примечание, поскольку в его романе теория Шёнберга приобрела несколько иной, новый смысл. Но это всё равно не убедило композитора, заявившего в печати: «Он (Томас Манн) только усугубил свою вину в желании меня умалить: он меня называет одним(!) современным композитором и теоретиком. Конечно, через два или три поколения все будут знать, кто из нас двоих современник другого».
То, что я буду говорить о 12-тоновой системе музыкальных композиций, относится к роману Томаса Манна. Прежде всего – это новая музыкальная система и этим она интересна, как всякий авангард. Все прежние системы уже многократно использовались композиторами, а эта новая. В чём её суть? Она заключается в следующих основных положениях: существует двенадцать нот, между собой абсолютно не связанных, гармоническая часть музыки в точности повторяет её мелодическую составляющую. Это вообще очень важный момент, мы к этому ещё вернемся. Кроме того, данная теория основывается на принципе: ни одна нота не может прозвучать повторно, пока не прозвучат все двенадцать. Неразличимость мелодии и гармонии – первое положение данной системы.
Цейтблом выражает сомнение в том, что в музыке вообще возможно руководствоваться столь строгими правилами… Обычно художник выбирает тот звук, который ему необходим. К тому же в рамках системы вполне могут возникнуть созвучия, которые будут диссонансны, неблагозвучны, или наоборот, слишком банальны и даже такие, которые вообще не способно воспринять человеческое ухо. Но Адриан Леверкюн на это отвечает: "Это не важно, важно чтобы была услышана система». А будет ли услышан тот или иной звук, это, по его убеждению, не столь существенно.
Прежде Адриана Леверкюна весьма занимала одна проблема, и это, кстати, толкало его к пародии. Ему казалось, что все существующие созвучия уже были многократно использованы. А он хотел писать музыку иначе. Всё искусство Нового времени пронизано этим стремлением одного художника не быть похожим на другого. Средневековое искусство подобный вопрос не интересовал: похоже на других или нет. А здесь: если ты личность, значит, должен создать нечто новое. Все сочетания звуков, по мнению Леверкюна, уже были когда-то в употреблении. Современному композитору остаются только повторы и вариации. А предложенное им – это новая система, поэтому композитор чувствует себя абсолютно свободным. Таково её первое преимущество. Второе заключается в том, и Леверкюн это подчеркивает, что его система существует всё же как продолжение предшествующей, классической. Тем самым Адриан Леверкюн показывает, что можно придумать любую систему. Прежние музыканты считали, что классическая система, в сущности, божественного происхождения, что она отражает некую абсолютную космическую гармонию. А вот он придумал другую. Та ведь тоже была кем-то рождена, а какая разница? Эта просто другая. И она, кстати, смотрится именно на фоне прежней, поэтому она тоже – явление культуры. Она ведь не просто сама по себе появилась, а как бы опровергает предыдущую, построенную на принципе гармонии …
В старой музыкальной системе присутствует некий иррациональный момент. Мы не знаем, как она возникла, в ней есть что-то, будто данное свыше… Конечно, в каком-то смысле это рациональное соединение звуков, но есть и нечто, что происходит помимо человеческой воли. В новой системе тоже есть соединение рационального и иррационального. Но вот возникает это на другой основе. Это иррациональность в придуманной системе. Прежде как раз иррациональна была сама система. А здесь иррациональность заключается в том, как выпадут ноты. Действует строгое правило: чередуются двенадцать нот, и ни одна не может прозвучать повторно, пока не прозвучат все двенадцать. Поэтому возникает иррациональный, непредсказуемый, сверхъестественный момент. Недаром Адриан Леверкюн сравнивает сочинительство в этой новой системе с карточными гаданиями. Как карты лягут – неизвестно. Но в карточных гаданиях ничего божественного нет.
Я так подробно останавливаюсь на этой системе, поскольку на её принципах строится сам роман Томаса Манна, она – в основе его структуры. Но есть ещё один субъективный момент, который является важным фактом биографии Адриана Леверкюна. Ему мешает творить некоторая психологическая особенность. Он слишком холоден, им руководит, как я уже говорил, лишь холодный интеллект, и отсутствует то, что условно можно назвать сердцем – то, что всегда было основой музыки.
Но холодный интеллект уживается в нём с животным инстинктом. С этим связан важнейший эпизод биографии Адриана Леверкюна, заимствованный Томасом Манном из жизни Ницше, – посещение публичного дома. Приехав как-то в Лейпциг, Адриан Леверкюн решил пообедать, а гид, вместо того, чтобы проводить его в харчевню, привёл в публичный дом. До этого момента герой, кстати, не знал женщин. В письме к своему другу Цейтблому он рассказывает, как ему было неприятно находиться в этом заведении. Единственным существом, которое привлекло его внимание, оказался рояль. Он сел играть. Одна из девиц, которую звали гетера Эсмеральда, настоящего её имени мы не знаем, села к нему на колени и погладила по щеке. Адриан вскочил и убежал прочь. Но девушка, видимо, произвела на него сильное впечатление. Он захотел ещё раз с ней увидеться. Спустя некоторое время он вновь отправился в публичный дом, но Эсмеральды там не оказалось. Он стал наводить справки и выяснил, что она уехала в Братиславу. Тогда Адриан Леверкюн отправился в Братиславу и нашел её там, в одном из публичных домов. Кстати, всё это реальные факты биографии Ницше. Девушка, растроганная тем, что Адриан Леверкюн специально её разыскивал, предостерегла его от близости с ней, признавшись, что больна сифилисом. Но это его не остановило. И он заразился сифилисом.
В отношении Адриана Леверкюна к Эсмеральде есть что-то от любви. Во-первых, избирательность. Ему нужна была именно она, он в Братиславу ради неё поехал. Но самое главное – это готовность ради сближения с ней пойти даже на такую вещь, как болезнь. И всё же любовью это назвать трудно. Это была единственная их встреча в публичном доме, на этом отношения закончились. Он, конечно, её не забыл, потому что осталась болезнь. Но это была скорее тоска по любви. Недаром первое произведение Адриана Леверкюна, первая его опера будет написана на сюжет шекспировской комедии "Бесплодные усилия любви".
С этим мотивом связаны важнейшие события жизни Адриана Леверкюна: его попытка женитьбы на художнице Мари Годе, позже – привязанность к маленькому племяннику пятилетнему Непомуку. Недаром один из важнейших образов, который повторяется в произведениях Адриана Леверкюна и к которому он так часто обращается, – это образ андерсеновской Русалочки с её тоской по человеческой душе. Это бесплодные усилия любви. И уже в этом эпизоде присутствует другой главный герой романа – дьявол. Он скажет Адриану Леверкюну, что именно тогда был заключён их договор… Это 25-ая глава книги, рассказ самого Адриана Леверкюна, который напоминает известный эпизод из романа Достоевского "Братья Карамазовы": разговор Ивана Карамазова с чёртом. Но есть принципиальное отличие. У Достоевского чёрт – двойник самого героя. В каком-то смысле это разговор Ивана с самим собой, чёрт – это как бы его второе "я". А у Томаса Манна чёрт существует объективно. Это роман – миф. Недаром он носит название "Доктор Фаустус".
Дьявол предлагает Адриану Леверкюну сделку. Есть три мотива у этого договора. Первый – любовь Адриану Леверкюну запрещена. Душевный холод – вот главное условие его творчества. Это очень важный момент. Дело в том, что Адриан Леверкюн очень не хочет, чтобы его искусство стало достоянием современной культурной индустрии, и поэтому старается сохранять напряженные отношения с публикой. Когда парижский импресарио Саул Фительберг предлагает ему совершить турне по Европе, он отвергает это предложение. И вообще, он крайне равнодушен к тому, как будут восприняты его произведения. Напряженные отношения с публикой – условие его творчества.
Второй мотив – это предрешённость, ограниченность отпущенного герою времени. В романе важное место занимают реминисценции картины Дюрера "Меланхолия". В частности, образ песочных часов. Сроки договора Адриана Леверкюна с дьяволом строго определены – это ровно 24 года, как и в Народной книге о Фаусте… Ему даётся 24 года, и всё. Но эти годы он будет творить…
Дьявол должен доказать Адриану Леверкюну, что тот не найдёт настоящих ценителей своего творчества. Конечно, культурная индустрия может его использовать, но успеха у него всё равно не будет. На это ему рассчитывать нельзя, если он хочет стать великим композитором. Он должен сохранять напряжённые отношения с публикой, и вряд ли будет понят современниками. Тонио Крёгер не знал, для кого он пишет. А уж Адриан Леверкюн тем более. У него такая сложная музыка. Кто её станет слушать?
Но есть и другое. Старые художники тоже не всегда встречали понимание у современников, но они верили, что их, может быть, поймут и оценят потомки. Они всегда творили для будущих поколений. Пушкин говорил: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа…" А Адриану Леверкюну чёрт доказывает, что никогда его произведения не будут исполнены. Никому и никогда они не станут нужны! Недаром одно из главных произведений Леверкюна – это "Апокалипсис". То есть у его творений нет никакого будущего… Нет настоящего, нет будущего. Зачем тогда творить? Но у чёрта – две руки: одной рукой он указывает, как нельзя, а другой – как можно. И тут свою роль призвана сыграть болезнь. Именно она должна дать Адриану Леверкюну возможность творить. Болезнь способна заменить ему вдохновение.
Тема болезни занимала Томаса Манна, начиная с первого его романа "Будденброки". Маленький Ганно Будденброк – болезненный мальчик, который умирает в конце романа. Болезнь – центральная тема "Волшебной горы". И столь же важна она в "Докторе Фаустусе". С чем связана тема болезни в творчестве Томаса Манна? Сначала о более ранних вещах. Томас Манн понимал, что отношения между болезнью и здоровьем очень сложны. Дело в том, что в современном мире, где нарушены важнейшие нормы, остаться здоровым человеком просто невозможно. Все в какой-то степени больны. Но, тем не менее, каждый знает, когда он здоров, а когда – болен. Здоровье – это состояние некоторого равновесия. Болезнь возникает тогда, когда равновесие нарушается. Если начать обследоваться, врачи обязательно что-нибудь обнаружат… Но равновесие это может нарушиться и на основе духовных причин. Поэтому люди, которые особенно остро реагируют на дисгармоничность, часто бывают больны. Отсюда тема больного художника, который именно в силу своей особой духовной чуткости болен физически, его болезнь неотделима от этого острого ощущения нарушенного равновесия.
Но есть и другая сторона темы болезни. Ведь что такое, в сущности, болезнь? Это борьба организма с болезнетворными силами. Если бы люди не болели, то давно бы уже исчезли с лица земли. Благодаря тому, что мы болеем, мы живём. Когда появляется нарыв – это неприятно, конечно, но позволяет избежать заражения крови и так далее. Не случайно, кстати, у людей, молодых и крепких, всегда бывает более высокая температура, чем у пожилых и ослабленных. Потому что это проявление сопротивления, это организм борется. Однако эта борьба весьма опасна, потому что забирает запасные силы организма. Человеческий организм вообще устроен надёжно. В нём скрыты большие внутренние резервы, трогать которые нельзя…
Томаса Манна интересовал образ больного художника. С этим связан его интерес к проблеме сифилиса. Я не ручаюсь, что всё это правда, но в своё время была очень популярна книга "Гениальные сифилитики" (Томас Манн прочел её ещё в юные годы и уже тогда собирался начать свой роман о Фаусте). В этой книге доказывалось, что многие великие писатели и художники болели сифилисом. Некоторые примеры были справедливы: Шуман, Ницше. Но автор книги утверждал, например, что глухота Бетховена – тоже результат наследственного сифилиса, что ничем не обосновано. Например, Достоевский сифилисом не болел, но у него была эпилепсия. Так вот. Трудно сказать, так ли это на самом деле, но Томас Манн считал, и об этом говорят некоторые свидетельства больных, что на определенном этапе сифилис даёт необыкновенный духовный подъём, за которым, правда, следует страшная расплата. Все больные сифилисом кончают прогрессивным параличом. Таков и финал Адриана Леверкюна: последние 10 лет жизни он провёл в полном безумии. Но есть в течении болезни и некий период необыкновенного духовного взлёта, когда сифилитический яд, воздействуя на головной мозг, вызывает активизацию скрытых резервов. Насколько это верно, я не знаю, но вполне возможно, что это так. Существуют и другие способы стимулирующего воздействия на сознание. Но, вообще, эти потаённые силы трогать нельзя. Томас Манн считал, что гению ещё можно рискнуть к ним прикоснуться, заплатив, правда, слишком высокую цену. Но гению, по крайней мере, есть что высвобождать. А вот обычному человеку этого делать ни в коем случае нельзя…
Повторю: Адриану Леверкюну очень мешает его холодный рационализм. Художественное творчество невозможно на чисто рациональной основе. Старые художники, поэты, музыканты всегда чувствовали то, что они называли божественным вдохновением. Это давало им ощущение присутствия каких-то высших божественных энергий. «Пока не требует поэта // К священной жертве Аполлон…» Но Адриан Леверкюн живёт в мире, в котором Бог умер. Он уже не верит в божественное вдохновение. Он должен это вдохновение чем-то заменить, ему нужно каким-то образом отключить разум, вызвать некое иррациональное возбуждение, для того чтобы творить. И этот источник духовного подъема он находит в болезни. Не случайно дьявол скажет в романе: "Старые художники обходились без нас, современный художник без нас не обойдётся".
Итак, Адриан Леверкюн заключает договор с дьяволом, и здесь, несомненно, присутствуют мотивы мифа о Фаусте. Фауст и в Народной книге, и в поэме Гёте заключает этот договор для того, чтобы обрести некий высший смысл бытия. А у Адриана Леверкюна более скромная задача: дьявол должен помочь ему творить. Ничего другого он не требует. И здесь возникает один важный вопрос, который в своё время был поднят польским писателем Станиславом Лемом. Он вообще высоко оценил этот роман, но всё же выразил сомнение в самой необходимости прибегать к мифу. Томас Манн, по его мнению, вполне мог бы обойтись и без мифологического плана. Однако Станислав Лем был не прав. Произведение Томаса Манна – это роман-миф.
Томас Манн вообще очень интересовался проблемой мифа. Ещё до «Доктора Фаустуса» он создал своеобразный роман-миф "Иосиф и его братья". «…Всякий миф, – говорил Томас Манн, – это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы». (Т. Манн. Доклад «Иосиф и его братья»). В период Второй мировой войны Томас Манн писал по поводу мифа о Фаусте в своей статье «Германия и немцы» (1945): «Где высокомерие интеллекта сочетается с душевной косностью и несвободой, там появляется чёрт. Поэтому чёрт – чёрт Лютера, чёрт «Фауста» – представляется мне в высшей степени немецким персонажем, а договор с ним, прозакладывание души чёрту, отказ от спасения души во имя того, чтобы на известный срок владеть всеми сокровищами, всею властью мира, – подобный договор, как мне кажется, весьма соблазнителен для немца в силу самой его натуры. Одинокий мыслитель и естествоиспытатель, келейный богослов и философ, который, желая насладиться всем миром и овладеть им, прозакладывает душу чёрту, – разве сейчас не подходящий момент взглянуть на Германию именно в этом аспекте, – сейчас, когда чёрт буквально уносит её душу?»
Миф о Фаусте Томас Манн считал глубоко немецким, лежащим в самой основе национального самосознания. И с этой точки зрения он хотел взглянуть на те процессы, которые переживала Германия в период фашизма. "Отброшенная версальским договором, она любой ценой хотела вырваться из тупика и заключила как бы внутренний договор с Гитлером, чтобы вырваться из того злополучия, в котором оказалась после Первой мировой войны, после поражения Веймарской республики, после унизительного Версальского договора". Поэтому, с одной стороны, миф о Фаусте моделирует личную историю композитора, а с другой – историю всей современной Германии. Это важнейшая тема романа.
Хочу обратить внимание на последние страницы книги, которые описывают момент, когда советские войска уже приближаются к Берлину: «Германия, с лихорадочно пылающими щеками, пьяная от сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала его собственной кровью. Сегодня, теснимая демонами, один глаз прикрывши рукою, другим уставясь в бездну отчаяния, она свергается всё ниже и ниже. Скоро ли она коснётся дна пропасти?» (Эпилог).
Томас Манн использует миф о Фаусте в том виде, как он изложен в Народной книге, где Фауст получает в своё распоряжение определенный временной срок, после чего дьявол умыкает его в преисподнюю. Такова, по мнению писателя, судьба фашистской Германии…
Однако миф о Фаусте для Томаса Манна не только немецкий. Это миф всей европейской культуры Нового времени. Томас Манн писал: «Чувство, что завершилась эпоха, не только охватывавшая девятнадцатый век, но восходившая к концу Средневековья, к подрыву схоластических связей, к эмансипации индивидуума, к рождению свободы, эпоха, каковую я, собственно, должен был считать своим вторым, духовным отечеством, словом, эпоха буржуазного гуманизма, ощущение, что час этой эпохи пробил, что жизнь меняется, что мир вступает под новые, ещё безыменные созвездья» (XXXIV). То есть, речь идёт об эпохе европейского гуманизма вообще. И час этой эпохи пробил…
В основе всей этой эпохи лежало фаустовское стремление любой ценой высвободить заложенные в человеке силы, даже если ради этого придётся пойти на сделку с дьяволом. Все надежды европейского гуманизма возлагались на свободную личность, которая должна осуществить заложенный в ней потенциал. Это идея, которая возникает в эпоху Ренессанса и пронизывает всю культуру Нового времени: творчество Данте, Шекспира, Гёте, Достоевского, Ницше, Стравинского, Чайковского и множества других гениев европейского гуманизма XVI – XX веков…
И здесь мы подходим к ещё одной важной особенности этого романа: он представляет собой монтаж цитат. «В цитате, как таковой, несмотря на её механическую природу, есть что-то музыкальное, а кроме того, цитата – это действительность, превращённая в вымысел, и вымысел, как бы ставший действительностью». В этой книге – обилие цитат, бесчисленное количество упоминаний без ссылок на источник. Самое сложное – это их услышать. Ведь сама образованность подобна музыкальному слуху: или ты слышишь, или нет.
Я уже говорил о том, что сам договор Адриана Леверкюна с чёртом напоминает известный эпизод романа Достоевского. Это – цитата. Очень много своего рода цитат из биографии Ницше. Скажем, история посещения героем публичного дома. Кстати, Адриан Леверкюн прожил ровно столько же лет, сколько прожил Ницше. Вообще, Томас Манн нередко называл «Доктора Фаустуса» романом о Ницше. Но в его книге также и обилие цитат из Шекспира. Первая опера Адриана Леверкюна была написана на сюжет одной из ранних комедий Шекспира и называлась "Бесплодные усилия любви". А в последнем произведении, когда Адриан Леверкюн прощается со своим племянником Непомуком, мы к этому эпизоду ещё вернемся, он цитирует последнюю трагикомедию Шекспира "Буря". Это сцена прощания Просперо со светлым духом Ариэлем. Таким образом, мотивы произведений Шекспира проходят через всю творческую жизнь Адриана Леверкюна. Правда, есть между ними и существенное различие: у Шекспира в финале нередко рождается надежда, а у Адриана Леверкюна всё кончается полной безнадежностью.
Но случается, что одна и та же цитата отсылает к разным источникам. Так, например, первое произведение Адриана Леверкюна "Бесплодные усилия любви" – это ещё и реминисценция из биографии Рихарда Вагнера, отсылка к одному из первых его произведений – опере "Запрет любви". Это и цитата из Шекспира, и цитата из Вагнера одновременно.
Или, скажем, эпизод с чернильницей, брошенной в чёрта, отсылает к биографии Мартина Лютера, знаменитого церковного реформатора. И таких параллелей множество, весь роман строится как сложная система цитат. Возможно, в книге присутствуют цитаты, о которых не догадывался сам автор, но которые читатель вполне может обнаружить, и это тоже будет справедливо. Когда сын Томаса Манна, прочитав роман, сказал, что нашёл в нём цитату из произведения одного автора, Томас Манн на это ответил: «Я об этом не думал, но раз она найдена, значит, она там есть». Как говорил Адриан Леверкюн, определяя суть своей музыкальной системы, «не обязательно, чтобы были услышаны все созвучия, важно, чтобы была услышана система…» Это замечание справедливо для романа в целом.
Книга Томаса Манна написана на основе 12-тоновой системы Арнольда Шенберга – техники музыкальной композиции, использующей серии из «двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов». В додекафонии (от греч. δώδεκα – двенадцать и греч. φωνή – звук) всё построено на принципе повторов. Это бесконечный повтор мотивов. И, кроме того, ни одна нота не может прозвучать прежде, чем прозвучат все двенадцать. Уже в первой главе представлены все основные темы романа, которые получат развитие в дальнейшем. Поэтому особое значение имеет 1, 13, 25, 37 главы и заключение. В первой главе лишь упоминается дьявол. 13-ая глава – это лекции Шлепфуса на богословском факультете, где учился Адриан Леверкюн, и дьявол – главная их тема. 25-ая глава – это договор Адриана Леверкюна. В 37-ой главе появляется своего рода маленький дьявол Саул Фительберг, который пытается соблазнить Адриана Леверкюна поездкой по Европе, но от этого искушения он открещивается. Таким образом, принцип повторов строго соблюдается.
К этой системе мы ещё вернемся, пока же хочу отметить: главное в системе Шенберга для Томаса Манна – это неразличимость мелодии и гармонии. Мелодия – это диахронический ряд, который разворачивается во времени, это горизонталь. А гармония – это аккорд, и, как известно, он записывается по вертикали. Здесь же горизонталь и вертикаль тождественны. Это связано с образом магического квадрата, в котором сумма чисел по горизонтали равняется сумме чисел по вертикали. В детстве, наверное, многие имели дело с такими квадратами, но не понимали, что они магические. В «Докторе Фаустусе» присутствуют атрибуты картины Дюрера "Меланхолия", и магический квадрат – один из них.
Сам роман Томаса Манна – это магический квадрат, в котором разные времена звучат одновременно. Можно отметить, по крайней мере, пять времен. Первое – это время жизни героя, Андриана Леверкюна. Он родился в 1885 году, умер в 1940, но фактически последние десять лет жизни провёл в состоянии безумия, и поэтому действие романа, с точки зрения биографии героя, заканчивается тридцатым годом. Второе – это время записок Цейтблома. Он начал делать записи в 1943 году и завершает их, как я уже говорил, в мае 1945 года, в момент, когда русские войска уже приблизились к Берлину. И поэтому в роман, наряду с изложением биографии Адриана Леверкюна, включены также события 1943-45 годов: Цейтблом слушает радио и сообщает о происходящем. Третий временной пласт – это время мифа о Фаусте, большой исторический отрезок, охватывающий период с XVI века по XX, представленный тем обилием цитат, которые составляют важный фон книги. И четвертое время – это период, когда писался собственно сам роман. Томас Манн завершал его в 1947 году, и поэтому подспудно в повествование включены ещё и события 1945-47 годов… Одно из важнейших, которое произошло уже после Второй мировой войны и произвело огромное впечатление на Томаса Манна и его современников, – это взрыв атомной бомбы. И, наконец, пятое время в этом произведении – это время, когда мы с вами его читаем. Но все эти времена звучат в «Докторе Фаустусе» одновременно, составляя некий единый полифонический аккорд. И чем больше в нём различимо голосов, тем лучше…
С этим связана ещё одна важная особенность книги – обилие двойников… Система заставляет искать аналогии, и потому все герои в романе имеют своеобразные отражения. Здесь всё подчиняется системе: существуют двенадцать нот, и они должны вступать в разные созвучия. Это не обязательно тождество, может быть и контраст. Но, главное, должны быть задействованы те же самые ноты.
Центральные персонажи живут во всем огромном диапазоне времён. Второстепенные действуют в конкретном, малом времени повествования. Несколько слов о второстепенных персонажах книги. Например, сестры Родде, Инеса и Кларисса. Муж Инессы – профессор Инститорис, специалист по эстетике и истории искусств. В нём несколько не совпадают внешние данные и мировоззрение. Это тщедушный, хилый, нервный человек, с благородным выражением ярко-синих глаз, а в лекциях своих он был поклонником всего грубого, сильного и бесшабашного. «Напряжение – удел черни, благородно и потому почётно – то, что создано инстинктивно и произвольно», – утверждал он. В сущности, это цитата из биографии Ницше. Ницше тоже в действительности был очень болезненным, застенчивым человеком, а в своих произведениях проповедовал идею сверхчеловека, жизнь по ту сторону добра и зла и так далее. Здесь присутствует такая явная внешняя аналогия. Но в более глубинном смысле портретом Ницше является всё же Адриан Леверкюн. Поэтому герои – своеобразные двойники.
Что касается сестер Родде, Инеса никогда не любила Инститориса, но во время войны она всё же вышла за него замуж. В ней очень сильна была тяга к стабильности. Идёт война, жизнь слишком неустроенна, а ей хотелось прочности и хоть какого-то благополучия… Поэтому она вышла замуж за Гельмута Инститориса и действительно пыталась создать некую иллюзию стабильности, хотя жизнь в Германии в этот период, в общем, мало к этому располагала: обязательно что-нибудь свалится на голову. В их доме стояла только очень добротная старинная мебель. Ничего современного… Книги по истории, искусству, классика – только то, что было, есть и будет сохранять свою ценность всегда. Даже когда они куда-нибудь уезжали ненадолго, то непременно брали с собой массу чемоданов и чемоданчиков, чтобы, где бы ни остановились, можно было воссоздать ощущение налаженного быта.
Но из этого стремления к устойчивости ничего не получилось. Всё кончилось её романом со скрипачом Руди. Вообще-то ничего особенного в этом романе не было. Он сумел разбудить чувственность, которой не хватало в её отношениях с мужем. В общем, банальная светская связь, и тем не менее, сама Инеса придавала ей необыкновенное значение. Она хотела думать, что это что-то необычайное. Это очень похоже на Адриана Леверкюна, на его связь с гетерой Эсмеральдой. Он тоже пытался вожделению, которое испытывал к проститутке, придать характер чего-то необыкновенного, возвышенного…
Для Инесы всё это кончилось трагически. Когда Руди решил жениться на Мари Годе, она выстрелила в него в трамвае и покончила с собой. Здесь, кстати, возникает вольтова дуга, в этой сцене в трамвае, вспыхивает холодное адское пламя: Инеса повторяет судьбу Адриана Леверкюна, главного героя.
Другая сестра, Кларисса Родде, была актрисой. А потом решила, что карьера не задалась, и прониклась любовью к молодому человеку по имени Анри, который не прочь был на ней жениться. И, в общем, она даже готова была попытатья установить какую-то нормальную жизнь в надежде, что выйдет замуж и всё сложится хорошо: она бросит театр, обретёт стабильность. Но из этого тоже ничего не вышло. Когда-то у неё была связь с человеком, которого она не любила. Узнав, что Кларисса собирается замуж, он стал её шантажировать, требуя снова стать его любовницей. Кларисса пошла на сближение, но он заявил, что так будет каждый раз, она всегда должна будет уступать ему, иначе всё станет известно жениху. Но и этого ему показалось мало. В последнюю минуту он всё же написал её жениху письмо, в котором сообщил, что Кларисса – его давняя любовница. Брак расстроился, Кларисса покончила с собой.
Во всех этих случаях судьба повторяется. Но иного пути у героев нет…
Иногда в романе персонажи предстают как контраст: контрастное сочетание нот вполне укладывается в требования 12-тоновой системы. Например, контрастом к образу Адриана Леверкюна является скрипач Руди Швердтфегер. Один – композитор, другой – исполнитель, своеобразные контрастные двойники. Для Адриана всё составляет проблему – Руди всё дается легко. Линии героев выстроены по принципу контраста.
Но этот принцип соблюден и в романе в целом. Главные его герои – это Адриан Леверкюн и Цейтблом. Серенус Цейтблом – рассказчик, Адриан Леверкюн – герой его рассказа. И это тоже двойники. Томас Манн писал, что намеренно не дал нигде подробного описания внешности Цейтблома и Адриана Леверкюна, потому что хотел скрыть тайну их тождества. Как это понимать? Это можно понимать по-разному. Во-первых, здесь всё тождественно. Таков закон романа, выстроенного по принципам 12-тоновой системы. Кроме того, это имеет другой важный смысл: в обоих героях Томас Манн воплотил самого себя. Это как бы разные отражения личности самого автора. Это и тождество с ним самим. Но есть и третий момент. Оба героя живут во всём огромном диапазоне времён этого романа. Уже в самой первой главе книги Цейтблом подчеркивает, что он напоминает немецких гуманистов XVI века. Это его герои.
Томас Манн утверждает, что сама культура есть некий магический квадрат. Это огромный полифонический аккорд. И задача культурного сознания – непрестанный перевод вертикали в горизонталь и горизонтали в вертикаль. Без этого превращения нет культурного сознания. Живое отношение к культуре – это синхронный ряд. Допустим, Пушкин… С одной стороны, конечно, его творчество нельзя оторвать от XIX века, в котором он жил, а в то же время он – наш современник и существует в неразрывной связи с писателями и поэтами, которые творили позже. Нельзя оторвать Пушкина от его исторической почвы, но и нельзя целиком относить к ушедшей эпохе. Оставишь поэта там – он там и погибнет. А перенесёшь целиком в нашу современность – он перестанет быть Пушкиным. Синхронность – очень сложная вещь. Но это и есть «магический квадрат» культуры.
Адриан Леверкюн и Цейтблом существуют как бы во всём большом времени этого романа, они – воплощение самого культурного сознания, воплощение этой полифонии…
Но при этом они резко контрастны, хотя у них и общие корни. Дело в том, что Цейтблом продолжает сохранять верность традициям старого гуманизма, недаром, кстати, преподает латынь, один из древних языков. А это всегда считалось основой гуманизма – знание латыни, культ Античности. Он лишён той трагичности, которая свойственна Адриану Леверкюну. У него есть семья, жена, дети, в общем, нормальная бюргерская жизнь. И, кстати, фон этого романа в основном даётся через Цейтблома, который общается с самыми разными людьми… Леверкюн живёт один, вообще мало с кем связан. Единственная его дружба – это скрипач Руди, вот, пожалуй, и всё. Однако когда к власти приходят фашисты, Цейтблом тоже оказывается в глубоком одиночестве. Он сразу же увольняется из гимназии, перестаёт работать. Он ненавидит фашизм, осуждает его. В тот период, когда он делает свои записи, жена его уже умерла, а дети служат фюреру. Музыка Адриана Леверкюна запрещена в Германии Третьего рейха. Тем не менее, он пишет биографию композитора, и, кроме того, в этой книге недвусмысленно выражает свою ненависть к фашизму и даже желает Германии поражения, потому что убеждён, что победа обернётся катастрофой. Он знает: если его рукопись попадётся на глаза сыновьям, любой из них тут же донесёт на него в гестапо. И всё-таки он пишет эту книгу.
Что же касается Адриана Леверкюна, с ним всё обстоит иначе. Описывая двадцатые годы, Цейтблом передает духовную атмосферу, которая возникла в тот период в Германии, атмосферу, которая подготовила немецкий фашизм. В салоне графика Кридвиса ведутся архифашистские разговоры. Наступил новый век, и востребованы совсем иные силы. Будущее за тоталитарным государством, а гуманизм и все прочие прежние ценности давным-давно себя исчерпали… Как ведёт себя Цейтблом в этом салоне? Ему глубоко отвратительны все эти рассуждения, но противопоставить им ему тоже нечего, ибо то, что он может сказать, они и без него знают. Это то, от чего они теперь отталкиваются, во что уже перестали верить.
А как Адриан Леверкюн относится к тому, что происходит в салоне Кридвиса? Да никак. Он там не бывает. Но в это время он пишет музыку, и Цейтблом замечает, что созданное Леверкюном произведение очень близко по духу к разговорам в салоне. Он пишет свой "Апокалипсис". Он тоже не верит во все эти старые ценности, считая, что они давно уже мертвы. Но только не надо путать Адриана Леверкюна с посетителями светского салона. Те бездумно приветствуют наступление новой эпохи, хотя очень многие из них вскоре окажутся в застенках гестапо. А Адриан Леверкюн воспринимает надвигающееся как катастрофу, конец всего. Он пишет "Апокалипсис". Поэтому связь между героями есть, но она другая.
Цейтблом не просто любит Адриана Леверкюна, а преклоняется перед ним как неким высшим созданием, хотя они во многом и расходятся в своих взглядах. А в чём преимущество Адриана Леверкюна? Цейтблом был защищен от всех злых ветров истории, Леверкюн же всецело открыт этим ветрам, остро переживает все перемены "нашего времени, вобрав в себя всю боль эпохи". Последний период жизни Адриана Леверкюна – это попытка вырваться из того тупика и кризиса, на который он во многом обрёк себя сам. Это попытка нарушить главный запрет, наложенный на него договором с дьяволом, а именно – преодолеть холод. С этим связана его дружба со скрипачом Руди. Адриан Леверкюн ни к кому никогда не обращался по имени, даже Цейтблома называл по фамилии, а с Руди он перешёл на «ты». Руди исполнял его произведения, они стали очень близки…
Вторая попытка Адриана Леверкюна найти какое-то человеческое тепло – решение жениться на швейцарской театральной художнице Мари Годе. Но здесь он задумал испытать Руди. Он знал, что его избраннице нравится Рудольф, но тот говорил, что и не думал о браке. Леверкюн решает попросить друга посвататься от его имени. Это была проверка. И это цитата из комедии Шекспира "Много шума из ничего" Кстати, сам Адриан Леверкюн цитирует строки из этой комедии. Он знал заранее, во всяком случае, предполагал, что из этой затеи может ничего не выйти. Руди честно выполнил просьбу: передал Мари Годе, что Адриан Леверкюн хотел бы на ней жениться. Но когда Мари сказала, что не любит Леверкюна, Руди сам признался ей в любви. Это стоило ему жизни. В него из ревности выстрелила Инеса Инститорис. Адриан Леверкюн считал вполне вероятной такую развязку и потому ощущал себя виновником гибели Руди.
Но, может быть, самой сильной привязанностью Леверкюна стал его маленький племянник Непомук, единственный, кого он полюбил по-настоящему. Благодаря этому ребёнку в нём проснулось какое-то необыкновенное чувство, которого он никогда прежде не испытывал. Но мальчик заболел менингитом и умер. Адриан Леверкюн считал себя виновным в его смерти, ведь любовь ему была запрещена…
Образ Непомука – тоже целая система цитат. Собственно, на этом примере видна её сложность… Прощаясь с Непомуком, Адриан Леверкюн произносит те же слова, с которыми герой шекспировской "Бури" Просперо, покидая остров, прощался со светлым духом Ариэлем. Но там всё завершалось надеждой, а здесь – полным отчаянием. Вторая цитата из Достоевского. Умер ребёнок. Невинное дитя. Как известно, Иван Карамазов говорил, что совершенно отказывается от высшей гармонии, если её цена – страдания детей. «Мировая гармония не стоит слезинки замученного ребёнка» (ч. 2, кн. 5, гл. «Бунт», роман «Братья Карамазовы»). Но есть ещё одна, более важная смысловая отсылка. Это архетип дитяти. Цейтблом так увидел Непомука: «И всё же было здесь нечто, делавшее невозможной веру в разрушительную работу времени, в его власть над очаровательным явлением – и эльфическая насмешка как бы выдавала знание об этом, – нечто, видимо, заключавшееся в его необычайной законченности, в его тождественности явлению дитяти на земле, в ощущении того, что он сошёл к нам из горних стран посланцем благой вести, ощущении, которое убаюкивало разум внелогическими мечтами, навеянными христианской культурой. Отрицать неизбежность возмужания разум, конечно, не мог, но он искал спасения в сфере представлений о мистически-вневременном, одновременно сосуществующем, где мужественный образ бога не вступает в противоречие с образом младенца на руках у матери, ибо этот младенец и есть он, на веки веков поднявший свою ручонку, чтобы сотворить крёстное знамение над склонившими перед ним колена святыми».
Это архетипический образ ребёнка. И к тому же, прямое обращение к христианской иконографии, которая, как известно, изображает Христа не только зрелым человеком, проповедующим своё учение, но и младенцем на руках Богоматери. Младенец – символ будущего, символ надежды. Этот мотив, кстати, звучал ещё в «Энеиде» Вергилия, в четвертой эклоге поэмы, и это очень важный мифологический образ. И потому смерть ребёнка – это конец всех надежд.
Не случайно Адриан Леверкюн так говорит о замысле своего последнего великого произведения:
« – Я понял, этого быть не должно.
– Чего, Адриан, не должно быть?
– Доброго и благородного, – отвечал он, – того, что зовётся человеческим, хотя оно добро и благородно. Того, за что боролись люди, во имя чего штурмовали бастилии и о чём, ликуя, возвещали лучшие умы, этого не должно быть. Оно будет отнято. Я его отниму.
– Я не совсем тебя понимаю, дорогой. Что ты хочешь отнять?
– Девятую симфонию, – отвечал он. И к этому, сколько я ни ждал, уже ничего не прибавил». (XLV).
Как известно, Девятая симфония Бетховена завершается одой «К радости», написанной на слова Шиллера. На партитуре композитор сделал надпись: "Это должно быть". Адриан Леверкюн перевернул эти слова Бетховена, предварив свое сочинение фразой: "Этого не должно быть". Его произведение – антипод Девятой симфонии. В сущности, герой Томаса Манна хочет отнять у людей веру в ценности, за которые, по его словам, боролись столетиями, «о чём, ликуя, возвещали лучшие умы человечества». Этого, по его убеждению, не должно быть, потому что это ложь. Люди больше не должны в это верить. Эта мысль и нашла своё воплощение в последнем произведении Адриана Леверкюна "Плач доктора Фаустуса". Оно завершается грандиозными вариациями плача…
Но одновременно это и антипод гётевскому "Фаусту". Там в финале ангелы возносят бессмертную душу Фауста на небеса, а здесь героя умыкают в Ад, (как и в Народной книге о Фаусте). Но это не только плач Фаустуса, который обречён на преисподнюю. Это плач Господа Бога над сотворённым им миром. Не таким Господь задумывал этот мир… А если перевести эту мысль на другой язык, – это и плач самого композитора над своим произведением.
Но здесь звучит не только тема Фауста, а присутствуют ещё и важные евангельские мотивы. Вообще, последняя встреча Фаустуса с учениками напоминает Тайную вечерю. Но, как известно, Христос призывал своих учеников: "Бодрствуйте со мной", а Фаустус в произведении Адриана Леверкюна обращается к ученикам с другими словами, говорит им: «Безмолвствуйте», «мирно спите».
В произведении Леверкюна существен образ доктора, гуманного доктора, которой предлагает Фаустусу раскаяться, и тогда, может, он будет прощён Господом Богом. Но Фаустус обращается к нему с теми же словами, с которыми Христос обращался к дьяволу: "Изыди"! Он не желает быть спасён для этого мира.
Вот почему это произведение проникнуто абсолютным, беспросветным отчаянием.
Но оно обладает и некоторыми парадоксальными особенностями. Однако прежде я хотел бы отметить вот что. Цейтблом пишет: «Как странно смыкаются времена – время, в котором я пишу, со временем, в котором протекала жизнь, мною описываемая. Ибо последние годы духовной жизни моего героя, 1929 и 1930 годы, после крушения его матримониальных планов, потери друга, смерти чудесного ребёнка, который стал ему так дорог, уже совпали с возвышением и самоутверждением зла, овладевшего нашей страной и ныне гибнущего в крови и пламени». (XLVI)
Итак, кроме личного плана, кроме событий жизни Адриана Леверкюна, также важно и то время, в которое возникло это произведение, это 1929-30 годы, когда к власти в Германии рвался фашизм, победу которого, очевидно, Адриан Леверкюн предчувствовал. Поэтому это отчаяние связано не только с личной судьбой композитора, но и с исторической судьбой Германии.
Однако здесь присутствует ещё один смысловой ряд. «Как странно смыкаются времена»; «время, в котором я пишу», со временем, «в котором протекала жизнь, мною описанная». Цейтблом делает свои записи в 1945 году, когда происходит поражение Германии. Но в романе присутствует и другая дата, это 1945-47 годы. И здесь "я" рассказчика – это уже не Цейтблом, а сам Томас Манн. Это время события, которое произвело невероятно сильное впечатление как на писателя, так и на всех его современников – это взрыв атомной бомбы, который поставил под сомнение само дальнейшее существование человечества.
Произведение Адрина Леверкюна отличается известной парадоксальностью. Это парадокс содержания и парадокс формы. Оно проникнуто отчаянием, как я уже сказал. «Вы только послушайте финал, послушайте его вместе со мной! Одна за другой смолкают группы инструментов, остаётся лишь то, во что излилась кантата, – высокое «соль» виолончели, последнее слово, последний отлетающий звук медленно меркнет в pianissimo ферматы. И всё: только ночь и молчание. Но звенящая нота, что повисла среди молчания, уже исчезнувшая, которой внемлет ещё только душа, нота, некогда бывшая отголоском печали, изменила свой смысл и сияет, как светоч в ночи». (XLVI). Но из этого абсолютного отчаяния рождается нота надежды. Таков парадокс содержания последней кантаты Адрина Леверкюна.
Что касается формы, это самое конструктивное произведение композитора. Нигде та теория строго стиля, которую он проповедовал, не осуществляется с такой полнотой и последовательностью. Здесь нет ни одной свободной ноты, которая бы не подчинялась правилам 12-тоновой системы. И в то же время это самое свободное произведение Адрина Леверкюна. Цейтблом скажет: «Разве же парадоксу искусства (когда из тотальной конструктивности родится выражение – выражение как жалоба) не соответствует религиозный парадокс (когда из глубочайшего нечестия, пусть только как едва слышный вопрос, пробивается росток надежды)?» (XLVI)
В теме Фауста нашла отражение глубоко личная трагедия Адриана Леверкюна. В этом произведении герой передал то отчаяние, которое он сам переживал. Собственная трагедия композитора получила здесь наиболее непосредственное, полное выражение. Из этой предельной конструктивности родилось самое свободное произведение Адриана Леверкюна.
Как объяснить эти два парадокса?
Сначала о парадоксе формы. Что касается музыкального творения Адриана Леверкюна, нам здесь, конечно, приходится верить Томасу Манну. Мы ведь не слышали этой музыки. Но у нас есть пример. Это сам роман Томаса Манна. Вообще, конструктивность и свобода в искусстве находятся в очень сложных взаимодействиях. Приведу совсем простой пример. Итальянская комедия масок, очень конструктивное явление… Там присутствует твёрдый сюжет и довольно строгая система масок. Заранее определены роли, заданы типажи, которыми располагает герой. Однако из этой конструктивности рождается свобода. Дело в том, что в такой комедии не существовало готового текста, всё строилось на импровизации. Актёр фактически сочинял текст на глазах у зрителя, часто включая в действо отклик на какие-то текущие события. Именно благодаря этой строгой конструктивности была возможна и импровизация…
Например, "Ревизор" Гоголя или "Горе от ума" Грибоедова тоже написаны вроде бы свободно, авторы не подчиняются какой-либо строгой конструкции… Но в этих произведениях совершенно ничего нельзя изменить: всё разрушится. Где конструктивность – там свобода.
Так вот. Роман Томаса Манна тоже очень конструктивное произведение. Время, когда Томас Манн его пишет, это 1943-45 годы. Он слушает последние новостные сводки и включает их в роман. Он не знает, что будет завтра, но помещает эти документальные фрагменты в книгу. И они работают. А почему? Потому что работает конструкция. Возьмём простую вещь – взрывы бомб. В то самое время, когда Томас Манн пишет свой роман, Германию бомбят. Англия, Америка ведут очень сильные бомбардировки, он пишет, что звучат бесконечные взрывы. Но тема взрыва – это вообще важнейшая тема романа. Взрыв – это состояние, когда нечто уже достигло наивысшей, критической точки и вырывается наконец наружу. А кроме того, здесь присутствует образ и другого взрыва, который произойдёт чуть позже – взрыва атомной бомбы, сброшенной американцами на японскую Хиросиму. Вообще, Томас Манн в этом произведении наиболее непосредствен и свободен. Но именно потому, что здесь очень чёткая конструкция.
Чтобы было совсем понятно, приведу очень простой пример. В одном документальном фильме режиссёр применил такой ход: он снимал роды и монтировал их с телехроникой, буквально с событиями текущего дня. И что получилось? Довольно сложный образ. Режиссёр использовал только параллельный монтаж, но работала конструкция. И, благодаря конструкции, художественный посыл картины можно было прочесть так: в какой страшный мир пришёл человек. Но появление ребёнка всегда связано с надеждой. Ребёнок – архетип надежды. Так вот. В романе Томаса Манна тоже работает конструкция. Она придает смысл…
Теперь парадокс содержания. Что значит «из отчаяния рождается надежда»? Я хочу обратиться к одному важному моменту. Взрыв атомной бомбы стал настоящим потрясением для Томаса Манна и его современников. "С человечеством в целом дело обстоит страшнее, чем когда – либо прежде, мы дошли до того, что отдача от взрыва столкнёт чего доброго землю с её орбиты, и она перестанет вращаться вокруг солнца". Этот взрыв грозил обернуться всемирной катастрофой. Но в то же время писатель замечает: "Даже атомная бомба не внушает мне серьёзных опасений, разве она не поможет проявиться нашей внутренней стойкости? Какое странное это легкомыслие или какая сила доверия жизни в том, что мы ещё создаём произведения, для кого, для какого будущего?"
И всё же произведение, даже если оно дышит отчаянием, не может не иметь конечной целью, своей глубинной основой оптимизм, веру в жизнь, потому что «отчаяние – штука особого рода, оно само в себе заключает переход к надежде". Пока люди отчаиваются – остаётся надежда. Конец наступает, когда они отчаиваться перестают.
Дело в том, что дьявол ошибся в одном: он считал, что Адриану Леверкюну не хватит сил на отчаянье. Ведь отчаяние само по себе – великая сила, оно требует огромного душевного напряжения… Сама способность отчаиваться рождает надежду, а вот равнодушие, апатия её исключают. Равнодушие абсолютно бесплодно. Из него ничего не возникнет. А отчаяние – такая сила, которая может созидать. Оно лучше безнадежности. Поэтому из абсолютной безнадежности рождается надежда. Такова сила отчаяния. Отчаяние как бы поднимает человека над данностью. Если человек способен отчаиваться, значит, ещё не всё потеряно.
И вот финал этого романа. Адриан Леверкюн собирает друзей, чтобы исполнить свой «Плач доктора Фаустуса». Но он не сумел его исполнить. Он впал в безумие. Но прежде успел произнести речь, в которой очень резко себя осудил: «Был у меня светлый, быстрый ум и немалые дарования, ниспосланные свыше, – их бы взращивать рачительно и честно. Но слишком ясно я понимал: в наш век не пройти правым путём и смиренномудрому; искусству же и вовсе не бывать без попущения дьявола, без адова огня под котлом. Поистине, в том, что искусство завязло, отяжелело и само глумится над собой, что всё стало так непосильно и горемычный человек не знает, куда ж ему податься, – в том, други и братья, виною время. Но ежели кто призвал нечистого и прозаложил ему свою душу, дабы вырваться из тяжкого злополучья, тот сам повесил себе на шею вину времени и предал себя проклятию. Ибо сказано: бди и бодрствуй! Но не всякий склонен трезво бодрствовать; и вместо того, чтоб разумно печься о нуждах человека, о том, чтобы людям лучше жилось на земле и средь них установился порядок, что дал бы прекрасным людским творениям вновь почувствовать под собой твёрдую почву и честно вжиться в людской обиход, иной сворачивает с прямой дороги и предаётся сатанинским неистовствам. Так губит он свою душу и кончает на свалке с подохшей скотиной». (XLVII)
Почему Адриан Леверкюн так сурово себя судит? Как понимать его слова? Но сперва я хотел бы сказать, как их не надо понимать. Нет, он не должен был писать Девятую симфонию, а должен был создать её антипод. По словам Томаса Манна, «дирижёр, который, будучи послан Гитлером, исполнял Бетховена в Цюрихе, Париже или Будапеште, становился виновным в непристойнейшей лжи – под предлогом, что он музыкант и занимается музыкой и больше ничем. Но прежде всего ложью была эта музыка уже и дома. Как не запретили в Германии этих двенадцати лет бетховенского «Фиделио», оперу по самой природе своей предназначенную для праздника немецкого самоосвобождения? Это скандал, что её не запретили, что её ставили на высоком профессиональном уровне, что нашлись певцы, чтобы петь, музыканты, чтобы играть, публика, чтобы наслаждаться «Фиделио». Какая нужна была тупость, чтобы, слушая «Фиделио» в Германии Гиммлера, не закрыть лицо руками и не броситься вон из зала!» (466)
Подлинной верностью Бетховену в этой ситуации было – создать антипод его творению.
Тогда в чём же вина Адриана Леверкюна? В то время, когда Томас Манн завершал свой роман, было весьма распространено мнение о существовании двух Германий: одна – великая Германия немецких музыкантов, философов, поэтов, страна Бетховена, Гёте, Шиллера, Шуберта, Гегеля, Канта, и другая – Германия немецкого фашизма. Томас Манн решительно отрицал подобный подход. Нет двух Германий! Есть одна добрая Германия, пошедшая по злому пути. И каждый немец несёт ответственность за то, что произошло в период фашизма.
«Если ты родился немцем, значит, ты волей-неволей связан с немецкой судьбой и немецкой виной», – писал Т.Манн в статье «Германия и немцы». И свой роман, хотя писатель и был антифашистом и находился за пределами Германии все эти годы, он рассматривал как покаянную исповедь. Не случайно Цейтблом в тот момент, когда русские войска подходят к Берлину, пишет: «Скоро ли она коснётся дна пропасти? Скоро ли из мрака последней безнадёжности забрезжит луч надежды и – вопреки вере! – свершится чудо? Одинокий человек молитвенно складывает руки: боже, смилуйся над бедной душой моего друга, моей отчизны!» Это эпилог романа. Цейтблом не разделяет судьбы Адриана Леверкюна… Но последние строчки "Доктора Фаустуса" напоминают финал «Плача» Адриана Леверкюна. Здесь тоже из абсолютной безнадежности рождается проблеск надежды.
Можно рассматривать произведение Томаса Манна как прозаическое выражение этой идеи. Последняя симфоническая кантата Адриана Леверкюна и "Доктор Фаустус" построены одинаково: строго следуют 12-тоновой системе. В них неразличимы мелодическая сторона и гармония. Кроме того, в основе этих произведений лежит миф о Фаусте. Однако, если герой романа Адриан Леверкюн саму свою жизнь и всё, что происходит вокруг, осмысляет в свете мифа о Фаусте, то автор романа Томас Манн, наоборот, переводит миф на язык истории. Тот историю переводит в миф, а этот – миф излагает на языке истории. И это очень важное различие… Тут есть два момента. Первый связан с философией Ницше. Вообще, Томас Манн нередко называл свой роман «романом о Ницше», в самом Адриане Леверкюне угадываются черты, сближающие его с личностью философа. Ницше, напомню, являлся философом немецкого фашизма, хотя в тот период его уже давно не было в живых. Но Томас Манн ставит вопрос: виновен ли Ницше в том, что происходило во времена фашизма? И здесь важную роль играет цитата из Достоевского. (Вообще цитаты из романов Достоевского занимают особое место в этом произведении). Иван Карамазов пытается понять сложнейшие проблемы бытия, мучается над их разрешением, готов даже отвергнуть Божественную гармонию, если та основана на слезах ребёнка. Слыша все эти рассуждения, Смердяков идёт и убивает Федора Павловича. Так вот… Разница между Ницше и фашизмом такая же, как между Иваном Карамазовым и Смердяковым. Один размышляет, пытается разобраться в сложностях мироздания, ставит вопросы, а другой лишает человека жизни. Иван Карамазов считал себя виновным в этой смерти, каялся, но, как писал Достоевский, от одних и тех же идей можно бросить всё и уйти в Иерусалим «скитаться и спасаться», а можно «и село родное вдруг спалить».
Теперь хочу коснуться более современного аспекта, который заложен в романе. Это связано со взрывом атомной бомбы – событием, которое составляет важнейший подтекст финала романа. Для физиков это была интереснейшая научная проблема. Они долго вели разработки в области атомной энергии и пришли, наконец, к блестящему открытию. А ведь это изобретение могло привести к гибели человечества! Великое достижение физики обернулось опасностью глобальной катастрофы.
Томас Манн считал, что миф о Фаусте себя исчерпал в XX веке, и появление сверхразрушительного атомного оружия – тому подтверждение. Он, как и Адриан Леверкюн, приходит к мысли, что нельзя думать лишь о чистой науке или о спасении искусства, когда само существование мира ставится под угрозу. Ещё совсем недавно, например, широко обсуждалась тема клонирования человека. И с научной точки зрения это интересно не меньше, чем физика энергий. А к чему это может привести? Вот о чём надо думать…
Главная идея фаустовской культуры – стремление человека любой ценой развернуть заложенные в нём силы – себя исчерпала в XX веке. Произведение Томаса Манна, в сущности, закрывает миф о Фаусте.
Бернард Шоу – самая крупная фигура в европейской драматургии ХХ века. Ирландец по происхождению, он родился в 1856 году в городе Дублин, а умер в 1950 году, немного не дожив до своего столетнего юбилея. Начинал Шоу как романист, но его романы малозначительны. Позже он стал работать как драматург, и уже первый цикл его пьес (а писал он циклами), так называемые «Пьесы неприятные», созданный ещё в конце XIX века, принёс автору литературную славу.
Надо сказать, Бернард Шоу был человеком, мало похожим на писателей того времени. Ему была совершенно чужда богема, он ненавидел её всей душой, говорил, что ведёт более чем буржуазный образ жизни, в шутку признаваясь: если бы стал торговцем, в его привычках ничего бы не изменилось. Работал Шоу много и очень рационально, писал только по утрам, на свежую голову, вообще был очень трезвым художником. Всякое опьянение, дурман, иррациональный подход к реальности, – всё, что было свойственно литературе начала XX века, Шоу было глубоко чуждо. Слова бывшего моряка, капитана Шотовера, героя пьесы «Дом, где разбиваются сердца», выражают во многом отношение самого автора к подобным вещам: «Я больше всего на свете боюсь напиться допьяна. Быть пьяным – это значит грезить, размякнуть, поддаться любому соблазну, любому обману. Попасть в когти женщинам».
Уже в самом начале своей драматургической карьеры Шоу создал новый тип драмы. Вообще, он очень любил парадоксы. Впоследствии его жена, уже после его смерти, издала парадоксальные изречения Шоу в виде отдельной книжки. Он говорил, что нормальное зрение – это особое зрение. Поскольку вещи отражаются перевёрнутыми на сетчатке нашего глаза, то главное, что необходимо человеку, – это задуматься. Общепринятое плохо тем, что над ним не задумываются. Поэтому сам Шоу старался строить свои пьесы парадоксально, чтобы люди размышляли над тем, над чем обычно они не привыкли размышлять.
Вот некоторые из парадоксов Шоу: «Не люби ближнего, как самого себя. Это наглость, если ты собой доволен, и оскорбление, если ты собой не доволен». «Кто умеет – делает, а кто не умеет – учит». «Домашний очаг – тюрьма для девушек и работный дом для женщин». «Англичанин думает, что он нравственен, когда он просто создаёт себе неудобства». «Жизнь уравнивает всех, и только смерть обнаруживает, кто значительнее». «Когда человек хочет убить тигра, он называет это спортом, а когда тигр хочет убить человека, это называют кровожадностью. Разница между преступлением и правосудием ничуть не больше». «Зависимость женщины от мужчины сводит различие между браком и проституцией к различию между профсоюзами и неорганизованным наёмным трудом». Подобные парадоксы нередко лежат в основе его драм.
Другая важная особенность произведений Шоу – в них очень много рассуждений. Сам автор утверждал: его драма – это своеобразная словесная опера. Одного действия недостаточно. Актёр, по его мнению, должен произносить монолог так же, как певец исполняет арию, и всё время быть готовым к тому, что публика потребует повторить сказанное «на бис». Образец для Шоу – это финал «Кукольного дома» Ибсена, где главная героиня заявляет мужу: «Мы должны, как два разумных существа, обсудить всё, что произошло между нами». «Ибсен этим завершает, я этим начинаю», – признаётся Шоу.
Его герои любят разговаривать. Так в пьесе «Горькая правда» сиделка пытается соблазнить сержанта с двух поцелуев, а сержант ей на это отвечает: «Есть такие, для которых женщина, как банка с мармеладом. Съел – выбросил банку и готово. Хочу вам сказать, что я такого мнения не придерживаюсь – я люблю с женщиной поговорить». Поэтому любовное свидание у героев превращается в продолжительную дискуссию.
Шоу хотел писать без образцов и без продолжателей. Но на самом деле он во многом определил дальнейшее развитие театра в XX веке в самых разных его направлениях: от эпического театра Брехта до драмы абсурда. И у него были некоторые образцы. Вначале образцом для Шоу служили произведения Г. Ибсена. Я хочу сказать несколько слов о статье Б. Шоу, посвящённой Ибсену. Она носит название «Квинтэссенция ибсенизма». Главная идея Шоу заключается в том, что есть три типа отношения к миру. Первый тип – это идеализм, второй – реализм, и третий – филистёрство. Главная проблема, которую Шоу считает основой всего, – это отношение к смерти. Идеалист не хочет признавать смерть и придумывает идею бессмертия, потому что не имеет мужества посмотреть смерти в глаза. Идеалы человека – это некоторые маски, которыми он прикрывается, чтобы не видеть истинную реальность.
Пример, который приводит Шоу в данной статье, касается проблемы брака. Дело в том, что Шоу, несмотря на то, что был женат, сам того не подозревая, был противником брака. Он считал, что институт брака как форма отношений между мужчиной и женщиной устарел, и его необходимо отбросить. По его мнению, на брак также возможны три точки зрения. Идеалист считает, что брак – это замечательный союз двух любящих людей, позволяющий им всю жизнь быть вместе. Филистёр принимает брак, потому что все женятся, и не задумывается, почему именно он лично на это идёт. И только реалист понимает, что брак стал ложью…
Главный пафос ранних пьес Шоу, тех самых, что носят название «неприятных» – это попытка сбросить маску идеализма и посмотреть реальности прямо в лицо, какой бы жестокой она ни была.
Второе, что хотелось бы отметить и что присутствует уже в ранних пьесах Шоу, – это особая роль ремарки. В своём предисловии к циклу «Пьес неприятных» драматург признавался: читая Шекспира, он ничего не понимает. Происходит это по одной простой причине: в его пьесах нет ремарок. Мало ли, что говорят персонажи, а что за всем этим скрывается – неизвестно. Ибсен в этом смысле лучше: в его пьесах есть поясняющие ремарки, а у Шекспира их нет, и потому многое в его творениях остаётся непроницаемым.
Сам Шоу придавал необыкновенную важность ремарке. Она имеет разные назначения в его пьесах. Иногда ремарка комментирует те или иные ситуации. Например, ремарка в «Доме вдовца». Вот лишь маленький её фрагмент:
«Тренч отвечает не сразу. Он смотрит на Сарториуса, широко раскрыв глаза, потом, опустив голову, тупо глядит в землю, свесив между колен руки со сплетёнными пальцами, – моральный банкрот, живая картина душевного упадка. Кокэйн подходит к нему и с видом сочувствия кладёт руку ему на плечо». (Перевод О. Холмской).
<…> «Тренч, оставшись один, настороженно оглядывается и прислушивается, затем на цыпочках, подходит к роялю и, облокотившись на крышку, рассматривает портрет Бланш.
Через мгновение в дверях появляется сама Бланш. Увидев, чем он занят, она тихонько притворяет дверь и подкрадывается к нему сзади, пристально следя за каждым его движением. Он выпрямляется, снимает портрет с мольберта и хочет его поцеловать, но сперва воровато оглядывается, желая убедиться, что его никто не видит, и вдруг замечает Бланш, уже подошедшую к нему вплотную. Он роняет портрет и в полной растерянности смотрит на неё.
Бланш (сварливо). Ну? Вы, значит, опять сюда явились. Хватило у вас низости снова прийти в этот дом. (Он краснеет и отступает на шаг. Она безжалостно следует
за ним.) Видно, у вас совсем нет самолюбия! Почему вы не уходите?
Весь красный от обиды, Тренч сердито хватает свою шляпу со стола, но, повернувшись к выходу, видит, что Бланш загородила ему дорогу; волей-неволей ему приходится остановиться.
Ну что же вы? Я вас не держу.
Минуту они стоят друг против друга, совсем близко; она смотрит на него вызывающим, дразнящим взглядом, одновременно приказывая и запрещая ему идти, вся во власти нескрываемого животного возбуждения. Внезапно его осеняет догадка, что истинная подоплёка её свирепости – страсть и что, в сущности, это объяснение в любви». (467)
Это не похоже на обычную театральную ремарку, скорее напоминает прозаический текст, в который вклиниваются реплики героя. В данном случае это можно понять как указания актёру, поясняющие, как именно он должен играть…
Но вводные ремарки, которыми Шоу предваряет свои пьесы, вообще исключают возможность театрального воплощения. Например, ремарка к драме «Кандида»: «Ясное октябрьское утро в северо-восточной части Лондона; это обширный район вдали от кварталов Мейфера и Сент-Джемса; в его трущобах нет той скученности, духоты и зловония. Он невозмутим в своём мещански-непритязательном существовании: широкие улицы, многотысячное население, обилие уродливых железных писсуаров, бесчисленные клубы радикалов, трамвайные пути, по которым непрерывным потоком несутся жёлтые вагоны. Главные улицы благоденствуют среди палисадников, поросших травою, не истоптанных человеческой ногой за пределами дорожки, ведущей от ворот к подъезду…» (Перевод М. Богословской, С. Боброва). Какому театру под силу это изобразить? Такая ремарка не имеет никакого служебного назначения…
Так что же такое ремарка в драмах Шоу? Прежде всего, это авторский голос. Как режиссёр в дальнейшем будет эту ремарку представлять – как точку зрения автора или, может, как закадровый текст – это уже его дело. Важно подчеркнуть, что у произведения есть автор и это пьеса, а не жизнь.
Шоу пытается разрушить театральную иллюзию, считая, что она, как и любая иллюзия, излишня. Его театр – это откровенно условный театр. Шоу подчеркивает условность, потому что стремится к безусловному. Это театр откровенного представления, и авторский голос приобретает в нём необыкновенную значимость. Шоу не скрывает, что он – автор, комментирующий происходящее, а всё остальное – это подчеркнуто условный мир.
«Дом, где разбиваются сердца» – драма, которая, несомненно, является вершиной творчества Б. Шоу. Работа над ней была начата ещё в 1913 году и завершена к 1919. Эта драма имеет подзаголовок: «Фантазия в русском стиле на английские темы». Все свои драмы Шоу сопровождал предисловиями. К сожалению, в русских переводах эти авторские предисловия, как правило, не печатаются: для читателя они существуют как бы отдельно от пьес. А на самом деле они находятся в неразрывной связи с текстами, и я думаю, что, читая пьесы Шоу, надо обязательно иметь их в виду, потому что предисловие формулирует мысль, которая в пьесе затем сложно развивается.
В драме «Дом, где разбиваются сердца» тоже есть предисловие, которое поясняет созданную автором «фантазию». В ней изображена вся культурная праздная Европа накануне Первой мировой войны. Тот же дом, в сущности, показал Л. Н. Толстой в «Плодах просвещения» со свойственной ему этической суровостью и презрением. Для него это дом, в котором задыхалась Европа. А.П. Чехов в «Вишневом саде», «Дяде Ване» и «Чайке» также рассуждал на подобную тему. В пьесах Чехова, по мнению Шоу, отражена жизнь аристократических усадеб всех европейских стран. Наслаждение музыкой, искусством, литературой заменило аристократам охоту, рыбную ловлю, даже флирт. Везде всё те же самые милые люди и та же ужасающая бесплодность…
Однако обитатели дома, «где разбиваются сердца», этот мир европейской интеллигенции – только часть европейского общества. Лишь интеллигенция располагала досугом, чтобы упиваться достижениями европейской культуры и искусства. Но параллельно существует и другой мир. Это манежи, где выезжают лошадей; другая часть европейского мира – деловая Европа.
Драме «Дом, где разбиваются сердца» предшествует развернутая ремарка. Шоу подчеркивает, что дом этот напоминает корабль. В нём присутствуют многие атрибуты корабля и, вместе с тем, это дом. Что такое этот дом-корабль? Это некий символ всей пьесы. И как всякий символ, он многозначен. Первое и, может быть, самое главное – это символ Англии, морской державы. Кроме того, здесь выступает логика абсурда. Дом-корабль – это же абсурд, потому что корабль должен двигаться, а дом – стоять на месте. Дом – это что-что устойчивое, в то время как корабль неустойчив.
Герои пьесы могут быть разделены на группы: это обитатели дома и люди, которые приходят в этот дом извне. Обитатели дома – это бывший капитан Шотовер, ему 88 лет, это его старшая дочь Гесиона и её муж Гектор Хэшебай. Другая группа героев – гости. Это молодая девушка, приятельница Гесионы Элли Дэн, затем появляются её отец Мадзини Дэн и её жених капиталист, промышленник Менген, приезжает младшая дочь капитана Шотовера, Ариадна, муж которой, Гастингс Эттеруорд – губернатор всех колоний Британской империи.
Но героев драмы можно сгруппировать ещё и по другому принципу, о котором тоже говорится в предисловии. С одной стороны, это обитатели дома, то есть представители мира европейской интеллигенции, а с другой – посетители манежа, где объезжают лошадей. Представителями такого «манежа», деловой Европы, в драме являются миллионер Менген, а также Гастингс, о котором, правда, только говорят, это внесценический персонаж.
И, наконец, третье возможное деление – возрастное. Старшее поколение – капитан Шотовер, среднее поколение – его дочь Гесиона и её муж Гектор. И третье, младшее поколение, – это совсем юная девушка, которая только вступает в жизнь, главная героиня драмы Элли.
Я начну с единственного представителя манежа – это капиталист Менген. Элли Дэн поначалу считает, что Менген в свое время облагодетельствовал её отца. Кстати, имена героев здесь тоже символичны, отца Элли зовут Мадзини. Это имя известного борца за освобождение Италии. Мадзини – это герой свободы. А мужа Гесионы зовут Гектор, так же, как известного античного персонажа. Менген помог отцу Элли, когда тот разорился, и теперь она решает выйти за него замуж. Из благодарности. Но есть особенность этого дома, которая заключается в том, что здесь «всё тайное становится явным», обнажается истина и утрачиваются иллюзии. Это как бы некая лабораторная среда, где все процессы развиваются с необыкновенной быстротой. Когда Менген приезжает в дом, выясняется, что он вовсе не спас её отца, а наоборот, разорил его. И выступает другой образ – босс, Наполеон промышленности, капиталист, который сказочно богат. Конечно, он, может и экплуататор, заставляющий толпы грубых, неотесанных рабочих подчиняться ему и потеть ради его процветания. Это человек, для которого огромные паровые котлы плавят железо, человек с когтями зверя и так далее. Это образ капиталиста, как их изображали Золя и Драйзер. Однако в дальнейшем выясняется, что никакой он не промышленник, рабочих он боится, в машинах не разбирается. И возникает третий образ Менгена: он богат, имеет много денег, но ничего не понимает в промышленности, и его всему должен учить отец Элли, а сам он лишь вкладывает деньги. Но позже появляется и четвертый его образ: оказывается, что денег у него тоже нет. И это уже тот принцип абсурда, на котором вообще строится драма Шоу. Здесь можно встретить как дом-корабль, так и капиталиста без денег.
Какова же роль Менгена? Он умеет ставить палки в чужие колёса. Что же такое этот образ, что за эволюцию претерпевает он в драме? Это отчасти отвечает логике драмы Шоу – логике абсурда. Но, с другой стороны, здесь как бы представлена история английского капитализма, как понимал её автор. Менген превращается во что-то бессмысленное. Шоу показывает различные этапы, которые, по его мнению, прошёл английский капитализм, прежде чем превратиться в нечто абсурдное. В том же диапазоне живёт и капитан Шотовер. Когда-то он был покорителем морей. Теперь ему 88 лет, он стар, хотя и сохранил стремление достичь седьмой ступени самосозерцания. Но позже выяснится, что и в этом случае речь идёт всего лишь о роме. Он пьёт для того, чтобы оставаться трезвым, бодрствовать, иначе он засыпает.
Старику Шотоверу приходится содержать семью. Он очень изобретателен, но единственное, что способен придумать, – это орудия разрушения, другого он не умеет. Но вот, оказывается, что и это перестало пользоваться спросом. Шотовер настроен крайне пессимистично. Он мечтает изобрести луч, с помощью которого можно было бы взорвать вселенную, но пока в яме, неподалеку от дома, хранит динамит.
В дом приезжает молодая девушка Элли Дэн. Её привело в дом знакомство с Гектором, который рассказывал ей про себя всякие небылицы, представившись аристократом, по имени Марк Дарили. Это тоже своего рода перевёртыш. Правда, он немного переиграл, выдавая себя за героя вроде лермонтовского Мцыри: только Мцыри сражался с тигром, а Гектор будто бы спас тигру жизнь.
Элли влюбилась в Гектора. Она приходит к нему в дом и здесь узнаёт, что её знакомая Гесиона – жена этого самого Марка Дарили. Настоящее его имя – Гектор, и всё, что он говорил девушке о себе, – выдумки. Хотя, между прочим, он довольно смелый человек, у него масса медалей за спасение утопающих, но он предпочитает правде всякие вымыслы. Впрочем, Гесиона по этому поводу замечает: «Элли, милочка! А вы не обратили внимания, что все эти истории, которые он (Отелло) Дездемоне рассказывает, ведь на самом деле их не могло быть?» (Действие второе). Это, по утверждению Гесионы, в сущности, такая же ерунда, как и то, что рассказывал о себе Гектор! Он готов флиртовать с каждой встреченной им женщиной и при этом называет себя комнатной собачонкой своей жены. Таков мир европейской интеллигенции.
Здесь выступает связь пьесы Шоу с драматургией А.П.Чехова. Считается, что Чехов впервые ввёл в сценическое произведение болтовню. Прежде на сцене никогда не болтали. Время в драме ограничено, и каждое слово должно быть значительно. Если прежде в драме и встречалась болтовня, то только ради разрядки: таковы, например, реплики шутов у Шекспира, которые вносили несерьёзность в какую-нибудь серьёзную сцену. А у Чехова впервые зазвучала болтовня. Начиная с его произведений, болтовня становится уделом драмы.
Люди болтают, понимая, что слова ничего уже не значат, и потому остаётся одно лишь пустословие. Это ощущение бессилия слова. Важно то, что стоит за словом, а не то, что выражается непосредственно в речи. Люди предчувствуют катастрофу. Жизнь, которая их окружает, вызывает у них тошноту, растерянность, упадок духа, убежденность в том, что всё, что ими делается и говорится, – неосновательно, абсурдно и бесполезно. Это символическая болтовня, отбрасывающая гигантскую тень. И этот приём использует Шоу в своей пьесе.
Гектор ненавидит Менгена, для таких, как он, по словам Шотовера, сама «вселенная – это что-то вроде кормушки, в которую они тычутся своим щетинистым рылом, чтобы набить себе брюхо».
«Одно сознание, что эти люди всегда здесь, начеку, чтобы сделать бесполезными все наши стремления, не даёт этим стремлениям даже родиться внутри нас…» (Действие второе). (468)
Обитатели дома ни на что не годятся, хотя, несомненно, им присуща некая духовность, они многое понимают. Но в их доме царит страшный беспорядок. Увидев Элли в своём доме, капитан Шотовер заявляет, что она – дочь его шкипера. Элли пытается убедить его, что её отец, очевидно, другой Дэн, но безуспешно. Эти люди не могут даже сдать полицейским вора (есть в пьесе такой персонаж, который забирается в дом; его ловят и хотят отпустить, а он не желает уходить, требует, чтобы его отвезли в полицию. А когда ему говорят, что не хотят связываться с полицией, требует денег за то, чтобы он покинул дом). Эти люди способны только на разговоры, поэтому их речь – болтовня.
Главная героиня драмы – Элли Дэн. Она только вступает в жизнь, и в течение драмы проходит сложную эволюцию. Она приезжает в дом вместе с отцом и Менгеном, которого считает благодетелем. Но даже узнав, что Менген на самом деле повинен в разорении её отца, она всё равно не отказывается от намерения выйти за него замуж. Какой бы он ни был, главное, что богат. Такой ход мыслей, кстати, вызывает гнев капитана Шотовера. Он заявляет девушке, что тем самым она погубит свою душу. А Элли на это отвечает: «Люди старого уклада думают, что у человека может существовать душа без денег. Они думают, что чем меньше у тебя денег, тем больше души. А молодёжь в наше время иного мнения. Душа, видите ли, очень дорого обходится. Содержать её стоит гораздо дороже, чем, скажем, автомобиль. Она поглощает и музыку, и картины, и книги, и горы, и озёра, и красивые наряды, и общество приятных людей,– в этой стране вы лишены всего этого, если у вас нет денег». (Действие второе).
Этот первый вариант её дальнейшего пути напоминает судьбы многих героев XIX века. Они расстаются с иллюзиями и принимают законы действительности, в которой им предстоит жить. Но Элли Дэн – героиня XX века, да и богатства Менгена – иллюзорные, на самом деле никаких капиталов у него нет. В финале Элли Дэн вступает в духовный брак с капитаном Шотовером. Это её заключительный этап. Она берёт капитана под руку и говорит, что теперь это её духовный муж. А Шотовер в этот момент спит.
Духовный брак с капитаном Шотовером символичен. Это значит, что всё лучшее в представлении Шоу, заключено в прошлом. У Элли нет будущего. Героиня пьесы переживает глубокое жизненное разочарование. Всё оказалось обманом, иллюзией: «Выходит, что в мире нет ничего настоящего, кроме моего отца и Шекспира. Тигры Марка поддельные. Миллионы мистера Менгена поддельные. Даже в Гесионе нет ничего по-настоящему сильного и неподдельного, кроме её прекрасных чёрных волос. А леди Эттеруорд слишком красива, чтобы быть настоящей. Единственная вещь, которая ещё для меня существовала, это была седьмая степень самосозерцания капитана. Но и это, оказывается… Ром» <…> «Да, это дурацкий дом… Это нелепо счастливый дом, это душераздирающий дом, дом безо всяких основ. Я буду называть его домом, где разбиваются сердца». (Действие третье).
И всё же она скажет в финале: «Благословение в моём разбитом сердце. Благословение в вашей красоте, Гесиона. Благословение в душе вашего отца. Даже в выдумках Марка есть благословение. Но в деньгах мистера Менгена никакого благословения нет». (Действие третье).
Главное отличие этих героев от Менгена в том, что они не боятся истины. Менген же скажет: «Меня с детства учили приличиям. Я не возражаю против того, чтобы женщины красили волосы, а мужчины пили, – это в человеческой натуре. Но совсем не в человеческой натуре рассказывать об этом направо и налево. Стоит только кому-нибудь из вас рот открыть, как меня всего передергивает (ежится, словно в него запустили камнем) от страха – что ещё сейчас тут ляпнут? Как можно сохранять хоть какое-нибудь уважение к себе, если мы не стараемся показать, что мы лучше, чем на самом деле?» (Действие третье).
Истина его пугает. И этот хаос, полный беспорядок «дома, где разбиваются сердца», оказывается куда лучше, чем иной порядок. Вот, например, что говорит вторая дочь капитана Шотовера, Ариадна, жена губернатора колоний Британской империи: «Бросьте вашу нелепую демократию, дайте Гастингсу власть и хороший запас бамбуковых палок, чтобы привести британских туземцев в чувство, – и он без всякого труда спасёт страну». А капитан Шотовер на это ответит: «С палкой в руках всякий дурак сумеет управлять. И я бы мог так управлять. Это не божий путь. Этот твой Гастингс – чурбан». (Действие третье).
И вот финал драмы: в небе появляется самолёт и начинает бомбить. Надо правильно это понять, потому что мы настолько привыкли к тому, что с самолетов падают бомбы, что для нас это кажется нормальным, тем более для начала войны. Но дело в том, что так начиналась Вторая мировая, а в драме Шоу изображено самое начало Первой мировой войны, и тогда ничего подобного не было. Шоу прибег к такому образу, как бомбардировка, не потому, что предвидел развитие боевой авиации, нет. В его драме взрыв – это выражение Божьего гнева, смерть, принявшая облик бомб, падающих с небес. Этот образ тоже надо понимать прежде всего символически.
Герои Шоу готовы погибнуть. Все они остаются в доме и зажигают свет, потому что хотят, чтобы бомба угодила именно в них. Уцелеть пытаются только два человека – это Менген и Уильям Дэн, вор. Они прячутся в яме, которую выкопал капитан Шотовер, где он хранил динамит. И бомба попадает именно в эту яму. Гибнут два вора, два деловых человека, а все главные герои остаются живы. Так завершается эта драма. Капитан Шотовер скажет: «Час суда настал. Мужество не спасёт вас. Но оно покажет, что души ваши ещё живы». (Действие третье).
Шоу создал новый жанр – трагифарс, которому суждено было получить значительное продолжение в литературе XX века. Но к сожалению, со временем этот жанр перешагнул рамки литературы, став реальностью нашей жизни.
Шоу относится к своим героям неоднозначно. Гектор говорит: «Мы – целая серия шутов с разбитыми сердцами». Иногда в русском переводе эта фраза звучит так: «Мы – целая серия дураков (идиотов) с разбитыми сердцами», но это неточный перевод. Дурак и шут – не одно и то же. «Шуты с разбитыми сердцами» – это и есть основа трагифарса. С одной стороны, это абсурд, это смешно, а с другой, к сожалению, – горькая реальность.
Эта особенность проявляется и в поэтике драмы Шоу. Это сочетание, с одной стороны, конкретности, а с другой – символов, причём этот разрыв настолько ощутим, что каждая вещь обретает фарсовый характер. Но герои Шоу не способны ничего организовать, устроить, они бессильны перед жизнью. В доме всё остаётся по-прежнему. Так же разбросаны вещи, как всегда невыносима и развязна прислуга, даже гостей принять некому. Для еды нет никаких установленных часов. Никто никогда и не думает о нормальном обеде, потому что все домочадцы постоянно жуют бутерброды или грызут яблоки.
Самое ужасное, что тот же хаос и в мыслях, чувствах и разговорах героев. Когда Гектор говорит о том, что они – целая серия шутов с разбитыми сердцами, Мадзини Дэн, отец Элли, уточняет: «Я бы сказал… – весьма и весьма удачные образцы всего, что только есть лучшего в нашей английской культуре. Вы обаятельные люди, очень передовые, без всяких предрассудков, открытые, человечные, не считающиеся ни с какими условностями, демократы, свободомыслящие – словом, у вас все качества, которыми дорожит мыслящий человек.
Миссис Хэшебай. Вы слишком превозносите нас, Мадзини.
Мадзини. Нет, я не льщу, серьёзно. Где бы я мог чувствовать себя так непринужденно в пижаме? Я иногда вижу во сне, что я нахожусь в очень изысканном обществе и вдруг обнаруживаю, что на мне нет ничего, кроме пижамы. А иногда и пижамы нет. И я всякий раз чувствую, что я просто сгораю от стыда. А здесь я ничего этого не испытываю; мне кажется, что так и надо». (Действие третье).
На что младшая дочь Шотовера, Ариадна, заметит: «Совершенно безошибочный признак того, что вы не находитесь в действительно изысканном обществе, мистер Дэн. Если бы вы были у меня в доме, вы бы чувствовали себя очень неловко». Конечно, всё это глубоко символично, она – леди Эттеруорд, жена Гастингса Эттеруорда, босса, в доме которого царит порядок. Однако разрыв настолько велик, что всё это приобретает трагифарсовый характер. В чём их сила? Они понимают, что живут в мире абсурда. Они могут быть только шутами, но трагическими шутами, поскольку отдают себе отчёт в том, что ничего не способны в этом мире изменить.
Дело в том, что такова, в общем-то, судьба интеллигенции, ибо сфера приложения её сил – это слово, а слово имеет смысл лишь тогда, когда оно связывает идеальный предмет с реальным. А у них оно ничего не связывает. Их пристанище – дом-корабль, и потому они находятся как бы в пустом пространстве и могут только высказываться.
Но трагизм этой драмы заключён ещё и в другом. Шоу, в общем-то, ничем не отличается от своих героев. Ему тоже ничего не остается, кроме как писать пьесы. Изменить в реальной жизни он ничего не может. Поэтому фарс превращается в трагедию самого автора пьесы.
Буквально несколько слов об авторе, который был современником Шоу. Это французский писатель, критик, общественный деятель Анатоль Франс. Он родился в 1844, умер в 1924 году. Его особая жизненная позиция выступает уже в ранних произведениях. Это скепсис. Франс ощутил конец XIX века как некий кризис ценностей трёх предшествующих веков. В этой ситуации, по мнению писателя, остаётся единственное, действительно непреложное – человеческая личность, сохраняющая духовную свободу.
В основе наиболее известного романа Франса «Остров пингвинов» (1908) лежит тот же принцип абсурда. Подслеповатый аббат Маэль, по ошибке приняв пингвинов за людей, совершает над ними обряд крещения. Так начинается история Пингвинии – с абсурдного недоразумения, вызвавшего немало проблем не только на небесах, но и на земле.
Хочу отметить два момента. Во-первых, читать роман Франса надо обязательно с комментариями, поскольку за историей вымышленной страны Пингвинии скрывается реальная история Франции. Главный акцент – на Новом времени. Здесь следует обратить внимание на эпизоды, связанные с историей офицера Пиро, в которых угадываются события, связанные с делом Дрейфуса, это очень важный момент в романе. (Пингвинию потрясло дело о краже сена, заготовленного для кавалерии. Пиро обвинили в том, что он будто бы продал весь запас сена дельфинам. Несмотря на полное отсутствие улик, Пиро был осуждён и посажен в клетку. Пингвины прониклись к нему единодушной ненавистью, но всё же нашёлся отщепенец по имени Коломбан, который вступился за Пиро).
Сам А. Франс был одним из активных участников процесса на стороне защиты, первым подписал знаменитое письмо-манифест Эмиля Золя «Я обвиняю». Но хотелось бы обратить внимание на другое. В романе «Остров пингвинов» Золя изображён иронически в образе Коломбана, хотя Франс очень высоко ценил его творчество, называл занятую им гражданскую позицию «этапом в истории человеческой совести»…
Но, хочу подчеркнуть, это не надо понимать буквально – это не Золя, не Франция. Это Пингвиния – абсурдный, перевёрнутый мир. Франс показывает изнанку, обратную сторону исторической реальности. Почему он изображает Золя? Потому что Золя верил, что осуждённого оправдают, и восторжествует справедливость. А Франс знает другое: в его романе Пиро оправдали, но к справедливости это не привело. И эта наивность, историческая близорукость Золя и стали предметом иронии Франса.
И, наконец, последнее, что хотелось бы отметить. В романе представлены также события будущего. Хотя Франс писал в самом начале XX века, он предвидел Первую мировую войну. Война в романе тоже возникает на основе чистого абсурда. Она связана с тем, что премьер-министр Визир завёл роман с женой министра Цереса, и этот частный конфликт мужчин-соперников явился причиной развязывания глобальной кровавой войны. Будущие времена пингвинской цивилизации – это полный упадок цивилизации и культуры. В конце концов, в стране появляется группа экстремистов, в руках которых оказывается что-то вроде атомной бомбы. Они её взрывают, а дальше всё повторяется сначала…
Франс считал, что таково самое вероятное развитие событий. Это история Пингвинии, начавшаяся с абсурдного недоразумения, и завершиться она могла только абсурдом. А что касается Франции, писатель чувствовал эту абсурдность в самой реальной истории. Его книга – предостережение. Это не значит, что именно так всё и случится в действительности, он так не думал. Но подобный финал возможен. Также не надо искать и конкретных портретов в романе Франса. Его «Остров пингвинов» – это карикатура, фарсовые фигуры. Это абсурдная сторона исторической реальности.
Герман Гессе родился в 1877 в Германии, умер в 1962 году в Швейцарии. Вообще, это писатель, который во многом близок к Томасу Манну. В период, когда Томас Манн жил в Швейцарии, они очень дружили и между их произведениями – «Игрой в бисер» и «Доктором Фаустусом» – тоже много общего. Для понимания творчества Германа Гессе надо иметь в виду следующее. У него есть одно важное высказывание, мысль, которая, впрочем, пронизывает и его произведения. В романе «Нарцисс и Гольдмунд» (1930) писатель выразил это, может быть, в наиболее прямой форме, но, в общем, та же мысль присутствует и в «Игре в бисер». Гессе считал, что человек, как и всё в нашем мире, существует биполярно: во взаимодействии и взаимозависимости полюсов. Но нельзя одновременно сделать вдох и выдох, совместить бытие мужчины и бытие женщины, свободу и порядок, разум и чувства, инстинкт и дух. За одно всегда приходится платить потерей другого, – такова действительность человеческого существования. Надо вдохнуть, чтобы выдохнуть, а одновременно это сделать невозможно. Такова в самых общих чертах жизненная философия, из которой исходил Г. Гессе, и которая по-разному проявляется в его романах.
Вообще, надо сказать, сам писатель одно время страдал душевным расстройством, даже проходил лечение у крупнейшего исследователя человеческой психики Карла Юнга. Юнг оказал огромное влияние на мировоззрение писателя, но он, в отличие от Гессе, считал, что в нашем сознании всегда присутствуют оба начала, мужское и женское, в мужчине отчасти проявляется женский аспект и наоборот. В человеке сосуществуют сознательное и бессознательное, осмыслить которое до конца не дано, и потому в психологическом плане всё время необходимо дополнять одно другим: вдох дополнять выдохом.
«Игра в бисер» (1943) – последнее и наиболее значительное творение Гессе. Этот роман состоит из трёх частей, и такая трёхчастная форма – важная его черта. Первая часть – это введение, затем следует центральная часть книги – описание жизни главного героя Йозефа Кнехта, одного из мальчиков, попавших в Касталию, который сумел пройти сложный путь от ученика до магистра игры, и далее третья часть – это сочинения Кнехта, которые тоже в свою очередь делятся на три жизнеописания и ряд стихов, написанных им.
В первой части изображается XX век, который Гессе именует фельетонной эпохой. Это период полного обесценивания и упадка культуры:
«…Нам представляется, что к сфере фельетонизма следует причислить и некоторые игры, к которым приглашались и без того перенасыщенные познавательным материалом читатели, о чём свидетельствует пространный экскурс Цигенхальса об удивительном феномене – "кроссвордах". Многие тысячи тяжело трудившихся и нелегко живших в ту пору людей в часы досуга, оказывается, сидели, склонившись над квадратами и крестами, и заполняли их, соответственно правилам игры, определенными буквами. Поостережёмся, однако, смотреть на это как на смехотворную и сумасбродную затею, воздержимся и от насмешек. Людей, игравших в эти детские игры-загадки, читавших эти фельетоны, ни в коем случае нельзя назвать наивными детьми или охочими до всяких забав феакийцами, отнюдь нет. Они жили в вечном страхе среди политических, экономических и моральных потрясений, вокруг них всё кипело, они вынесли несколько чудовищных войн, в том числе и гражданских, и игры их никоим образом не были весёлым, бессмысленным ребячеством, но отвечали глубокой потребности: закрыть глаза, убежать от нерешённых проблем и ужасающих предчувствий гибели в возможно более безобидный мир видимости. Они прилежно учились управлять автомобилем, играть в замысловатые карточные игры и мечтательно отдавались разгадке кроссвордов, ибо перед лицом смерти, страха, боли, голода они были почти вовсе беспомощны, церковь не дарила им утешение и дух – советов. Люди, читавшие столько фельетонов, слушавшие столько докладов, не изыскивали времени и сил для того, чтобы преодолеть страх, побороть боязнь смерти, они жили судорожно, они не верили в будущее.
Читались тогда и публичные лекции, мы обязаны коротко остановиться и на этой несколько более благородной разновидности фельетонизма. Как специалисты, так и интеллектуальные проходимцы всех мастей предлагали бюргерам тех времён, по-прежнему приверженным к потерявшему свой былой смысл понятию "образование", помимо статей, ещё и бесчисленные публичные лекции: не только в виде отдельных речей по случаю того или иного торжества, а в массовом порядке, наперебой конкурируя друг с другом. В городе средних размеров каждый бюргер или его супруга имели тогда возможность раз в неделю прослушать какой-нибудь доклад, в крупных же городах такая возможность выпадала чуть ли не ежедневно; докладчики распространялись перед слушателями о какой-нибудь теории, разглагольствовали о художественных произведениях, поэтах, учёных, исследователях, кругосветных путешествиях, и присутствующие оставались при этом совершенно пассивными, в то время как предполагалось, что они имеют какое-то отношение к содержанию докладываемого или, по крайней мере, знакомы с темой, готовы к восприятию её, хотя в большинстве случаев это было не так. Читались тогда занимательные, темпераментные или остроумные лекции, например о Гёте, – как он в голубом фраке выскакивал из дилижанса и соблазнял страсбургских или вецларских девиц; или лекции об арабской культуре, в которых ряд модных интеллектуальных словечек перемешивался наподобие игральных костей, и всякий был беспредельно рад, узнав хотя бы одно из них. Люди ходили на лекции о поэтах, произведения которых они никогда не читали, да и не собирались читать, смотрели при этом диапозитивы и так же, как при чтении фельетонов, продирались через груды лишённых всякого смысла обрывков знаний и научных ценностей. Короче говоря, человечество находилось тогда на пороге того чудовищного обесценивания слова, которое, сперва в очень узком кругу и в полной тайне, породило противоборствующее – героико-аскетическое течение, вскоре мощно выявившееся как начало новой духовной самодисциплины и духовного достоинства…» (469)
Стало очевидным: если так пойдёт и дальше, трагедия неизбежна. Поэтому и решено было создать Касталию – особую идеальную провинцию, которая стояла бы вне всей современной цивилизации.
Для Касталии отбирались наиболее талантливые молодые люди, которые должны были заниматься здесь чистой наукой, объединившись в своего рода «республику учёных». Особую роль в Касталии играла музыка. Однако самым главным, высшим проявлением касталийского принципа являлась игра в бисер.
Как в неё играли, сказать трудно, но попытаюсь сформулировать, что стояло за подобного рода игрой. Прежде всего о самом понятии игры. Вообще, игра, какой она сложилась в европейской культуре со времён Античности, всегда была, прежде всего, игрой. Мир культуры – это не что иное, как мир игры в чистом виде. Не случайно главным феноменом европейской культуры являлось искусство, игра по преимуществу. Допустим, Ф. Шиллер в своих «Письмах об эстетическом воспитании» заключал, что человек только тогда является человеком, когда он играет. Культура – это некая игра. Недаром Аристотель считал, что человека создал досуг. А досуг – это игра, то есть человек занимался либо развитием своего тела: гимнастическими упражнениями, атлетикой, либо развитием духа: музыкой, поэзией, искусством, философией. Но всё это, в сущности, игра, поскольку не имеет практического назначения.
Культура как мир игры – такое её понимание имеет очень давнюю основу. Поэтому сама игра – это культура, которая обособлена от практики и создаёт некий особый, замкнутый в себе, самодостаточный мир.
Что такое игра в бисер? Чтобы ответить на этот вопрос, можно перебрать все смыслы культуры. Сегодня существует прямая аналогия подобного – компьютер. Мы можем заложить в него любые программы, поставить любую задачу. В таком понимании игра в бисер подобна компьютеру. Не случайно излюбленное занятие современных детей – компьютерные игры. Компьютер – это тоже игра, хотя игра весьма серьёзная и в каком-то смысле небезопасная, но это уже другой вопрос. Хотя, почему она опасна для детей, могу сказать сразу. Дело в том, что есть вещи невосполнимые. Дети должны читать книжки. Подлинную ценность имеет лишь то, что было прочитано в детстве. Если человек читал в детстве, тогда можно что-то прочесть и в уже более зрелом возрасте, а если этого не было, то начинать безнадёжно. Это случай, годный лишь для того, чтобы какой-то минимум усвоить, ответить на экзамене, допустим. Меня поражает в современных студентах, увлечённых компьютером, что они не способны прочитать книгу, и даже прочитав, не могут её пересказать. Это происходит потому, что у них не работает воображение. Но это так, к слову…
Я говорил о том, что компьютер – это тоже форма игры, в которой можно проиграть все вероятные смыслы культуры, комбинации, интерпретации разного рода наук и искусств. И в таком понимании игра в бисер как некий универсальный язык, устанавливающий связи между вещами, на первый взгляд никак не связанными, вполне находит свои реальные аналогии в современности. Однако Йозеф Кнехт проходит в произведении Гессе сложную эволюцию. Важную роль в его жизни сыграл учитель музыки, который на многое открыл ему глаза. Главное, что, конечно, можно овладеть музыкальным искусством, и он старался этому научить своего ученика, но вот смысл передать нельзя. Смысл может быть только пережит самим человеком. Компьютер, кстати, вреден ещё и потому, что исключает глубокое переживание, а книга это всегда предполагала. Истина должна быть лично пережита человеком…
Вообще, касталийцы понимают, что, с одной стороны, они сумели овладеть поистине колоссальным объёмом знаний, способны оперировать любыми пластами информации, пытаясь свести нечто разнообразное, множественное к единому, выстроить рациональную систему. Но они совершенно не способны к творчеству, они не могут творить. Йозеф Кнехт – исключение, он пишет стихи. Касталийцы же, как правило, лишены творческого начала. Иногда им кажется, что при помощи игры они могут постичь Абсолют, приблизиться к Богу, но из этого ничего не выходит. Для того, чтобы постичь Бога, – кстати, в романе Умберто Эко «Имя розы» это очень точно выражено, – нужны любовь и вера. Иначе ничего не получится, по-другому к божественному не приблизишься, это будет лишь игра, эрзац религиозного чувства…
Йозеф Кнехт с самого начала ощущает всю сложность своего пути. Он понимает, что, конечно, искусство – это синхронное бытие, и, чтобы что-то создать, нужно прорваться в вечность. Но жить в вечности нельзя…
У него есть оппоненты. Первый его оппонент – это Плинио Дезиньори, молодой человек, который тоже приехал учиться в Касталию. Но он старается доказать Кнехту, что касталийцы, в общем-то, живут неполноценной жизнью, потому что жизнь не сводится к игре. Они лишены прочных корней, семьи, не знают женской любви, вообще, живут в мире чистых абстракций, не имеющих отношения к жизни со всеми её сложностями. Для самого Кнехта не совсем понятно – те, кто покидают Касталию, делают это потому, что понимают её ущербность, ограниченность, или, наоборот, просто не доросли до касталийской истины? Что это: дезертирство или прыжок?
Второй оппонент главного героя – это священник бенедиктинской обители Мариафельс отец Иаков. Встреча с ним – очень важный момент в духовной эволюции Кнехта. Иаков, с одной стороны, – историк, а с другой – монах. Он объясняет недостаток игры, который занимает Кнехта. «Вы не знаете человека ни в его сходстве, ни в его богоподобии, – говорит Иаков, – Вы живёте в неком иллюзорном мире – вы играете. А есть, с одной стороны, – земля, а с другой стороны – небо. А вы между небом и землей».
Но у Кнехта есть ещё один оппонент – это его друг Тегуляриус. Это виртуозный мастер игры, который доказывает ему, что вся человеческая история, в сущности, ерунда. Какая разница, существовал ли на самом деле кардинал Ришелье или Людовик XIV? Важны произведения Корнеля, Расина, Мольера, а не та историческая почва, на которой они возникли. Остаётся не история, а плоды культуры, и именно они представляют собой нечто абсолютное. Кнехт ему возражает: «Это так, с одной стороны, но всё дело в том, что они были погружены в эту почву, поэтому они могли что-то создать, а мы ничего создать не можем. Мы живём в этом условном пространстве».
Кнехт решает уехать из Касталии, ему недостаточно этого изолированного рафинированного мира. Он понимает, что Касталия возможна только потому, что существует и другой мир, который обеспечивает её жизнедеятельность. «Мы пребываем в истории и не можем из неё выйти, и, если мы не будем участвовать в действительности этого другого, реального мира, – рассуждает Кнехт, – он сбросит нас со счетов.» Кнехт принимает предложение своего друга Плинио Дезиньори и становится воспитателем его маленького сына Тито. Он приезжает к ним в дом, и в первый же день они с мальчиком отправляются на прогулку к горному озеру. Кнехт чувствовал усталость, но когда мальчик неожиданно нырнул в воду, он бросился вслед за ним и утонул.
Как понимать подобный финал? Здесь есть своя символика, и она существенна. Это Инь и Ян, важнейшие архетипы. Инь – женское начало, Ян – мужское начало. Это восточная, даосская формула. Это дух, символ которого – небо, и его иньская противоположность, символом которой является вода. Кстати, то, что это горное озеро – тоже существенно. Это образ круга. И сам этот прыжок Кнехта в воду – тоже своего рода символический жест. Символика финала выступает здесь очевидно – Йозеф Кнехт погрузился в иньскую стихию, в хаос жизни, в противоположное духу начало и утонул. Но это уже не просто жест, а некая жертва, преодоление самости. Это – наивысшая игра, и потому – выход за пределы игры.
Однако, есть и другая сторона этого вопроса, которую хотелось бы подчеркнуть. Выполнил ли Кнехт свою миссию? Выдающийся учёный, магистр игры, он решил стать простым воспитателем, наставником для маленького мальчика, и, к тому же, ничему не успел его научить, потому что утонул, едва прибыв на место, в первый же день. Что это –полное его поражение или победа? Отчасти победа, потому что этот бросок Кнехта в воду повлиял на душу его маленького ученика. Это был поступок, который совершенно преобразил сознание ребёнка.
Приведу один пример, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Конечно, важно учение Иисуса Христа, его проповеди, то, что излагается в текстах Евангелий. Но всё-таки не было бы Христа, если бы не было распятия. И эта великая жертва, принесённая им, оказалась, быть может, не менее важной, чем само учение. Потому что иначе был бы ещё один Учитель, коих в истории человечества было немало.
Нужно самому пережить нечто, вот в чём дело. Почувствовать то, что нельзя передать никакими словами. Ведь, в конце концов, культура и искусство – это не собрание памятников, а прежде всего смыслы, духовные открытия. Кнехт заставил мальчика пережить истину, а не просто услышать её из уст наставника. Он погрузился в эту неупорядоченную, непредсказуемую, таящую в себе опасности стихию жизни. Без этого ничего не могло бы открыться. Кнехт это всегда понимал, и это, кстати, нашло отражение в его стихах:
Рассудок, умная игра твоя -
Струенье невещественного света
Легчайших эльфов пляска, – и на это
Мы променяли тяжесть бытия
Осмыслен, высветлен весь мир в уме
Всем правит мера, всюду строй царит
И только в глубине подспудной спит
Тоска по крови, по судьбе, по тьме
Как в пустоте кружащаяся твердь
Наш дух к игре высокой устремлён
Но помним мы насущности закон
Зачатье и рожденье, боль и смерть
(«Но помним мы…») (470)
Один из главных образов книги – образ ступеней:
Любой цветок неотвратимо вянет
В свой срок и новым место уступает:
Так и для каждой мудрости настанет
Час, отменяющий её значенье.
И снова жизнь душе повелевает
Себя перебороть, переродиться,
Для неизвестного ещё служенья
Привычные святыни покидая, —
И в каждом начинании таится
Отрада благостная и живая.
Всё круче поднимаются ступени,
Ни на одной нам не найти покоя;
Мы вылеплены Божьею рукою
Для долгих странствий, не для костной лени.
Опасно через меру пристраститься
К давно налаженному обиходу:
Лишь тот, кто вечно в путь готов пуститься,
Выигрывает бодрость и свободу.
Как знать, быть может, смерть, и гроб, и тленье
Лишь новая ступень к иной отчизне,
Не может кончиться работа жизни…
Так в путь – и всё отдай за обновленье!
(«Ступени». Перевод С. Аверинцева).
Человек должен сам пройти предназначенный ему путь шаг за шагом. Должен искать…
Поскольку, согласно воззрениям Гессе, вдох и выдох существуют неразрывно, в его романе два финала. Один – это окончание жизни самого героя. Кнехт бросился в воду, погрузился в Инь. А второй буквальный финал романа – индийское жизнеописание. Оно завершается мыслью об иллюзорности всего преходящего. Земной мир – это иллюзия, «майя» и от всего в этом мире следует отрешиться. Это и есть символические вдох и выдох произведения Гессе. У писателя нет ответа на вопрос: как надо, у него есть ответ: как не надо. Что точно человеку не позволено, так это останавливаться в своём движении к истине. И нельзя забывать, что обрести всю её полноту никому не дано: или погрузишься и утонешь, или возвысишься, отдалившись от живой человеческой действительности. Но сделать это одновременно невозможно. Кнехт ощутил это противоречие…
Нужно суметь погрузиться в стихию, хаос жизни, но не потерять при этом самого себя…
О французском экзистенциализме
Вообще, экзистенциализм – это философское течение, возникшее в Германии, но настоящую значимость оно обрело во Франции. Расцвет французского экзистенциализма приходится на военные и послевоенные годы: период примерно до 60-х годов XX века…
Экзистенциализм стал выражением особого мироощущения, рождённого драматическими событиями эпохи. «Мыслить можно только образами. Если хочешь быть философом, пиши романы», – утверждал Альбер Камю. Авторы экзистенциализма, в сущности, и были такими писателями-философами. Однако, как заметил однажды Камю, он такой же экзистенциалист, как и большинство пассажиров метро.
Во-первых, что такое экзистенция? Это наше индивидуальное «Я», смертное и неповторимое. Сущность человека – это не его родовая природа, а его уникальность. Поэтому по-настоящему экзистенцию открывает только смерть. Только смерть выявляет нашу неповторимость. Конечно, если в жизнь человечества войдет клонирование, это исчезнет. То есть, экзистенция – это неповторимая индивидуальность, то, что составляет глубоко личностное, сущностное, истинное «Я» каждого из нас. И оно действительно единственное…
Экзистенциализм дал новый взгляд на человека. Исходной точкой здесь стал индивид, субъект, а не объект. Это «Я», которое не подлежит объективации. Оно отделено от «моё». Конечно, человек играет в обществе различные роли, их множество, и все они взаимозаменяемы. Но подлинное «Я» человека не связано ни с какими социальными ролями, оно ничем не детерминировано, оно свободно…
Писатель-экзистенциалист Жан-Поль Сартр родился в 1905 году, умер в 1980, но его слава связана в первую очередь с периодом Второй мировой войны. Главная философская книга была написана Сартром ещё до того, как он создал свои пьесы. Это «Бытие и Ничто» (1943). Согласно этой работе, все поистине человеческие представления и качества связаны с понятием небытия. Воображение – это то, чего нет, будущее – то, чего нет, всякая мечта, искусство… Само человеческое бытие – это стремление к тому, чего, может быть, не существует. Человек всё время как бы ускользает от самого себя, и он всегда вносит в мир своё «нет».
Вообще, человек действительно занимает особое место в реальности. Он не подчиняется законам природы, поскольку создан «по образу и подобию Божьему» и словно заброшен в этот мир. Но Сартр считал, что Бога нет, а есть Ничто. И поэтому альтернатива для человеческого создания такова: или свобода, или Ничто. Человек свободен и никогда не равен самому себе, всегда пребывает в становлении. И он сам определяет систему координат, в которой существует.
Главное – это свобода выбора. Человек всегда выбирает. Но если он абсолютно свободен в своём выборе, то и тотально ответственен за него. Совершая тот или иной поступок, мы тем самым утверждаем определённые ценности и берём на себя всю полноту ответственности за свой выбор.
Ситуация, о которой размышлял Сартр, сложилась в период оккупации Франции нацистской Германией (1940-1944), и тогда его философия имела очень глубокий реальный смысл. Как сохранить свободу в обстановке максимальной несвободы? Как себя вести в подобных обстоятельствах? Это мужество под угрозой уничтожения, ненормальная, крайняя, исключительная ситуация. Сартр провозглашал свободу, когда эта свобода была отнята у человека, и в этом был истинный его пафос.
Мы остановимся на двух драмах, которые были написаны в одно и то же время, в период французского движения Сопротивления. Обе основаны на античных мифах. Это «Мухи» Сартра и «Антигона» Ануя. Один автор обращается к трагедии Эсхила, другой – к трагедии Софокла. У Сартра, как и у Ануя, использование мифа не случайно, оба писателя были склонны воспринимать таким образом современную им историческую действительность, стремились увидеть её истоки, прообраз в неких изначальных, глубинных моделях человеческого бытия.
События драмы Сартра «Мухи» (1943) происходят в Аргосе, где правят Клитемнестра и Эгисф, как и в трагедии Эсхила «Агамемнон». Почему драма называется «Мухи»? У Сартра это некоторый символ угрызений совести. Дело в том, что все жители Аргоса испытывают чувство вины. Они не защитили в своё время Агамемнона, предали царя и потому несут на себе вину за его гибель. Но отчасти, конечно, это необходимо перевести на язык реальности. Это образ оккупированной фашистами Франции, где каждый француз ощущал себя причастным к тому, что произошло со страной…
Жители Аргоса живут прошлым. В особый праздник к ним приходят духи умерших. Горожане во главе с царём и царицей накрывают для них столы, стелют постели, каются и молят своих мертвецов простить их. Вообще, Сартр не признавал власти прошлого. Его волнует только будущее, а прошлое для него точно не существует. Прошлое, в сущности, более всего определяет человека, но, по мнению Сартра, человека определяет свобода. А свобода – это то, что противоположно прошлому, то, что выбирает будущее.
Но вот в Аргос прибывает сын царя Агамемнона Орест. Пятнадцать лет тому назад ему удалось бежать из города, сохранив тем самым себе жизнь. Он вырос вдали от родных мест и вот теперь вернулся в Аргос под видом странника. Он встречает свою сестру Электру, и та насмешливо его предупреждает, что ежегодно приносить публичные покаяния в день убийства Агамемнона – теперь своего рода традиция аргивян. Все уже наизусть знают преступления друг друга, а уж преступления царицы – «это преступления официальные, лежащие, можно сказать, в основе государственного устройства». Электра, кстати, ненавидит мать, как ненавидит и нового царя Эгисфа, и очень хочет, чтобы Орест отомстил за смерть их отца. И Орест убивает Эгисфа. Но главная проблема – это месть матери. Здесь произведение Сартра очень резко расходится с античной первоосновой. Там боги велят мстить, а в драме Сартра, наоборот, Юпитер требует, чтобы Орест смирился с данностью и не убивал мать. Юпитер не возражал против мести Эгисфу. Теперь Орест будет управлять Аргосом, как и положено. Но Орест не хочет покориться Юпитеру, ибо тайна человека в том, что он свободен. А когда человек обретает свободу, приходит конец власти богов. Юпитер управляет всеми закономерностями природы, он всемогущ, всё подчиняется его воле, но над человеком он не властен. Человек свободен.
И что делает Орест? Он убивает мать.
Электра тоже очень одобряла месть Эгисфу, но она никак не может принять убийство матери. Зачем? В античной драме смерти Клетемнестры требовали боги, а здесь этого нет. Зачем тогда Орест убивает мать? Причём очень жестоко. Даже Электра от него отворачивается. Почему Орест это совершает? А потому что у него нет никакой почвы, он не чувствует никаких связей. Кроме того, он хочет освободить жителей Аргоса от мук совести, взять на себя всю полноту их вины. Теперь лишь он один во всём виновен. Орест уходит из Аргоса и увлекает за собой преследовавшие город огромные рои мух. Он не хочет властвовать, не желает брать на себя никакой ответственности. Он стремится лишь пробудить в людях чувство свободы, чтобы они могли начать новую жизнь. И убийство матери – это некий жест, предназначенный для зрителей, свидетелей его преступления. Орест взял на себя чудовищный грех, чтобы жители Аргоса почувствовали себя свободными. Но они никогда уже не будут по-настоящему свободны.
Тема противостояния человека насилию, личного мужества – центральная в драме французского драматурга Жана Ануя (1910-1987) «Антигона», созданной в 1942 году, в период, когда Франция была оккупирована нацистскими войсками. В произведении Ануя использован тот же самый сюжет, что и в одноимённой трагедии Софокла. Но только у Ануя Креонт доказывает Антигоне, что всё происходящее – это спектакль, который он затеял с телами её погибших братьев. Он даже не знает, кто из них Полиник, а кто Этеокл, понятия не имеет. Просто так надо. Вообще, оба брата были мерзавцами, зачем Антигоне их хоронить, какой долг она выполняет? Креонт уговаривает Антигону не братьев оплакивать, а выйти замуж за царевича Гемона, нарожать детей, принять всё происходящее как данность. Зачем отказываться от личного благополучия? Какие идеалы она отстаивает? Её братья не стоят такой жертвы! Жизнь – это компромисс. Креонт уговаривает Антигону с ним согласиться, сказать, как и он, происходящему «да». Антигона же отвечает, что пришла в этот мир говорить «нет».
Что означает это «нет» Антигоны? С одной стороны, она не хочет принимать участия в бесчеловечном спектакле, который разыгрывает Креонт, с этого начинается действие. Но в то же время, и в этом заключается роль Антигоны, она рождена говорить «нет». Она не хочет принимать мир, лишённый идеального начала, в которое она верит. Антигона пытается утвердить в мире эту высокую духовную норму, отстоять человеческое достоинство. Однако оказывается, что и это, в сущности, лишено смысла. И она испытывает глубочайшее разочарование в финале драмы – это момент её встречи со стражниками. Им на всё плевать: Креонт уходит, Антигону казнят, Гемон гибнет, а они продолжают по-прежнему играть в карты. Если бы её «нет» было хоть кем-то услышано. А стражников, главных свидетелей происшедших событий, кажется, ничто не волнует, поэтому драма Ануя завершается крайне пессимистично. Креонт и Антигона – это два полярных принципа, это «да» и «нет», но они ещё могут спорить между собой. А вот со стражниками, образ которых обрамляет драму, говорить не о чем. Им всё равно.
Французский писатель и философ Альбер Камю, пожалуй, самый значительный из представителей экзистенциализма… Родившийся в 1913 году, он ушёл из жизни в 1960, когда экзистенциализм себя уже исчерпал.
Как философ, Альбер Камю создал два значительных произведения: «Миф о Сизифе» и «Бунтующий человек». «Миф о Сизифе» – это ранний его трактат, написанный в 1942 году. На примере известного античного образа Камю показывает, насколько абсурдно само отношение человека к миру.
Дело в том, что мир не подчиняется человеческой логике. Может быть, у него есть какая-то своя особая, недоступная человеческому разумению логика, мы этого не знаем. Но когда человек со своими нравственными и рациональными представлениями сталкивается с миром, рождается ощущение абсурда.
Человек абсурда – это Сизиф. Как известно, герой античного мифа Сизиф был обречён богами бесконечно закатывать на вершину горы камень, который каждый раз тут же скатывался вниз. Камю считал, что примерно так же действует любой человек в нашем мире: непрестанно поднимает на гору свой камень, который потом обязательно вновь падает на прежнее место. Смерть всё обессмысливает.
Вопрос: как реагировать на абсурдную ситуацию? У Камю есть два варианта ответа и два типа абсурдного человека. Первое – это жить настоящим и не думать о том, что твой камень всё равно скатится с горы. По мнению Камю, такова жизненная позиция легендарного Дон Жуана, который живёт одним мгновением, складывает эти мгновения, не помня о конце. Его не волнует будущее. А есть другой, более возвышенный путь, который близок самому Камю, – эта идея получит затем развитие в его эссе «Бунтующий человек». Человек двигает камень вверх, зная, что камень всё равно снова упадёт, но он всё же вкатывает его на вершину, утверждая тем самым своё человеческое достоинство. Мужество человека – жить в этом мире абсурда. Ему не важно, что камень скатится. Важно, что он его поднял…
Это очень существенная мысль для ХХ века. Э. Хемингуэй, например, интересовался корридой. Для него это зрелище, старая, традиционная коррида, было некоторым прообразом искусства вообще. Когда скульптор создаёт статую, он надеется, что его творение останется после его смерти. Или поэт… Сочинив стихи, он стремится их напечатать, чтобы остался жить этот «памятник нерукотворный». А вот от сражения матадора с быком не остаётся ничего. Человек здесь утверждается в самом процессе, дальше ничего не будет, небытие всё поглотит, поэтому главное – это одержать победу…
Не так важно, сохранится ли статуя Афродиты, главное, чтобы она была найдена в мраморе…
Повесть Альбера Камю «Посторонний» (1942) – яркое художественное воплощение идей экзистенциализма. Она состоит из двух частей, повествование в которых ведётся от лица главного героя. Служащий в колониальном Алжире тридцатилетний француз Мерсо, с этого начинается первая часть, получает телеграмму, в которой сообщается, что его мать, проведшая последние годы жизни в богадельне, умерла и он должен прибыть на её похороны. Язык телеграммы какой-то уж слишком сухой и официальный. Да и сам Мерсо не испытывает особых чувств к покойной. Но он должен присутствовать на траурной церемонии. На похороны собирают и других обитателей заведения, чтобы те тоже посидели у гроба. Во время похорон у Мерсо появляется желание закурить, и он закуривает, привратник предлагает ему кофе – и он пьёт кофе. Мерсо нарушает все общепринятые нормы ритуала. Да и сами похороны, кстати, совершаются уж слишком поспешно. Очень жарко, и всё происходит с невероятной быстротой.
Возвратившись в Алжир, Мерсо отправляется на пляж. Там он встречает знакомую, бывшую машинистку из своей конторы, и они идут в кино. Мари, правда, удивляется, что, едва похоронив мать, Мерсо смотрит комедию, а потом, в тот же вечер, она становится его любовницей.
Главная фраза, которую произносит герой Камю: «Мне всё равно». Ему предлагают повышение по службе, новое назначение в Париж – ему всё равно, умерла мать – тоже, в общем-то, безразлично… Захотелось в кино – пошёл в кино. Потом Мерсо почувствовал влечение – позвал Мари к себе. Она говорит: «Давай поженимся». Он отвечает: «Давай». «А ты меня любишь?» – спрашивает она Мерсо. В ответ звучит: «Какая разница». «Но ты же хочешь на мне жениться?» «Мне всё равно»… А потом они уезжают куда-то за город, на берег моря, и там, на автобусной остановке у пляжа, Мерсо ссорится с арабами. Он не может объяснить, как всё произошло. Но было жарко, слепило солнце… Не в силах больше выносить палящий зной, он достал револьвер и выстрелил. Этим роковым выстрелом завершается первая часть. Мерсо оказывается под арестом.
Во второй части повести как бы зеркально проигрываются события первой. Идёт судебный процесс над Мерсо, застрелившим на пляже араба, судьи пытаются выстроить логику его поступка. Адвокат пытается доказать, что он – хороший, называет Мерсо честным тружеником и примерным сыном, содержавшим престарелую мать, пока это было возможно, а прокурор доказывает, как он ужасен: отправил мать в богадельню, демонстративно бесчувственно вёл себя на её похоронах, а потом и вовсе убил ни в чём не повинного. Одним словом, последний человек. По словам прокурора, Мерсо недоступны добрые чувства, неведомы никакие нравственные принципы. Слушая обвинения, Мерсо не узнаёт себя в этом рассказе. Впрочем, он не узнаёт себя ни в одной из версий, хотя всё выглядит весьма убедительно. И здесь я хочу коснуться одной важной особенности этого произведения. Она заключается в том, что в «Постороннем» Камю сумел показать, что такое, собственно, есть экзистенция.
Вторая часть повести, как я уже отметил, во многом повторяет первую. Это попытка выстроить всё происшедшее с героем логически. Вообще, суд – это игра по правилам. Но ничего не получается: Мерсо в эти схемы не укладывается, всё было не так. Никакая логика не работает. Однако поведение Мерсо здесь резко отличается от его поведения в первой части. Теперь он хочет говорить правду. Его умоляют хоть что-нибудь придумать, найти какое-нибудь оправдание, мотив, объясняющий, почему он выстрелил на пляже. Но он твердит лишь: из-за солнца, было очень жарко. Мерсо не хочет ничего объяснять. Он не желает притворяться. И его приговаривают к смертной казни.
Может быть, ему бы смягчили приговор. Конечно, он убил человека и заслуживает наказания. Но такой жестокий приговор «от имени французского народа» – обезглавливание на площади – вызван всё же поведением Мерсо на суде. Тем, что он не захотел признавать своей вины, не стал давать никаких объяснений.
И вот финал повести. К Мерсо приходит священник, чтобы исповедать его перед смертью, но Мерсо отказывается от исповеди, не желает тратить на разговоры о вечности оставшееся у него время. Он, в общем-то, считает, что его участь подобна участи любого из живущих. Все мы приговорены к смертной казни, и виновные и невинные. Для одних приговор исполнится чуть раньше, для других – позже, но вообще-то, это не имеет значения. Всего остального в жизни человека может и не быть, а вот смерть ждёт каждого…
Однако, последнее пожелание Мерсо несколько иное, чем те, что были до сих пор. Всё-таки Мерсо меняется во второй части повести. Теперь он хочет только «чтобы всё завершилось, чтобы не было мне так одиноко, <…> чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей – и пусть они встретят меня криками ненависти». (471) Прежде герою было всё равно, теперь же он хочет, чтобы его смерть была встречена криками. Всё завершается протестом.
Собственно, вторая часть повести – это вариант мифа о Сизифе. Мерсо сознательно отказывается врать. Его умоляют найти себе хоть какое-то оправдание, но он решает говорить лишь правду. Он отказывается принимать участие в предложенной ему игре. Он знает, что человек смертен, и в этом смысле ему всё равно. Но герой утверждает своё личное достоинство, сопротивляется. Он становится человеком…
Вообще, в этом романе дана некоторая формула художественного творчества. В понимании Камю творчество – это стремление воспроизвести реальность такой, какая она есть, безо всякой попытки её рационализировать или осмыслить. Такова, собственно, первая часть повести. Ведь ясно, что Мерсо описывал происшедшее уже в тюрьме, но он просто хотел вспомнить все детали, никак их не оценивая, не отыскивая никаких смысловых связей, стремился лишь передать, как всё было. Единственный смысл этих записей – как бы пережить события заново. Кстати, он очень хорошо всё помнит, каждое мгновение. И это сродни стремлению продолжить абсурдный мир в искусстве.
Но есть и другое – это попытка создать некое осмысленное целое. В этой концепции весь Камю, и в этом смысле его книга строго выстроена. Очень важная для него идея – столкновение живого и механистического, начиная со стилистики телеграммы, которую получает Мерсо, и, кончая гильотиной, которая лишает героя головы. Это живое и механистическое, по мнению Камю, сочетается в природе самого искусства, которое, с одной стороны, должно точно запечатлевать реальность, а с другой – даёт возможность осмыслить полный абсурда и бессмыслицы мир. Это конструкция, которую создает автор. В «Постороннем» это показано с необыкновенной силой.
Роман «Чума» (1947) – это чисто философское произведение Камю, связанное с идеями его трактата «Бунтующий человек». Камю считает, что существуют нравственные ценности, во имя которых человек способен на бунт. Известные слова Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую» Камю перефразирует: «Я бунтую, следовательно, мы существуем». Это значит, что человек существует, покуда в нём живёт протест, готовность утверждать высшие ценности даже ценой собственной жизни.
Действие романа происходит в Оране, французской префектуре на алжирском берегу, во время эпидемии чумы. Что касается содержания: автор описывает реакцию разных героев на охватившую местность эпидемию чумы. Хотелось бы понять: что такое чума для Камю? Это бедствие, защита от которого никому не гарантирована. Иногда считают, что Камю изобразил таким образом период фашизма, который нередко называют «коричневой чумой». Возможно, такой подтекст в произведении тоже присутствовал. Но всё же образ чумы – это нечто более общее. Это любого рода бедствие, начиная со стихийных и кончая историческими. Например, взрыв башен-близнецов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, фактически открывший XXI век, обернулся целой чередой глобальных геополитических катастроф для всего мира. И человечество не гарантировано от повторения подобных испытаний, они могут обрушиться на нас в любую минуту. Главный вопрос, поставленный в романе Камю: как себя вести в подобных обстоятельствах?
Людям не избежать жизненных потрясений, – считает автор. – Эпидемия чумы ушла, потом, может быть, вернётся снова, смертоносный вирус неподконтролен человеку и может незаметно дремать столетиями. Рассказчик в финале романа заметит: «И в самом деле, вслушиваясь в радостные клики, идущие из центра города, Риэ (главный герой этого произведения) вспомнил, что любая радость находится под угрозой. Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чём можно прочесть в книжках, – что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждёт своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придёт на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлёт их околевать на улицы счастливого города». (Перевод Н. Жарковой).
Неизвестно, что ждёт впереди – этой мыслью Камю завершает роман. Но человек должен сопротивляться. Кстати, большинство персонажей книги так и поступают, ставя себя порой в довольно сложные, рискованные ситуации. Доктор Риэ, который руководил в городе противочумными мероприятиями, приходит к выводу, что перед лицом смертельной опасности люди всё-таки проявили самые высокие, лучшие свои качества, по крайней мере, большинство из них. Бедствие показало, что «есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их».
Бернар Риэ – врач, и как врач он знает, что никого не удастся уберечь от бед и испытаний. Но его долг – лечить, делать то, что возможно… Не случайно единственный герой в романе, выживший после чумы, – это чудак Гран, сочинявший снова и снова, подобно Сизифу, одну-единственную фразу, которая должна была стать первой в его будущей книге. Он каждый раз начинал эту фразу заново, искал идеальное сочетание слов…
Франсуа Рабле когда-то сказал, что всю жизнь провёл в поисках великого может быть… Нравственные усилия и поиски – смысл и условие существования человека.
Примечания:
Рыцарский эпос
1) Здесь и далее приводится по изданию: Песнь о Роланде. Перевод со старофранцузского Ф. де Ла Барта. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1958. С. 6.
2) Там же. 18. С. 22.
3) Там же. 20. С. 23.
4) Там же. 20. С. 23.
5) Там же. 59. С. 50.
6) Там же. 63. С. 52.
7) Там же. 80. С. 64.
8) Там же. 84. С. 66.
9) Там же. 87. С. 68.
10) Там же. 88. С. 69.
11) Там же. 83. С. 66.
12) Там же. 84. С. 66.
13) Там же. 135. С. 103.
14) Там же. 8. С.14.
15) Там же. 266. С.198.
16) Там же. 291. С.217-218.
Рыцарская поэзия
17) Цитируется по изданию: Поэзия трубадуров. Поэзия Миннезингеров. Поэзия вагантов. Издательство «Художественная литература». Москва. С.47-48
18) Цитируется по изданию: Поэзия трубадуров. Поэзия Миннезингеров. Поэзия вагантов. Издательство «Художественная литература». Москва. С.511.
19) Бернарт де Вентадорн. Там же. С. 51.
20) Аймерик де Пегильян. Там же. С. 148.
21) Аймерик де Пегильян. Там же. С. 150.
22) Арнаут Даниель. Там же. С.102.
23) Песнь о Роланде. 268. С. 201).
Рыцарский роман
24) «Ивэйн, или Рыцарь со львом» (Пер. В. Микушевича). Здесь и далее приводится по изданию: Средневековый роман и повесть. Издательство «Художественная литература». Москва. 1974. С.38-39.
25) Там же. С. 39.
26) Там же. С. 89.
27) Там же. С. 90.
28) Там же. С. 92-93.
29) Там же. С. 96-97.
30) Там же. С. 98-99.
31) Цитируется по изданию: Жозеф Бедье. Тристан и Изольда. Перевод с франц. А. А. Веселовского. М: "Аргус", 1993.
32) Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль. (Пер. Л. Гинзбурга). Здесь и далее приводится по изданию: Средневековый роман и повесть. Издательство «Художественная литература». Москва. III. С.314.
33) Там же. III. С.317.
34) Там же. III. С. 319.
35) Там же. III. С. 321.
36) Там же. III. С.344-345.
37) Там же. V. С. 367.
38) Там же. V. С. 368.
39) Там же. V. С.368-369
40) Там же. V. С. 372-373.
41) Там же. V. С. 373.
42) Там же. V. С.374-376.
43) Там же. V. C.377.
44) Там же. VI. С.416.
45) Там же. VI. С.417-418.
46) Там же. V I. C. 425.
47) Там же. V I. C. 426.
48) Там же. IX. С.466-467.
49) Там же. IX. С.470-471.
50) Там же. XVI. С.578.
Литература средневекового города.
51) Здесь и далее приводится по изданию: С. М. П е т р о в, Литература позднего феодализма и раннего Возрождения (хрестоматия),М., 1930, С. 58—75. Перевод (в прозе) И. И. Г л и в е н к о.
52) Действо о Теофиле (Le Miracle De Theophile) Рютбефа (Rutebeuf), трувера XII-XIII столетия. Здесь и далее приводится по изданию: Александр Блок. Собрание сочинений в шести томах.Т. IV. М. Правда. 1971
53) Приводится по изданию: «Хрестоматия по истории западноевропейского театра» С. С. Мокульского. Москва. «Искусство» 1952. С.
54) Адвокат Пьер Патлен. Приводится по изданию: Средневековые французские фарсы. Москва «Искусство», 1981. С. 107.
55) Лохань. Приводится по изданию: Средневековые французские фарсы. Москва. «Искусство», 1981. С.215-216.
56) Там же. С.221.
57) Там же. С. 222.
Данте. «Божественная комедия»
58) В 1288 году состоялась женитьба Данте на Джемме Донати. Известны имена сыновей поэта – Иоанн, Якопо и Пьетро Алигьери, сопровождавших его в изгнании, а также имя дочери Антонии, которая после смерти Данте приняла постриг в равеннском монастыре под именем Беатриче. Якопо и Пьетро Алигьери оставили латинские комментарии к "Божественной комедии".
59) В его основу Данте кладет тосканский диалект, обогащая словами и оборотами из других диалектов, латинизмами и неологизмами.
60) «Начинается новая жизнь» (лат.)
61) Данте Алигъери. Новая жизнь. Здесь и далее приводится по изданию: Мир Данте: в 3 томах. Пер. с итал. И.Н. Голенищева-Кутузова. М. Терра, 2002. Т. 2.
62) «Вот пришел Бог сильнее меня, дабы повелевать мною» (лат.)....
63) Здесь и далее стихотворные тексты приводится по изданию: Данте Алигьери. Новая жизнь. С-Пб. Азбука.2012. С.71.
64) Приводится по изданию: Данте Алигьери. Новая жизнь. С-Пб. Азбука.2012. С.134-135.
65) Ад. Песнь тридцать вторая. 124-129. С. 152. Здесь и далее приводится по изданию: Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод М. Лозинского. Минск. 1987.
66) Ад. Песнь первая. 1-12. Там же. С. 15.
67) Ад. Первая песнь. 13-30. Там же. С.15-16.
68) Ад. Первая песнь 31-54. Там же. С. 16-17.
69) Ад. Песнь первая. 49-51. Там же. С.16.
70) Рай. Песнь тридцать третья.142-145.Там же. С. 461.
71) Ад. Песнь первая. 37-40. Там же. С. 16.
72) Ад. Вторая песнь 61-66. Там же. С. 21.
73) Ад. Песнь вторая. 46-51.Там же. С. 21
74) Ад. Песнь третья. 1-9. Там же. С. 24.
75) Чистилище. Песнь семнадцатая. 91-112. Там же. С. 237.
76) Чистилище. Песнь семнадцатая. 114-117. Там же. С. 237.
77) Чистилище. Песнь семнадцатая. 118-120. С. 238.
78) Чистилище. Песнь семнадцатая. 121-126. С. 238
79) Чистилище. Песнь семнадцатая. 127-132. Там же. С. 238
80) Чистилище. Песнь тридцатая. 121-138. Там же. С. 297.
81) Чистилище. Песнь тридцать первая. 52-60. Там же. С. 299-300.
82) Чистилище. Песнь тридцать третья. 91-93. Там же. С. 310.
83) Чистилище. Песнь тридцать третья. 94-96. Там же. С. 310.
84) бытие, латинский термин
85) Рай. Песнь третья. 79-87. Там же. С.324-325.
86) Рай. Песнь тридцатая. 22-36. Там же. С. 444.
87) Рай. Песнь тридцать третья. 67-114. Там же. С. 459-460.
88) Рай. Песнь тридцать третья.115-120. С. 460.
89) Рай. Песнь тринадцатая. 55-57. Там же. С. 368.
90) Рай. Песнь тринадцатая. 55-87. Там же. С. 368.
91) Рай. Песнь тридцать третья. 121-133. Там же. С.460-461.
92) Рай. Песнь тридцать третья. 133-138. Там же. С. 461.
93) Рай. Песнь тридцать третья. 133-145. Там же. С. 461.
94) Ад. Песнь тридцать третья. 1-4. Там же. С. 153.
95) Ад. Песнь тридцать третья. 76-78. Там же. С. 155.
96) Ад. Песнь третья. 31-51. Там же. С. 24-25.
97) Ад. Песнь десятая. 30-48. Там же. С. 53-54.
98) Ад. Песнь десятая. 49-54. Там же. С. 54.
99) Ад. Песнь десятая. 55-60. Там же. С. 54.
100) Ад. Песнь десятая. 61-63. Там же . С. 54.
101) Ад. Песнь десятая. 67-73. Там же. С. 55.
102) Ад. Песнь десятая. 73-95. Там же. С. 55
103) Ад. Песнь двадцать шестая. 91-97. Там же. С. 125.
104) Ад. Песнь двадцать шестая. 94-99. Там же. С. 125.
105) Ад. Песнь двадцать шестая. 130-142. Там же. С. 126.
106) Ад. Песнь пятая.31-39. Там же. С. 33-34.
107) Ад. Песнь тринадцатая. 28-36. Там же. С. 66.
108) Ад. Песнь тридцать вторая. 70-73. Там же. С. 151.
109) Ад. Песнь тридцать вторая.73-99.Там же. С.151-152.
110) Ад. Песнь семнадцатая. 1-12. Там же. С. 82.
111) Ад. Песнь семнадцатая. 13-16. Там же. С.82-83.
112) Ад. Песнь семнадцатая. 55-61. Там же. С. 84.
113) А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Гл. I.
Франческо Петрарка
114) Существуют свидетельства, утверждающие, что в 1312 г. Франческо Петрарке, которому тогда едва исполнилось 7 лет, в доме своего отца в Пизе довелось встретиться с Данте
115) Из «Писем о делах повседневных». Милому Сократу, вместо предисловия. Перевод с латинского В. Бибихина. Приводится по изданию: Франческо Петрарка. Лирика. Автобиографическая проза. М., "Правда", 1989.
116) Франческо Петрарка, Письмо Фоме из Мессины, о жажде ранней славы, в Сб.: Антология мировой философии: Возрождение, Минск «Харвест»; М., «Аст», 2001 г., С. 9.
117) Из "Писем о делах повседневных". Приводится по изд.: Франческо Петрарка. Лирика. Автобиографическая проза. М., "Правда", 1989
118) Тем не менее, Петрарка известен первым официально зарегистрированным восхождением на вершину горы Мон-Вантум, которую до него посещали лишь древние жители этой местности
119) На жизнь мадонны Лауры. CXXVI "Прохладных волн кристалл…". Избранные канцоны, секстины, баллады и мадригалы.
120) Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру. Перевод с латинского М. Гершензона. Приводится по изданию: Франческо Петрарка. Лирика. Автобиографическая проза. М., "Правда", 1989.
121) CXXXIV. «Есть существа с таким надменным взглядом…» Сонеты на жизнь Мадонны Лауры.
Джованни Боккаччо
122) Воспоминания о жизни Данте были оставлены племянником Данте Андреа Поцци, его близкими друзьями Дино Перини и Пьеро Джардино, его дочерью Антонией (в монашестве сестрой Беатриче) и, возможно, сыновьями Пьетро и Якопо).
123) Здесь и далее текст приводится по изданию: Джованни Боккаччо. Декамерон. Перевод с итальянского А. Н. Веселовского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. С. 27.
124) Там же. Введение. С. 30.
125) Там же. День четвертый. С. 242.
126) Там же. День четвертый. С. 243.
127) Там же. День четвертый. С. 245.
128) См.: А.Н. Веселовский. Собр. соч. Т. V. Пг., 1915. С. 452.
129) Там же. День первый. С. 35-36.
130) Там же. День первый. С. 35.
131) Там же. День шестой. Новелла десятая. С. 392.
132) Там же. День седьмой. С. 397.
133) Там же. День третий. Новелла четвертая. С. 190-191.
134) Там же. День третий. Новелла четвертая. С. 191.
135) Там же. День третий. Новелла четвертая. С. 193.
136) Там же. День пятый. Новелла восьмая. С. 344-345.
137) Там же. День пятый. Новелла восьмая. С. 347.
138) Там же. День седьмой. Новелла десятая. С. 443.
139) Там же. День седьмой. Новелла десятая. С. 444.
140) Там же. День седьмой. Новелла седьмая. С. 423.
141) Там же. День седьмой. Новелла седьмая. С. 424.
142) Там же. День седьмой. Новелла седьмая. С. 424
143) Там же. День седьмой. Новелла седьмая. С. 425-426.
144) Там же. День седьмой. Новелла седьмая. С. 427.
145) Там же. День шестой. Новелла десятая. С. 386.
146) Там же. День шестой. Новелла десятая. С. 388-390.
147 Новеллино. Серия "Литературные памятники" М., "Наука", 1984. С. 97-98.
148) Там же. День первый. Новелла третья. С.59-60.
149) Там же. День первый. Новелла третья. С.60-61.
150) Там же. День первый. Новелла третья. С. 61.
151) Там же. День первый. Новелла третья. С. 61.
152) Там же. День пятый. Новелла первая. С. 304.
153) Там же. День пятый. Новелла первая. С. 305.
154) Там же. День пятый. Новелла первая. С. 305.
155) Пер. с итальянского. М. Радуга, 1983
156) Там же. День первый. Новелла первая. С. 47-48.
157) Там же. День первый. Новелла первая. С. 49.
158) Там же. День первый. Новелла первая. С. 50-52.
159) Там же. День первый. Новелла первая. С. 53.
160) Там же. День первый. Новелла первая. С. 53.
161) Там же. День первый. Новелла первая. С. 54.
162) Там же. День десятый. Новелла десятая. С. 623.
163) Там же. День десятый. Новелла десятая. С. 629.
Франсуа Рабле
164) Гаргантюа и Пантагрюэль. / Перевод Н. М. Любимова. – М.: Гослитиздат, 1961. Издание содержит многочисленные сокращения цензурного характера, в том числе удалённые главы.
Гаргантюа и Пантагрюэль. / Перевод Н. М. Любимова. – М.: Художественная литература, 1973. Тот же перевод, но с почти полностью восстановленным текстом.
165) Здесь и далее текст приводится по изданию: Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод с французского Н. М. Любимова. М. "Правда", 1991. Книга первая. Глава VI. С. 37.
166) Там же. Книга первая. Глава XXVII. С.86.
167) Там же. Книга первая. Глава XLIV. С.122.
168) Там же. Книга четвертая. Глава LVI. С 570.
169) Там же. Книга первая. Глава XI. С.48-49.
170) Там же. Книга первая. Глава LII. С. 139.
171) Там же. Книга первая. Глава LVII. С. 147.
172) Там же. Книга вторая. Глава XVI. С. 211-213.
173) Там же. Книга третья. Глава IX. С. 303-305.
174) Там же. Книга третья. Глава X. С. 305.
175) Там же. Книга третья. С. 274-275.
176) Там же. Книга третья. С. 276.
177) Там же. Книга четвертая. Глава LVII. С. 571-573.
178) Там же. Книга четвертая. Глава LX. С. 582.
179) Там же. Книга пятая. Глава XXII . С. 653.
180) Там же. Книга пятая. Глава XLV. С.710.
181) Там же. Книга пятая. Глава XLII . С. 707.
182) Там же. Книга пятая. Глава XLVII . С. 716.
183) Там же. Книга первая. Глава XXIII . С. 74.
Литература английского Возрождения. Творчество Шекспира
184) Илья Гилилов. «Игра об Уильяме Шекспире, или тайна Великого Феникса».
185) Matteo Bandello, novella Giulietta e Romeo (Перевод с итал. Н. Георгиевской) В кн.: Итальянская новелла Возрождения. Издательство "АВС", Самара, 2001
186) «Ромео и Джульетта», пер. с английского Б. Пастернака. Здесь и далее приводится по изданию: Вильям Шекспир. Избранные произведения. Художественная литература. М., 1953. С. 40.
187) Там же. С. 32
188) Там же. С. 46
189) Там же. С. 46
190) Там же. С. 60
191) Там же. С. 61
192) Там же. С. 41
193) Там же. С. 42
194) Там же. С. 47
195) Там же. С. 54
196) Там же. С. 45
197) Там же. С. 68
198) Там же. С. 63
199) Там же. С. 77
200) Там же. С. 78
201) Там же. С. 55
202) Приводится по изданию: ПСС в восьми томах. М., "Искусство", 1959, т. 5. Перевод М. Зенкевича
203) Там же. С. 483
204) Там же. С. 520
205) Там же. С. 511
206) Там же. С. 526.
207) Там же. С. 556.
208) «Гамлет». Перевод Б. Пастернака. Здесь и далее приводится по изд.: Вильям Шекспир. Избранные произведения. Государственное издательство художественной литературы, Москва. 1953. С. 257.
209) Там же. С. 257.
210) Там же. С. 240-241.
211) Там же. С. 272.
212) Там же. С.248.
213) Там же. С.248.
214) Там же. С. 240.
215) Выготский Л.С. Психология искусства. 1968. Глава VII.
216) Там же. С. 294.
217) Там же. С.261.
218) Там же. С. 254.
219) Там же. С. 262.
220) Там же. С. 261.
221) Там же. С. 240.
222) Там же. С. 262.
223) Там же. С. 263.
224) Там же. С. 279.
225) Там же. С. 280.
226) Там же. С. 297.
227) Приводится по изданию: Д. Самойлов. Избранные произведения в двух томах. М. Художественная литература. 1990. Т.I. С. 122.
228) «Король Лир», пер. с английского Б. Пастернака. Здесь и далее цитируется по изданию: Вильям Шекспир. Избранные произведения. Художественная литература. М., 1953. С. 369.
229) Там же. С. 371.
230) Там же. С. 373-376.
231) Там же. С. 385.
232) Там же. С. 395.
233) Там же. С. 395.
234) Там же. С. 395.
235) Там же. С. 394.
236) Там же. С. 409.
237) Там же. С. 410-411.
238) Там же. С. 393.
239) Там же. С.374-376.
240) Там же. С. 386.
241) Там же. С. 386.
242) Там же. С. 371.
243) Там же. С. 409.
244) Там же. С. 409.
245) Там же. С. 410.
246) Там же. С. 410.
247) Там же. С. 411.
248) Там же. С. 417.
249) Там же. С. 422.
250) Там же. С. 422-423.
Сервантес. «Дон-Кихот»
251) С. 228
252) Там же. С. 476
253) Там же. С. 236
254) Там же. С. 613-614
255) Там же. С 378
Культура XVII века
256) Донн Д. Стихотворения. Л., 1973. С. 150
Театр испанского барокко
257) «Фуенте Овехуна» Перевод М. Лозинского. Здесь и далее цитируется по изданию: Лопе де Вега Избранные драматические произведения. Государственное издательство «Искусство». Москва, 1955. С. 63-64
258) Там же. С.99
259) Там же. С. 122-124
260) Там же. С 126-127
261) Там же. С 69-70
262) Там же. С. 146
263) «Собака на сене». Перевод М.Лозинского. Здесь и далее цитируется по изданию: Лопе де Вега. Избранные драматические произведения. Государственное издательство «Искусство». Москва, 1955. С513.
264) Там же. С.563-564
265) Там же. С.583-584
266) Там же. С.631
267) Там же. С.631
268) «Звезда Севильи». Пер. Т. Щепкиной-Куперник. Там же. С.290.
269) Там же. С.294-295.
270) Там же. С.300.
271) Там же. С.324-325
272) Там же. С.325-326
273) Там же. С.342
274) Там же. С.349
275) Там же. С.351-352
276) Там же. С.343-344.
277) Там же. С.346.
278) Там же. С.362.
279) Там же. С.364-365.
280) Там же. С.373.
281) Там же. С.381.
282) Там же. С.383.
283) Там же. С.383.
284) Там же. С.385.
285) «Жизнь – это сон» Перевод с испанского И. Тыняновой. Здесь и далее цитируется по изданию: Педро Кальдерон. Пьесы. Том I. «Искусство». Москва, 1961. С. 475-476
286) Там же. С.494.
287) Там же. С. 514
288) Там же. С.517
289) Там же. С.536
290) Там же. С.536
291) Там же. С.537
292) Там же. С.539.
293) Там же. С. 538
294) Там же. С.545
295) Там же. С.548
296) Там же. С.548
297) Там же. С.549
Драма эпохи классицизма
298) «Сид». Перевод М. Лозинского. Здесь и далее приводится по изданию: Пьер Корнель. Избранные трагедии. Государственное издательство художественной литературы. Москва,1956. С.13
299) Там же. С.14
300) Там же. С.14
301) Там же. С.14
302) Там же. С.15
303) Там же. С.15.
304) Там же. С.41
305) Там же. С. 43.
306) Там же. С. 74
307) «Гораций», трагедия в пяти действиях. Перевод Н. Рыковой. Там же. С.79
308) Там же. С.92
309) Там же. С.118
310) Там же. С.120
311) Там же. Действие четвертое. Явление пятое. С.121
Сочинения французских моралистов
312) Здесь и далее цитируется по изданию: Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры. Издательство «Художественная литература. Москва. 1974. С. 32
313) Там же. Блез Паскаль. Мысли. Перевод Э. Линецкой. С.169.
314) Там же. С.176.
Расцвет драмы классицизма
315) Расин. «Андромаха». Перевод А. Оношкович-Яцыной. Здесь и далее цитируется по изданию: Библиотека мировой драматургии. Французский театр. Москва, АРТ. 1995г. С.210
316) Там же. Действие пятое, явление второе – с. 229. Действие четвертое, явление третье – с. 217.
317) Там же. С.232
318) Там же. С.190-191
319) Там же. С.224-225
320) Там же. С. 219.
321) Там же. С.231-232
322) Там же. С. 232.
323) Здесь и далее цитируется по изданию: Жан Расин. Трагедии. Издательство «Наука». Ленинград, 1977. «Федра». Перевод М. Донского. С.247
324) Там же. С.250
325) Там же. С.251
326) Там же. С.254
327) Там же. С.255
328) Там же. С.267
329) Там же. С.267-268
330) Там же. С.268-269
331) Там же. С.284-286
332) Там же. С.286-287
333) Там же. С.294
334) Там же. С.297
Комедии Мольера
335) Мольер «Тартюф». Перевод М. Донского. Здесь и далее цитируется по изданию: Французский театр. Издательство «АРТ», Москва, 1995.
336) Там же. С. 376
337) Там же. С. 382.
338) Там же. С. 382-383.
339) Там же. С. 400.
340) Там же. С. 401.
341) Там же. С. 418-419
342) «Дон Жуан или Каменный гость». Перевод А. В. Федорова. Ж.Б. Мольер. Собрание сочинений в двух томах. Т. 2. М., ГИХЛ, 1957.
Культура XVIII века
343) Руссо Жан-Жак. Рассуждение о науках и искусствах // Руссо Ж.-Ж. Избр. сочинения в 3 т. Т 1. М., Гос. издательство худ. литературы, 1961
344) Перевод с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова. Цитируется по изд.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998.
345) Руссо. Исповедь. Перевод Д. А. Горбова, M. Я. Розанова.
346) Цитируется по изданию: Юрий Лотман. Карамзин. Издательство «Искусство—СПБ»,1997 г.
Гёте. «Фауст»
347) Приводится по изданию: Иоганн Вольфганг Гете. Избранные произведения в двух томах. Том II. М., "Правда", 1985
348) Здесь и далее приводится по изд.: Гете. Фауст. Перевод Б. Пастернака. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1953. С. 45.
349) Там же. Пролог на небе. С. 46-47.
350) Там же. С.47-48
351) Там же. С.49
352) Там же. С. 49.
353) Там же. Первая часть. Ночь. С.53-54.
354) Там же. Первая часть. Ночь. С. 54.
355) Там же. Первая часть. Ночь. С. 58-59.
356) Там же. Первая часть. Ночь. С. 58-59.
357) Там же. Первая часть. У ворот. С. 81.
358) Там же. Первая часть. Ночь. С. 65.
359) Там же. Первая часть. Ночь. С. 67.
360) Там же. Первая часть. Ночь. С. 69.
361) Там же. Первая часть. Ночь. С. 68.
362) Там же. Первая часть. Рабочая комната Фауста. С.86)
363) Там же. С.90.
364) Там же. С. 90.
365) Часть первая. Рабочая комната Фауста. С.104-105.
366) Часть первая. Рабочая комната Фауста. С.104.
367) Вторая часть. Горные ущелья, лес, скалы, пустыня. С 575
368) Там же. Часть первая. У ворот. С.81
369) Там же. Часть первая. Рабочая комната Фауста. С.107
370) Там же. Часть первая. Кухня ведьмы. С.148.
371) Там же. Часть первая. Сад. С.177
372) Там же. Первая часть. Лесная пещера. С. 184
373) Там же. Первая часть. Лесная пещера. С. 186-187
374) Там же. Первая часть. Пасмурный день. Поле. С. 237.Там же. Первая часть. Пасмурный день. Поле. С. 237-238.
375) Там же. Первая часть. Пасмурный день. Поле. С. 237-238.
376) Там же. Первая часть. Тюрьма. С. 243-245.
377) Там же. Первая часть. Тюрьма. С. 246-247.
378) Там же. Первая часть. Тюрьма. С. 249-251.
379) Там же. Первая часть. Тюрьма. С. 155.
380) Там же. Первая часть. Сад Марты. С. 195.
381) Там же. Вторая часть. Акт первый. Красивая местность. С. 258
382) Там же. Вторая часть. Акт первый. Красивая местность. С. 259
383) Там же. Вторая часть. Акт первый. Красивая местность. С. 259
384) Там же. С.262
385) Там же. С.263.
386) Там же. Вторая часть. Акт первый. Темная галерея. С. 319
387) Там же. Вторая часть. Акт первый. Темная галерея. С. 321-322
388) Там же. Вторая часть. Акт первый. Рыцарский зал. С. 332
389) Там же. С. 460
390) С 469
391) С.481-482
392 Там же. Акт третий. Внутренний двор замка, окруженный богатыми причудливыми строениями средневековья. С.476
393) С.478-479
394) С.480.
395) Там же. Акт пятый. Открытая местность. С.532
396) Там же. С.535
397) Там же. Акт пятый. Втроем за столом в саду. С.534-535
398) Там же. Акт пятый. Глубокая ночь. С. 543
399) Там же. Акт пятый. Глубокая ночь. С. 545
400) Там же. Акт пятый. Полночь С.547
401) Там же. С.549
402) Там же. С.550
403) Там же. Акт пятый. Полночь. С.550
404) Там же. Акт пятый. Большой двор перед дворцом. С. 554
405) Там же. Акт пятый. Большой двор перед дворцом. С.554-555.
406) Там же. С. 554
407) С. 554
408) Там же. Акт пятый. Горные ущелья, лес, скалы, пустыня. С.575
Эпоха романтизма
409) Новалис. Гейнрих фон Офтердинген. – Петроград: Гос. изд-во, 1922 ("Всемирная литература"). Проза в переводе Зин. Венгеровой, стихи в переводе Вас. Вас. Гиппиуса.
410) Здесь и далее приводится по изданию: Москва. «Альфа-книга». 2013.Перевод с немецкого Вл. Соловьева С. 228
411) Там же. С.230
412) Там же. С.231.
413) Там же. Перевод А. Морозова.
414) Здесь и далее приводится по изданию: Джорж-Гордон Байрон. Избранные произведения в двух томах. «Художественная литература». Москва. 1987. «Паломничество Чайльд-Гарольда». Поэма. Перевод В. Левика. Т. I. С. 156
415) Там же. Т. I. С. 181-182.
416) Там же. Т. I. С. 173.
417) Там же. Т. I. С. 207.
418) Там же. Т. I. С. 353.
419) Там же. Т. I. С. 354-355.
420) Там же. Т. I. С. 355.
421) Там же. Т. I. С. 358-359.
422) Там же. Т. II. Каин. Мистерия. Перевод И. Бунина. С. 11
423) Там же. Т. II. С.16.
424) Там же. Т. II. С.20.
425) Там же. Т. II. С.63-64.
426) Там же. Т. II. С.69-70.
427) Там же. Т. II. С.75-76.
428) Там же. Т. II. С.76-78.
429) Там же. Т. II. С.80.
430) Там же. Т. II. С.26.
431) Там же. Т. II. С.56.
432) Там же. Т. II. С.10.
433) Там же. Т. II. Дон-Жуан. Поэма. Перевод Т. Гнедич. С. 276
434) Там же. Т. II. С. 302
435) Там же. Т. II. С. 624
436) Там же. Т. II. С. 646-647
437) Там же. Т. II. С. 626-627
438) Там же. Т. II. С. 280
439) Там же. Т. II. С. 339
440) Там же. Т. II. С. 336-338
441) Там же. Т. II. С. 363-364
442) Там же. Т. II. С. 374-375
443) Там же. Т. II. С. 388
444) Там же. Т. II. С. 583-584
445) Там же. Т. I. С.303-305.
446) Вальтер Скотт. «Айвенго». Перевод Е.Бекетовой
447) В.Гюго. «Собор Парижской богоматери». Перевод Н. Коган. Здесь и далее текст приводится по изданию: АСТ Москва, Хранитель. 2007.
448) Стендаль «Красное и черное». Перевод С. Боброва, М. Богословской. Здесь и далее приводится по изданию: Издательство: АСТ, Астрель. 2011 г.
Реализм в литературе XIX века
449) Бальзак О. Шагреневая кожа. Эжени Гранде. Отец Горио / Послесл. С. И. Белзы, перевод Н. И. Соболевского. – переизд. – М.: Молодая гвардия, 1987.
450) Чарльз Диккенс. Посмертные записки пиквикского клуба. Роман. Перевод А.В. Кривцовой и Е. Ланна
451) Ч. Диккенс. Приключения Оливера Твиста. Перевод А. Кривцова Издательство: АСТ, Москва, 2010 г.
452) Чарльз Диккенс. Рождественские истории. Перевод: М. Клягиной-Кондратьевой, Т. Озерской. Издательство: АСТ, Астрель, 2011 г.
453) Цитируется по изданию: собрание сочинений в тридцати томах. Под общей редакцией А. А. Аникста и В. В. Ивашевой. Государственное издательство художественной литературы. Москва 1959. Том тринадцатый. Перевод с английского А. В. Кривцовой).
Литература второй половины XIX века
454) Здесь и далее текст приводится по изданию: Гюстав Флобер. Госпожа Бовари.
Перевод Н. М. Любимова. АСТ, Астрель, 2011 г.
Европейская «новая драма»
455) Здесь и далее приводится по изданию: Ибсен Г. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1956. «Бранд». Драматическая поэма в пяти действиях. Перевод А. В. Коваленского.
456) Здесь и далее приводится по изданию: Генрик Ибсен. Собрание сочинений в 4-тт., «Кукольный дом». Перевод А. и П. Ганзен. М.: Искусство, 1957.
457) Здесь и далее приводится по изданию: Генрик Ибсен. Собрание сочинений в четырех томах. Том третий: Пьесы 1873-1890. «Привидения». Перевод А. и П. Ганзен. – М.: изд-во "Искусство", 1957.
Поэзия французского символизма
458) «Из бездны взываю» (лат.).
459) Приводится по изд.: Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2.:
Стихотворения. Переводы / Сост., подгот. текста и коммент.
А. Саакянц и Л. Мнухина. – М.: Эллис Лак, 1994, с. 396 – 401.
460) Издательство Московского Университета. 1993 г
461) Морис Метерлинк. Пьесы. «Непрошеная». Издательство «Художественная литература». Москва.1972. С.349.
462) Там же. «Слепые». С.381-382.
Литература XX столетия
463) Пруст М. Против Сент-Бёва: Статьи и эссе. – М.,1999.
464) Здесь и далее приводится по изданию: Т. Манн. Тонио Крегер. Перевод Н. Ман. Москва. Художественная литература. 1983.
465) Здесь и далее приводится по изданию: Т Манн. «Доктор Фаустус». Перевод С. К. Апт, Н. Манн. Москва. АСТ. 2007.
466) Т. Манн. Письмо Вальтеру фон Моло. 7 сентября 1945 г. Перевод С. Апта.
467) Приводится по изданию: Б. Шоу. Полное собрание пьес в шести томах. Т.I. Ленинград. «Искусство». 1978. С.111, 131-132
468) Здесь и далее текст приводится по изданию Б. Шоу. Пьесы. Москва. Издательство «Правда».1982. «Дом, где разбиваются сердца». Перевод С. Боброва.
469) Здесь и далее приволится по изданию: Герман Гессе. «Игра в бисер». Перевод с немецкого Д.Каравкиной и Вс.Розанова. Редакция перевода, комментарии и перевод стихов С.Аверинцева. Издательство "Художественная литература", Москва, 1969.
470) Собственные сочинения Йозефа Кнехта. Стихи школяра и студента.
471) А. Камю. Сочинения. «Посторонний». Перевод Н. Немчиновой. М., Прометей. 1989.
Об авторе:
Владимир Яковлевич Бахмутский (1919-2004) – известный филолог, заслуженный деятель искусств РФ. Выпускник московского Института философии, литературы и истории (ИФЛИ). Изначально научные интересы В.Я. Бахмутского были связаны с историей французской литературы XVII–XVIII веков, с эпохой европейского Просвещения. Читал курс латыни, лекции по зарубежной литературе в педагогических вузах Ярославля, Рыбинска, Костромы.
С 1959 года преподавал в Москве, во ВГИКе, где с середины 80-х заведовал кафедрой, с 1997 года – секцией литературы в рамках объединённой кафедры эстетики, истории и теории культуры. Составитель, автор вступительных статей и комментариев книг «Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры», «Voltaire. Romans et contes», «Вольтер. Эстетика», «Спор о древних и новых», автор монографий («Отец Горио» Бальзака», «В поисках утраченного»), научных публикаций в энциклопедиях (КЛЭ, БСЭ), в сборниках и изданиях классической литературы, в журналах «Вопросы литературы», «Иностранная литература» и т. д. В 2005 году была издана книга «Пороги культуры», в которую вошли избранные работы разных лет. В 2013 году в издательстве ВГИК опубликована книга «Время первых», в которой представлены лекции В.Я. Бахмутского, посвящённые истории античной литературы.
В оформлении обложки использован фрагмент перенесённой на холст фрески Донато Браманте Heraclitus and Democritus, 1477. Pinacoteca di Brera, Milan
Благодарим региональный общественный благотворительный фонд «Московский детский фонд» и лично Председателя правления Е.А. Фонарёву за помощь в подготовке книги к публикации.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
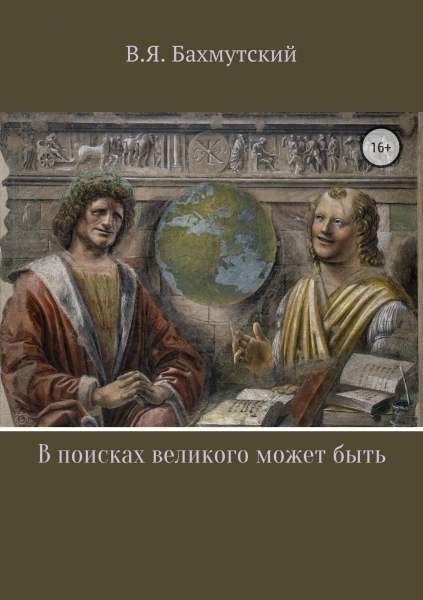

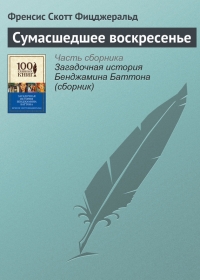
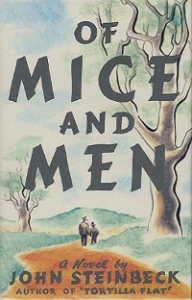
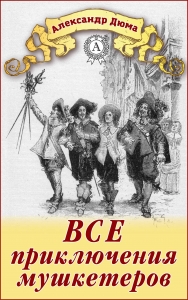
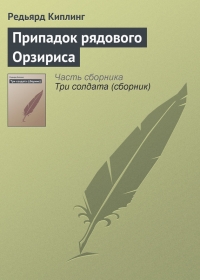
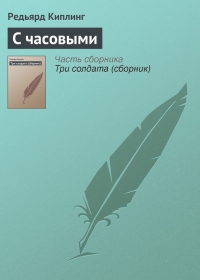


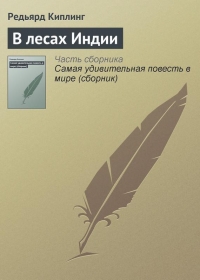
Комментарии к книге «В поисках великого может быть», Владимир Яковлевич Бахмутский
Всего 0 комментариев