Эдмон Гонкур, Жюль Гонкур Шарль Демальи
I
– Статью? Ты спрашиваешь, можно ли сделать статью из моей истории? Помилуй, да ребенок шести лет с завязанными глазами сочинил бы из неё комедию в стихах! Сцена первая: фойе Comédie-Franèaise… понимаешь… дом Мольера… Тальма… воспоминания… монологи, там, где Цезарь говорит со Скапеном, где Мельпомена берет веер у Талии, где, где… да этому конца нет! Перейден к нескромностям: Провост и Ансельм, играющие в шашки, ingénue, требующая мороженого, привратник, оказывающийся князем, наследником Тосканы, и мадмуазель Фикс, заставляющая его краснеть из-за того, что он сам не разоблачил себя, «Общество выкупа пленных»…
– Это еще что за общество?..
– Ты не знаешь его? Однако, это тайное общество… Угадай, кто обитает в фойе Comédie-Franèaise?.. Моллюски! Это ужасно! Раз они пристали, кончено. они вас увлекают в сокровенность своего разговора… Положим, мужчина или женщина, для моллюсков это все равно, Го, если хочешь, или мадемуазель Рикье, задетые Фраппаром или Бенстом, английским автором… очень хорошо! Член общества прибегает: извините! Я должен вам сказать одно слово… Спасен! говорит другой… И вот, что такое Общества выкупа пленных!.. На эту тему можно сочинить строк пятьдесят… Затем идут картинки фойе.
– Потом?
– Потом, потом? Ты выставляешь свою жену: знаменитую актрису… Ты ее не называешь… ты говоришь только: наша Селимена… Это никого не компрометирует!.. Наша Селимена; играла кудрями одного великого поэта… Тут инициал поэта… Надо непременно назвать поэта, иначе можно смешать его с простым смертным, пишущим стихи… Ты начинаешь диалог: «О, мой поэт, говорит Селимена, почему вы не пишете более ваших восхитительных комедий, которые только вы одни умеете так писать? За вашу роль, где мне было бы пятнадцать лет, я отдала бы десять лет моей жизни!.. Тут ты можешь вставить словцо: Селимена, вы от этого только выиграли бы. Перейдем к поэту. Поэт пообедал; он храпел в продолжение часу один в ложе на восемь мест, он выпил, и как выпил… Он мог бы написать эпическую поэму, а он говорит как негр. Заставь его говорить как негра, публика это любит, это напоминает ей «Павла и Виргинию!» – «Я… пьесу?.. Я… комедию!.. работать? Дома невозможно!.. Грязно… ничего не найти… повсюду зубные щетки… работать!.. Слишком грязно!.. – Но если вас поместить в хорошенькой, красиво убранной квартирке? – О!.. Божественно… на мебели нет гребенок… обстановка… очиненные перья… пьесу!.. две пьесы!.. три пьесы!.. Сколько угодно! До завтра!.. – Артистка с улыбкой жмет руку поэта… Поэт точен как часы. Он пробует кресло: в нем можно заснуть, даже не читая!.. Стол, белая бумага, перья, чернила!.. «Если б были сигары, вздыхает поэт, тут было бы все для того, чтобы писать!» Селимена посылает за двумя ящиками сигар. Наступает час завтрака. «Ах, – говорит поэт, – я должен покинуть вас… я буду завтракать с приятелями… мы заболтаемся… невозможно… день пропадет!» – «Поставьте два прибора», приказывает Селимена прислуге и затем обращается к поэту: вы будете завтракать здесь, неправда ли? Что вы любите? – «Все, кроме жареной курицы и бордоского вина». Вечером новые жалобы поэта: «послушайте, если я уйду к себе, я приду только завтра, после завтра только встану… и…» – «Хотите я велю вам сделать постель в гостиной?» – «Нет я боюсь ночью один, а вы?..»
Одним словом, к концу недели пьеса готова. Она переписана.
– Ах, – вдруг восклицает поэт, – дайте мне ленту, Бога ради, мне надо одну из ваших лент! Вот хоть эту! У меня такая привычка – связывать мои рукописи шелковой ленточкой… это глупо, но что делать!
Селимена дает ленту, делает бант и поэт несет свою пьесу… другой Селимене из Théâtre Franèais!
Теперь можешь назвать это: Повесничанье мужчин – и дело в шляпе!
Все это говорилось в комнате, оклеенной голубоватыми, пожелтевшими от дыма сигар, обоями. На стенах не было никаких украшений, кроме вешалки с хрустальными розетками для шляп и огромной литографии, приклеенной четырьмя облатками: она изображала процессию фигур с огромными головами, направлявшихся к Пантеону, где Надар раздавал живым награды Потомства. Все украшение камина состояло из трех свертков папиросной бумаги. Большой стол, покрытый зеленым сукном, стоял посреди комнаты. Восемь стульев вокруг и диван в углу – одни напоминали о благосостоянии дома своим красноречивым видом новой мебели красного дерева, с красной шелковой обивкой.
II
В этой комнате, которая была конторой редакции газеты «Скандал», сидело пять человек.
У одного были белокурые волосы, небольшой лоб, черные брови и глаза, небольшой нос прямой и мясистый, завитые белокурые усы, маленький рот, чувственные губы и пухлое лицо, обличавшее в молодом человеке наклонность к полноте.
Другой был молодой человек лет тридцати четырех, маленький, коренастый, с плечами Венсенского охотника, с налитыми кровью глазами, рыжей бородою и передергивающимся лицом, напоминавший горбуна. Он имел вид хищника мелкой породы.
Женские волосы, женский рот, вздернутый нос, мальчишеский взгляд, паяснические жесты, довольство жизнью – все это самому молодому придавало вид херувима и школьника на каникулах.
Несколько седых прядей, зачесанных с затылка волос, скрывали желтый череп самого старого. Глаза его были бесцветны и бездушны: они не глядели; а немое лицо его скрывалось за реденькой желтоватой бородой.
Пятый ничем не выделялся. Он был недурен собой, красив как всякий причесанный, завитой, вылощенный и вычищенный, как всякий, носящий бородку и лорнет.
Первый, небрежно одетый, с расстегнутым жилетом, подписывал статью, каллиграфически переписанную; его звали Молланде.
Второго, всецело погруженного в стуканье по стене большой линейкой, звали Нашет.
Третий, торжественно из бумаги делавший петушка, назывался Кутюра.
Четвертого, разрезавшего спичкой новый том, звали Мальграс.
Пятый – Бурниш; опершись на камин, он смахивал мизинцем левой руки белый пепел сигары.
Молланде, Нашет, Кутюра, Мальграс и Бурниш составляли редакцию «Скандала». Они были его постоянные сотрудники, его официальная опора, столпы, которые поддерживались еженедельно партизанами, составителями книг без работы, водевилистами без сотрудничества, всей этой летучей армией малой прессы.
Эти пять человек, прислушивавшиеся к бронзовому зеву Парижа, жившие за кулисами всех общественных ступеней и в кухне всяких реклам, знавших, что причиняет рану мужчине или седой волос женщине, эти пять человек работали в «Скандале» не только для того, чтобы доставить удовольствие себе и другим. Ни один не был тем добродушным скептиком, изображенным на виньетке маленькой газетки, которая заставляет плясать под звуки тамбурина важных фигляров и почтенных шутов. Они преследовали в своей газетке другую цель, кроме денег: карьеру, различные мечты и вожделения своего тщеславия, самолюбий и темпераментов. Каждый из них скрывал в себе человека и цель.
Молланде, хитроумный, ядовитый, себе на уме и деликатный, не заносившийся высоко, но чуткий, с порывами, когда представлялась в том надобность, зубастый, восхитительный пародист, великий человек по части шутовской критики и цинической эстетики; этот Молланде, родившийся в Париже под статуей Паскена, со склонностью к иронии и гением мелких статей, начитанный, почти ученый, с огромной памятью, мечтал бросить эту жизнь изо дня в день, это гаерство мысли, которое так быстро изнашивает самых сильных и молодых. В глубине души этот литературный зубоскал был буржуа, жаждавший почета, положения и мещанского счастья. Он желал быть семьянином и вкушать от плодов собственности. Он добивался покоя, тунеядства, мирной обеспеченности лавочника, составившего себе состояние и удалившегося от дел.
Вся его чувственность заранее расцветала при мысли о любви под шумок, о вкусных домашних блюдах, о блаженном и законном удовлетворении своих инстинктов. Он мечтал о том дне, когда, сняв с себя платье, закапанное чернилами, он приобретет дом с зелеными ставнями, деревеньку à la Поль-де-Кок, где будет играть роль деревенского судьи!.. Пред ним проносилось будущее во всем его опереточном величии, и он забывал все: настоящую необеспеченную жизнь, учтенные авансы, неверные обеды, отказанный кредит, неоплаченные долги, плохое вино и сомнительные пирожки.
Насколько грезы Молланде были мелки, и стремились к осуществимым идеалам Горация и Жерома Патюро, настолько тщеславие Нашет, погоняемое его 34-мя годами, влекло его к случайностям и опасностям.
Однажды, владелец маленькой виллы в Вогезских горах вошел к своему поверенному, мэтру Нашет, чтобы заплатить ему издержки по одному незначащему процессу. Список издержек показался ему несколько велик.
– Я пришлю его вам по таксе, назначенной председателем суда, – сказал Нашет.
Он прислал и счет был заплачен. По какому-то делу помещик был отозван в Эпиналь и, говоря с председателем суда, близким его семейству, вспомнил:
– Однако вы меня пощипали прошлую неделю!
– По какому делу? – спросил председатель.
– Робино и Вердюро.
– У нас не было этого дела.
– Но, господин председатель, у меня есть ваша подпись! Мне ее представил Нашет, мой поверенный.
– Нашет? Вот уже месяц как я не оценивал ни одного его дела… Пришлите мне пожалуйста ваш список издержек.
По получении списка председатель Дюпере попросил Нашет в свой кабинет.
– Милостивый государь, – сказал он, показывая ему счет, – вы знаете, куда это ведет?.. Я не пошлю вас туда; но вы дадите мне слово, что продадите вашу контору в шесть недель.
Нашет поклонился, вышел и не думал продавать. К концу шести недель Дюпере напомнил ему об его обещании, Нашет стал ему говорить о ликвидации дел, о вознаграждении клиентов и кончил тем, что стал просить отсрочки еще на шесть недель. Дюпере дал ему отсрочку. По выходе из суда, Нашета видели на прогулке с Ганьером, первым клерком адвоката Ланглуа; это был человек работавший как лошадь, какие до сих пор попадаются в провинциальных конторах, без гроша в кармане, отчаявшийся когда-либо приобрести нотариальную контору, и осужденный оставаться первым клерком на вечные времена. По истечении шести недель, Дюпере, видя, что Нашет не продает, начал ему угрожать; Нашет отвечал, что он не продаст, так как председатель не имеет доказательств, и на этом раскланялся. Дюпере позвонил, велел принести из канцелярии дело Нашета, но его не оказалось; Дюпере возбудил преследование, но его пришлось прекратить за неимением улик. Нашет сохранил свою контору. Несколько времени спустя Ганьер купил контору своего патрона. Весь Эпиналь говорил по секрету, что Ганьер получил 30.000 франков от Нашета за уничтожение знаменитого списка издержек.
Несколько месяцев спустя толки в обществе, шум, вызванный этим делом и разорение его опустевшей конторы, заставили Нашета удалиться из этой местности. Он исчез, бросив свою жену, дочь толстого соседнего фермера, беременной; все её богатство заключалось в маленьком домике с 1.200 франков аренды, который он не успел продать.
Но скандалом процесса и побегом мужа дело не ограничилось, к удовольствию злых языков провинциального городка; все смеялись над забавными выходками этой крестьянки, воображавшей себя дамой, которая принимала визиты после родов, лежа, в шляпке из Парижа! Сын адвоката Нашета, едва ставши мужчиной, с первым пушком молодости, кое-как дотянув до конца ученье в коллеже Нёшато, бежал из родного города, где над ним тяготело прошлое его отца, преследуемый, как он думал, ненавистью магистратуры, где ему мешали его имя и его мать! Оскорбленный, уязвленный с детства, преследуемый злопамятством и вечными насмешками над после родовой шляпкой его матери, что более всего приводило его в бешенство, он бежал в Париж, унося в себе месть Кориолана.
В Париже он отыскал Ганьера. Ганьер, участвовавший в какой-то ростовщической афере, расстроенный правосудием, угрожаемый крестьянами, которых он разорил и, наконец, невыгодно продавший свое дело, открыл на набережной Grands-Augustins книжную лавчонку, куда вложил последние шесть или семь тысяч франков, спасенных от разорения. Нашет поступил в Ганьеру приказчиком на 25 франков в месяц с квартирой и столом. Приходя с улицы Guéri il-Boisseau, он отдыхал и жадно проглатывал библиотеку своего патрона, пичкая себя безнравственными романами и порнографическими книжками, которые тайком продавал Ганьер.
Он жил один, угрюмый, хмурый, забившись в своем углу и пугаясь самого себя, когда он чувствовал несоразмерность своих желаний и сил, и спасаясь, как он называл, от искушения, от жажды роскоши, колясок, женщин, словом, всего, что составляет парижскую жизнь. Наконец, однажды, он окунулся во все удовольствия и стал проводить в них каждую ночь. Он принялся за ремесло танцора в Шато-Руж и Валентино, танцуя с восьми до одиннадцати часов вечера за порцию говядины и литр вина. Случайно он встретился со своим земляком молодым рисовальщиком Жиру. Жиру повел его в свою мастерскую, посмеялся над ним и над его лавкой, посвятил его в свое ремесло и, пораженный его остроумием, уговорил писать. Жиру поставлял иллюстрации одному крупному издателю. Представленный Жиру, Нашет получил от издателя поручение составить несколько реклам. Рекламы Нашета «подошли» издателю, и он поставил его во главе обширной отрасли своего учреждения реклам, объявлений в журналах, всего, что делает успех. Монеты в двадцать, двадцать пять и даже в сто франков начали сыпаться в карман бывшего приказчика книжной лавочки. Нашет, по своему ремеслу шефа клаки, поставленный в соприкосновение с людьми и их самолюбиями, которых он был обязан рекомендовать публике долго пописывал в разных маленьких мертворожденных листках, потом втерся в «Скандал», где целый ряд его статеек, едких и остроумных, заставил тотчас же оценить его.
Живой, нервный, самоуверенный ум этого молодца быстро освоился с этой шумной жизнью, с этим звяканьем особого жаргона, с этим миром, где всякое вранье со свободой кокотки и с видом благодушного распутства прогуливается от одного в другому на крыльях насмешки, уподобляясь ласкам того хищного животного, которое лижется до крови. Раз набив руку, увлекаемый своей натурой, Нашет дошел до крайностей, развернулся в шутках и задевал всех и каждого, как бы желая испробовать всю глубину его чувствительности и терпения, узнать сильного и оседлать слабейшего. Из-под этой грубости вранья устного или письменного пробивались порывы и выходки характера неспокойного, недовольного, грусть, тысячи задеваний щепетильности и капризы, требования и прихоти куртизанки. Раздражавшийся малейшим препятствием, выходивший из себя от самых обыденных житейских неудач, приходивший в ярость на трактирных гарсонов, на людей, на извозчичьих лошадей, грозивший кулаком небу и земле, Богу и своему портье, Нашет был одним из тех несчастных, которые жадно бросаются на все, не находя ни в чем удовлетворения. Перед каждой мечтой, которой он достигал, на каждой ступени, на которую поднималось его честолюбие, он останавливался только для того, чтобы пожалеть о своих усилиях, унизить и затоптать свою победу, как поступают дети, которые секут свою игрушку за то, что, распотрошив ее, они не нашли в ней ничего. Склонный к разочарованию, как все порывистые беспорядочные, непоследовательные натуры, Нашет не умел создать серьезного произведения, которое требует от писателя строгости и веры в себя, постоянства религии и надежд. Опьяненный своими дебютами в «Скандале», Нашет отдал зараз все свои эффекты, все свои силы.
Опустошив до конца классические этюды, эту обетованную землю, где все Антеи современного фельетона черпают свои силы и воображение, Нашет начал грызть ногти перед листом белой бумаги. Он посещал кафе, кабачки, пивные, подозрительные места парижского дебоша, раздражая, подзадоривая свой мозг, стараясь разогреть свое вдохновение гамом слов, парадоксами, всяческими насилиями иронии.
Все говорило в этом человеке о неутолимой и яростной жажде шумных, гордых, выставленных на показ наслаждений, как те амуры, торчащие на окне какого-нибудь ресторана на Итальянском бульваре, тех наслаждений тщеславием и авансценой, для которых поверенным является общественное любопытство, трубой хроника, честолюбием унижение партера. Нашет жадно бросался на эти удовольствия и вызывающе обращался к своему родному городку, посылая отдаленным отголоскам насмешки прошлого то любезное письмо знаменитого критика, то приглашение на бал к банкиру, то свою остроту, иллюстрированную знаменитым карикатуристом и напечатанную в каком-нибудь журнале. И когда парижане, читая свою газету в своих постелях, спрашивали себя, чего это так сердится маленький Père Duchène, Нашет в мечтах видел свою знаменитую особу входящим в подпрефектуру; его встречали поклонами, он не кланялся никому; он обедал у подпрефекта; вечером на бале у г-жи Гранпре, – он бывал на балах у г-жи Гранпре! – он ни на кого не обращал внимания и сухо отвечал г-же Гранпре:
– Я не танцую.
А когда мадемуазель Гранпре поэтически описывала ему месяц май, он отвечал, поправляя галстук:
– Май месяц? Я обожаю его, сударыня, в Париже: вечером становится так светло, что можно различить личики гризеток, выходящих из магазинов…
Кутюра, ребенок, школьник, пустозвон, делатель мыльных пузырей, вытаскивавший стулья из-под людей, этот Кутюра, с виду такой взбалмошный, невинный, чуждавшийся всяких задних мыслей, обладал железной волей, холодной, глухой, страшной, как тот парламент, который желает сделаться третьим сословием, или как та секта, которая желает быть религией. Наблюдательность была его самой выдающейся чертой; благодаря ей он с детства видел все сквозь наружную оболочку. Он с любопытством относился ко всему, что человек в общежитии скрывает, и открывал у каждого, с верностью второго зрения, его тайну, недостаток, дурные инстинкты, дурной поступок, употребляя свои открытия, чтобы войти в доверие, и пользуясь вынужденными признаниями, чтобы держать людей в руках, стараясь, впрочем, никогда не доводить дело до крайностей. Часто, болтая с женщинами, он умел их заставить говорить и находил в них самую лучшую полицию, тем более, что они этого и не подозревали. Отлично владеющий собой, умеющий заглушать свои симпатии и антипатии, подавлять свои порывы, равнодушный к людям, как к пешкам, ловкий в эксплуатировании каждого в свою пользу, в чаду литературной полемики готовый всегда пожертвовать местью для мирного договора, добрым словом для друга, и своим тщеславием для своего будущего, Кутюра имел мало друзей; но он сумел их сделать вполне преданными, помогая им, смотря по надобности, своим пером, своей сметливостью и шпагой.
Обладая в совершенстве опытностью малой прессы, её тактом и изворотливостью, наукой оттенков в значении слов, умея сделать из рекламы сатиру, и так похвалить нападая, что автор был польщен такими нападками, он имел достаточно хладнокровия, чтобы дать отраву и ранить до крови только людей, стоявших ему поперек дороги. Всегда прикрываясь шаржем, обезоруживая зависть, Кутюра, казалось, придавал своим произведениям цену импровизированной насмешки, предоставляя новичкам усердствовать и увлекать, сам умел остановиться в разгаре полного успеха, с редкой способностью управляя своим талантом и вдохновением; всего остроумнее он бывал в плохих номерах летом, когда воды и морские купанья делают Париж таким пустым, и маленькие листки такими скучными.
Этот человек с тайной радостью и смеясь про себя, умел прятать свое лицо и надевать маску и так тонко лицемерить, что другие считали его ни во-что; он любил втравливать Нашета в удовольствия и утомлять его в оргиях, где разыгрывался его темперамент, и откуда Нашет выходил с тяжелой и пустой головой и сухим горлом, и находить на другой день в газете свою месть, подписанные Нашетом свои удары, свои нескромности, проскользнувшие у него как будто под влиянием вина. Кутюра находил удовольствие считаться как бы эксплуатируемым Нашетом, тогда как он им вертел по своей воле и прикрывался им в тех случаях, когда не хотел выставлять своего имени.
Посредством женщин, которых он ласкал, играя в серьезную с одними, забавляя других, умея приобрести себе повсюду приятелей, он проник в мир лореток; вращаясь в их кругу, он сблизился с банкирами, с богатыми иностранцами, знал все их отношения, находился в сердце этой Капуи, где только миллионер – человек, где золото опьяняет, делает авантюристов и заставляет поддаваться случайностям.
Кутюра спасался от некоторого неуважения, какое дает привычка к этому миру, посещением другого мира, честной буржуазии, куда ему также удалось втереться, и где он играл роль салонного кавалера.
Этот молодой человек одним прыжком втирался в вашу интимность; на завтра он уже был с вами на «ты», и все это с таким увлечением, так мило и так непоследовательно, что вы относились к нему снисходительно. Задевал ли он вас? Он забегал вперед, смеялся над собой и афишировал вашу дружбу. Неутомимый, вертевшийся тут и там, он заводил новые знакомства, разжигал рекламу, не брезгал ничем, пользовался всевозможными средствами, бывал на раутах и на всех балах в Chaussée d'Antin, встречал зиму, встречал лето, показывался даже там, где надо прятаться, всегда тут как тут, на проходе других, которые его окликали, узнавали, кланялись ему и указывали на него, Кутюра разрешил невозможную проблему быть европейским человеком в Париже.
Все эти способности, все эти происки Кутюра клонились в одному: он мечтал завести большую газету.
Большая газета, воображаемая Кутюра, была последним словом, высшим развитием маленькой газеты. Увеличив её формат, учетверив рекламы, сделав ежедневной и вечерней газетой, помещая на первой странице беспристрастное резюме политических новостей и краткий обзор утренних газет, а на последней, – подробный биржевой курс, осведомленный и сообщающий о всем, Кутюра избавлял свою большую-маленькую газету от различных ученых, земледельческих, полемических, экономических статей, и наполнял ее парижскими известиями полнее, пикантнее, остроумнее и новее, чем все настоящие и прошлые вестники; затем, предполагались политические известия из Лондона и из всех столиц, чередующиеся с новостями светскими, клубными, из мастерских художников, театральными, биографическими, психологическими, словом, собранием известий почти со всех частей света.
Эту газету, рассчитанную на обширную публику, на всю ту публику, которая в газетах оставляет без внимания серьезные статьи или читает их, чтоб чем-нибудь наверстать свои подписные деньги, по прошествии нескольких лет, когда она сделалась бы важной газетой эпохи, Кутюра намеревался предложить правительству.
Если бы власть досталась какой-нибудь революции, Кутюра сорвал бы маску, придал бы газете определенный колорит и с помощью её занял бы какое-нибудь высокое политическое или финансовое положение. В продолжение двух лет Кутюра работал как крот. Деньги и лица, дающие деньги на предприятие, были готовы, несколько писателей, необходимых для газеты – испытаны. Он завел корреспонденцию со всей Европой. Английские лорды обещали ему сообщать политические тайны. Он напоил до пьяна трех немецких дипломатов, которые не побрезговали злословить по-французски. Актрисы, приглашенные в Петербург, должны были выведать для него все о России. Великолепные итальянские сеньоры обязались поставлять ему статьи об итальянском обществе и театрах. И все это гнездилось в этом человеке под видом шутки, каламбура, фарса, паясничества, гаерства и ребячества.
Мальграс, дядя Мальграс, как его звали, бил человек лет сорока пяти, только и говоривший что о своей жене, его единственной любви, умершей очень молодой, и о детях, оставленных ею, его единственных друзьях. Он болтал о святости домашнего очага, о родительских обязанностях, о фамильной чести, о счастье воспитывать этих маленьких созданий в уважении и любви к виновнику их существования, развивая их добрые инстинкты и первые проблески совести. Его медоточивое и слащавое красноречие походило на речь Робеспьера пропущенную через святую воду. На его языке постоянно вертелись слова: долг человека, социальные обязанности, теория самопожертвования, нравственное достоинство, – и все это холодным тоном, медленно и плавно, голосом ровным и без тембра, который, казалось, исходил из деревянного нёба. Когда мораль дяди Мальграса спускалась с неба на землю, он оплакивал легкость нравов, и суетность жизни своих компаньонов по газете. Мальграс прямо говорил о вещах, называя порок своим именем, и доходя до цинизма отцов церкви, но всегда ровным голосом, не сердясь и не волнуясь. В его сладких манерах и приторной вежливости проглядывало презрение квакера, попавшего в шайку хвастунов. Довольный судьбой, счастливый в своей посредственности, строгий к себе и другим, он иногда смеялся при рассказах о различных несчастиях; это был странный смех, внутренний, нервный, бесшумный, который вместе с однообразным и точно мертвым голосом наводил почти ужас.
Кутюра, близко изучивший Мальграса и с любознательностью физиолога отыскивавший Эпиктета в каторжнике, или целомудрие в актрисе, Кутюра находил в этом тартюфстве дьявольскую подкладку, какую г-н де-Мэстр приписывает французской революции. По его мнению, дядя Мальграс в качестве журналиста и человека был редкостью, одним из феноменов, драгоценных для науки, которую они освещают, сбивая ее с толка; если верить Кутюра, Мальграс любил зло за зло. Кутюра объяснял это разочарованиями жизни, его годами и сознанием своего возраста, неудачами тщеславия, заботами о приближающейся необеспеченной старости, подавленными скрытыми страстями, разнузданностью его воображения, нестерпимой робостью перед женщиной, хроническим катаром желудка, который запрещал ему малейшее излишество в питье и в еде, словом, всевозможными бедами, сделавшими из него нечто среднее между желчной старой девой и желчным писателем.
Что касается Бурниша – это был человек, способный сделать из газеты все что угодно. Не было статьи, не было работы, какой бы он не был способен сделать. Он перескакивал от тартинок на водах в Эмсе к разбору стихов, от отчета о скачках в Булонском лесу к отчету об аукционах в отеле Друо, от биографии только что гильотинированного в «утке» в пользу теста Обриль. Сочиняя все, что угодно, пристегиваясь к чужим идеям, вращаясь во всевозможных мирах, он в конце концов потерял способность сознавать свое собственное «я». Бурниш превратился в какой-то поток метафор и забавных подражаний, которые в его разговоре так и сыпались, точно шутки раешника на деревенской ярмарке. Бурниш наивный, добродетельный и легковерный, несмотря на свое ремесло, почти женатый, – так как у него была любовница, готовившаяся быть матерью, – служил предметом постоянных насмешек интимного кружка «Скандала». Его мистифицировали, безжалостно подтрунивали над ним, так что он скоро выучился лягаться, как осел в басне. Потом, оглядевшись, он увидел столько людей, всячески оскорбляемых, что его достоинство утешилось сознанием унижения своего ближнего, так что при каждом щелчке, дававшемся кому-нибудь «Скандалом», Бурниш гордо преисполнялся уважением к себе.
III.
Мелкая пресса была тогда силой. Она стала одним из тех способов владычества, какие внезапно выдвигаются на сцену переменой нравов нации. Она создавала карьеру, положение, влияние, имена, людей, – и почти великих людей. Народившаяся в духе роялистов Ривароля, Шансене, Шамфора, она сперва совсем не имела успеха. «Скандальная хроника», маленький журналец 1789 года, привела своих издателей к банкротству, изгнанию, самоубийству, эшафоту. Их наследники во времена Директории, редакторы «Thé» и «Journal des Dix-huit» не были счастливее. Восемнадцатый фрюктидор сослал в Каейну французскую юмористику. Только во времена Реставрации и при июльском королевстве мелкая пресса начала выходить на дорогу; но это была еще проселочная дорога. Тем, кто попадал на нее, надо было многое: счастье, обстоятельства, ум, презрение к предрассудкам века, и все это для того, чтобы достигнуть анонимной известности. Мелкая пресса того времени, не выходившая из пределов кафе, публичных заведений, кабинетов для чтения, довольствовавшаяся только своим кругом, не распространялась в публике. Она не проникала вместе с «Constitutionel» в крут буржуа, игнорировалась в семьях, исключена была из домашнего очага. Ничего не прибавляя к литературной личности своих сотрудников, она не могла и обогатить их: в самых ловких руках подписка достигала от 800 до 1200 подписчиков. Но в 1852 году, общественная мысль, внезапно лишенная своих ежедневных волнений, стольких зрелищ и полей битвы, где боролись гнев и восторги, осужденная на молчаливое спокойствие после шумных боев мысли, красноречия, самолюбий, после стычек политических, литературных и артистических партий, собраний и кружков, общественная мысль томилась бездействием. Эта мысль, для которой вся жизнь заключается в лихорадке, и которая постоянно нуждается, как любовница, в ласке и заботах о себе, которая в промежутках между революциями, в антрактах между парламентскими дебатами, спорами из-за школ, столкновениями церковными, вопросами европейского равновесия, ищет себе пищу во всем и хватается за акробатство, сплетни, за сенсационные процессы, за вертящиеся столы; эта мысль Франции в один прекрасный день прицепилась к хвосту собаки Алкивиада! При победе людей и вещей новой власти, воспрещавшей общественному мнению заноситься в выси и в область гроз, все общественное мнение превратилось в любопытство. Все внимание общества сосредоточилось на сплетнях, злословии, клевете, жажде сальных анекдотов, унижении личности, рабской борьбе зависти – одним словом, на всем, что ослабляет честь каждого в сознании всех. При таких условиях мелкая пресса удивительно поддерживалась и поощрялась сообщничеством публики. Она мстила её богам, освобождала от её восторгов. Эти беспардонные насмешки сопровождали малейшее торжество, точно брань античного раба; эти «Облака» бичевали успех всякого дела или имени; эта еженедельная пытка таланта, труда, завоеванного счастья, законной гордости; это побивание камнями слишком продолжительных популярностей, как поступают с стариками у океанских племен; эта схватка самолюбий лакомили Париж радостями Рима и Афин, прелестями остракизма и цирка. Мелкая пресса льстила и щекотала этим одну из самых низменных страстей мелкой буржуазии. Она поощряла нетерпимость к неравенству личностей перед интеллигенцией и репутацией; давала оружие её злобе скрытой, но живучей и глубокой против привилегий мысли. Она утешала зависть и подкрепляла её инстинкты и предрассудки против новой аристократии, в обществах без каст, против аристократии литературы.
Новые элементы, вошедшие в литературный мир за последние десять лет, только помогали процветанию малой прессы. Новая порода умов без предков, без всякого запаса, без отечества, свободных от всяких традиций, появилась в рекламах и гласности. Изображенная в прекрасной книге: «Путешествие вокруг монеты в сто су» одним из своих же, эта богема, погоняемая нуждой, глядела на искусство не так, как предыдущее поколение, люди тридцатых годов, из которых почти все, и лучшие из них принадлежали в достаточной буржуазии: современная богема в мечты честолюбия внесла нужды жизни, её потребности задушили её верования. Осужденная на бедствование понижением литературной платы, богема роковым образом кинулась в малую прессу, которая нашла в ней совершенно готовую армию, голодную, оборванную, действующую из-за хлеба. Желчность, голод, досада, встреча с успехом, который проходил мимо, не замечая их, любовницы без косынки, очаг без огня, книга, не находящая издателя, перенесение всего в ломбард, угрожающие долги, придавали богеме страшную ненависть пролетария, и в движении, которое бросило ее к «Скандалу», было нечто похожее на штурм общества и как бы эхо от крика 16-го апреля 1848-го года: «долой перчатки»!
Все таким образом благоприятствовало успеху мелкой прессы, она стала тем, чем хотела быть, – успехом людей, модой, правительством, хорошей аферой. Ее выкрикивали на бульварах, разбирали в кафе, цитировали женщины, читали в провинции. Дохода с её объявлений хватало на то, чтобы сделать её редакторов жирными как каплуны, нашпигованные луидорами. Перед ними все дрожало: автор за свою книгу, музыкант за свою оперу, художник за картину, скульптор за свой мрамор, издатель за свое объявление, водевилист за свое остроумие, театр за сбор, актриса за свою молодость, разбогатевший за свой покой, кокотка за свои доходы…
В этом владычестве мелкой прессы было нечто худшее чем её тирания; оно причинило гораздо большее несчастие высшего порядка, гораздо худшие и более продолжительные последствии. Литературное движение 1830 года во Франции создало большую публику. Оно научило отечество Буало и Вольтера, развивая вкус и гений, переводя Шекспира и Пиндара, жить в мире поэзии, лиризма и фантазии, сделало его аудиторией и своим соучастником в свободной фантазии и прекрасных порывах идеи.
Мелкая пресса понизила этот интеллектуальный уровень. Она понизила публику. Она понизила читающий мир, даже самую литературу, выражая улыбкой Прюдома одобрение вкусам Франции.
IV
Мальграс завладел разговором. Он утопал в многословии, которое было его потребностью. Он говорил об общей посредственности, о второстепенных талантах дня, о дурной нравственности современных произведений.
– Не логично ли это вполне, не есть ли это нечто неизбежно роковое, Бурниш, – один только Бурниш обладал терпением слушать Мальграса, который избирал его постоянной жертвой своего красноречия – да, не фатально ли, что ослабление существенных истин и нравственного порядка, упадок здравомыслия, и забвение принципов влечет за собой ослабление, скажу больше, гибель дара творчества, фантазии? А когда злоупотребление парадоксами, Бурниш, и то, что я называю недостатком уважения к интеллигенции, вкореняется в сердце поколения, каждый раз, как в обществе благоговение к идеям, контролируемым рассудком и поддерживаемым традициями…
– Очень ты был пьян вчера, дядя Мальграс? – прервал его Кутюра.
– Господин Кутюра, – отвечал Мальграс с достоинством, – я вам не давал никакого права обращаться ко мне на «ты»… У меня нет привычки пить.
– Я с тобой говорю на «ты»… с уважением, во-первых; а потом, что ты надоедаешь нам со своими скучными идеями… точно жилы тянешь, право! Бурниш даже посинел, слушая тебя!
– Правда!.. Бурниш!.. Бурниш! Ему сейчас сделается дурно.
И Нашет насильно дал понюхать Бурнишу коробку с серными спичками.
– Бурниш, – продолжал Кутюра, – я запрещаю тебе слушать Мальграса! Он тебе все уши прожужжит своим высоким слогом, несчастный!
– Вы все шутите, господин Кутюра, – сказал Мальграс, – но о чем я говорил, однако…
– Темно!.. Совсем темно, дядя Мальграс! – сказал Кутюра, опуская штору у окна, так что в комнате стало совершенно темно.
– Когда вы не будете более молоды…
– Осветим рассуждение.
И Кутюра поднял штору.
– Ты не выносим, Кутюра, со своей шторой! – сказал Молланде, – дай же мне читать!
– Что ты читаешь?
– Четвертое издание книги Бюргарда.
– Знаем мы эти четвертые издания, – проговорил Нашет, – все деньги, вырученные от первого издания, идут на объявления, переходят ко второму, и т. д….
– Господа, – сказал Молланде, – Бильбоке, прежде чем умереть в объятиях ангела Рекламы, указал на обетованную землю десятку молодцов, которых я не называю…
– Поди сюда, Нашет, – сказал Кутюра, – предположи, что тебя зовут… что ты англичанин, и ты говоришь очень плохо по-французски; предположи, что ты путешествуешь, ища спокойствия сердца; предположи, что ты приезжаешь в гостиницу и что хозяин гостиницы…
– Бурниш, сюда!.. Ты будешь хозяином! предположим, что хозяин спрашивает тебя, чего ты желаешь, и ты говоришь ломая французский язык: la paix di cûr; предположи, хозяин понял, что ты спрашиваешь pédicure… Молланде, подойди! Ты будешь мозольный оператор… Нет ничего не выходит… Нас мало… Жаль…
– Сколько должно быть? – спросил Бурниш.
– Тридцать девять…
V
Дверь конторы отворилась. Вошел человек высокого роста, худой, с военной осанкой, седой с почти белыми усами, в узких панталонах, с газетами в руках.
– Отлично! – проговорил он, подходя к Мальграсу и мимоходом бросая газеты на стол, – скажите мне пожалуйста, что вы тут делаете?.. Ведь чёрт возьми! Если б меня тут не было! Раз только не сунешь нос в газету…
– Мосье Монбальяр, – тихо сказал Мальграс. Человек в узких панталонах был Монбальяр, издатель «Скандала».
– Целых три дня как приехала итальянская певица, и до сих пор ей не предложено услуг. Это стыдно, честное слово!
Мальграс хотел отвечать: «в будущий отъезд, я…»
– Не торопитесь! Знаете ли вы, господин Мальграс, что газета должна бежать на встречу этим женщинам, и ухаживать за их матерями, при их отъезде? Сколько новой подписки?
– Пять.
– Пять! Только пять, в такой день. Скоро нам придется издавать газету из чести… А что маклеры?
– Ничего, со вчерашнего дня, – проговорил Мальграс.
– Вышвырните их за дверь… А объявления?
– Страница занята.
– Нумер готов? Что в нем есть? Передовая статья? Грендю принес свою статью? о родинках Парижа?
– Я не видал, – отвечал Мальграс.
– Грендю? – сказал Молланде, – разве вы не знаете? Он уезжает; он получает шесть тысяч франков в год, чтобы сопровождать на Восток хорошо пожившего молодого человека.
– Это глупо, – проговорил Монбальяр, – он так хорошо пошел, этот Грендю; он разжигал публику… Как! сделаться нянькой!.. А я-то мечтал его вывести на дорогу к славе, он бы вошел в моду, у меня прибавилась бы подписка; я ему было устроил одно дельце с одним славным молодым человеком… Это что? Корректура?
И Монбальяр взял пакет со стола.
– Да, – отвечал Мальграс, – вот вам весь номер в порядке.
– Плохой номер! – проговорил Монбальяр, перелистывая его. – Это ничего не выражает, ничего не затрагивает… Те, которых задевают в нем, отлично проспят сегодняшнюю ночь!.. А это что за глупость?
– Это стихи, – проговорил Мальграс, – знаменитого поэта… выдержки из его новой книги…
– А, – произнес Монбальяр, – я не прочел…
– Подписи, – проговорил вполголоса Молланде.
– Хорошо, тем хуже! – продолжал Монбальяр не слыша, – будем скромны эту неделю; но за то следующую мы выпустим блестящий номер! Мы низвергнем одного тенора, миллионера, актрису… и одного друга… Мы скажем про тенора, что он жиреет, про миллионера, что у него нет ни гроша, про актрису, что она старшая сестра своей матери. про друга, что мы его не знаем. Ты займешься этим, Нашет.
– Читали вы эту статью? – обратился Молланде к Монбальяру, – они вас жестоко язвят.
– Да, это один мальчик, желающий попасть к нам.
– Все же он ловко вас поддел, Монбальяр, – возразил Нашет.
Монбальяр пожал плечами.
– Пускай себе кричат. Я делаю свое дело. Ведь я плачу вам? И даже дороже, чем следует. Тогда что же? Зачем мы говорим о кокотках? А публика не говорит о них?.. Зачем мы критикуем все без разбора? А публика не критикует так же. Я освистываю тех, кого освистывают другие; тех, которые пользуются успехом, я муссирую. Мы не газета, мы – барометр. Никаких школ, никаких партий, никакой котерии; полное беспристрастие!.. Мы – публика, вот что мы такое! Или вы думаете, что публика, бросившая венок иммортелей мадемуазель Марс, поступила по-джентльменски? Она перехитрила немного даже «Скандал»!.. Скажут, что мы отбиваем хлеб от этих крикунов! Смеюсь над этим!.. И все это из-за каких-то шести сот несчастных подписчиков, которых они собрали чуть ли не силой!..
VI
Милостивые государи, – проговорил красавец собой, молодой человек, входя, – ваш слуга. Мое почтение собранию великих людей!
– Флориссак!
– Мы думали, ты умер!
– Дядя Мальграс уверял, что ты умер в своих владениях… в Блиши!..
– Фи! – воскликнул Флориссак, – я готов драться на дуэли в подтверждение того, что отлично себя чувствую.
– Так, значит, ты путешествовал вокруг света?
– Или вокруг самого себя, это гораздо дольше, – и Флориссак развалился на диване; освященный солнцем, с закинутой головой, с белокурыми волосами, которые как бы утопали в солнечном свете, он походил на Эндимиона.
– Что с тобой, Флориссак?
– Со мной? Ничего. Мне кажется, у меня сегодня меньше гения, чем вчера.
– Скажи же, дружок, – проговорил Монбальяр, – что новенького в свете?
– Ничего нет нового, кроме ново-отделанных шляп и новой совести… Солнце продолжает освещать мир. Это светило пользуется, право, странной долговечностью; оно походит на наших родителей.
– Говори за себя, Флориссак, – сказал Кутюра резким голосом. – Ты знаешь, я не люблю таких разговоров!
– Умолкаю: я уважаю все мнения, даже свои собственные.
– Да ну же, Флориссак, – снова заговорил Монбальяр, – ты должен знать кучу новостей…
– Я? Все что хотите! Со вчерашнего дня в моде зеленые платья с черным и зеленым бархатом… На Montagnes Eusses госпоже *** представили счет в сорок тысяч франков. Муж её в восторге, он боялся, что у неё совсем нет долгов. Нет, правда, вы воображаете, что я много знаю?
– А разве нет? – проговорил Монбальяр.
– Милый мой, вы, кажется, думаете, что я родился на палатях, в болотистом Валлийском кантоне, от тамошнего уроженца с зобом и привратницы? Флориссак, что ты знаешь? И я вам буду даром показывать изнанку карт, оборотную сторону великих людей, открывать альковы, выворачивать на изнанку халаты, злоязычничать, заглядывать в замочные скважины и выведывать тайны Полишинеля! По теперешней публике, это все равно, что наличные деньги! Ах, если бы я не писал своих мемуаров…
– Ба! Вот забавно! Ты пишешь мемуары? Пожалуйста, покажи их нам!..
– Забавно, как совет ревизии! Я в них разоблачаю более народу, чем могу.
– У него всегда острота на языке, – сказал Монбальяр, принявшись писать.
– Милый мой, только один народ умеет делать бритвы и издавать газеты. Вот здесь болтают, рассказывают, собирают справки… В Лондоне человек, получающий жалованье, какое у нас идет префекту, просто приходит поболтать в редакцию газеты от 4 ч. до 5; он приносит материал, идеи, остроты, новости, словом все, что ты стараешься украсть у всякого встречного.
– Почему же ты не подражаешь?
– Милый мой, я смотрю на литературу, как на насильственное правление, которое держится только крайними мерами… А затем, желаю вам покойной ночи, – и Флориссак развалился на диване.
– Ты будешь спать? Какая глупость, – сказал Бурниш.
– Спать – глупость?!.. Бурниш, ты не умеешь жить!
– Если ты будешь спать, я прочту тебе завтрашний номер, – сказал Кутюра.
– Я его читал вчера… Я уверен, м-сьё Мальграс, что вы не воображаете, что я могу сделать глупость большую чем другие?.
– Я не из нескромных, м-сьё Флориссак.
– М-сьё Мальграс, в своей жизни я написал одну статью…
– «Последняя мысль жирного быка», – сказал Молланде.
– Да. Она была великолепна. Я был… одним словом, я был автором «Последней мысли жирного быка». Но люди несовершенны. Я имел глупость написать вторую статью… Бурниш, знаешь ли ты, к чему ведет вторая статья? К третьей, мой друг!.. Ах, я лишился прекрасного будущего!.. Потомство скажет обо мне: это был ремесленник!.. Однако, я вам сказал, что я из Неаполя? Вы не знаете? Я влюблен как гитара!.. В итальянскую танцовщицу… она немка… Я привез ее с собой. Ах, вы не можете себе представить, что такое багаж танцовщицы! Двенадцать дюжин туфлей, ребенок… Был момент, когда она хотела привезти и мужа!
– А ты кто? – спросил Нашет.
– Я собираюсь быть любовником: я целую на шее ребенка местечко, где были её поцелуи.
– Что вы будете делать в тридцать лет, м-сьё Флориссак? – произнес с ударением Мальграс.
– О, я отлично сохранюсь, – отвечал Флориссак, играя кистью подушки на диване.
VII
– А! Поммажо!.. Господа, настоящий светский Поммажо! – вдруг закричал Кутюра, увидав маленького человечка, довольно потертого, входившего в контору, подняв свою голову, точно святые дары.
Этого человечка сопровождал верзила-парень, длинный и худой, во всем существе которого, начиная с шляпы и кончая сапогами, проглядывало что-то ужасно жалкое и вместе с тем глубоко убежденное.
– Да здравствует Поммажо! Реализм был в Поммажо и Поммажо в реализме! Долой фразы! Сожжем поэтов! Да здравствует Поммажо! Поммажо, сын истины! Затмивший Бальзака! Этот господин твой друг? Это видно! Господа! Поммажо и его друг, Бог и его народ, так начинается Библия. Увенчаемся прозой и выполним эластические позы!
И Кутюра, танцуя, вертелся вкруг Поммажо…
– Ты кончил? – сказал Поммажо, и отстранив Кутюра, подошел к Монбальяру:
– Монбальяр, представляю вам человека будущего… мой друг Супарден.
Супарден поклонился спине Поммажо.
– Он принес вам маленькую новеллу. Я читал ее: это глубоко изученная вещь!.. Очень хорошо написана!
– Гм, гм! Новелла, это нам не подходит. А что это такое?
– «Любовные похождения подателя святой воды». Супарден знал их троих и все списал с натуры. Вы увидите, – сказал Поммажо, кладя рукопись рядом с Монбальяром.
– Если это вам не годится, он может написать что-нибудь другое: хотите, он принесет вам целую серию статей о фантазерах?
– Господин Супарден, – сказал Флориссак, вполовину повертываясь на диване и открывая один глаз, – я автор «Последней мысли жирного быка». Я пришлю вам своих секундантов.
Супарден остался недвижим. Он разглядывал воротник сюртука Поммажо.
– Сколько хочешь, – сказал Монбальяр, обращаясь к Поммажо, – ты знаешь, у меня нет литературных мнений.
– Есть у вас место в воскресном номере?
– Ты глуп! Место всегда есть… Зачем тебе?
– Вы меня через-чур поддели в прошлое воскресенье, знаете ли вы это?
– Я?.. Ах, да, это Шоз написал уже в типографии… Я не проглядывал… Я сказал ему.
– Дело в том, что я принес письмо в ответ и…
– Один столбец… Хорошо, – сказал Монбальяр, – я для тебя оставлю столбец.
– Ах, – вздохнул Поммажо.
– Не воображай, что я позволяю нападать на людей твоего таланта только для удовольствия уколоть!.. Ответ на нападки, да это лучшая статья журналиста! Он ее сглаживает, старается… и она всегда удается!.. И потом, платит не надо, понимаешь? О, я знаю как вести газету!.. Чёрт возьми, – прибавил он, пробегая глазами статью, – твой ответ это целый трактат о принципах. «Время воображения прошло», в «Судебной Газете» больше поэзии, чем у Гомера… «Стиль – вещь условная…»
– Что если он думает все это, – сказал Кутюра Бурнишу, – что если он думает? Пожалуй, он на это способен… Поммажо, неправда ли, ты думаешь…
– Я думаю, – произнес Поммажо оживляясь, – что всему этому ложному романтизму конец, я думаю, публике довольно сладких фраз; думаю, что поэзия есть бурчание живота; думаю, что любители словечек и эпитетов искажают национальный мозг; я думаю, что истина есть истина и все обнаженное есть искусство; что дагеротипные портреты походят…
– Это парадокс! – крикнул Флориссак.
– Я думаю, что не надо писать, вот!.. Я думаю, что Гюго и другие только испортили роман, истинный роман, роман Ретиф де-ла-Бретона, да! Я думаю, что надо засучить рукава и порыться в швейцарских и в идиотизме наших буржуа: талантливый писатель найдет там для себя новый мир; я думаю, что гений – это стенографическая память… я думаю… я думаю… вот что я думаю. Очень жаль, если это кому-нибудь не нравится.
И Поммажо сделал презрительный жест, который Супарден повторил за его спиной.
– Он говорит, как одна из его книг, – сказал Флориссак.
– Ах, знаешь, Нашет, – сказал Монбальяр, – я у тебя выкину двадцать строк.
– Скажите пожалуйста, вы только это и делаете! Вы мои статьи принимаете за ничто; это меня раздражает наконец! Потому что я прошлую неделю не протестовал… Что же будет на этот раз в газете?
– Во-первых, передовая статья Демальи…
– Это продолжение? Вот скучища-то! Статьями Демальи занимают публику!
– Все же ты ни за что не напишешь такой статьи, как его «Парижский порок…» Когда он выдохнется, будь покоен… Хотите я вам скажу правду: он вам мешает.
– Мне? – сказал Флориссак, – я не читаю его.
– Талант дилетанта, – проговорил Молланде.
– Он не знает французского языка, – сказал Нашет.
– Дело в том, – сказал Бурниш, – что у него есть изречения…
– Авторские изречения, – засмеялся Кутюра, – это правда, его слог напичкан авторскими изречениями.
– Он мог бы заняться чем-нибудь другим вместо литературы, – прошипел Мальграс в сторону.
– Ваш Демальи! – сказал Поммажо, – но все говорят, что у него ничего более нет, он весь выдохся.
VIII
– Вы говорили обо мне? – сказал Шарль Демальи, входя ни кем незамеченный. – В другой раз я кашляну при входе; так, по крайней мере, можно быть уверенным, что женщину застанешь одну и не услышишь похвалы друзей. На чем вы остановились? Продолжайте пожалуйста, не стесняйтесь! Смейтесь! Что вы говорили? Что я идиот, кретин, скотина… Но мы только и делаем, что говорим друг другу подобные комплименты!.. за глаза. Я знаю, где я: редакция мелкой газеты… и лакейская не конкурируют для академических речей. Да, я пишу в газеты… я пишу статьи и острю – я играю на органе и на кларнете… Есть вещи, которые я подписываю: подписывая их, я знаю, что в них меньше безнравственности, чем в воздушном пироге… Самое низкое ремесло, друзья мои! Вы совершенно правы; моя совесть уже давно мне твердит об этом; вы ей вторите, я вам очень благодарен. Чёрт возьми! Неужели вы думаете, я дошел до этого сразу?.. Я уже достиг лет, когда играют трагедии в Одеоне. Я хотел сидеть в своем углу, написать книгу… У меня были иллюзии, идеи… Скажите пожалуйста, вы меня принимаете за писателя? Полноте, я извозчичья лошадь! Коснитесь их, друзья мои, – и Шарль протянул обе руки, – коснитесь их, вы стоите меня!
– Милый мой…
– Но, Демальи…
– Уверяю тебя!..
– Кто? Ты? Ты, Флориссак? Но что же ты сделал? Долги, остроты и веревочные лестницы… Ты написал один роман в своей жизни, отлично, только я люблю больше Фоблаза! Ты, Нашет? А какие заслуги за тобой? Статьи; а перед тобой? Статьи!.. Только потому, что ты делаешь все, что касается твоего ремесла, нельзя быть таким строгим. Ты? несчастный – и Шарль повернулся в Поммажо, – прошлый раз я тебя изобразил великим человеком!.. Да, я бил в барабан перед твоими произведениями, чтобы посмотреть, сколько может собрать дураков такой парад… Их столько, сколько тебе нужно, друг мой!
– Чёрт возьми! – сказал Монбальяр, – вместо того, чтобы поместить все это в газету!
– Ты теряешь пять копеек за строку, – сказал Флориссак, поворачиваясь на диване.
– Правда, – сказал Шарль, – я глупец.
– Пойдем, – сказал Поммажо Супардену и оба как один человек с достоинством вышли.
– Право, – громко сказал Шарль, говоря сам с собою, когда Поммажо вышел, – я почти жалею, что сказал ему правду; он, по крайней мере, работает и верит.
– Вот как! – сказал Молланде, просматривая театральный листок, – в провинции открыли праправнучку Расина, умирающую с голода.
– Вот кому должна Comédie-Franèaise, – сказал Нашет, – как наследнице прав автора…
– Поставить могилу, – прервал Шарль.
– Передай мне газету, Молланде, – сказал Монбальяр. – Перепишите этот абзац, Мальграс… В неделю, когда номер будет неинтересный, мы откроем подписку… это всегда помогает. Скажите пожалуйста, из вас никто не бывает в свете? Это ужасно! Мне бы надо было иметь известия о балах, вечерах, концертах; это придает порядочность газете… Хоть вы, Демальи, у вас чистая сорочка…
– Я? Ах, вы удачно попали! Во-первых, «свет», как вы знаете, выдумка Эженя Гино…
Не договорив, Шарль взял со стола какую-то книгу, потом бросил.
– Как это надоело! Нельзя сделать шага, чтобы не слышать нападок на банкиров! Денежный человек становится «Кассандром» комедий и газет… Чёрт возьми! Есть дураки, у которых нет ни гроша! И притом я нахожу, во Франции чересчур выезжают на миллионе.
– Кто видел дворец нашего знаменитого водевилиста Вудене? – провозгласил Кутюра.
– Где? – спросил Молланде.
– В Пасси.
– Я видел его. Он очень хорош… – сказал Монбальяр, и направился в свои комнаты.
– Хотел бы ты иметь такой парк? – обратился Кутюра к Шарлю.
– Мне так много не нужно, – отвечал Шарль. – Когда я захочу, я могу быть счастливым и в маленьком садике, посредине у меня будет посажена огромная тыква, под зонтиком больших листьев, со своим зеленым стволом, свернутым как трубка паши, сидящего с поджатыми ногами; я обожаю тыкву. У меня будет вода, налитая в половину бочки, на воде будут расти маленькие зеленые чечевицы, между которыми будут скакать и нырять лягушки… У колодца будет мечтать цапля на одной ноге… Затем я буду держать обезьяну на веревке, обезьяну, которая кривляется и гримасничает… Я куплю, понимаешь, луч солнца для моего маленького мирка. Еще у меня будет гонг… Это будет рай… Я буду благоговейно взирать на свою тыкву; цапля будет думать, как немецкая книга; я брошу камень, все лягушки бросятся в кадку; я хлопаю свою обезьяну, и ударом ноги подымаю все звуки гонга, то ласкающие, как смешанный гул толпы, как звон набата, как глухой шум мостовых просыпающейся столицы… то вдруг раздадутся гремящие и ревущие звуки… Ты уже видел гонг: дно кастрюли, куда Юпитер прячет свои громы.
Проговорив это, Шарль взялся за шляпу.
– Ты уходишь? – спросил Молланде.
– Да, у меня есть дело.
– Дело в том, что я сегодня неожиданно разбогател, – сказал Молланде, – благодаря одному великодушному человеку, известному своей щедростью; поэтому имею честь звать вас всех пообедать… Нет, серьезно, одному издателю пришла фантазия издать отдельной книгой мои статьи!.. И если почтенное собрание позволит мне предложить ему сегодня скромный праздник… Вы придете, Демальи?
– Хорошо.
– А вы, Мальграс?
– Я в отчаянии, м-сье Молланде… Я обедаю сегодня с моими детьми… каждую субботу… я ни разу не пропустил еще, ни разу!
– А что ты хочешь сделать из твоих детей, Мальграс? – спросил Флориссак.
– Честных людей, если смогу, м-сье Флориссак.
– Тебе нужна будет протекция.
– А ты, Бурниш?
– Невозможно, совершенно невозможно…
– Ну, – сказал Молланде, – кто придет, придет, а кто не придет…
И он вышел.
– Господа, – сказал Бурниш, – идем сегодня к госпоже де-Мардонне?
– Ах, правда! Да… да… – послышались голоса.
В редакции остались Мальграс, Бурниш и Флориссак.
– Дрянной народ! господин Бурниш, – и Мальграс подавил вздох. – Боже мой! молодость, я не говорю… все бывают молоды… я тоже был… молодость, это хорошо. Но потерять чувство сознания долга… Что такое, м-сьё Флориссак? – сказал Мальграс Флориссаку, который, наклонившись, говорил ему что-то на ухо.
– Дядя Мальграс, нет ли одного… для меня?
– Одного… чего?
– Луидора… в кассе. Потому что нечего и говорить… Если я не пошлю букета к семи часам… я пропащий человек.
– Я получил приказание от господина Монбальяра приостановить авансы.
Флориссак проглотил ответ, не сморгнув. Он отошел, взял с камина книгу наполовину разрезанную и открыл ее:
– Подумаешь, есть еще люди, пишущие книги!.. Манюрель… не знаю такого!.. Дядя Мальграс! хотите знать мое мнение об этой книге?
Флориссак зевнул. Затем взял свою шляпу и ушел.
– Отсутствие нравственного чувства, господин Бурниш, – сказал Мальграс, – отсутствие нравственного чувства!
IX
На высотах Монмартрского предместья процветает некий торговец вином. Пройдите контору, толкните стеклянную дверь задней комнаты, где извозчики играют в пикет, взойдите по витой лестнице в зало первого этажа: там виноторговец устроил нечто вроде табль-д'ота в тридцать пять су с персоны.
Обед кончался. Виноторговец, принесший сыр, сам обирал тарелки, обед кончался, наступал час кофе и коньяка. Виноторговец, завитой, улыбающийся, разрывался на части, бегал, приказывал, прислуживал, поднимал брошенные зубочистки, и находил еще время болтать со своими гостями, чтобы заставить их раскошеливаться. Облокотившись на круглый стол, у окон, немая группа обедающих ждала игры в домино. Напротив у стены трое непризнанных авторов и какой-то неведомый великий человек жарко спорили о критериях красоты. От одного стула в другому подходила, протягивая свою морду, тощая собака, принадлежавшая кому-то из посетителей. Несколько лореток, положив локти на колени и закурив папироски, сообща приводили в известность свои ресурсы, чтобы заказать себе кофе с ромом, тогда как в другом углу две любовницы писателей читали произведения своих любовников, делая невозможные ударения.
Нашет, Бурниш, Молланде сидели на первых местах за столом и требовали то того, то другого.
– Еще такого же, – кричал Молланде, показывая бутылку кортонского.
– Это отличное вино… – И Молланде передал бутылку далее, сперва дамам. – Извините, сударь, – произнес он, наполняя стакан своему соседу, могу я быть несколько нескромным?
– Пожалуйста, – проговорил сосед, опоражнивая стакан.
– Вы никогда не спрашиваете себе десерта и вас зовут Илья Берте; в каком журнале вы пишете?
– Я писец…
– Прекрасная должность…
– Да, от нас требуются только леность и исправность.
– Ха, ха! Вы острите…. Позвольте, я посмотрю, может быть, у вас ухо водевилиста?
– Но….
– Ухо есть нравственная физиономия человека, вы этого не знали? Наполеон, который знал людей, брал всегда своих ворчунов за ухо…. Посмотрите Гоберта в цирке… Это по традиции. А у меня? У меня ухо добряка… Нос у меня, – нос Молланде блестел в эту минуту, – нос у меня, чувственный, т. е. он воспринимает все ощущения… А глаза мои… глаза мои выражают очень многое… Сударь, если я когда-нибудь сделаю литературную карьеру, буду иметь семью, – тут голос Молланде задрожал от волнения, – когда я буду в состоянии сказать: садитесь сюда, милый зять, глаза мои будут выражать гордость… Еще вина! Ага, вот и Демальи!
X
Демальи и Нашет вместе вышли на улицу; проходя мимо пивной, откуда слышался шум голосов, Нашет сказал:
– Зайдем сюда на минутку, мне надо сказать несколько слов маленькому Рюбену… Он должен расхвалить меня в своей статье, воспроизвести мои остроты; мне надоело получать три копейки за строку: пора уже перейти на пять.
По средине комнаты образовалось целое собрание. Поздравляли постоянного посетителя пивной, только что получившего орден; он принимал поздравлений со снисходительной улыбкой и глубоким достоинством. В углу, совершенно один, перед кружкой баварского пива, погруженный в блаженное состояние бонзы, сидел рисовальщик Жиру, которого Демальи не раз хвалил в «Скандале», как талантливого рисовальщика, прекрасно изображающего парижские нравы. Демальи уселся рядом с ним, в то время, как Нашет обделывал свои дела.
– А! Это вы, мой милый?.. Сколько лет, сколько зим!.. – проговорил Жиру. – Отличное пиво!.. Я ужасно устал… проработал двенадцать часов… встал рано по старой привычке; прежде я вставал рано, чтобы первым увидеть на выставке в окнах литографию Гаварни… Милейший, приходите к Рампоно… мы там обедаем… в отдельной комнате… я, видите ли, не выношу этих позолоченных кабаков… с обделыванием всякого рода делишек. Да… двенадцать часов! А? И каждый день? Чертовская жизнь! Грязный журналец; есть одна скотина в этом журнале. Он все хочет поставить глаза моим фигурам на втором плане, этот сумасшедший! Пиво хорошо!.. Одни говорят, будто я бешеный. Я должен был ходить туда некоторое время… я знаю… Чёрт возьми! только и есть что парижская мостовая!.. Еще кружку!.. А, вы уже уходите?
XI
Они очутились против большего книжного магазина на бульваре.
– Зайдем, возьмем «Presse», – сказал Нашет Демальи.
Книжный магазин был полон молодыми англичанками в шляпах à la Pamela, с вуалями цвета увядших листьев, выбиравшими себе книги наугад, по заглавиям.
Служащие, собравшись у конторы, болтали между собою.
Маленький черный человечек, живой и беспокойный, поспевал всюду.
– Добрый вечер, господа, – проговорил он, – дело сделано, вы знаете… мы совершаем переворот в книжной торговле… книга проникает всюду!.. В мастерскую, в хижину… всюду! Это настоящая революция! Де-Жирарден произвел ее в журналистике, мы делаем ее в книжной торговле… Библиотека Шарпантье, по франку за том, это остроумно, не правда ли? Это заставит вас читать! Это ведь также и ваше дело: вы должны поддержать нас…
– Наше дело? – сказал Демальи, – извините! Как, в то время, когда самая дорогая плата за том Шарпантье – четыреста франков, когда известнейшие имена, лучшие таланты, даже знаменитые члены Академии не выручают и тридцати сантимов за проданный экземпляр своих книг, когда том in-octavo при наилучших условиях приносить около тысячи франков за продажу полторы тысячи экземпляров; когда литературный заработок так ничтожен, вы хотите еще понизить его!..
– Мы не понижаем цен, напротив…
– Вы никогда не уверите меня, – возразил Демальи, – что, продавая книгу за один франк, вы будете платить за нее, как в 1830-м году, когда тоже самое произведение составляло два тома in-octavo, и продавалось за пятнадцать франков… Сократите только два тома в один, как это делает спекуляция Шарпантье, и вы понизите плату, это неизбежно… Вы говорили мне о журналистике! А разве журнал не понизил цены на редакцию с тех пор, как подписная плата с восьмидесяти франков упала до сорока? Элементарный принцип в интеллигентной коммерции: всякое понижение товара идет в ущерб производителю. Потому что, заметьте себе хорошенько, издатель платит автору не с общей суммы прибыли на издание, а только часть прибыли с каждой проданной книги. Таким образом, когда вы заключаете условие с писателем и говорите ему: «мы получаем пользы всего два су с экземпляра», понятно, что эти два су будут служит основанием вашего договора, а не общий итог двух су, умноженный на число экземпляров, каково бы оно ни было. Теперь еще вопрос: вы воображаете, что тотчас же создадите публику, покупающую ваши книги, постоянную и увеличивающуюся публику, солидную и прочную клиентуру, на которую ваша коллекция может рассчитывать в продолжение двух, пяти, десяти лет? Куда же девалась эта публика, бросающаяся на иллюстрированные издания, на выпуски в двадцать, в пятьдесят сантимов? Неизвестно… Рекламами и вашими обширными книготорговыми сношениями, премиями комиссионерам, вы, может быть, искусственно овладеете публикой, которая бросится на ваши первые тома. Это будет успех воздушных шаров, а затем? Затем, когда явится конкуренция сотен тысяч таких книг? Когда наступит пресыщение?.. Что вы будете делать тогда? Но это касается вас… А для нас-то какая выгода? Ваша спекуляция хороша только с новыми книгами, с восходящими светилами… Вам надо продать семь тысяч экземпляров, чтобы покрыть ваши издержки. Вы попробуете издавать новых авторов, и никогда не достигнете семи тысяч; после двух или трех проб вы обратитесь к старым, заслуженным именам, одним словом, к перепечаткам прежних авторов. Книги с молодым еще успехом вы перестанете издавать. Для книги, пущенной в продажу за три, за пять, франков условия всегда окажутся лучшими, чем для книги пущенной в продажу за один франк, хотя бы она нашла двадцать тысяч покупателей… а молодых людей, второстепенных талантов, этого многочисленного класса и все же почтенного, вы их совершенно убиваете вашим изданием в один франк! Вы их не издаете и мешаете им продавать книгу за три франка. Вы знаете лучше меня, что не все способны выдержать продажу в семь тысяч… и… Впрочем, я нисколько не удивился бы, если через четыре или пять лет снова вернутся к in-octavo.
– Я вижу, господин Демальи, вы не совсем поняли суть нашей операции, – произнес маленький человечек огорченным тоном, и обратился к Нашету: – Нашет, надеюсь, вы дадите нам томик?
– У меня ничего нет, – отвечал Нашет.
– Как ничего? Полноте! Всегда имеется хоть заглавие какое-нибудь.
– Заглавие, заглавие! У меня даже и заглавия нет…
– Тогда приходите завтра… У меня есть список заглавий; вы выберете…
– А как же сюжет?
– Сюжет?.. У меня есть также список и сюжетов!..
Демальи проговорил про себя: – я читал нечто подобное, но не верил этому…
XII
В улице Мулэн, пройдя аллею, Нашет остановился у двери комнаты привратника, достал из форточки свой ключ и медный подсвечник, зажег свечу и мимоходом спросил сонного привратника.
– У вас ничего нет для меня?
Затем они поднялись наверх.
– Ты ждешь чего-нибудь? – спросил Шарль.
– Да, – сказал Нашет, – я жду того, что приходит не часто: будущего! А, вот и ты! – переменил он тон на насмешливый при виде молодого человека, спускавшегося с лестницы.
– Я от тебя, – произнес тот.
– Так пойдем назад… выкуришь трубку и почистишь мне платье! – И Нашет, повернувшись к Шарлю и указывая ему на молодого человека, произнес: Милейший, представляю тебе этого господина… Я бы сказал тебе его имя, да у него нет его!.. Идем же, Перраш! Этот господин – бурсак, с твоего позволения, который имел дерзость родиться в моем отечестве… и который говорит мне ты под предлогом, что и я говорю ему ты… У него есть полоса в спинном мозгу… Он двадцатым у одного банкира и девяносто восьмым у одной актрисы из Folies Nouvelles… Он мне говорил, что умеет читать, это молодой человек, полный иллюзии!.. И друг десяти луидоров, неправда ли, Перраш?
– К твоим услугам, – сказал Перраш, – я шел пригласить тебя…
– Обедать? Опять? Ну, мой милый, это дурная привычка! Ты приводишь нас в какую-то трущобу, в Maison d'or, и за десертом еще позволяешь себе высказывать свои мнения! Чёрт возьми! Кто хочет тереться около нас, должен молчать и всячески угождать!.. Жиго де шеврейль не достаточно, чтоб вызвать уважение к бурсаку. Ты воображаешь, что известный писатель согласится быть знакомым с тобой за такой обед, как твой последний обед!.. Не было трюфелей в салфетке, – строго сказал Нашет, пережевывая волокно вареной говядины, попавшееся ему между зубами за обедом. Так говоря, он отпер дверь своей комнаты, жалкой комнаты, меблированной по случаю. Единственное кресло было со сломанной ручкой, плохо приклеенной. Зубная щетка была засунута между зеркалом камина и стеной.
– Ага, – сказал Нашет, заметив, что Демальи разглядывает, – тут нет булевской мебели! – и улыбнулся принужденно.
– Все здоровы твои? – спросил Перраш, – семья твоя!
– Семья? – сказал Нашет, – с ней все кончено!
– Полно, мой милый, – попробовал сказать Демальи.
– С ней все кончено! – повторил Нашет, роясь в ящиках и оживляясь в этих нервных поисках в полном беспорядке. – Тебе хорошо, твои родители сделали тебе красивую голову… ты большего роста… тебе идет твоя улыбка… Тебе дали звучное имя. Ты имеешь вид почти благородства, женщины любят это… Они тебе оставили кое-что… ты можешь не сделать подлости… Вот что они для тебя сделали! А мои родители! Оставили мне рваную сорочку! Они создали меня мешком! Меня боятся; у меня ногти, точно у обойщика, а руки!.. Я могу ладонью прикрыть ступню. Они меня оставили без гроша… мои родители… они меня поместили в коллегию в платье, сделанном из старого бильярдного сукна. Ты!.. ты совсем другое дело! Такие родители! Ты можешь воздвигнуть им мавзолей в своей памяти!.. Пойдем… Перраш, теперь ты можешь оставить нас: еще встретит кто-нибудь!
XIII
– На чем остановились, Жозеф? – спросил Нашет лакея, снимавшего ему пальто с фамильярною услужливостью.
– Только что пели, теперь кончилось! Пела эта девица с мужским голосом, про которую господин Кутюра говорит, что её голос ни в мать, ни в отца.
– А Кутюра здесь?
– Да, сударь, и все эти господа… Вы не забудете меня, господин?.. – И Жозеф положил свою руку на руку Нашета, желая застегнуть ему перчатки, – относительно билетов в театр… все равно где… О, когда я в театре, мне все равно…
– С одним условием, Жозеф: вы будете свистать.
– О, сударь, с даровым билетом!
– Дурак, – проговорил Нашет, входя с Демальи. Оба направились к хозяйке дома.
Госпоже де-Мардоне было сорок лет. От её молодости у ней остались только великолепные плечи и чудесные белокурые волосы, которые не поредели еще.
Все относительно стушевалось в неумолимой полноте, которая развертывается в сорокалетний возраст, и которую напрасно старается умерить корсет. её красота походила на засыпанный город, надо было ориентироваться, чтобы отыскать, где начинается её талия.
Каждую минуту кровь бросалась в голову госпоже де-Мардоне. её глаза, голубой, легкий и глубокий цвет которых принял с годами сухость и кислоту фаянса, еще играли и кокетничали как в двадцать лет.
Госпожа де-Мардоне была автором целой серии произведений, написанных для славы и на пользу женщины: маленькие трактаты, маленькие катехизисы, кодекс, правила, школа и воспитание воображения женщины, её мечтаний, нравственной религиозности, нечто вроде душевного спутника сентиментальности, написанного в стиле «ad hoc», многословном, нежном и упорном, с примесью влияния m-me де-Женлис и св. Терезы, возвышенным мистической чувствительностью и некоторой долей квиетизма. Эти книги госпожи де-Мардоне имели сбыт дурной книги или политической брошюры без имени автора.
Франция и Европа воспитали на них своих дочерей. Этот успех, удачная продажа и премии, почти ежегодно присуждаемые ей Институтом в отделе премий за «Произведения полезные нравам», приносили ей достаточно дохода, чтобы иметь очень хорошенькую квартирку в бельэтаже и давать вечера каждый четверг. Эти четверги составляли важную сторону жизни госпожи де-Мардоне. Если она и тратилась на них, зато они способствовали её влиянию, её известности и распространению её книг.
Госпожа де-Мардоне, не подымаясь, à l'anglaise пожала руки вошедшим, и снова обратилась к господину с желтыми баками, которому она предлагала издать киту о воспитании дев XVII века, исправленную и дополненную, приспособленную ко всяким щекотливым и неведомым нуждам, ко всяким новым и законным вожделениям, ко всякому развитию, ко всяким социальным потребностям, а также и к психическому развитию современной молодой девушки, девушки XIX века.
Концерт только что кончился. Мужчины и женщины группами болтали в разных углах большего и маленького салона. Там и сям слышался то серьезный разговор, то интимная болтовня, прерываемая игрою веера. Шептанье особняком доносилось отовсюду, ибо в этом салоне госпожи де-Мардоне не было того официального общества, где мужчины стоят по одну сторону, дамы сидят по другую и где какой-нибудь более смелый мужчина вдруг решится подойти к даме, скажет ей свысока две-три фразы в-упор и стремительно уйдет в свои черные одежды, как герой, при общем молчаливом восхищении. Тут всякий чувствовал себя как дома, и никто, даже мужчины, не были стесняемы своим полом; ни одной женщины, даже молодых девушек не стесняли их года; в салоне царило увлечение, дружеская любезность и общительная свобода, придающая отношениям и общественным удовольствиям особую прелесть и создающую род женщин, которых принято называть femmes garèons; оставаясь женщинами, они вместе с тем умеют быть товарищами и приятелями, и по своему прямодушию чуждаясь условностей, лганья, мелочности, жеманности, ломанья и предрассудков своего пола, они говорят что думают, смеются, когда хотят, принимают позы, которые им идут, и даже дуракам кажутся такими, каковы они есть. Честный буржуа, попавши сюда с своей дочерью, был бы страшно возмущен живостью их смеха, фамильярностью, непринужденными позами, свободой жестов, тона, словом, тысячью мелочей, строго воспрещенных традициями и воспитанием семьи. А между тем этот мир, несмотря на свое наружное легкомыслие, в сущности стоит того буржуазного мира, где молодые девушки отвечают только «да» и «нет», и где женщины танцуют только с тем, с кем позволят им мужья; если взвесить ошибки того и другого мира, еще неизвестно, какая сторона перетянет. Такой салон, быть может, единственный, где писатель может акклиматизироваться. Освободясь от вымысла и фантазий своих произведений, он хочет коснуться земли, встретить женщин без крыльев, веселые и снисходительные умы. Ему нужна свобода слова для отдыха от своего воображения. Комедия заученных приличий, этот буржуазный cant, ему надоедает, как менует; он чувствует отвращение ко лжи, пуризму и наивности общества, которое возмущает в нем совесть автора и самолюбие наблюдателя. Не имея ни желания, ни времени говорить и делать любезности, он предоставляет другим всю зиму обивать пороги хорошеньких женщин, чтоб как-нибудь добиться разговора с ними; а так как и общество для него служит только местом для обмена мыслей, то он требует от женщины, находящейся в салоне, непринужденной болтовни двух случайно встретившихся людей.
Женщины, бывавшие у госпожи де-Мардоне, удовлетворяли всем этим требованиям писателя, который не прочь надеть фрак и перчатки. Будучи все, или почти все женами писателей, музыкантов, артистов, они обладали добродушием, резвостью и живостью мальчиков. Вращаясь в кругу интересов своих мужей, их технического языка, их друзей, они бы удивили иностранца, говоря прекрасно по-французски с чисто парижскими выражениями. Время от времени, их арго одним словом освещало закулисную жизнь их мастерских, их редакций журналов. Портниха заметила бы еще одну особенность в этом салоне: туалеты здесь имели свою физиономию; тут не было туалетов светской буржуазки, ни туалетов кокоток или провинциалок; тут были туалеты оригинальные, эксцентричные, имеющие на себе отпечаток каприза индивидуальной фантазии, особенно отпечаток космополитизма, который напоминал во всем туалете женщин общественное положение их мужей.
Г-жа де-Мардоне была прервана посреди своего делового разговора с обладателем желтых бак молодой женщиной, пришедшей с смущенным видом искать около неё приюта.
– Что с вами, моя милая? – спросила госпожа де-Мордоне, эту красивую брюнетку, только что разошедшуюся со своим мужем.
– Ах, этот Нашет, он невозможен! Вот уже полчаса как он меня мучает моим мужем… Мой друг будто бы рассказал ему то, что он говорил мне.
– Я побраню Нашета, моя милая. – Обернувшись, госпожа де-Мардоне встретилась лицом к лицу с молодым человеком, блондином высокого роста, которого ей представляли; специальность его в литературе состояла в способности пристегиваться в своим приятелям, чтобы проникать всюду, и участвовать на похоронах, чтобы завязывать отношения. Отвечая на его низкие поклоны, госпожа де-Мардоне в то же время заметила, что вечер становился вялым и разговор иссякал. Диалог, обещанный ею своим гостям, не состоялся из-за мигрени одного из участвующих. Эта неудача внесла некоторый холод в общество.
– Однако, – проговорила она, прерывая любезности представляемого юноши, – неужели же мы будем скучать? Я не хочу, чтобы у меня скучали!.. моя репутация погибнет!.. Как! У нас тут люди с патентованным воображением… и ни у кого ни одной идеи!.. Послушайте, господа… старинные актеры итальянской комедии импровизировали целые роли на заданную тему… Вы должны сделать тоже для здешней публики. Постойте! Кто-нибудь из вас, милостивые государыни, предложит сюжет этим господам, которые обязаны тотчас же рассказать на него что-нибудь забавное… Понятно, автор может взять себе актеров, сколько ему нужно.
Из дам составился маленький совет, и после некоторых переговоров, госпожа де-Мардоне объявила:
– Господа, дело идет о комедии, шараде, шутке, сочиненной на вас самих. Сюжет наш: «Литератор»… Скорее, бросайте имена всех вас в эту шапку.
Вышло имя Демальи.
– Вам дается четверть часа на размышление, – проговорила госпожа де-Мардоне. – Чего вы потребуете?
– Турецкий барабан, Флориссака и Бурниша.
– Отлично! Кажется, у меня есть барабан и костюмы от моего последнего маскарада, там, наверху. Спросите Жозефа.
Через десять минут дверь залы отворилась на обе половинки и вошло торжественное трио.
Бурниш играл на большом турецком барабане апофеоз Дюмерсана – его гений и Бобэш ведут его к бессмертию – увертюру для полного оркестра.
Флориссак, одетый молодым «pitre» с бабочкой, качавшейся на проволоке перед его носом, в дурацком колпаке, с горбом паяца на спине, походил на Антиноя, завернутого в полосатый холст.
Демальи шел задрапированный Фонтанарозом в блестках.
Бурниш, поскользнувшись, прислонился к круглому дивану посредине залы и положил обе ноги на барабан.
Флориссак и Демальи вскочили с ногами на диван нос к носу.
– Милостивые государыни и государи! – начал Демальи – фантазеры и реалисты! И вы прелестные женщины! Мы имеем честь представить для вашей забавы большое представление знаменитого: «Катехизиса литератора», пьеса в двух лицах! Новый экспромт, написанный без свечей! Автором с европейской известностью! Мною, милостивые государи!.. И этого дурака Виф-Аржана. Кланяйтесь, Виф-Аржан! Музыка вперед!
Бурниш сыграл три такта знаменитого романса: цзин! бум! бум! мелодию, которую он повторял в продолжение всей шутки.
– Виф-Аржан, – сказал Демальи Флориссаку, – подымайте занавесь!
Флориссак высморкался.
– Занавесь поднята, Виф-Аржан?
– Буржуа! – отвечал Флориссак.
– Можете вы мне сказать, что такое литература?
– Буржуа, это предмет роскоши.
– Виф-Аржан!
– Буржуа!
– Можете вы мне сказать мнение ваших родителей о литературе?
– Мнение моих родителей о литературе? Это был сильный пинок ногою… в моем призвании.
– Виф-Аржан?
– Буржуа!
– Можете вы мне сказать что-нибудь об Академии?
– Буржуа, это первая инстанция бессмертия.
– А потомство, Виф-Аржан?
– Буржуа, это нечто вроде кассационного суда.
– Виф-Аржан, что такое литератор?
– Буржуа, это человек танцующий на двадцати четырех буквах алфавита и бросающий в будущее мысли, которые падают на его шею в виде толстых су.
– Виф-Аржан?
– Буржуа!
– Сделайте мне удовольствие, скажите почтенному обществу, почему узнают литератора?
– По его переезду на квартиру.
– А великого литератора, Виф-Аржан?
– По его похоронам, буржуа.
– Виф-Аржан?
– Буржуа!
– Например, можете вы сказать, что такое книга?
– Книга, буржуа? Это нечто вроде человека: она имеет душу, и ее едят черви.
– Скажите этим господам, что такое реклама?
– Это – рукопожатие литераторов.
– Виф-Аржан, можете ли вы объяснить этим уважаемым господам, что такое издатель?
– Это – ломбард рукописей.
– Милейший Виф-Аржан, скажите вы нам теперь, что такое поэт?
– Да, буржуа. Это господин, который подставляет к звезде лестницу и лезет по ней, играя на скрипке.
– А что такое критика, Виф-Аржан?
– Порошок для подчистки общественного мнения.
– Внимание, Виф-Аржан! Что такое водевилист?
– Буржуа, это человек, который сотрудничает.
– Виф-Аржан, что такое роман?
– Это волшебные рассказы для взрослых, буржуа.
– А газета?
– Три су истории в свертке бумаги.
– А журналист?
– Поденный писатель, буржуа.
– Ха, ха! Что же такое публика, Виф-Аржан?
– Буржуа, это тот, это платит.
– Виф-Аржан?
– Буржуа!
– Если мы попросим по чашке чаю?
– Да, буржуа.
Начали аплодировать. Госпожа де-Мардоне нашла шутку прелестной и очень благодарила Демальи, который был осажден дамами с чашками чаю.
Белокурый молодой человек воспользовался случаем, чтобы улизнуть, шепнув Кутюра:
– Вы извинитесь за меня перед госпожой де-Мардоне… Я ухожу: я хочу это сейчас же послать в одну бельгийскую газету.
В час Демальи и его друзья толпой вышли от госпожи де-Мардоне. Кутюра по дороге будил извозчиков, заснувших на своих козлах, крича им с интонациями актера Феликса.
– Извозчик! Эй! Вон! Туда!.. Мы дети семьи… способные проесть наше родовое!
– Что ж, спать поедем? – спросил Нашет.
– Пойдемте на бал в оперу; вот и предлог поужинать.
XIV
Демальи, Кутюра и Нашет вошли втроем в фойе. Нашет очень скоро исчез с замаскированной женщиной.
– Как скучно! – проговорил Кутюра, – я знаю всех этих дам как… свой карман!..
– Чего тебе надо, кошечка? – сказал он домино, подошедшему к нему, – интриговать меня? Ну что же, поинтригуй меня, маленькая Луиза… Видишь ли, Демальи, ничего не может быть глупее, как узнавать всех на балу оперы… Я предпочел бы лучше не знать никого. Нет, уверяю тебя, это надоедает называть всякую маску её уменьшительным именем: прийти сюда, чтобы наизусть повторить календарь, согласись… какое это положение!.. здравствуй, здравствуй!..
И Кутюра кивал направо и налево.
– Стой! Женщина, которой я не знаю!.. Ты увидишь мое счастье! Пари держу, я не знаю этой женщины!.. – И Кутюра пробрался в середину давки, чтобы дойти до белокурой женщины, около которой сидел молодой человек.
Кутюра заглянул ей под маску, наклонился, и прошептал на ухо.
– Эрманс!
Домино вздрогнуло.
– Я так и знал!.. Скажи пожалуйста, ты воспитываешь их теперь очень тщательно? Что такое этот маленький господин?
– Миллионы, мой милый.
– Откуда?
– От старой тетки.
– Чем он занимается?
– Любит меня.
– Значит, ему нельзя представить приятелей?
– Невозможно… Он ревнив как старик… И даже ты будешь очень мил, если уйдешь отсюда, потому, если б он узнал… Он считает меня за порядочную женщину, мой милый.
– Извини, прекрасная маска!
И Кутюра поклонился с видом уважения и как бы обманутый в надеждах.
– А, что я тебе говорил? – сказал он Демальи, – представь, эта женщина… Словом сказать, мы очутились с тремя су… пятого января… Мы пошли слушать проповедь в церковь, где были рогожи!..
– Кутюра! Кутюра! Мне надо сказать тебе кое-что! На десять минут!..
И женщина, взяв его под руку, увлекла в ложу.
Демальи, оставшись один, спустился в залу, где нашел Жиру, согнувшегося на скамейке с вытаращенными глазами, походившего в своем костюме баденского крестьянина на картонную игрушку, на которую надели пару бретелек.
– Демальи, мой милый, я совсем готов.
– Как всегда!
– Вот как вы, в статском!.. А у меня, мои штаны!.. А? Я околеваю в них… Мне хочется колотить гусей большой палкой, как на нашем празднике… Но это совсем не то… У меня есть идея… Я пришел, чтобы посмотреть на эту суету сверху!.. Право. Но я не могу… Никогда я не дойду туда… И зачем они делают лестницы? Это нарочно: они не хотят, чтобы подымались, видите ли. Пожарные угощаются там апельсинным салатом. Поэтому они и не хотят… Взойдемте, хотите? Ах! Что такое мой костюм? Баденский!.. Шварцвальд!.. едете вы туда летом? Нас будет пятеро… Пешком!.. Отлично… превосходно! Взойдем, не правда ли?
Шарль взял Жиру под руку и не без труда потащил его по лестнице.
– Милый мой, это глупо, у меня качка в коленях, – говорил Жиру, навалившись на Шарля и хватая его за руку на каждом шагу. Мне теперь очень неприятно: я не знаю, что я измеряю… Пока я сижу, еще ничего, но… Дайте вздохнуть минутку… Вы знаете Элизу? Мы с ней поссорились… Я говорю это вам, Демальи, потому что я знаю!.. Сегодня вечером, мой милый, еду я на извозчике подышать воздухом, я люблю воздух… извозчик заговорил со мной… Я ему сказал: не говорите со мной! А он говорил… Спрашивается, какой это мне вид придавало… Я ведь не ради себя, понимаете, но ради общества… Наконец, он начинает бить хлыстом мою любовницу, которая была в карете… Это ничего, этот извозчик наглец… Я, во-первых, женщины… О! женщины! Но я сказал ему, этому кучеру, что есть два жандарма, жандарм физический и жандарм моральный, который охраняет нас внутри, без лошади, без фуражки, без сабли – это совесть!.. Да!.. А жандарм большой дороги. Да! Уф!
Наконец Шарль усадил Жиру на скамейку четвертой ложи. Жиру протянулся на край ложи, положил оба локтя на бархатные перила и подпер подбородок обеими руками. Шарль облокотился, и оба несколько времени смотрели, ничего не говоря, на бал и на зало.
Над ними на плафоне в облаках выделялись там и сям то кусок пурпура, то розовое тело, то складка плаща, то профиль богини. Под ними море люстр, ослепительный покров из белых огней; золотые гирлянды балконов, сверху до низу ложи, на красном фоне которых выделялись белые галстуки, лица, покрасневшие от жары, белые треугольники мужских сорочек, черные шляпы, черные одежды; тени черных женщин, белые перчатки, опускавшие или подымавшие, болтая, кружева их масок; внизу, по обеим сторонам залы, по двум красным лестницам, между стиснутыми полицейскими, толпы масок, толпы женщин, топчущихся на ступеньках и собирающихся танцевать; внизу – зала, поглощающая все: белые, красные, розовые, зеленые цвета, перья, каски, плечи, юбки, галуны, кисточки, шляпы, фальшивые бриллианты… Море молний, сверкающих тут и там. Рукава в воздухе, вертящиеся юбки, путающиеся и сталкивающиеся пары, прерванный галоп, развевающиеся ленты и перья… И музыка, ожесточенные удары литавр, грохот барабанов, гром оркестра; гул в зале; ура, виваты, припевы, хоры, звуки трещоток, удары танцоров по их ляжкам, и пол, скрипящий под ногами. Радуга и шабаш, все подымалось им в глаза и в уши в тумане лучей, в шуршанье, в теплом облаке, в буром паре вместе с пылью и смутным гамом ночной вакханалии.
– Как чудно, – проговорил вдруг Жиру, которого это головокружительное зрелище отрезвило. – Как чудно! Передать это!.. Этот кавардак, это верченье! Чёрт возьми! Молодец будет господин, который изобразит этот кипящий котел, этот свет, эту сутолоку в дьявольском рисунке!.. Понимаете, Демальи… чтобы все носилось в вихре. Написать музыку, канкан, все! Или вот хоть эту желтую юбку… Ах!
И Жиру сделал большим пальцем жест человека, который кладет тона на полотно.
– Подумать, сколько прекрасных современных вещей умрут… умрут и ни один человек, ни одна душа не спасет их! Ах! Сколько смелой живописи, скульптуры на бульварах, в Елисейских полях, на Бирже, в Мабиль!.. А между тем этот ничтожный журналишко!.. И когда я подумаю, что я настолько подл… Стойте! Демальи, вы говорите себе: зачем Жиру пьет? Если не вы говорите, то другие за вас… Ну хорошо! Вот зачем я пью… Потому что я чувствую свое бессилие!.. Я вижу вещи… и не могу их осилить… Все равно что вот сейчас на лестнице… Я бы желал хотеть и… не могу… вот я и пью!.. Да, это чудесно!..
Две минуты спустя, Жиру спал на скамейке.
Шарль оставил его спать, а сам спустился. Кутюра снова взял его под руку, и они прогуливались в коридоре первых лож, когда Нашет подошел в ним в дурном расположении духа.
– Нашет, на кого ты наскочил? – спросил его Кутюра, – на честную женщину?
– Очень честную! – сказал Нашет! – это Резен.
– Ха, ха, – засмеялся Кутюра. – Я уверен, что Демал и не знает.
– Я ничего не знаю, – сказал Демальи. – Кто такая Резен?..
– Жидовка, мой милый, – проговорил Нашет, – которая посвятила своего ребенка Божьей Матери, и которая любит его!.. Она готова публично исповедоваться, чтобы доставить ему удовольствие, что было бы замечательное самоотвержение! Представь себе – она торговка мебели – но прехитрая!.. У нее явилась блестящая идея! Положим, идешь к ней ты или я, но большею частью это не ты и не я, а какая-нибудь женщина. Ах, как мило у вас! Как все устроено! Да, говорит Резен, это мне стоило порядочно… Но у меня другая мебель в виду, и если эта вам подходит… Золотая коммерция!.. Я из-за этого интриговал ее, мой милый, из-за обстановки, из-за её последней обстановки… Я хотел переезжать, хотел иметь обстановку, на которую мог бы посмотреть, не косясь любой член совета адвокатов… И знаешь, то со иной случилось? Я попал на первую обстановку, которую Резен хочет оставить за собой… Это ясно, она не доверяет более моей подписи… Пойдемте ужинать… Бал самый гнусный.
XV
Придя на бульвар Монмартр, к двери, украшенной двумя гипсовыми амурами, сидящими по бокам маленького маяка, где было написано: «Нашет», три друга миновали устричницу, открывавшую со злобой остэндские и мареннские устрицы. Гарсоны, как снежные лавины, скатывались по лестнице. Перекрестно раздавались резкие крики: счет номера 4, счет номера 9! А в недрах стены, точно бык, мычал в подземную кухню вечный заказ стоустого чудовища.
– Минутку, – сказал Кутюра, – я сейчас вас представлю.
И он пошел, работая локтями, в большую залу ресторана.
Все столы были заняты. Жара от газа, дым сигар, запах соусов, звон стаканов, хлопанье пробок от шампанского, гул смеха, начатые песни, охрипшие голоса, непринужденные позы, непристойные жесты, расстегнутые корсеты, разгоревшиеся глаза, слипающиеся веки, покрасневшие и измученные масками лица, тосты, измятые костюмы и сорочки, Пьеро с осыпавшейся мукой на лице, медведи наполовину одетые человеком, альпийские пастушки в черных панталонах, господин, клюнувший носом в стакан, соло пасторали, исполненное на скатерти аудитором государственного совета, татуированный дикарь, рассказывающий гарсону историю министерства Мартиньяка – все говорило о позднем часе: было пять часов утра. Когда они входили, в глубине залы сильно шумели: три высоких чудака, костюмированных в кавалерийские султаны, просили, пуская в ход руки, замаскированное домино снять маску.
– Не снимайте маски с этой дамы! – кричал какой-то индивидуум в коричневой рясе, сидящий за маленьким столиком против камина, – может быть это чья-нибудь жена!
– Да это голос… – сказал Кутюра.
– Молланде!
Они подошли к столу: это и был Молланде, замаскированный монахом.
– Вот как!
– Он сам.
– Ты?
– Я. Садитесь.
– Ты с бала?
– Никогда!
– А твой монашеский костюм, откуда ты его взял?
– В гардеробе старых французских учреждений… Гарсон! Женщин!.. Господин, о, господин! И вы туда! О чем вы думаете?.. О шляпе Генриха IV?.. Как? Бьют женщин?.. Подойди сюда, дикарь! Подумай немного, если бы вновь нашли Менандра, мы бы знали, что такое посредственная комедия!.. Ты скажешь: у нас есть Скриб… Я тебя знаю, ты мне скажешь это… Ни слова более!.. Господа! Господа! Что станется с старым французским весельем! Мы срываем последние виноградные ветки… Господа, когда в стране есть учреждение, именуемое академией наук нравственных и политических… Пью за здоровье наших незаконных детей!.. Сударыня, сударыня! Дайте мне ваш букет: мне хочется поцеловать искусственную розу… Эй!.. Соседка!.. Кто говорит, что я смешон? Дурак! Это мое ремесло!.. Представьте себе, Фанни… Читали вы волшебные сказки, милочка? Жила-была однажды газета, называвшаяся «Национальное собрание»… Господин Гизо писал в нем под псевдонимом Матареля де-Фьенн: его никогда не узнавали… Ну, хорошо! В конторе редакции находилась синоптическая таблица… Синоптическая, Жюли!.. Она могла бы быть и не синоптической… но она была синоптической… там были слова, вычеркнутые из фельетона… Господа, видите вы два алебастровые полушария у мадемуазель: мне было запрещено называть их уменьшительными именами!.. Зефирин! Вы не испорчены моралью Шамфора, это мне как раз кстати! Вы живете в улице Папильон… и вы починяете кашемировые шали… Вы ангел!.. Гарсон! Гарсон!.. Как же глуп этот гарсон! Он родился на развалинах Бастилии!
Тут Молланде перевел дух и залпом выпил два больших стакана бургонского. Он имел полный успех: мужчины хохотали, дамы находили его смешным. Демальи, сидя около него, подливал ему. Кутюра ходил от одного стола к другому, заигрывая с старыми знакомками, нашептывая им на ухо любезности и раскланиваясь с их любовниками.
– Твой брат чистил мне сапоги при входе на бал… Ты ничего не сделала для воспитания этого ребенка: посмотри мои сапоги! – говорил Нашет одинокому домино, около которого он уселся и которое поворачивало к нему спину, кусая со злости вышитый платок.
– Ах, господа, – проговорил Молланде, вставая, – что такое жизнь, vita по латыни. Хотите я вам продекламирую из Байрона? Жизнь есть длинная цепь страданий… долина слез! Теряют зонтики… своих родителей… доверие поставщиков… У меня был друг, делавший мне новые сапоги, я похоронил его, господа… Находишь у себя дырявые сапоги… Ты холостой; потом ты женишься на женщине, не обладающей возвышенностью твоих чувств… Рождаются дети… Потом умираешь… De-profiindis!.
И Молланде щелкнул по пустой бутылке…
На бульваре:
– Идем? – послышался голос.
– Куда?
– В рынок, есть луковый суп.
Никто не ответил на предложение. Каждый пошел к себе, по пустынным улицам, шаги звонко раздавались по мостовой заснувшего города, этого Парижа, таинственно умершего, неподвижного, немого, освещенного луной, как Помпея, охраняемого городской стражей.
XVI
Демальи, вернувшись домой, уселся к горящему камину, зажег сигару, взял со стола альбом с застежкой, написал в нем четыре или пять строк и принялся курить, перелистывая рукопись, на первой странице которой было написано: «Воспоминания моей мертвой жизни».
Одна из особенностей цивилизации – извращать первобытную природу человека и придавать физическим ощущениям значение нравственных чувств, приписывая душе тонкости, которые в первобытном состоянии приписываются слуху, обонянию и другим телесным чувствам. Шарль Демальи служил этому наглядным примером. Обладая нежной и болезненной натурой, он происходил из семьи, соединившей в себе болезненную чуткость двух рас, которых он был выразителем и последним отпрыском. Шарль обладал в высшей степени впечатлительностью и душевным тактом. В нем таилось острое, почти удручающее понимание всех жизненных событий. Везде, где он бывал, его как бы охватывала атмосфера чувств, которые он встречал. Он чувствовал сцену или разрыв так, где видел улыбки на всех устах. Он читал мысли своей любовницы, когда она молчала; видел неприязненность своих друзей; предчувствовал хорошие или дурные новости при входе человека, принесшего их. Это понимание было до такой степени развито в нем, что всегда предшествовало впечатлениям и поражало его раньше, чем совершалось наблюдение. Взгляд, звук голоса, жест – говорили и открывали ему то, что скрывалось от всего мира; он завидовал от всего сердца тем счастливцам, которые проходят мимо жизни, дружбы, любви, общества, мужчин и женщин, не замечая ничего, что им показывают, и которые пребывают всю свою жизнь в иллюзии, которой они никогда не разбивают.
То, что действует так слабо на большинство, именно предметы, имели на Шарля громадное влияние. Они говорили и поражали его как одушевленные предметы. Они, казалось ему, имели свою физиономию, свою речь, свои таинственные особенности, порождавшие симпатии или антипатии. Эти невидимые атомы, эта душа, которая улетучивается от людей, имела отклик в душе Шарля. Обстановка была ему другом или врагом.
Плохой стакан отбивал у него охоту к хорошему вину. Оттенок, форма, цвет бумаги, мебельная материя действовали на него приятно или неприятно, и изменяли его расположение духа сообразно его многочисленным впечатлениям. Точно также и удовольствия не долго длились для него: Шарль требовал от них слишком большой цельности, слишком совершенного согласия людей и вещей. Но очарование быстро рассеивалось. Достаточно было одной фальшивой ноты в чувстве или в опере, скучной физиономии или просто несимпатичного гарсона в кафе, чтобы вылечить его от каприза, от восхищения, или лишить аппетита.
Эта нервная чувствительность, эта непрерывная наклонность к впечатлениям, неприятным большей частью, и оскорбляющая самые нежные струны его души, сделали из Шарля меланхолика. Не то, чтобы Шарль был меланхоличен, как книга с громкими фразами; он был меланхоличен как умный человек, знающий жизнь. Он не казался печальным. Его смех выражался иронией, но такой тонкой и скрытой, что часто он был ироничен только про себя и никто не замечал его внутреннего смеха.
Шарль имел только одну любовь, одну веру, одно призвание: литературу. Литература была его жизнью; она была его сердцем. Он предался ей совершенно, отдав ей всю свою страсть, весь жар своей пылкой натуры, под личиной холодности и равнодушие. В остальном Шарль был человек как все люди. Он не избегнул себялюбия и эгоизма писателя, быстрых разочарований человека воображения, непостоянства вкусов и увлечений, его резкостей и переменчивости. Шарль был слабохарактерен. В нем не хватало энергии, всегда готовой на дело; ему надо было подготовиться в важному шагу, возбудить себя для сильного решения, увлечься, подстрекнуть себя. Создает ли человека физическое бытие? А наши нравственные и умственные качества не составляют ли просто на-просто развитие соответственного органа, или его болезненное состояние? Шарль всем своим характером, слабостями и страстями, был может, был обязан своему темпераменту, своему телу, постоянно страдающему. Быть может, в этом надо было искать и секрет его таланта, этого нервного таланта, редкого и изящного в своих наблюдениях, всегда артистичного, но неровного, полного скачков и неспособного достигнуть спокойствия, плавности, неизменной свежести произведений действительно великих и прекрасных.
Но к чему описывать Шарля? Он исповедовался сам себе в этом дневнике своей души, где рука его, глаза и мысли прогуливаются наудачу, остановившись на следующих выдержках:
XVII
…Я снова погрузился в скуку, спустившись с высоты наслаждений. Я дурно устроен, скоро устаю. Я ухожу с оргии с разбитой душой, в изнеможении, с отвращением к желанию, с беспредельной и неопределенной грустью. Мое тело и ум на другой день совершенно пьянеют. После увлечения, страшное пресыщение, нравственное расстройство, пустота и туман в голове…
7 февраля.
Продал сегодня одному издателю мою первую книгу, одни только издержки. – Проходил по Тюльерийскому саду, счастливый, легкий как перышко, вдыхая воздух полной грудью, с улыбкой на устах; шел дождь, – никого не было в саду, кроме детей, делавших каравайчики из грязи, глядевших и смеявшихся на меня, ничего не понимая.
Май.
Мы были позади церкви св. Магдалины.
– Могу я вам писать?
– Мой муж распечатывает все мои письма.
Она останавливается, а я облокачиваюсь на выступ какой-то лавки.
– Это невозможно!
Молчание; она проводит рукой по глазам.
– … Нет!..
– Невозможно? Но, разве женщина…
Она взволнована:
– Постойте, лучше нам больше не видеться.
– Отчего же не скрасить вашу жизнь романом?
– Романом!.. романом (вздыхая) о, это серьезно для меня! (слегка улыбаясь), мой муж запрещает мне их читать…
Она глядит на меня и вдруг произносит:
– Расстанемся!
– Хорошо, сударыня, но с одним условием: я последую за вами.
Она переходит улицу, в это время из церкви выходит свадебная процессия.
– Посмотрите невесту… хорошенькая она?
– Вы не оставите меня так, я вас увижу еще? – говорю я взволнованным голосом.
– Зачем?.. Для вас это игра, для меня это слишком серьезно… Я вызвала… я возбудила в вас маленькое чувство… я была неосторожна… я говорю бессвязно… первое, что мне придет в голову… Идите, для вас все это пустяки и не оставит последствий… Лучше, чтобы между нами ничего не было.
Я протестую самым серьезным образом.
– О, я счастлива видеть вас так близко к себе, потому что могу только видеть вас издали, – говорит она упавшим голосом; потом вдруг резко: – Кланяйтесь и уходите скорее!.. Мой муж идет!
Декабрь 185…
От нечего делать захожу я в маленький театр. Содержатель его, Жакмен, бывший воротила в маленькой газете «Крокодил». Девицы на авансцене и в открытых ложах закутанные, наполовину показываются мужчинам в оркестре и в партере, смеясь и грозя им пальчиками. Женщины, открывающие ложи, просят у сидящих в первых рядах мужчин «местечка для дам». Девица чувствует себя тут точно в собственном салоне. Она принимает жеманные позы, как у себя дома или в своей коляске. На балконе и авансцене – ряды мужчин с тусклыми лицами, которые делаются белыми от освещения; пробор на голове, женская заботливость в прическе; откинувшись как женщины, они обмахиваются программами, сложенными веером, каждую минуту подымают руки, украшенные кольцами, чтобы поправить зализанные височки, постукивают по губам набалдашниками своих тросточек или курят сигары.
Ноябрь.
Совсем не спавши эту ночь, я встаю точно человек, проведший ночь в игре. Надежды уходят и вновь приходят ко мне. Положим, пьеса, поставленная мною в Одеоне, только в одном акте, все ж таки это средство добраться до публики. У меня не хватает сил дожидаться ответа у себя, и я спасаюсь за город, глупо разглядывая в окно вагона проносящиеся мимо деревья и дома.
Из Отейля я иду через Севрский мост. У меня потребность ходить. Окруженный синеватыми испарениями, между деревьями, позолоченными осенью, я иду наудачу по левому берегу, по дороге к Бельвю. Я встречаю молодую девушку, теперь уже мать, ведущую за руку белокурую маленькую девочку, в продолжение целой недели у меня было совершенно серьезное намерение жениться на ней. О, какое старое прошлое напоминает она мне! Сколько лет не видеться друг с другом! Узнаешь о свадьбах; о похоронах и тебя тихо упрекают в том, что забыл своих старых друзей…
По дороге я задеваю человека, выходящего из лечебницы доктора Флери: это старый бог драмы, Фредержк Леметр… И во всем этом, в этой дороге, во встречах, в моей мертвой жизни, возвращающейся ко мне, во всем, что случай восстановляет предо мною, в этой тени моей молодости, как бы обещающей мне новую жизнь, я слышу и вижу предзнаменование, то хорошее, то дурное, полный мыслей, сосредоточивающихся на одной постоянной мысли, придающей всему мое лихорадочное чувство, и принимающей арию шарманки за увертюру моей пьесы…
185…
Женщина всегда защищается своею слабостью. Это – по поводу всего и ничего, антагонизм желаний, возмущение мелких прихотей, война маленьких решений, не прекращающаяся и как бы созданная для удовольствия их. Эта страсть к борьбе есть в их глазах доказательство их существования. Каприз есть способ упражнения их воли. Женщине в этой глухой, тупой и вместе с тем раздражающей борьбе остается покинутое владычество, победа над усталостью, и в тоже время некоторое презрение мужчины, который не любит и не умеет тратить свои силы на мелочи.
Смотрел картину Грансэ в Буживале. Эта маленькая страна – мастерская, отечество пейзажа. Каждый кусочек земли, каждое деревцо напоминают картину. Точно глядишь на палитру почти всех наших пейзажистов. Есть такие уголки воды, зелени и деревьев, что так и видишь не стершийся номер выставки на голубом небе. В Буживале полевая стража совсем не стережет имений: она стережет «виды», «эффекты», она мешает красть «закаты солнца».
Грансэ, старейшина Буживаля, вместе с Пеллетаном, который был его пророком. Буживаль имеет уже свою историю и свои реликвии: дом Лире и воскресные обеды под открытым небом, дом Одилона Барро, и беседка, предназначенная для либеральных разговоров; стены и люди, говорящие вам об идеях и о женщинах, не существующих более; две бинионии на алжирском острове, сплетающиеся вверху и составляющие первую картину француза; а там, на высоте, Жоншера, также красиво расположенная, как и замок Люсьен, и глядящая на мастерские Буживаля.
185…
Пощупал пульс литературы маленьких газет. Нет более школ, нет более партий, ни идей, ни знамени. Оскорбления, не мотивируемые даже гневом, нападки без доказательств! Сумма всех оскорблений, расточавшихся вчера во всей стране на все административные царствующие и правящие головы, выливается на другой день в статьях. Ничего, кроме закулисных скандалов и парикмахерских острот, плоских шуток. Ни новых людей, ни молодого пера, ни даже молодой горечи… Нет более публики: есть только известная кучка людей, читающая для пищеварения, как пьют стакан воды после чашки шоколаду, людей, требующих текучей и ясной прозы, как процеженная вода из Сены; людей, любящих читать в дороге, в карете, в вагоне, рассказы, которых собрано много в одной книге; людей, читающих не книгу, а на двадцать су.
Я размышляю, сколько стоило мне одно из моих пяти чувств – зрение. Сколько в моей жизни покупал я произведений искусства и наслаждался ими! Нечувствительный к предметам природы, я более удивляюсь картине, чем пейзажу и человеку, чем Богу.
Июль.
Лоретка становится хороша только к сорока годам. Один из моих друзей, собиравшийся сделать обстановку из розового дерева женщине из общества, взял меня под руку в Шато де-Флер и, бросая презрительный взгляд на падших созданий, произнес:
– Светские женщины также красивы как эти… и ничего не стоят, – на первый раз!.. Моя любовница рассказала мне, что у ней было воспаление легких и ей не на что было купить пиявок, предписанных ей доктором… Я чуть было не взволновался более, чем этого требовала вежливость, когда подумал о страданиях, которым есть на что скупить пиявок со всего мира… Все дело в том, чтобы знать, страдает ли человек, умирая от честолюбия или от любви, столько же, чем когда он умирает с голода? Что касается меня, я этому верю.
Вчера я встретил у бывшего министра одного из своих старых школьных товарищей, готовящегося быть государственным человеком. Он весь вечер присутствовал при разговорах шестидесятилетних стариков, не раскрывая рта и серьезный как доктринер, который пьет. – Человек будущего! – сказал себе старый министр, – он слушает с такой глубиной!
Я всего больше люблю неофициальных гениев. Кавой путь от дикаря к Рембрандту и Гофману! Самый удивительный разврат, если хотите.
Сегодня я видел примерную любовницу, любовницу молодого немца, итальянку, настолько привязанную к своему чахоточному любовнику, что она не пускает его выходить по вечерам, запирается с ним, болтает, куря папироски, читает, полулежа на кресле, выставляя кончик белой юбки и красные кисточки своих туфлей. Бывают у них двое или трое немцев со своими трубками, с двумя-тремя гегелевскими идеями и с большим презрением к французской политике, которую они называют «сантиментальной политикой». Хозяйка квартиры и днем и вечером очень редко выходит. Она сохранила в Париже привычки итальянской женщины, и чтобы заняться, она выбирает из «Constitutionnel» недлинный роман и переводит его только для себя, на чистейший тосканский язык. Обстановка восхитительная. Но через-чур много портретов друзей и родственников. Это походит на храм Дружбы… Из всех этих портретов единственный интересен с моральной точки зрения: это портрет любовницы, сделанный матерью любовника.
Январь.
Париж – это надменное выметание фортун, это – смерть для молодых людей!.. И так скоро, без всяких приключений, без всякого шума! Ах, бульвар так быстро поедает этих гарцующих прожигателей жизни. Один год, два – самое большое и… прогорели! Встречаю как-то одного из старых друзей, уплатившего вовремя свои долги, пустившего корни в провинции, и проводящего день за днем в деревне.
– А как поживает такой-то? – спрашиваю я.
– У него судебный совет… Он занимал под четыреста процентов у господ, встречавшихся с ним на скачках… Ах сколько он самым глупым образом потратил денег!.. А другие-то!
– А тот, толстяк, которого я часто видал у тебя?
– Женился, мой милый… случайность!
– А другой, такой веселый?
– Удалился в Дордонь, к чёрту, на свою оставшуюся ферму вместе со своей любовницей… Играет в пикет со священником.
– А Шоза ты знаешь?
– Ах, Шоз, он кончил особенно: он себе прострелил голову!.. Один выстрел – и конец! Это вследствие различных катастроф, нищеты и разорения.
Пошел я в «Monde des arts» отдать туда статью. Там нахожу Массона, человека, которого я узнал только по книгам, и которого уже любил, восхищаясь им. Полное, несколько тяжеловатое лицо, на котором заснула божественность; в глазах замечательный ум, как бы дремлющий в ленивом и спокойном взгляде; на всем лице усталость и сила Титана на покое.
Большой, черный господин восклицает стоя около него:
– Да, такова моя система работы: я ложусь в восемь часов, встаю в три, выпиваю две чашки черного кофе и работаю до одиннадцати…
Масон, как бы проснувшись, возразил:
– О, я бы сошел с ума от такой жизни! Утром меня будит сон, будто я голоден. Мне снится красная говядина, огромные столы с роскошными яствами… Говядина подымает меня. Позавтракав, я курю. Я встаю в половине восьмого и к одиннадцати часам я готов. Тогда я притаскиваю кресло, кладу бумагу на стол, перья, чернила, орудия пытки; мне надоедает это! Мне всегда надоедало писать и к тому же это так бесполезно!.. Таким образом я важно пишу, как общественный писатель… Я не тороплюсь – он видел, как я пишу, но все же я подвигаюсь, потому что не ищу лучшего. Статья хороша, написанная с одного раза, это как ребенок: или он есть, или его нет. Я никогда не думаю, о чем я напишу. Я беру перо и пишу. Я литератор и должен знать свое ремесло. Перед своей бумагой я как клоун на канате… Кроме того, у меня слог совершенно в порядке: я бросаю фразы, как кошек… Я уверен, что они встанут на лапы. Это очень просто, надо только иметь хороший слог. Я готов научить писать кого угодно: я бы мог открыть курс фельетонов в двадцать пять уроков! Да вот, посмотрите, мою рукопись: ни одной помарки… А! Флориссак; что же ты ничего не принес?
– Ах, мой милый, – отвечает Флориссак, – это смешно, у меня нет никакого таланта… и я узнаю это потому, что меня забавляют теперь только глупые вещи… Это глупо, я знаю; что ж, ничего, я смеюсь над этим…
– Однако ты был талантлив…
Июль.
Птица поет трели, светлая гармония капля по капле льется с её клюва; трава высокая, полная цветов и шмелей с золотистыми спинками, белня и коричневые бабочки. Самые высокие цветы качают свои головки под ветром, который наклоняет их; лучи солнца, протянувшиеся через зеленую дорогу; плющ, обвивающийся вкруг дуба, подобно ниткам Лилипутов вокруг Гулливера; между листвой просвет белого неба; пять ударов колокола, приносящих людям из-за чации час отдыха на зеленой и мягкой траве; в лесу крики птиц, мошки, летающие и жужжащие вкруг меня, лес полон души, шепчущей и жужжащей; вдали слышен громкий лай; небо, освещенное заходящим солнцем… И все это надоедает мне, как описание природы…
Может быть, виноваты эти две собаки, которые играли на траве передо мною: они остановились, чтобы зевнуть…
Март 185…
Снова увидел Масона в редакции «Monde des arts». Сказал мне комплимент за мою статью об Алжире; и с удивительной памятью начал мне описывать, начиная с двери и кончая банкой с красными рыбами, поставленными на стол перед музыкантами, кафе Жираф и улицу État-Major, o которых я сказал два слова, потом он мне сказал:
– Вашу статью не поймут. На сто человек, которые ее прочтут, едва ли поймут двое… Тут все они взбешены против вашей статьи… И это просто происходит оттого, что массе людей, даже умным людям, не хватает артистического чутья. Многие люди не видят. Например, из двадцати пяти человек, которые пройдут здесь, может быть, нет и двух, которые видели бы цвет бумаги. Постойте, вот входит Бланшар. Он ни за что не заметит, круглый этот стол, или четырехугольный… Теперь, если вы с этим артистическим чутьем работаете в артистической форме, если к идее о форме вы прибавляете форму идеи… о, тогда, вы совсем не поняты…
И взяв наудачу маленький журналец, он продолжал:
– Вот, смотрите, как надо писать, чтобы быть понятным: «новости под рукою»! Французский язык исчезает, это факт… Э, Боже мой, в моих романах, мне говорят также, что не понимают… А между тем я себя считаю самым понятным человеком в мире… Потому что я ставлю слово, положим: «архитрав»… но не могу же я написать: «архитрав» есть архитектурный термин, который значит то-то и то-то… Надо, чтобы читатель знал слова… Да мне это все равно. Критики и похвалы хвалят и разбивают меня ни на йоту не понимая, что я такое. Все мое достоинство, они никогда не говорили о нем, состоит в том, что я человек, для которого существует видимый мир.
Реализм распространяется и гремит, в то время как дагерротип и фотография доказывают, насколько искусство разнится от правды.
Вот я осуществляю мечту многих людей; с деньгами в кармане, с женщиной, старой подругой, рассказывающей мне о своих любовниках; оба свободные, не боящиеся любви, ни тот, ни другой, и совершенно довольные. Приятные минуты – видеть ее в своей комнате, углубленной в кресло в кофточке; тут виден кусочек шеи, там часть руки, здесь оттопырившаяся юбка; или, в лесу под листвой, со щеками загорелыми от солнца. В вуали с горошками, тень от которых кажется на её коже родимыми пятнышками; или же в уединенной аллее парка, лежащую с закинутыми руками, в венке, в платье, развивающемся вкруг нее и около её ленивой, белокурой головки, которой завидует проходящая торговка настойкой из лакрицы… Но женщина всегда женщина. И она превосходная, только у неё страсть рассказывать во время еды. Только что суп ей откроет рот, как уже из него льется безостановочно последний роман из «la Patrie». И это продолжается, пока не подадут овощи, часто даже до десерта. Удивительно то, что она ест, чудесно то, что кончает концом, несносно то, что она хочет быть понятой.
Мне грустно, и я слышу, как на мраморный камин с глухим шумом падают один за другим листки большего букета пионов; а над и под моей комнатой взрыв женского смеха.
Я бы хотел иметь комнату, затопленную солнцем, мебель, старые портьеры, все цвета которых полиняли и как бы прошли под южными лучами. Там жил бы я в золотых грезах, с разогретым сердцем, с умом, купающимся в свете, в тихо напевающем покое…
Странно, что, по мере того, как старишься, солнце делается особенно дорого и необходимо, умираешь, прося растворить окна, чтобы оно закрыло тебе глаза.
Декабрь 185…
Я был в первый раз в ратуше. Тогда я видел там в зале Сен-Жана февральских убитых, очень чисто набальзамированных и в кисейных рубашках. Я был в ратуше во второй раз. В этот второй раз, в той же зале я стоял совсем голый, я надел на себя синие очки, но совет осмотра, найдя меня слишком хорошо сложенным, чтобы быть близоруким, назначил меня большинством голосов в гусары. Я пошел в ратушу в третий раз, сегодня вечером, на бал. Убранство богато и вместе с тем бедно; золото – все великолепие зал и галерей; повсюду шелк, и мало бархата; всюду виден обойщик и нигде нет искусства; а на стенах, покрытых плоскими аллегориями, написанными Вазари, имени которых я не хочу знать, еще менее искусства чем в другом месте… Ах, галерея Аполлона! галерея Аполлона! Но восхищение двенадцати тысяч пар глаз, находящихся здесь, не очень требовательно. Что касается бала, это обыкновенный бал: толкаются и даже вальсируют. Тут я видел, как вальсирует учреждение такое же старинное, как генерал Фой: одни только воспитанники политехнической школы, порхающие в розовых и голубых газовых платьях.
Что меня всего более поразило, и что действительно прекрасная вещь, это чернильницы муниципального совета, похожие на сифоиды, их видно, они открыты для публики в эти торжественные дни. они монументальны, важны, сосредоточены, роскошны, представительны. они имеют в себе в одно и тоже время нечто похожее на египетские пирамиды, и на живот господина Прюдома; они похожи на состояние среднего сословия.
Чего я только ни писал изо дня в день в начале своей карьеры; эти жестокие и ужасные споры против анонима, все эти остановки в равнодушии или оскорблениях, эта публика, искомая и ускользающая от вас, это будущее, к которому я безропотно шел, хотя и часто отчаивался, эта борьба нетерпеливой и лихорадочной боли против времени и устарелости, одна из крупных привилегий литературы?.. И ни друзей, ни связей, все заперто!.. Это молчание, так хорошо организованное против всех тех, которые хотят попробовать пирога «publicité», эта грусть и раздражение, овладевавшее мною в продолжение долгих годов, когда я вызывал эхо, не будучи в состоянии научить его произносить мое имя!.. Ах! эта немая внутренняя агония, не имеющая других свидетелей, кроме уязвленного самолюбия и изнемогающего сердца! Эта однообразная агония, написанная в такую минуту, по горячим следам страданий, была бы прекрасным этюдом, которого, впрочем, никто не напишет, потому что ничтожный успех, прибыль несколько сотен франков, какая-нибудь статья по пять или шесть копеек за строку, ваше имя, известное сотне лиц, которых вы не знаете, два-три друга, немножко рекламы – все это вылечит вас от прошлого и погрузит вас в забвение…
Эти раздирающие слезы, эти страдания покажутся вам такими далекими, как далека ваша молодость. И вы вспомните о старых ранах только тогда, когда они раскроются.
Её появление – это взрыв смеха, её лицо – это праздник. Когда она в комнате, начинается радость и деревенские объятия. Полная женщина с белокурыми волосами, крепировавными и приподнятыми около лба, глаза с мягким выражением, полное, доброе лицо: полнота и величие рубенсовских женщин. После стольких тощих граций, стольких маленьких лиц, печальных, озабоченных, с нахмуренным челом, постоянно задумчивых и углубленных в измышление какой-нибудь хитрости; после всех этих уловок, попугаичьих приманок, ничтожного, нездорового жаргона, подобранного слово за словом в соре мастерских и в толпе; после этих маленьких надутых и доступных созданий – это деревенское здоровье, этот народный язык, эта сила, это радушие, это веселое и живое довольство, это открытое сердце с своими грубыми проявлениями и животной нежностью, все в этой женщине мне нравится, как хорошая простая деревенская пища после обедов в харчевне за тридцать два су. Затем, имея фламандский торс, она сохранила тонкие ноги Дианы Аллегренской, и ступню с длинными пальцами античной статуи.
Наконец человеку необходимы иногда некоторые грубости языка, особенно писателю, в котором материя, подавленная мозгом, отмщает за себя таким образом. Это её манера спускаться из корзины, в которую «Облака» заставляют влезать Сократа…
Я не настолько счастлив как те люди, которые носят в себе утешение постоянной веры, как фланелевую фуфайку, которой они не снимают даже ночью. Солнце или дождь заставляют меня сомневаться, или верить…
Загробная жизнь улыбается мне, когда я думаю о моей матери; но загробная жизнь безличная меня нисколько не соблазняет…
И вот я материалист. Но если я захочу уверять самого себя, что мои идеи суть столкновения чувств, что все, что есть умного или сверхчеловеческого во мне, ничто иное как мои чувства, высекающие огниво, тотчас же я становлюсь спиритуалистом.
XVIII
Углубленный в книгу своего прошлого, Шарль не заметил, как настал день, и его слуга подал ему следующее письмо:
«Ферма Фелье, февраль 185..
Милое дитя мое!
Жизнь у нас все та же, какою ты ее знал. Только мои маленькие девочки и бедненькие племянницы, все мое маленькое семейство подрастает. Это веселые цыплятки на моей старой аббатской ферме: – они бегают, смеются, топочут, работают, потому что все они маленькие хозяйки, и, кончая самой младшей, составляют мне большую подмогу в моих работах. Знаешь ли ты, что в этот момент я имею пятьдесят работников, которые мне совсем не оставляют времени для шуток? Мы живем одни и сами с собою, и не чувствуем себя дурно.
Иногда сосед постучит в наши двери. Мы ему даем ужин и постель; гостеприимство то же, что и в твое время: своя говядина, свои овощи, своя рыба и даже вино домашнее, – ты морщишься? – Гостеприимство фермера или патриарха; а когда на другой день утром я вхожу с куропаткой или зайцем в моей охотничьей сумке и встречаю моих малюток, – нет, ты не знаешь, как они милы в их утренних костюмах, в кофточках, маленьком чепчике с прядью выбившихся волос около их полных щечек, – я нахожу их вооруженными большими лопатами и вытаскивающими из печи пирожные, но какие пирожные!.. Желаю тебе покушать такие! И всегда с любовью к труду, как славные крестьянские девушки, которыми они все-таки не могут быть, потому что мои девочки очень элегантны и изящны, как по наружности, так и по их цивилизованным душам. В соседних замках смеются немного над нами. Кое-где шутят над этими устаревшими привычками, над этой жизнью, которая такая не модная. Но в глубине души нас уважают и очень любят… Но что это я сказал тебе, что наш дом все тот же? – Величайшее событие свершилось после тебя: одним гостем более, который займет тебя. Помнишь ты г-на Рамо, отца Рамо, у которого спасался твой отец, чтобы идти на войну? Ты еще ребенком шалил у него целое лето! Что касается меня, я могу похвастаться, что бесил его десять лет, лучшие десять лет в моей жизни. Превосходный добряк-священник, со своим нервным типом, придававшим ему такую смешную гримасу и удивленный вид, со своей любовью в латинской науке и удивительной памятью! Гримаса, здравый смысл, латынь – все осталось при нем, так же, как и память здоровая, свежая и ясная, несмотря на его годы. Все тот же поклонник Вергилия. Это заставляет тебя вспомнить сад, неправда ли? Этот маленький сад вроде коллегии, где он возымел чудесную идею вырезать из старых деревьев лица Энеиды: Энея, Турнуса, Лавинию! Я вижу еще Лавинию, а ты? Я очень счастлив, что он здесь, потому что меня мучили почти угрызения совести при воспоминании о всех шутках, которые я сыграл с ним. Бедный дорогой учитель! Святой, которому только не хватило для этого призвания к мученичеству и отрешения от единственного маленького греха, чревоугодия, который он скрывал под именем лакомства, или вкуса к маленьким блюдам; он так добр и так невинен, что малютки, которых он учитель и папа-баловник в одно и то же время, окрестили его между собою божьей коровкой. Как они о нем заботятся!
«И так мой друг, – твоя семья здесь. Маленькие девочки хотели бы видеть тебя. Ничто не забыло о тебе. Дом ждет тебя, – а что касается хозяина… ты знаешь, у меня нет сына. Я люблю в тебе тех, которые уже скончались, – твоего отца и мать. Следовательно, я люблю тебя ради них во-первых, во-вторых – ради тебя самого, и наконец – для самого себя. Ты будешь свободен как гость, который у себя дома. Все, что ты не сделаешь – сочтут прекрасным. Ты найдешь библиотеку, увеличившуюся всеми книгами департамента, которые без сафьянных переплетов, без гербов, не значащиеся у Брюне, были оставлены мне злодеями парижскими букинистами, до сих пор все забиравшими; и вот моей спальной и кабинета не хватило для библиотеки; она сделала вторжение в соседнюю комнату, где сушат груши. Еще раз говорю, – все тебя здесь ждет: и сад, который видел тебя еще совсем маленьким, когда мать твоя носила тебя, – и маленькая роща, где я слышу еще мои споры с твоим отцом по поводу выборов. Как это старо уже! и как лучшие люди рано умирают! В эти дни я был в Сомрезе. Я должен был там поставлять рожь. Я едва узнал ваш старинный дом. Все переиначено: теперь тут фабрика напилков, штопоров. Сада больше нет; на месте знаменитого сливняка, дававшего так много слив для пирогов, – находится мастерская.
Они заколотили окошечки чердака, откуда деревенские шалуны стреляли яблоками. Уничтожена зала над комнатой, где деревенский учитель танцев, знаменитый Трейлаже – его звали Трейлаже, неправда ли? – учил тебя делать антраша.
Ты спрашивал меня совета относительно статей, которые ты мне послал. Вот он: приезжай сюда, проведи здесь полгода, год; приезжай сюда созреть и работать. Дай себе время необходимое для того, чтобы усвоить себе наблюдаемое. Дополни свое развитие разносторонним чтением, которое составляет основу всякого сильного человека. Пиши, когда хочешь, в уединении и размышлении, сосредоточься на одной мысли, и ты выйдешь от человека, который будет надоедать тебе всего менее, с книгой, где ты покажешь все, что ты можешь и чего стоишь. Если же ты можешь работать только в твоем противном Париже, если деревня для тебя, как ты говоришь, есть «самоубийство мысли», соберись с силами, запрись у себя на все время, которое мы рассчитываем, что ты проведешь у нас, и тогда я скажу тебе, что я думаю о книге, которую ты мне пришлешь.
Мое стадо девочек спрашивает, кому я пишу. они велели мне поцеловать тебя. Пиши мне, потому что ты моя единственная газета и мой единственный
друг,Шаванн».Шарль, пройдясь несколько раз по комнате, решил сделать самое лучшее, что он мог: лечь спать, и заснул сном усталого человека.
XIX
Работа! Работа! тайна жизни такая же глубокая, как тайна смерти: сон! Это активное состояние человека, в котором он освобождается от тела; когда человек не чувствует ни голода, ни холода; когда зрение, углубившееся в него, теряет способность воспринимать наружные впечатления; когда его слух, наполненный музыкой его мыслей, не слышит более; когда время для него не существует и не имея часовой стрелки может измеряться только днями и ночами; когда окружающая жизнь, среда, в которой он находится, перестают действовать на его чувства; эта прекрасная, чудная летаргия организма, уничтоженного почти исступленными усилиями мозга; это освобождение и бегство тела, дающие уму свободный полет души в нематериальный и абстрактный мир; Шарлем овладела эта божественная горячка и он находился в ней в продолжение долгих дней. Это была часть его жизни, освобожденная от реальности. Недели проходили как дни. Целые месяцы он не ощущал скуки и сплина, который овладевает после долгого отдыха умом, привыкшим к упражнению и к борьбе с самим собою; на целые месяцы прекрасный эгоизм ума освободил его от всего, что касается чувства, целые месяцы самые серьезные, социальные дела не развлекали его и занимали его столько же, сколько интересуют влюбленного дела постороннего. И чем далее он шел, тем более углублялся всецело в работу, тем более он умирал для мира.
Шарль последовал совету Шаванна. Он ходит взад и вперед по комнате, то шагает, то медленно прогуливается; шаг его – точно пульс его мысли: он то медленный, то короткий, то отрывистый; то он засыпает, то пробуждается. Шарль ходит из угла в угол, Он кружится вкруг своего стола, как пудель Фауста, останавливается и снова начинает ходить. Он шевелит губами, шепчет слово, целую фразу. Руки его скрещиваются на спине, опускаются в карманы панталон, двигаются, набрасывают бегло каракули на бумаге. Шарль кусает кончик пера, наклоняет голову, останавливается, полузакрывает глаза, ждет, ждет призывает… Наступает ночь, молчание в его комнате. Он отрывается от рассеяния. Золото на раме, глаза портрета, шум экипажа, звон люстры, стукнувшая внизу, или по соседству дверь, действуют на его чувства как во сне… Сначала в голове его точно туман, смятенье; потом покров как бы бледнеет, и за ним в облаках виднеются тысячи лучей утренней зари; затем при сокращении воли, под пристальным внутренним взглядом, формы и группы начинают образовываться; наконец при настойчивом напряжении ума рождается строка, воплощаются мысли, являются образы. Тогда он, схватывая эти видения, формулированные и окрепшие, живые и совершенно готовые, взвешивает их, пробует, переворачивает; и часто недовольный, отбрасывает их в неизвестность и пустоту, где мысли разбиваются, без шума, без следа, как мыльные пузыри при дуновении ребенка. Упавши в кресло, с влажными глазами, подпирая голову, сжимая и потирая руками лоб, как бы выдавливая из него мысли, Шарль рылся и углублялся в мысль, а новые образы уже толпились, проходили, собираясь исчезнуть: точно молодые девушки, заставляющие себя просить танцевать и шепчущие сладкие отговорки, отворачивая головки. Несмотря на это, Шарль бежал за ними, унося их почти физически в своих объятиях, и помещал в хоровод своего произведения. Наконец, с возбужденными мозговыми способностями, с натянутыми нервами, с силой фантазии, доведенной до высшей степени ясности и деятельности, посредством прилива мысленного внимания, Шарль обнимал свою мысль, содержимое своей души и бессмертную Психею, улыбка которой есть жизнь человеческого искусства.
Глухая радость и удовольствие охватывали его тогда, это огромное внутреннее удовлетворение, которое испытывает человек после творчества, как после пробы и сознания своей божественности. Чувство невыразимо сладкое и невыразимо сильное, похожее на тот внутренний свет, которым Фенелон снабжает счастливцев Елисейских полей, это гордое, глубокое, и сияющее спокойствие, что-то расцветающее в нем, как чувство довольства после доброго дела. Да, ему казалось, что какой-то праздник наполнял его душу, и возбуждал ко всему, даже к ежедневным страданиям его утомленного и больного тела, забытого в усилиях и потрясениях нравственного бытия, в этом движении крови, покидающей человека, чтобы устремиться в его мысль и в его мозг.
На другой день – сбор винограда; может быть, вы видели в подвалах с серыми дверями бочки, уставленные в ряд. Воздух напоен виноградом, который бродит; пчелы с тяжелыми крыльями летают вокруг. В тишине слышно, как падает капля за каплей; это ручеек, текущий по желобку, или в деревянные краны, откуда сочится розовая пена, блестящая рубинами на солнце. Это выжатый виноград, из которого приготовляется вино. Так, в бурлении крови, в опьянении мозга, из выжатой мысли создается книга.
В этой борьбе, в этих радостях, в этом опьянении, усталость, кровь, стучащая в висках, изнеможение мозга, следующее за возбуждением воображения, и ленивое бессилие, еще имели для Шарля свою прелесть и приятно щекотали его самолюбие. Он давал себя убаюкивать расслабленности, похожей в своем томлении на беспомощное состояние всего организма, которое предшествует обмороку. Потом, стряхнув с себя свое бессилие, он собирался с силами, его снова охватывала лихорадка, которая оставляла его с сожалением только во сне. На подушке волнений работы беспокоили и ворочали его тело. Мысль проходила и снова шла перед его закрытыми глазами; она вновь зажигала потухший мозг, который он хотел закрыть, как лавочку, продававшую целый день. Она открывала дверь, и напоминала о жизни, об идеях, менее скрытых, менее ускользающих, менее ревнивых друг в другу, чем днем, как будто ночь, делала их лучшими, более свободными, полными уловок и кокетливости и снимала с них маску, по мере того как приближался сон. Чудные тени, феи бессонных ночей, от которых на утро остается в памяти лишь маска и пыль от крыльев.
Чтобы не потревожить этого очарования, чтобы не разбить этой цепи, связанной с невидимым миром фантазии, чтобы избежать толчка локтем приятеля на улице, удара какой-нибудь новости, парижского зрелища, чтобы убежать от жизни и заключиться в самом себе, Шарль запирался у себя на целый день.
Вечером, после обеда, так как надо было немножко прогуляться «животному» – «животным» Шарль называл свое тело, – он выдумал прогулку для пищеварения после обеда по наружным бульварам. Там он был совершенно один и весь отдавался начатой работе. Ничто не мешало его разговору с самим собой, ни стена октруа, самая монотонная из стен, ни деревья, самые монотонные изо всех деревьев. Он шел вдоль стены, вдоль деревьев, бродил, расправлял свои ноги, продолжая беседовать со своим произведением, разбирать положения, рыться в характерах, сочинять лица, поправлять свою комедию, копаться в своей драме, искать, думать, находить, создавать.
XX
Действительно, хотя произведение, начатое Шарлем, принадлежало скорее к достоянию наблюдательности, чем в миру чистой фантазии, оно все же требовало творчества в целом и по воспоминаниям, сочинения по натуре, вдохновляющей идеи социального романиста. Его книга должна была охватить неопределенный строй индивидуумов, не заключенных в отдельную касту, но составляющих класс; сочинить характеры, которые не были бы личными и дагеротипными, но обобщенная правда которых достигала бы идеала реализма: типичной индивидуальности и резюмировала бы предмет во всей полноте и во всех подробностях его элементов. В сходстве он должен был отыскать оттенки, фон и весь мир окружающий это общество, относящееся ко всем мирам: Буржуазию. Этим великим именем назывался роман Шарля и какое огромное развитие общества и правительства он хотел описать!
В его романе главной идеей была градация и собрание трех поколений буржуазии, показанная в трех различных временах под тремя различными формами.
Сначала дед, покупатель национальных имений, человек положительный, основатель родового имения и воплощение чувства к собственности; собиратель земли, прячущийся вне того, что не касается пошлины, от великих экономических законов циркуляции денег; жестокий к себе, жестокий к другим, этой крестьянской жестокостью, которая напоминает Катона в Риме, и прогоняет деревенское население к более человечному крепостному состоянию в городе; человек, совершенно отдалившийся от великой семьи отчизны; человек, погрузившийся в грубый и ограниченный эгоизм и безверие, готовый наперед все осилить, если это ему не повредит. Затем Шарль поместил отца, с его откровенностью, преданностью, великодушием, стремлениями, верованиями в человеческую или национальную солидарность; увлечениям и страстям научили его пребывание в солдатах в молодости, война Империи, потом мирные войны, политическая борьба реставрации; великие войны и благородные битвы переделали его кровь, расширили грудь, возвысили его сердце и вложили в него как бы душевное величие чести, как последняя реставрация создала самые здоровые, самые прекрасные добродетели буржуазии XVII века. Внук этого деда, сын этого отца, скороспелый юноша, в двадцать лет уже зараженный наукой опыта, нечто в роде ребенка-старика, сосредоточивал в своей особе холодное тщеславие, стремление возвыситься, сухость и расчет в интересах, нравственное чувство, пошатнувшееся советами и искушениями скандальных удач, весь практический скептицизм современной молодежи.
Женский тип в произведении Шарля соответствовал каждому типу мужчин, пополненный страстями или красотами души женщины, выставленной в трех поколениях буржуазной фамилии. Бабушка представляла из себя женщину, приниженную мужем, не позволявшим ей вмешиваться в дела; обладающая его скупостью, она исполняла в доме роль рабы-хозяйки. Мать – была супруга, жившая общей честью, разделявшая прекрасную и чистую совесть её мужа. Она была святою женщиной: мать семейства, женщина домашнего очага, живущая для своих детей и с ними, отдающая им ежечасно всю свою душу, относящаяся в ним как старшая сестра. Затем шла дочь, молодая девушка сегодня, вскоре женщина.
Из этого характера, свойственного нашему веку, из её детства, проведенного в товарищеских отношениях со своими родителями, как отца, так и матери, из её воспитания, почти одинакового с воспитанием мужчины, из её нового положения в салоне, Шарль создал две породы и два вида: одна скрывала под прикрытием своего пола душу своего брата, его бессердечную созрелость, его вкоренившиеся прихоти, его разочарования, его скороспелое безверие, увеличенные и утонченные её женской натурой; другая, обладая свободой, искренностью, грацией, возвышенным и мужественным сердцем, представляла всей своей особой нечто прекрасное и великое: честного человека в честной женщине.
Таков был план романа, где Шарль хотел возвыситься до социального синтеза, описать в её полном развитии плутократию XIX-го века, и заинтересовать внимание публики не трагедией событий, не столкновениями фактов, не ужасом и волнением интриги, но развитием и психологической драмой волнений и нравственных неудач.
Как ни запирался и прятался Шарль от мира, зарывшись в работе, все же ему попались под руку несколько номеров журнала, где его слегка задевали.
Он готов был угадать в этих писаниях перо Нашета или, по крайней мере, его слова и диктовку, внизу значилась его подпись. Это первое наказание, которое налагает маленький журналец на того, кто покидает его; вся злоба, досада, зависть, оставленная им позади себя, покидает свое бездействие и молчание, возвышает голос, делается смелее и начинает мстить. Но Шарля едва коснулись эти нападки, он сейчас же забыл все, что прочел, так он был занят своей книгой.
XXI
«Баден. Сентябрь.
Удивительный, оглушающий, ошеломляющий город, с его улицами, гостиницами, обществом, город, имеющий вид города и вместе с тем не город, город очарованный случаем, город невозможный, построенный на сваях на Потозе, меняющем русло каждую секунду, город, встряхиваемый как мешок с лото, город звучный, как ярмарка фортуны, город, где ходят по грудам серебра и по битым черепкам, город, походящий на жизнь, несущуюся галопом. В четверть часа в нем миллионер имеет долги, а лакей имеет прислугу; это – ад Данте, утоляемый надеждой, опьяняющей надеждой! Город, имеющий только игорный стол, на котором пляшут ночью, как после ужина пляшут на сукне бильярда; город, где нет ни мужчин, ни женщин, ни человечности, ничего, кроме рук, бросающих и собирающих; город, где нет более природы: деревья зелены, как зеленый ковер, а небо… неба тут нет более: это двойная ставка судьбы! Город сумасшедших, где более умные делают вычисления, чтобы поймать счастье; город где деньги – не деньги, не ценность, не вес, не труд, не причина; где они – счастье, мечта, каприз, игрушка, ветер, дождь – это Баден, мой милый, и я в нем нахожусь.
Это было… какой день? Во всяком случае не позднее чем третьего дня. Я не встречал никого. Париж весь выехал. Я беру пропуск и пятьсот франков в «Скандале», и попадаю сюда.
– Нашет!
Это был Шоз, знаменитый водевилист, не знаю другого его имени. Встречаю Блезара, встречаю Мине, встречаю всех.
– А ты играешь?.. У тебя есть деньги? При этом бутылка рейнского, которая опьяняет меня. Умеешь ты играть?
– Да, в войну.
Проходит Галлардэн, который предлагает мне денег. Я ему даю луидор.
– Играй на шестой номер, играй на зеро!.. Нет… Да… Нет… Девятый! В ушах у меня начинает звенеть.
– Идем! к игре! Ты счастлив в игре?.. расстегни вторую пуговицу на жилете. Это принесет счастье. Я вижу проходящего вдали Масье, который точно декламирует стихи, делая жесты руками. Я подхожу к игре. У меня был вид застенчивого человека, который преследует женщину на улице. Я ставлю сто франков на красную и выигрываю. Черную, сто франков; проигрываю. Черная, сто франков, опять проигрываю.
«– Ставь на красную, – говорит мне Блезар.
– Черную! – говорит Мине.
– Синюю! – произносит водевилист.
Я ставлю на черную сто франков. И снова теряю. Я увлекаюсь… и… ограблен! Я разделяю свои последние сто франков на двое… Обчищен совершенно!
– Ты плохо играешь… Разве черная не выходила?.. Шесть раз… Причем ты? – спрашивает меня водевилист.
– У меня есть мой пропуск билет и я уезжаю!
– Дурак! У тебя есть часы.
– Так что же?
– Да тут все часовщики дают вперед…
Все смеются. Я не понимаю.
– Часовщик, это mont-de-piété страны, теперь, понимаешь?.. А!
Я нахожу часовщика, который держит только богемский хрусталь. Я бросаю ему часы, схватываю сто франков и возвращаюсь к игре. Я вижу нумера… Пафф!.. Мои пять луидоров на девятом нумере… Погиб! Я отхожу от стола. Ноги мои дрожат. Я останавливаюсь.
– Эй господин, это вы…
– Нет!
– Да вы же, вы выиграли.
– Я думал проиграть и выиграл! Куча золота на мои пять луидоров. Я поставил еще раз, два, не знаю, сколько раз.
– Что вы делаете? – сказал мне какой-то игрок, – оставьте!
– Ничего! Я собираю золото – что-то около трех тысяч франков. Я выхожу из игорного дома, меня чуть не давит карета; я встречаю публику, и никого не узнаю. Я нанимаю в отеле несколько комнат в нижнем этаже и приглашаю прохожих обедать. Устраиваю большой обед. Пьют мертвую чашу, за различные вещи, за интернациональную литературную собственность, не знаю, еще за что? Я беру тысячу франков и иду играть; приношу еще семьсот. Я точно избит от усталости. Засыпаю как святой, и какие вижу сны!.. Я сорвал банк. Господин Беназе с отчаянья проглотил лопатку крупье. Я ему назначил пожизненную ренту, крупье попали в общество; один из них сделался библиотекарем поземельного кредита, самый безобразный стал амуром у акробатов, в апофеозах. Я повелевал разломать Баден и устроить там игру в домино. Блезара я одевал в золотой плащ. Мине, как другу, назначал пятьсот франков в месяц. Я основывал многоязычный журнал для уничтожения романов-фельетонов. Я обивал мой рабочий кабинет белым кашемиром. Я покупал денежный сундук, куда можно было бы спрятать честную женщину или злостную банкротку. У меня были массивные серебряные лошади с рессорами, груммами из драгоценного жемчуга, купленные у Рудольфи… Монбальар также снился мне; он видел меня лысого, как цезаря, с лавровым венком из кредитных билетов на голове, он говорил мне ужасным голосом:
– Я хочу твоих волос! – и прыгал к моему венку; мы дрались, я ударяю кулаком знаменитого водевилиста, который будил меня.
– Хочешь сделать водевиль?
– У меня нет времени: я составляю себе богатство.
Я пью воду из кремня, украденного на поле Меттерниха.
Выкуриваю полсигары и иду играть. Играю на девятый номер, на седьмой, на одиннадцатый, на зеро… Я ограблен на два билета по тысяче франков. Я выхожу, читаю машинально афиши, названия лавок. Наталкиваюсь на Ролана, который перескакивает через меня, как через препятствие.
У него цепочка от часов и новое пальто. Мне кажется, что идет дождь. Я возвращаюсь в игорный дом. Мине сделался трех цветов; он выиграл три раза; мне говорят: «банк теряет, ставьте скорей». Я ставлю пятьсот франков, выигрываю на двадцатом номере; пять остальных проиграны! Я играю на сто франков. Двадцать минут я колеблюсь. В последнюю минуту из двадцати дело сделано; ни одного су! Я бегаю по городу. Мне надо встретить хоть кого-нибудь. Никого! В отеле мне говорят, что Блезар выехал в коляске с двумя дамами в бархатах. Натыкаюсь на водевилиста в углу площади. Я кричу ему: «сто франков и я сотрудничаю с тобой!» Он отвечает: «Сто франков и я принимаю тебя!» – «Обчищен! Обчищен! Обчищен!» кричит Мине на другом конце площади. Это меня пугает, я спасаюсь к часовщику, продающему богемские стаканы! «Двадцать франков!» – Невозможно. – «У меня семья!..» – У меня тоже, – отвечает часовщик, «Но Христофор Колумб был в моем положении: он представил идею, ему дали лодку и он открыл Новый Свет».
Он делает большие глаза, открывает кошелек: я получаю двадцать франков. В десять минут я делаю из них пятьсот франков, тысячу, две тысячи и спадаю на триста восемьдесят франков. Внезапно я испытываю головокружение. Я иду подстричь бороду к парикмахеру, напротив – стеклянный ящик с красными рыбами, между которыми есть одна толстая рыба, переваривающая хлебные облатки с важностью старой красной рыбы, медленно кружащаяся и при каждом повороте ударяющая хвостом маленькую стеклянную женщину со сложенными для молитвы руками, находящуюся на дне аквариума, которая то и дело качается и подымается: это напомнило мне удары несчастья на верующую душу.
«Кончив с бородой, я нос к носу столкнулся с магазином кукушек из Шварцвальда. Я покупаю их кучу, целых пять! У меня остается двести семьдесят три франка. Я направляюсь в отель. Спрашиваю счет. Подаю три франка нищему, который мне показался бедным. Прихожу к игорному дому. У Ролана нет более ни пальто, ни часовой цепочки. Какой-то господин выиграл тридцать тысяч франков; бургомистр, саардамский бургомистр, как все бургомистры. Я делаю пять ставок. Номера выходят глупые. Через пять минут я принужден занять один су у инвалида, чтобы перейти мост Искусства. Я прихожу в отель. Получаю счет во всей его полноте. Я складываю его и затем обедаю. Выхожу: ни Мине, ни Ролана, ни Блезара, ни водевилиста… и… ни одной сигары, ни полчашки кофе. Войдя в отель, начинаю диалог с гарсоном:
– Милый мой, вы христианин?
– Да, господин, что вам угодно?
– Дайте мне сорок су.
Наконец я могу выпить кофе и выкурить сигару. Последнее появление мое в отель: открываю счет; что-то около трехсот франков. Есть они у тебя? Если у тебя их нет, я останусь в залоге, до тех пор, пока они у меня будут. Но я предпочел бы, чтобы они у тебя были. Благодарю заранее, если ты можешь, если же не можешь, извини.
Твой друг Нашет».На это письмо Шарль отвечал:
«Я очень рад, мой милый Нашет, что могу оказать тебе маленькую услугу, о которой ты меня просишь. Только, как ты сам можешь думать, я имею намерение оказать тебе и другую услугу, обязуя тебя укротить твою очень умную критику; остановимся на этом и пусть наша дружба ограничится равнодушием двух: раскланивающихся знакомых».
XXII
– А, это ты Кутюра!
– Да, я, «ipse» Кутюра! Я перепрыгнул через твоего швейцара и вот переступаю порог твоего жилища. Кстати, правда, скажи пожалуйста, что ты теперь живешь с книгой, как муж с женой? Вот все мои друзья становятся серьезными людьми!.. Это ужасно для меня… ужасно… ужасно… – повторял Кутюра напевая. – Когда я увидел, что я тебя более не вижу, я подумал, что ты поступил в духовный орден или в дипломаты… и проходя мимо твоей двери, зашел посмотреть… посмотреть… У тебя очень мило… Смешно, тут совсем не пахнет женщиной… Но очень мило… Этакий скрытный Демальи! Я всегда говорил: не доверяйте Демальи, он тщеславен? Он хочет писать в «Révue des Deux Mondes»… И так ты хорошо поживаешь?
– Я работаю.
– Работать – это молиться! говорит один романс… Все ж таки очень, очень мило устроено, – продолжал Кутюра, взяв пенковую трубку из резного деревянного ящика, на котором табачный лист цеплялся и свивался в восхитительном стиле и с удачной фантазией немецких орнаментов.
– Я ломаю все мои трубки… А что, хорошо идет то, что ты пишешь? Маленький шедевр, а? – и Кутюра, чтобы подкрепить свою шутку, тотчас же преподнес Шарлю неприятность.
– Ты читал вчера?
– Что?
– Как, ты не знаешь, что тебя поддели?.. Нашет… Он тебя уколол, мой милый… Ты бы должен ответить, написать…
– Если я буду отвечать, я не буду писать, мой милый.
– Как хочешь. Но ты знаешь: если не покажешь зубы с первого раза… Я ведь для тебя говорю.
– Благодарю.
– Надеюсь, ты меня не считаешь способным на все эти глупости… Что это дорого стоит?
– Эти сангины? Я заплатил за них двести франков Мейеру, торговцу английских рисунков.
– Ого, двести кружочков!
– Но ведь это работа от руки, – продолжал Шарль, сохраняя серьезный вид.
– Видишь ли, мой милый, – продолжал Кутюра, – очень хорошо писать книги… даже прекрасно; я смотрю на это, как на самопожертвование. Но… ты сделал глупость, бросив газету, потому что… видишь начало. Если бы ты остался, тебе бы не надоедали, или если бы и надоедали, то очень мило… Всегда обращают внимание раньше, чем задеть человека, имеющего четвертку бумаги в руке… но господин, как ты, который сидит в своем углу и не нуждается ни в ком… Все же это сильное оружие, газета. Да хоть бы я: я очень хорош со всеми; и все же, если бы я завтра ушел из «Скандала»… ты бы увидел! На меня бы насели… Нашет раскритиковал бы меня, как он тебя раскритиковал.
– Или как ты меня раскритиковал, неправда ли?
– Шутник!.. А, ты смеешься над твоими приятелями? Но даю честное слово, я критиковал тебя, но не очень жестоко, я критиковал тебя с доброй целью!.. Да, я хотел отвлечь тебя от твоей книги и дать тебе в лапки газету…. Ах, вот изящное бибело!
Этот титул Кутюра адресовался к стенным часам, по которым лезли амуры из саксонского фарфора, одетые в всевозможные костюмы прошлого времени, начиная с амура-маркиза и кончая амуром-Диафуарус.
Кутюра с очень естественным видом предался созерцанию этих амуров, и несколько минут ничего не говорил. Он обдумывал следующее: он наметил одного капиталиста для своей газеты, для газеты, о которой он мечтал, и план которой был у него совершенно готов. Свободный от страсти в литературе, свободный от зависти, Кутюра одним холодным взглядом определил и оценил Шарля. Один он понял цену его статей в маленькой газете. И этот талант, слишком серьезный для газеты Монбальара, слишком живой для доктринерской журналистики, казался ему лучшим приобретением для большой газеты, которая должна была жить интересами маленькой газеты. К тому же Кутюра ничего не забыл в «Скандале», чтобы заглушить успех Шарля, отбить вкус к его статьям у Монбальара, одним словом унизить человека, которого он добивался и берег для себя. Кутюра знал, что Шарль обладал огромным литературным самолюбием; поэтому он был уверен, что, сотрудничая, Шарль употребит все свои силы, весь свой труд; он был уверен в тщательной работе, которая будет всегда иметь совестливость статей дебютанта, наконец, Кутюра, видя в Шарле свой хлеб, знал, что он будет сговорчив в денежных вопросах; он не будет требователен; его можно будет просить подождать, тронуть фальшивым бедственным положением массы, короче сказать, Кутюра рассчитывал эксплуатировать этого светского человека всеми способами, которые невозможны с литератором, дожидающимся своего дня в неделе, чтобы пообедать.
– Послушай, Кутюра, – сказал Шарль, прежде чем Кутюра нашел мотив, чтобы начать разговор, – ты пришел сюда ведь не для того, чтобы сказать мне, что меня раскритиковали… Это удовольствие для друга, но для друга интимного… А ты в первый раз приходишь сюда… Ты чего-то хочешь от меня, скажи же, чего?
– Видите ли. Невозможно перехитрить его!.. Ну хорошо, приступим к делу прямо… я это лучше люблю. Вот в чем дело: я нашел человека, открывающего фонд в двести тысяч франков для газеты, для большой маленькой газеты… ежедневной, которая перед газетой Монбальара, тоже, что Чимборазо перед холмом Монмартра…
– Пропустим объявления…
– Пропустим объявления. Я управляю газетой. Ты меня знаешь: я не мелочен… между нами не будет недоразумений… Хочешь быть его главным редактором?
– Благодарю тебя, мой милый.
– Постой, мой милый, не отказывайся так… Что я тебе предлагаю! Я говорю тебе, это огромное дело: двести тысяч франков за ним… Я заключу с тобой условие на год, если хочешь… Положение, подумай!.. Я возвращусь завтра, а? – И Кутюра взялся за шляпу.
– Очень рад, только…
– Только?
И Кутюра остановился у двери.
– Будем говорить о чем-нибудь другом, если тебе все равно.
Кутюра бросил свою шляпу, и остановился перед Шарлем, обе руки в карманах.
– Милый мой, есть люди более известные, чем ты, которые подпрыгнули бы от радости при моем предложении… Я не говорю тебе, что я подумал о тебе, потому что я добрый малый и ты также… Мы не в таких летах, когда говорятся такие вещи и когда им верят. Нет… Но ты знаешь, я не льщу людям, и говорю правду в лицо. У тебя есть жилка, что-то возвышенное, что-то подгоняет читателя, мысли… они не валяются по улицам, эти мысли… И молодость, и все… и талант, без хвастовства… Ты мне очень подходишь для газеты. Ты не сорвиголова, как Нашет… Ты человек приличный, понимаешь ты?
– Кутюра, я с прискорбием замечаю, что ты принадлежишь к очень дурной исторической школе. Нет людей необходимых, есть только люди полезные.
Кутюра снова взялся за шляпу.
– Не прошло бы и полгода, ты бы держал издателей в руках, ты открыл бы себе двери больших газет… Имея в распоряжении двадцать парижских обозрений, ты бы составил себе имя, свою публику… ты был известен, ничто не помешало бы тебе стать знаменитым… У тебя были бы пропуски на всех железных дорогах, друзья везде понемножку, это самое лучшее, если хочешь их иметь. Теперь ты слишком заносчив… ты не хочешь делать как другие… это твое дело. Я думал, ты умный человек…
– Еще раз, мой милый, благодарю тебя, что ты так хорошо думаешь обо мне и предлагаешь мне будущее… Если я отказываю тебе, это просто потому, что я хочу сделать что-нибудь похожее на произведение. И потом, может быть это предрассудок, но я думаю, что умные люди проходят в журналистике, не оставаясь там: это гарнизонная жизнь литературы.
– Это твое последнее слово?
Шарль сделал утвердительный знак.
– Пойду, найду Гальардена, – сказал Кутюра, пробуя возбудить зависть Шарля этим именем.
– Он, конечно, примет предложение.
– Ты сохранишь мой секрет, неправда ли?
– Конечно… До свиданья.
– Не сердись… Ничего, ты будешь жалеть, увидишь! Ты употребишь десять лет, чтобы пробить дорогу десяти статьям, помни это.
Кутюра спустился с лестницы, сквозь зубы насвистывая арию. Он обещал себе натравить Нашета на Шарля, раздразнить Шарля, надеясь, что в один прекрасный день уколы заставят его выйти из этого аффектированного спокойствия.
Он предугадывал это, он предвидел уже, какая занимательная комедия, какая славная афера будет для его газеты, – злоба и негодование Шарля, устремившиеся на Нашета с комической силой и взбешенным вдохновением личного памфлета.
XXIII
Шарль нашел издателя. Он испытал радость от своего первого опыта, усталость от последующих, и нетерпение при последнем опыте. Его книга появилась. Она красовалась в витринах в красивой бледно-желтой обложке; и даже некоторые книготорговцы сделали ему честь, предоставленную только известным именам и книгам с будущим, вывесив объявление: «Поступила в продажу».
Шарль улыбался, глядя на витрины, которые, казалось, ему показывали и содержали в себе часть его самого. Он был весел, доволен целым миром и самим собой, когда однажды вечером, после обеда, ему пришла фантазия пойти в кафе Риш, спросить мнения своих собратьев.
Внутри кафе еще никого нет. Один Нашет, облокотившись на красную бархатную спинку дивана, засунув руки в карманы, рассматривает золоченые плафоны и свирепых горгон между орнаментами, бросая иногда злобный взгляд на приходящих и проходящих, посматривая на часы и пуская дым плохо курившейся сигары. Входит Перраш.
– А! Это ты! Поздно же ты приходишь. Откуда тебя чёрт несет? У тебя вид новобрачного… Я встретил Блезара, он находит тебя ужасно глупым… Что такое у тебя на глазу?
– Ячмень, – спокойно, почти улыбаясь, отвечает Перраш, привыкший к обращению Нашета.
– Это – ячмень!.. Я должен тебя вывести из заблуждения… Это… это я забыл название, ужасное название! Я тебе скажу чем это кончается: тебе вывернут веко, раскроют, вытащат это щипцами, прижгут ляписом, промоют соленой водой… Все эти штуки не очень смешны, знаешь ли ты?.. После чего, у тебя пройдет, пока снова не вернется… Скучно то, что это всегда возвращается!.. Сыграем, а? Ты опять меня ограбишь, как вчера… А! Флориссак!
И Нашет приблизился к окну кафе, полуоткрытому на улицу Лепелетье.
– Куда ты идешь, Флориссак? Я иду туда же.
– Невозможно!.. – отвечает с тротуара Флориссак, – я иду веселить моих сограждан… буржуа.
– Ты перемешал домино? – говорит Нашет, возвращаясь к Перрашу. – Мы играем по пяти франков… Я уверен, что ты опять выиграешь… Дуракам счастье.
– Ты не нашел места на первое представление сегодняшней пьесы? – спросил Перраш.
– Сегодняшняя пьеса?.. Я ее достаточно видел! на репетициях. Места не достал! Вудене и Лорен предлагали мне место в их ложе… Места не достал! Кретин!
– Не сердись… я тебя спрашивал… как если бы я спросил…
– Перраш, тебе следовало бы жениться…
– Для чего? говорит Перраш, тем же спокойным тоном.
– Для меня! – говорит Нашет, кладя двойные шесть очков.
В литературном мире встречается часто особый род людей, которые трутся около литераторов; людей, пришедших с биржи, из высшей коммерции, из министерств, из всех профессий и слоев общества, и составляющих ту большую армию, которая увеличивается новыми рекрутами: «шлейфоносцами». Неизвестные люди, привязавшиеся к какой-нибудь большой или маленькой знаменитости, которая до того делается им близкой и, так сказать, личной, что они готовы поверить в чудо перемещения их самолюбия; скромные и гордые в своем унижении, как святой Христофор, они несут на своих плечах славу, или только мелкое тщеславие другого; призванные натирать сапоги у статуи великого или маленького человека, который говорит им ты, по своему нежному, услужливому и не обидчивому характеру, эти шлейфоносцы чувствуют к писателю, которому они поклялись в верности, особенную привязанность, которая своими многими сторонами напоминает терпение супруги и преданность любовницы. Жестокия шутки, ирония, грубости не отвращают этих убежденных клакеров, иногда истинных мучеников, от их богов: они считают себя вознагражденными за все это словом в статье, интимностью, стулом в ложе, пожатием руки знаменитости… Иногда даже случается, что их привязанность не имеет даже выгод хвастовства, и что их поклонение действительная страсть. Но искренность, подчиненность их дружбы редко обезоруживает того, кто служит её предметом. Жизненная борьба, постоянные уколы и страдания самолюбия, ложность победы, беспрестанные поражения или, по крайней мере, заблуждения обуревающей гордости, которая скрывается как позор под аффектированной самонадеянностью, поддерживают в литераторе язвительность, похожую на то расположение духа, с каким встают по утрам люди, страдающие какой-нибудь болезнью. Заваленный ежедневными личными страданиями, которые как бы подкладывают ему металл под кожу, он теряет чувствительность, нежную инстинктивность, деликатность и чувство благодарности душ чересчур молодых: и он принимает дружбу шлейфоносца с грубостью и смехом ветерана, смеющегося над ранами новобранца. Нельзя сказать, чтобы он был окончательно дурным: но ласки, излияния, сладости и братская дружба не его ремесло, не подходят в его опытности; в дружбе он ищет права эксплуатировать человека, его волю и сердце, он желает встретить в друге нравственную подчиненность, рабскую услужливость. К тому же ирония есть подкладка социального духа литературы; она есть темперамент, тон и форма последней. Более того – это наступательная защита, которую надо постоянно пускать в ход и для которой необходимо посмешище. Это – сила, которую нужно постоянно упражнять ударами по какой-нибудь дурацкой башке. Отсюда эти превосходные дурные отношения, – отношения Нашета с каким-нибудь Перрашем.
– Чёрт возьми! – и Нашет бросил свое домино на стол. – Мне совершенно не везет…
– Но ты выиграл первую партию…
– Я выиграл первую, потому что ты играл как чиж… Что ты сказал?
– Я ничего не сказал.
– У тебя молчание глупое, Перраш… Ты единственный в своем роде, честное слово! Для… Посмотри-ка! Красотка.
В это время приходит господин, высокий как тополь и совершенно лысый, «самый молодой из наших драматургов», как его называют друзья. Он входит с пальто под мышкою, беспокойным шагом, глаза его бегают по всей зале. Он кладет руку на плечо Нашета, чтобы поздороваться, берет стул, хочет сесть, раздумывает и вертит стул на одной ножке. Он прикладывает руку ко рту; она скользит и останавливается у кадыка. Улыбка его сияет.
Кафе наполняется. Молодые люди, «очень приличные», возвращаясь из цирка или из Шато-де-флёр, угощают фруктами и чаем лореток первого разбора, которые пальцами указывают на знаменитостей в глубине кафе; молодые люди делают большие глаза, прислушиваются и стараются уловить на лету слова журналиста Нашета или Перраша, друга журналиста Нашета или, пришедшего последним Гремереля, драматического автора.
Гремерель все улыбается. Он переводит взгляд от женщины, сидящей в глубине, в Нашету, которому он указывает на нее глазами.
– А?.. Прелестна!.. Прелестна!.. Неправда ли. Ремонвиль не приходил?
Оба игрока отрицательно качают головами. Гремерель снова берет свой стул:
– Гарсон!
– Что угодно?
Гремерель садится на стул, подняв колено к носу, каблуком упираясь в красный бархат стула и обеими руками обхватив поднятую ногу:
– Что у вас есть?
Гарсон начинает перечислять прохладительные.
– Гарсон, у вас есть шоколадное мороженое?
– Все вышло, сударь.
Гремерель подымается и, взяв гарсона за пуговицу его куртки, говорит:
– Гарсон, вы рождены, чтобы служить в Монако: спрашивают бифштекс в Монако, нет более, весь вышел!.. Двор все разобрал…
– Сударь…
– Слушайте меня внимательно: – спрашивают свежего хлеба: нет его, весь вышел, двор все разобрал…
– Сударь…
– Да, гарсон, в Монако… Я хотел купить дом… в Монако… Спрашиваю о формальностях, что надо сделать… и есть ли законы в Монако… Гарсон говорит, что есть даже кодекс в Монако. Я говорю: очень хорошо, я пойду куплю его. – Господин, он находится у сборщика… говорит мне гарсон. У них кодекс не напечатанный, гарсон!.. Нет шоколадного мороженого! Пусть меня отправят в Монако!..
– Сударь…
Гремерель садится; потом снова встает. Смотрит на входную дверь. Собирается выйти. Возвращается.
– Гарсон!
– Что угодно?
– «Аугсбургскую Газету».
– Мы не получаем ее.
– Вот это так… Скажите вашему хозяину… Мы уходим… все!
Оба игрока делают утвердительный знак головою.
Гремерель расстилает носовой платок на мраморном столике, кладет на него голову, вытягивает обе руки и начинает отбивать ногтями по столу марш. Потом вдруг прерывает себя, вздохнув:
– Боже мой, зачем ты сделал женщину такой прекрасной и мужчину таким слабым? – Потом снова впадает в немоту, и начинает играть марш.
Было половина двенадцатого. Кафе наполнялся. В полночь диван, который недавно Нашет занимал один, был весь занят, и посетители теснились на нем. Гарсоны бегали, разнося шоколад, мороженое, баварское пиво. Публика говорила, присаживалась, заказывала, звала, раскланивалась. Было шумно, болтовня разгоралась… Вообразите себе залу конференции литературного мира. Тут были реалисты, мечтатели, критики, романисты, журналисты, фельетонисты, водевелисты, словом, всевозможные образчики первого разряда людей, принадлежащих перу; молодые, старые, с развевающимися шевелюрами, с монашескими черепами, брюнеты, блондины с красными ленточками и свежими бутоньерками. Тут можно было встретить критика с триумфом, носящего ложный успех; последнего джентльмена литературы, который умеет еще сказать гарсону: «бездельник», и заставить извиниться жен премьера; великого драматурга, который отлично подражает Лассанью и очень скверно Шекспиру; поэта, который изображает драму Гюго и старается натянуть лук Геркулеса; каскадного гения, укравшего практику у Грассо; исповедника Бернереты; забавного автора «Тысячи и одной ночи ссудной кассы»; критика-буф, прекрасно рисующего карикатуры на песке палочкой Арлекина; колкого критика, полного вдохновения, прокалывающего каждую неделю своим железным пером картонных знаменитостей театра, деревянных актрис и простонародные пьесы; юмориста, которому Мюссе завещал написать «Денизу»; мрачного журналиста, убежденного, что солнце закатывается; знаменитого философа, который всю свою жизнь искал истины на дне стакана; автора пьесы, двадцать четыре первых представлений которой дали ему больше денег, чем двадцать четыре представления «Свадьбы Фигаро»; внучка Смарра, тоскливого поэта; водевилиста, называющего Софокла по-гречески и Скриба по-французски; и того, и другого, и третьего, кончая крупным издателем с цветком в бутоньерке, и тростью с золотым набалдашником, подпирающим подбородок, который слушает глупые шутки литературного дебютанта, желающего пристроить свою книгу. Каждый говорил что-нибудь среди шума ложек, звенящих о блюдечки, чавкающих губ, поставленных на место графинов, и общего гула.
– Сто представлений!
– Да, она пожалуй выдержит.
– Полноте! Пьеса объявлений! «Альманах Ботена» в водевиле.
– Там что ж такое?
– Они отлично устроились, – говорил один своему соседу. – Они получают до девяти тысяч франков за кулисами. Крупный цветочник посылает три парюры цветов в полтораста франков каждую… Знаменитый перчаточник, кажется, по две дюжины перчаток, каждому автору… Все это заплаченное третьей…
Во время этого разговора шум все увеличивался.
– Литературная!
– О! Литературная пьеса!
– Будемте говорить только по трое зараз, а?
– Литературная!.. Это хвастовство!
– Хвастовство!
– Хвастовство.
– Что это за желтый томик с подписью Демальи?.. Это тот Демальи, что пишет в газетке Монбальара?
– Да, он ушел оттуда из-за несходства в убеждениях.
– Подвинься немного Гремерель… что с тобой сегодня?
– Я поражаю демона чувственности, – говорит Гремерель, продолжая лежать щекой на мраморе.
– Кто читал его?
– Желтую книжку?
Два или три голоса произнесли: я! Один прибавил:
– То есть я начал, потому что…
– Слишком сложная машина для него!
– Он попал себе немного пальцем в глаз, этот славный малый.
– А слог!
– Все тут есть… это политико-сатирико-романтико-исторический роман… и еще не знаю что!
– Без интриги!
– Эпитеты, выкрашенные синим, красным, зеленым цветом, как охотничьи собаки Новой Каледонии…
– Говорю вам, там есть места скучные до одурения.
– Мне не показалось так плохо…
– А я нахожу эту книжонку очень сильной, – сказал чей-то резкий и решительный голос.
– О, ты ведь известный! Тебе только бы противоречить.
– Вы ничего, значит, не знаете там, вы, стряпающие парижские новости.
– Что такое?
– Прекрасные партии, которых насчитывают в парижских кружках… как лошадей на скачках.
– О, о!
– Честное слово. По последнему счету в Париже в настоящую минуту находится пятьдесят восемь прекрасных партий. Пятьдесят восемь!
Шарль пришел в ту минуту, когда книга его была совершенно похоронена. Все его знакомые были очень любезны с ним, предлагали ему присесть с ними. Похвалили его панталоны. Говорили о последней дорогой безделушке, которую он купил, об одном из его родственников, которого чем-то где-то назначили. Но o книге его ни полслова; и когда, пробыв тут полчаса, Шарль встал, чтобы уходить, долгие и крепкие рукопожатия его приятелей как бы выражали сожаление и глубокое соболезнование, которое друзья чувствуют при несчастии или ошибке их друга.
XXIV
Шарль вышел из кофейни Риша с предчувствием, что книга его встретит порицания со стороны критики, и он не ошибся. Среди критиков встречаются два сорта их: критики, стоящие ниже разбираемого ими произведения и критики, стоящие выше его. Первые хвалят или бранят, сообразно со своими способностями, своими взглядами, подчас добросовестно и под влиянием зависти. Вторые, более многочисленные, составляющие собственно критическую литературу, в настоящее время считающую в своих рядах наиболее талантов, занимаются ремеслом, почти всегда недостойным их, из-за определенной довольно высокой платы, и смотрят на него, как на единственный верный заработок, доставляющий солидное положение; подобные критики, стоящие выше сочинения, которое они призваны одобрить или осудить, понятно, не заботятся о том, чтобы следить за автором шаг за шагом, разбирать каждое его слово, одним словом, играть скучную и посредственную роль профессора риторики, поправляющего ученическое сочинение. Пусть не прощает им этого авторское самолюбие, но очень понятно, что они идут далее разбираемого ими произведения и, поставив в начале своей статьи его заглавие, на данную тему создают собственные, неожиданные импровизации: они словно играют Венецианский карнавал, вот их манера давать отчет; и публика не так глупа, чтобы сердиться на них за это.
Но, помимо этого вечного недостатка, неодинакового уровня мыслей критика и автора, критика в нашей стране и в наше время подвержена еще совсем особому злу. У нас во Франции нет, подобно Англии, больших уважаемых и влиятельных критических журналов, чуждых политических страстей и вносящих в литературный приговор полную беспартийность и высокий скептицизм чисто литературной критики, критики читателей и судей идейного искусства. Наша критика заключена в узкия рамки журнала, она более или менее придерживается его оттенка, его тенденций и если не его предразсудков, то его убеждений; поэтому она постоянно бывает вынуждена ставить на первый план не достоинство книги, а её дух. Ей не позволяется хвалить произведения враждебного лагеря и хулить произведения своего. Если в романе выведен герой – католик, критик свободомыслящего журнала признает роман отвратительным. Если герой – неверующий, критик католического журнала произнесет анафему не только роману, но и его автору; таким образом наша критика подвержена самому большому несчастью, какое только может существовать для неё: она является критикой партии и избранной партии, белой, красной, синей, смотря по тому, с высоты какой трибуны она говорит.
Книга Шарля столкнулась со всем этим. Книга под названием «Буржуазия», своим содержанием оправдывала свое заглавие и, быть может, бессознательно для него самого, касалась многих сторон общественного порядка; она проводила слышишь много общих взглядов, выказывала много тенденций; она заставляла читателя делать слишком много предположений, касающихся государственного строя; она затрагивала слишком много страстей, слишком много интересов целого класса, чтобы не быть общественным, а, следовательно, политическим романом. Одна партия должна была найти в нем неполную апологию своих идей, другая угадывала в нем презрение к своим взглядам. Великий вопрос французской революции, лежавший в корне его сочинения и служивший колыбелью того порядка, который он хотел изобразить, воодушевлял его произведение под холодною наблюдательностью и анализом. Тщетно он гнался и искал одной художественной правды, его книга являлась одним из тех сочинений, которые возбуждают полемику партий, не удовлетворяя ни одной из них.
И так, книга Шарля была встречена враждебно почти по всей линии. Красные, белые, синие соединились вместе, чтобы уничтожить ее. Это был хор ироний, нападок, насмешек и злости, едва сдерживавшихся в границах приличия, – а иногда и выступавших из них. Его пощадили только два критика высшего порядка: один по поводу его книги обрисовал вкратце историю буржуазных классов до Рождества Христова; а другой воспользовался случаем, чтоб набросать прелестную статью о буржуа, как изображался он Домье.
Выдержать подобную атаку, не дрогнув, было бы своего рода государственной заслугой в литературе. Но очень немногие способны на такой стоицизм; и если бы заглянуть в души самых сильных, даже тех, которые смеются в обществе, показывая, что не чувствуют ударов, то оказалось бы, что раны их внутри. Самые великие, самые славные, даже боги, еще при жизни овладевшие потомством, обезоружили бы, пожалуй, завистников, если бы показали, до какой степени они чувствуют удар пера какого-нибудь невежды, неведомого, и как капля чернил без имени, брошенная по их адресу, отзывается в их сердце!
Для впечатлительной натуры Шарля боль оказалась очень чувствительной. Он постарался утишить ее, на не смог. Неблагозвучные эпитеты, от которых он никак не мог отделаться, точно врезались ему в память и всюду преследовали его. Он ловил себя на том, что вполголоса произносил отрывки фраз, которые он хотел бы забыть. Он чувствовал в себе болезненную простоту, полное безучастие ко всему, и в одно и тоже время, отвращение и потребность к движению. Некоторые статьи, прочитанные перед обедом, производили спазмы в его желудке и совершенно лишали его аппетита, словно известие о каком-нибудь большом несчастии. Он чувствовал горечь и сухость во рту и впадал в отупение, всегда сопровождающее сильное потрясение организма, в котором не отдаешь себе отчета и предшествующее при больших нравственных страданиях излиянию желчи в кровь. Он подолгу просиживал в своем углу, боясь показаться, боясь отголосков, боясь своих друзей и стыдясь выказать подобное малодушие.
XXV
Однажды вечером, находясь в том состоянии печали, когда человек перестает управлять собой, подчиняет свою волю инстинкту и, вместо определенной цели, идет куда глаза глядят, Шарль очутился на том самом наружном бульваре, где, несколько месяцев перед тем, он задумывал и создавал свое произведение. Вся эта штукатурка, большие серые стены, грязные дома и убогие кофейни, эти тощие деревца, которые он узнавал, открывали его глазам и мыслям одно из тех чудных по воспоминаниям мест, где останавливаешься перед группой лип: здесь зародилась первая любовь! Идешь по песчаной дорожке, заросшей травой и ежевикой, и думаешь: далекое и дорогое отечество первой мысли и первого плохого стиха! В этом тенистом уголке, на этой кучке травы прочтен был первый опасный роман! Шарлю точно также улыбались эти жалкие бульвары. Его книга родилась тут, на этом самом грязном тротуаре! Перед ним возникали его образы, его усилия и восторги: у этого выступа стены он нашел такое-то положение; перед тем кабачком он встретил одного из своих типов; прогуливаясь взад и вперед мимо этого большего черного дома, он, наконец, нашел развязку к своему роману. Таким образом перед ним, делаясь все яснее и яснее в ночных сумерках, прорванных местами красноватым светом фонаря, проходили, словно в ночном смотру, один за другим, персонажи его романа, появляясь справа и слева, из дверей домов, из выступов стен, из мостовой, и Шарль, взволнованный прошлыми ощущениями, продолжал свою прогулку, когда из окон одного, темного сверху до низу павильона с палисадником, чей-то голос назвал его по имени.
Шарль поднял голову.
– Извините, – говорил голос, – на мне нет ни мундира, ни орденов… Но позвольте мне, несмотря на это, поздравить вас, милостивый государь: я читаю, т. е. вернее читал вашу книгу; так как свеча моя, как видите окончательно угасла… как поется в песне.
Тогда Шарль различил в черной рамке открытого окна бумажный колпак над рубашкой и рубашку под бумажным колпаком.
– Благодарю вас, – продолжал тот же голос, – вы доставили мне приятный вечер… даже возбудили маленькую лихорадку.
– Ах! это вы, Буароже… Мне сказали, что вы были больны; как вы себя чувствуете?
– Мы, т. е. я и моя болезнь, чувствуем себя недурно, в особенности последняя. Но, войдите же. Я простираю к вам объятия сверху… Словно я обитаю в доме Кассандры… или воображаю себя Коломбиной, умоляющей вас похитить меня… Ах! но я дурак, я забыл… Не подымайтесь. Пантомима становится необходимой. Надзор за мной гораздо лучше, чем за «девицей, которую плохо стерегли»: я заперт… Я уж имел честь вам докладывать, что свеча моя погасла… Вы, может быть, подумали, что это метафора… Так нет, это совершившийся факт, я прибавил бы, исторический, если бы он был вымышлен… Моя хозяйка пошла, за огнем для меня, к соседу, – сосед, со времен хартии, всегда мелочной торговец, – а так как я лежал, то она заперла меня. Послушайте, будьте добры, пойдите ей навстречу и скажите, что я жду ее.
– Но я ее не знаю…
– Вы ее не знаете? Ангел, душка, Афродита! Голова её создана из зерна каприза, мысль подобна свистящему ветру, лицо – улыбке, улыбка – росе, а глаза – звездам! одним словом, та женщина, что выйдет от лавочника… если только она не пойдет в Монмартрский театр, чтобы убедиться в том, что первый любовник похорошел. Но я схвачу насморк, я уж, кажется, чихаю… Покойной ночи! Вы теперь знаете мой дом, приходите ко мне. Я хочу пожать вам руку и сказать все, что я думаю дурного о вашей книге.
XXVI
Эта неожиданная встреча, шутки и рукопожатие через окно со стороны человека, которого он любил за талант и чьим симпатиям он закидывал, доставили Шарлю большое удовольствие, почти счастье. Давно у него не было так хорошо на душе. Он даже запел и сам удивился своему голосу.
Буароже не был ему незнаком. Он встречал его или вернее сталкивался с ним в конторах маленьких газет. Некоторые даже передавали ему, что Буароже защищал его талант и громко высказывал, что он об нем очень хорошего мнения. Но им не представлялось случая сойтись поближе, выйти из пределов обыденных вежливостей людей полузнакомых. Шарль чувствовал себя счастливым и польщенным тем, что его книга доставила ему уважение поэта. В мире писателей существуют подобные приговоры одного лица, более дорогие и приятные их сознанию, чем приговор толпы: они больно чувствуют его презрение, за то подчас он служит им утешением.
Буароже был по призванию поэт лирический. Трудно найти более краткую обрисовку характера героя. Ничто, современное ему, не волновало его, не трогало, его не интересовали ни биржа, ни публика, ни г-н Журден с его халатом, ни поэзия рабочих, ни новые доктрины, ни поклонение прозе, ни культ пошлости, ни бунт против аристократической формы мысли, против священного языка ученых, ни ярые утопии общедоступности и вульгаризации всего прекрасного, делающие ремесло из искусства, ни книги, нисходящие до читателя, ни чаша избранных, превратившаяся в фонтан вина на публичной площади. Беззаботный, ликующий и восхищенный Буароже, лирой Орфея, готов был изливать душу перед нотариусами и барабанщиками национальной гвардии. Он пел и печали свои и радости; словно Саади, увидевший Олимп, он воспевал розы и богов, опять богов и опять розы! Стихи Буароже отнюдь не наставляли в твердости веры. Точно также он не старался влиять на нравственность масс. Он не мечтал ни об рае, ни об академии… Его поэзия, уснащенная шелковыми парусами, золотыми канатами с экипажем, состоящим из амуров, неслась, подобно галере Клеопатры, не нуждаясь во флаге.
Её моралью была одна любовь, а религией – евангелие Гезиода. Мысль тут улыбалась на золотом ложе. Это была поэзия пурпура и солнца, поэзия беспредельного и величественного пантеизма, легкая как танец прелестной Савской царицы, ослепительная как Индийское море, заколдованное море с волнами из света, с гармоническими приливами, выбрасывающее в беспорядке из своих лазурных сетей лучи, раковины, куски розового мрамора, браслеты, колонны храма, двери сераля, смеющиеся статуи, профили Астарты, коралловые гроты, тень Коломбины, огненных гениев, взгляды, поцелуи, благоухание цветов, рубины, бриллианты и звезды! Их ритм звучал, как падение водяных капель с волос бронзовой Венеры в вилле Брунелески. Светлый апофеоз так и играл среди цветущих стихов. Поэма эта – сон Полифила среди бенгальских огней – была настоящей феерией!
Затем, на оборотной стороне этого волшебного храма, Буароже обращал свое перо в резец и карандаш. На досуге своей крылатой оды он набрасывал в оде шуточной грандиозную и могучую карикатуру, комическую маску какого-нибудь буржуа Фарнезского, эскиз, месть, где выказывались эпические ширина и размах Микель-Анджело.
Буароже жил поэзией. Вынужденный поддерживать свое существование, он решился прибегнуть в журналистике. На его прозу явился спрос и фельетон сделался источником его заработка. Но ни авансы газетных касс, ни успех его прозы не могли заставить его разорвать связь с привычкой к поэтическому творчеству. Хотя он и соединил эти две вещи, различные между собой как пачка табаку и женщина, он возвращался, более чем когда-либо, влюбленный, к родному языку мечтаний. Он уходил весь в себя, переставал различать дни и, по целым неделям, проводил с своей музой, не удостаивая парижское солнце чести взглянуть на него. Он создал себе, таким образом, совершенно условный и сверхъестественный мир, откуда, только с большим трудом, могли его вызвать материальные нужды. Можно подумать, что он считал жизнь за дурную шутку, нечто в роде фарса старого итальянского театра, и что он принимал в ней, время от времени, участие единственно из остатка уважения к человечеству. Этим объяснялась, оправдывалась, быть может, одна невероятная добродетель Буароже, доведенная у него до самой высокой степени, сумасшествие и честь некоторых великих и редких артистических натур, это неизлечимое и врожденное бескорыстие, презрение к деньгам, служащее меркою духовного склада данного лица.
В 1848 году один журнал вздумал воспользоваться его антипатиями к аристократам, чтобы заставить его оскорбить одного трибуна; он взял свою шляпу и оставил банковые билеты.
И с тех пор муза его никогда не касалась существующего правительства. Также конкуренция, следовательно, дешевая продажа низкостей в различных общественных сделках, была вещью, до крайности удивлявшей Буароже.
Вторая струна лиры Буароже, смех его поэтических карикатур, слышался и в его разговоре, имевшем совершенно особую прелесть.
Демон иронии владел его речью. Тонкая и колкая, она вполне гармонировала с его голосом, тоже тонким и резким. Презирая вдохновение на разные случаи и пренебрегая деланным остроумием, так называемым остроумием слов, он блистал лучшим французским остроумием – остроумием идей; игра его жестов, взгляда и физиономии была великолепна; неистощимый в обрисовке картин, подробностей, в мимических изображениях, в характеристике нравственных черт, в передаче коротких, живых разговорных сценок, словно схваченных с натуры, он неподражаемо умел обрисовать, одним словом, характер, книгу, любовь; большое удовольствие доставляло ему, внезапно, в пылу разговора начать воздвигать парадоксы выше Вавилонской башни, или употреблять ужасающие гиперболы, чтобы смутить последователей школы здравого смысла. И все это шутник бросал, создавал и уничтожал одним дуновением.
XXVII
– А, это мило с вашей стороны. Вы держите свое слово… Мели, освободи же кресло и дай его гостю.
Так приветствовал Буароже входящего Шарля. Буароже находился в постели бледный, худой, с бородой, небритой более недели, на голове его красовался небольшой бумажный, в синюю полоску, колпак, какой носят художники на работе, вокруг него на кровати и на ночном столике разложены были книги. Его маленькие, живые, беспокойные глаза бегали по сторонам, как взгляд актера сквозь дырочку занавеса.
Стены комнаты были завешаны театральными костюмами, забрызганными гуашью Баллю, среди которых, как в нише часовни, скрывался портрет женщины. Это было прелестное и вместе с тем печальное лицо, нежный тип не то Зефирины, не то Миньоны, который в своем траурном наряде дагеротипа казался мертвой душой среди всех этих живых, ярких одеяний, украшенных блестками. В камине горел большой огонь. На нем грелась совершенно новая сковорода; возле свежая, полная молодая девушка с шрамом во всю ширину лица, одетая в халате поэта, присматривала за жарившемся цыпленком, опустив на колени роман, вырезанный из какого-то журнала.
– Знаете… это решено, я сделаю для вас где-нибудь что-нибудь… я еще не знаю как… но мы поищем… я, может быть, кончу тем, что возьмусь за перо и выскажу мое мнение… я скажу тоже, что говорил и вам… В книге вашей много знания… Вы, вероятно, много видели на своем веку, но мало жили. У людей мысли только и могут являться мысли. Бальзак женился: это единственное приключение его жизни. Думается хорошо только в тишине и как бы во сне, относительно всего, что совершается вокруг вас. Волнения не годятся для упражнений воображения. Нужно проводить дни правильно, спокойно, нужно, чтобы все ваше существо пребывало в буржуазном покое, в сосредоточенности лавочника, для того, чтобы создать что-нибудь великое, прочувствованное, захватывающее, нервное и драматическое… Люди, обуреваемые страстями, живущие нервами, никогда не напишут страстного сочинения. Это старая история ученых, которые поучают: они разрушаются… О чем же я говорил вам… Да, мы должны вас поддержать… Нужно, чтобы ваша книга продавалась. Не скрою от вас, что это равносильно чуду. Дело идет о том, чтобы принудить человека, здорового душой и телом, к тому же серьезного, даже мудрого, одним словом, человека, умеющего отказать жене в обновке, принудить, говорю я, такого человека совершить нечто странное, фантастическое, безумное… Да, сударь, это разумное существо, которое Бог создал по своему образу и которое возвратило ему этот образ сторицей. Великое изречение, не принадлежащее мне, этот человек вынет из своего кармана трех франковую монету!.. Три франка! Бывают дни, когда готов отдать три миллиона за три франка… и отдаст ее за маленькую книжонку, одну из тех ужасных книжонок, которые современная типография печатает ногами, да еще обутыми в сапоги с гвоздями!.. Случилось это в силу какой-то тайны, быть может, какого-то неисследованного и необъяснимого колдовства… особого эпидемического поветрия, почем знать… но это еще ничего не значит. Хотя ваша книга и продана; нужно еще, чтобы она была разрезана… и наконец целая вечность между всем этим, чтобы она была прочтена! Человек с тремя франками купил ее, заплатил и унес с собой под влиянием какого-то сверхъестественного давления на его волю. Он возвращается домой и углубляется в самого себя. Ваше имя ему неизвестно, он не доверяет вам. Он знает себя, но не доверяет и себе; он страшно боится собственного суждения, он не привык самостоятельно мыслить, всякое мнение всегда представлялось ему национальной собственностью, чем-то таким, что все одолжают каждому… Заметьте себе, что человек этот являет собой публику: он вас ревнует, как может ревновать читатель автора.
И для того, чтобы в конце последней страницы читатель согласился бы, что у вас есть талант, вы должны пройти через все эти мытарства!.. Вот что делает книгу никуда негодным средством, глупой вещью. Оставьте книгу, займитесь театром: дело примет другой оборот. Прежде вы зависели от публики, теперь публика зависит от вас. Вы овладеваете её слухом, зрением, её слезами, смехом, её сердцем и чувствами. Перед вами толпа, масса и вы имеете то преимущество, что целое общество окажется менее глупо, чем один человек… Книгу ведь только и читают натощак, во время дождя, когда приходится ждать, чтобы убить время, вместо того, чтобы считать мух. Пиеса же захватывает, ласкает чувства после хорошего обеда, когда сидишь рядом со своей любовницей и чувствуешь прикосновение её платья… Наконец, там актрисы… очень хорошенькие пюпитры для вашей музыки… Ах! театр, честное слово, я ничего не знаю лучше театра!
– Да, чтобы достигнуть чего-нибудь, я согласен с вами; и я работаю кое-что. Но, не знаю!.. на этой почве, я чувствую себя не в своей тарелке: театр представляется мне похожим на белку в колесе… Ужасно трудно найти новые эффекты…
– Новые эффекты?.. Да вы не знаете театра после этого. Положим, вы берете какую-нибудь трагедию, все равно какую, ну, хоть Андромаху! Андромаху вы превращаете в продавщицу пиявок, а Пирра в испанского гранда в ссылке. Материнскую любовь вы заменяете тщеславием какой-нибудь табачной конторы… Превращение пиес, да это превосходное средство! Я даю вам состояние в руки… Мели, передай мне табак и папиросную бумагу. Послушай, бесполезно прятать лицо… повернешься ли ты вправо или влево, гость все равно увидит половину твоего шрама; с профиля он отвратителен, а в фас трогателен!.. Это, сударь мой, составляет один из эпизодов войны рабов, которая погубила Рим и погубит Париж! Мы не всегда служим себе сами, как случается нанимать себе слуг. Вот у нас служанка. Через неделю у неё появляется кузен, играющий на охотничьем рожке в моей кухне. Мели пробует заметить ему, что охотничий рожок не принадлежит к числу комнатных инструментов, что он хорош только вдали, как эхо и, хотя имеет свои права в современном обществе, но место его собственно в картинах Жадена… – Вот вам ответ, полученный от него Мели! Права человека, напечатанные на человеческой коже!.. Это конец мира. Право, мир гибнет. Пролетариат раздражен теориями; и, как говорит Франшемон: когда сталкиваются два класса, то низший всегда поглощает высший… Все состояния, подчиненные другим по праву, кончили тем, что фактически становились господствующими. В настоящее время адвокат подчинен доверителю, артист – купцу, архитектор – подрядчику, фермер – поденщику, литератор – издателю, а что касается хозяина… Скапен бил своего; но он соблюдал осторожность и подкладывал мешок: я жалею мешок!.. Мели, ты забываешь сковороду; присматривай, дочь моя, присматривай… Ах, плохое время! все портится, сударь… Наука делается методичной, нравственные верования и все вокруг нас обращается в машины! В былое время существовали хорошенькие кофейницы с хорошими формами, приготовлявшие кофе, как подобает живому существу; теперь их заменил химический прибор, сухой и серьезный как арифметика, математически варящий кофе… Прежде у нас была сонетка, которая имела свойства человека, сонетка означала первое движение гостя! она напоминала знакомый, немного надтреснутый голос, кричавший вам из-за двери: Возвращение! Любовь! старый друг или молодая грешница!..
Теперь его заменил колокол, английское изобретение, производящее механический и резкий звук, напоминающий удар бритвы о медную чашку, звук, ничего не говорящий ни вашему ожиданию, ни сердцу, ни надеждам: это будет великолепной сонеткой фаланстерии! Человекоподобие утрачивается во всем, это важный признак!.. Я надеюсь, что имею дело с человеком, не признающим жаркого сжаренного в печи?
– Я стою за вертел, – просто отвечал Шарль.
– Так я хотел вам сказать… Шарвен обещал мне статью за вас в своем журнале… Но, вы знаете, в нем никогда нельзя быть уверенным… Это не человек, а борода и какая борода! Шарвен говорит в эту бороду, ругается в нее и думает! Он уходит в эту бороду и выходит оттуда по временам! Его кредиторы никогда не отыщут его в ней, а друзья не всегда уверены, встретят ли они его там!.. Эта борода часто издает шум, но никогда не отвечает. Борода эта важнее его слов: она была дана Шарвену, чтобы скрыть его собственную!.. Ах, эта борода!.. Она все создала для него, его женитьбу, его журнал, его положение, одно время она играла роль политического мнения… Я вам говорю, что это сущее провидение, ширмы, убежище, стена! Эта чудодейственная борода, настоящая шапка-невидимка, или брови Юпитера, волоса Самсона и маска Сиейса!.. В минуту откровенности, Шарвен признался мне, что не променял бы свою бороду даже на очки!.. Вы знаете эту таинственную бороду?
– Шарвена? да… Это человек рассеянный, меланхоличный, скучающий и сонный, ни о чем не мечтающий и цепляющийся за все… Он представляется мне любопытным и характерным типом нашего века с его неограниченными, но затаенными желаниями, прикрывающим маской равнодушие честолюбие, грызущее его внутри…
– В этом есть доля правды, хотя и не совсем. Но я умею вызвать его из бороды… Я не дам ему покоя, положитесь на меня. Он может сделать все-что для романтизма, которому он порядочно обязан. Я употребляю слово романтизм единственно потому, что оно смешно… Угадайте-ка мою мечту, я побьюсь об заклад, что удивлю вас… Моя мечта – создать хорошую трагедию… да, настоящую трагедию, которая могла бы так назваться!.. Но жизнь так дорога, что я ее никогда не создам, и вечно буду лишь подымать занавес… За Ремонвилля я вам отвечаю, он познакомит с вашим именем и вашей книгой двадцать тысяч подписчиков своего журнала… Да, скажите мне пожалуйста, состоите вы членом литературного общества.
– Нет.
– Тем хуже.
– Почему?
– Для меня… Я покажусь вам, быть может, развратителем сословия избирателей… но я хотел попросить ваш голос, чтобы попасть в правление… О! не думайте пожалуйста, что это вопрос честолюбия… Как видите я болен, и возымел идею выздороветь, для этого мне нужны средства… Общество выдает мне открытые счета на аптекаря; но если бы я был в правлении, то выдавал бы их себе сам и был бы гарантирован в том, что это и впредь так будет.
– Я сожалею… – сказал Шарль, вставая, оборвал себя на полуфразе, крепко пожав руку Буароже. – Есть чувства, которые не высказываются словами ни у писателя, ни у солдата.
– Вы уже уходите? – сказал Буароже. – Во всяком случае, спасибо вам. Я навещу вас, когда понравлюсь. Мне интересно посмотреть вашу библиотеку, о которой мне говорили… Мели, проводи гостя… До свидания.
Шарль миновал две или три маленькие комнатки, через которые он вошел, и не смотря на короткий промежуток, он успел рассмотреть их, или вернее они бросились ему в глаза. Комнатки эти с многочисленными перегородками и дверьми походили на летние помещения, отдающиеся в наем в предместьях. Их пустота, едва скрытая кое-какой мебелью, полинявшей и поломанной, однообразными обоями, жалким ковриком на холодном полу, с разорванным чемоданом в углу, свидетельствовали о трудовой, кочующей жизни, тревожимой постоянными невзгодами и переселениями. Борьба, страдания и усилия пера, борющегося против материального недостатка, одним словом, все тягости жизни ясно читались на стенах этого случайного убежища.
В предместии св. Марселя, зимой, где-то под крышами, у холодных печей сидят, скорчившись за работой, дрожащие, едва прикрытые лохмотьями, маленькие девочки. Их маленькие, красные от холода руки быстро движутся. они делают букеты фиалок… Спускаясь с лестницы от Буароже, Шарль думал о том, что поэты имеют сходство с этими малютками и что мысли их тоже своего рода фиалки.
XXVIII
Несколько дней спустя Шарль увидел входящего к нему Буароже.
– Вы свободны сегодня вечером, неправда ли? Я вас похищаю. Мы устроили еженедельные обеды. Мы будем в своей компании, где за десертом не откусят друг другу носы. Завтра я начинаю свое лечение, и это мой последний кутеж! Неправда ли, вы пойдете?
– Очень охотно.
Они нашли кабачок «Красной Мельницы» очень оживленным. Молодые люди, вернувшиеся с прогулки, серые от пыли, обмахивали платками свои шляпы. Дамы, веером распустившие свои юбки, загораживали садовые дорожки.
Повсюду в замороженных графинах пенилось розовое шампанское. На скатертях двух или трех столов, еще пустых, виднелись листы бумаги с надписью: «Занято». В глубине, из всех окон дома, освещенного розовым отблеском заходящего солнца, смотрели, словно портреты из рам, облокотившиеся на подоконники женщины, грызя зубочистки и раскланиваясь направо и налево с бывшими, или настоящими обожателями.
Друзья Буароже: Ламперьер, де-Ремонвилль, Лалиган, Граже, Брессоре и Франшемон поместились в одной из менее видных зал ресторана, где было уютнее.
– Господа, – сказал Буароже, – представляю вам господина Демальи, автора «Буржуазии».
– Вы из наших, рады с вами познакомиться.
– Послушайте, господа, потеснитесь-ка немного, – сказал Ремонвилль, – вот вам местечко… Я очень рад вас видеть… Я как раз все-что готовлю по поводу вашей книги…
– Одну минутку, – сказал Франшемон, – сперва, закажем наш обед; говорить будем после… – И, обращаясь к толстому брюнету, во фраке и с салфеткой под мышкой, продолжал: – Итак вы предлагаете? Жареного цыпленка?.. Составьте-ка сами меню: рыбу, два мясных блюда, зелень, десерт и красное вино… Подходит это вам, г-н Демальи?.. и вам остальная компания?..
– Как ваше здоровье, Буароже? – спросил Ламперьер.
Буароже вместо ответа только покачал головой и выпустил облако дыма.
– Бросьте же сигару, мой милый, вы убиваете себя куреньем!.. Это неблагоразумно, раз чувствуете стеснение в груди.
– Я все это хорошо знаю, Ламперьер. Но что же мне с этим делать? Веками нарождается благоразумный писатель, который помещает свое здоровье в сберегательную кассу, усмиряет свои страсти, соблюдает гигиену, отказывается от своих привычек и моментально оставляет свои вкусы, как опроверженное мнение… Я очень сожалею, что я не этот счастливец, но что делать! По предписанию моего врача я не должен курить, каждый день обязан делать прогулку пешком вокруг озера в Булонском лесу; есть ежедневно жирный суп, кровавый бифштекс и сыр… Но лучше если я не буду исполнять всего этого, так как, в противном случае, я скорее умру… от скуки.
– Он прав, – сказал Франшемон. – Здоровье – это вера: оно заключается в том, чтобы верить, что ты не болен и поступать так, как будто бы здоров… Это есть кредит жизни. Экономьте здоровье, что происходит? Банкротство жизненных основ, как доказательство следующего неоспоримого факта, обратившегося в закон; как только издержки сокращаются, кредит падает… Возьмите управление Неккера до революции: урезывая всюду, он произвел всеобщую тревогу… Только тот человек имеет кредит, который сорит деньгами.
– Да, – совершенно серьезно говорил Брессоре, не слушавший Франшемона, кончая историю, рассказанную им Шарлю, – да, они играли в экарте, каждый опустив ноги в шайку с водой, вследствие огромного количества блох в жилище.
– Этот дурак Брессоре! – воскликнул Ремонвилль, покатившись со смеху.
– Замолчи же, Брессоре!.. Или ты принимаешь его за провинциала? – сказал Ламперьер, указывая на Шарля.
– Я не думаю, чтобы рассказчик заходил так далеко, – возразил Шарль, – он просто видел во мне слушателя.
Эта шутка Брессоре, впрочем, была единственною данью новичка за его вступление в кружок, вообще же Шарль тотчас освоился в этом обществе, где каждый являлся таким, каков он есть, и мог смело думать вслух. Он был чрезвычайно удивлен, встретив кружок литераторов, в котором откровенный тон и дружеская свобода заменяли всякую аффектацию, всякое позирование. До сих пор он не имел случая сделать следующее любопытное наблюдение: простота и естественность в обращении встречаются чаще по мере того, как подымаешься в высшие слои литературного мира. В самом деле, мы видим в низших слоях людей пера, где человек играет роль соразмерно с своим талантом и именем, у людей, стоящих позади признанных и известных писателей, в силу их ложного положения и желания примкнуть и составить как бы частицу тех, кому поклоняются, появляется стремление к напускной важности, заставляющее их всем своим существом, словами, мыслями и манерами, играть комедию. Чем менее видное положение занимает писатель, тем более он шумит; чем менее о нем говорят, тем более он сам кричит о себе, тем чаще слышится в его разговоре слово «я», требующее от слушателей уважения к себе, как к литератору. Педантичный ум, проповеди и доктрины, теории и формулы тиранически царят в этом мире более чем где-либо.
Всякий из кожи лезет вон, чтобы выдвинуть себя на сцену; одни употребляют хитрости дикарей, другие берут смелостью, неприличием, отсутствием вкуса, грубостью. Но в высших сферах почтение публики к писателю спасает его от этого грубого, низкопробного честолюбия, от беспокойного желания выставки, парада. Затем, общение его с великими гениями приучает его к скромности, дает иное направление его мыслям и сглаживает их выражение. Его личное «я» теряется в общении с бессмертным гением. Его талант, по мере того как он зреет, научается даже относиться с недоверием к самому себе; у него нет более этого постоянного довольства первых шагов на литературном поприще, когда все, что бы ни вышло из-под пера, доставляет радость. У него является нерешительность, недоверие к своим силам, страх. Он проникся верованиями, которые возвышают и успокаивают его; речь его почерпает из знаний и опытов терпимость, беспристрастие и снисходительность.
– Я не упрекаю вас, – сказал Шарлю Франшемон по поводу разговора, возникшего о его книге, – я не упрекаю вас за неологизмы, как слов, так и оборотов. Не то, чтобы я их любил, нет, но я, как и вы, знаю, что существует пять или шесть книг последнего века, где напечатаны курсивом все неологизмы, пестрившие у современных классиков; и вот этими-то неологизмами, вошедшими в язык, классики преследуют нас в настоящее время, в ожидании того времени, когда теперешние неологизмы послужат перу будущих классиков против неологизмов будущего. Язык идет вперед и расширяется: это стечение слов отовсюду. И если правда, что языки приходят в упадок, лучше уж быть Луканом, чем последним безыменным подражателем Вергилия… Но все же нужно быть справедливым и не удивляться понятной страсти к классицизму и невольному, бессознательному недоверию к новому языку. Разумеется, это отвращение к литературным новшествам, эта война против людей, которые не пишут, как все, и создают свой собственный язык, извинительны, если речь идет только о внешней форме оригинальной мысли. Это отвращение есть часть верований, воспринятых воспитанием; оно есть следствие, если хотите, остаток того благоговения, в каком нас поддерживают в то время, как преподают нам катехизис литературы. С десяти до восемнадцати лет мы всей душой преданы классикам. Всякая святыня оставляет след в душе человека, в особенности такая, которую он чтил в детстве; отсюда может быть происходит и литературная нетерпимость, глубоко вкоренившееся, фанатическое предубеждение, которое, смотря по человеку, может заставить замолчать все другие доводы… Талейран был верен только Расину; и я знаю очень порядочных людей, которые скорее согласятся на междоусобную войну, чем увидеть автора «Mademoiselle de Maupin» в Академии… Какая причина этого? Я говорю – воспитание… не знаю… может быть, я и ошибаюсь. Напишите книгу, которая бы удовлетворяла всем идеям какой-нибудь партии, но попробуйте написать ее не в стиле этой партии… вы прослывете за еретика. Это так. Почему?.. я не знаю… И еще почему все современные великие проповедники – поклонники романтизма… Это напоминает мне Боссюэта и вас. Он сказал о духе латинского языка: «это дух языка французского». И вот вам оправдание ваших отклонений. Но вы отчеканиваете фразу там, где я хотел бы встретить фразу прямую, широкую, рельефную, но без утрировки. Ваша фраза недостаточно быстра и резка, у неё нет этой стремительности, которая сразу как бы врезается в мысль. Наш язык мягок… в нем много мяса и мало костей; он не имеет правильных линий, он расплывчат, как сказал бы наш художник Грансе. Попробуйте же заключить его в рамки мертвых языков; сожмите его в их железных тисках: он выйдет оттуда отчеканенным словно медаль, без бугров и чистый, как язык Ла-Брюера. Разумеется, я не советую вам зарываться в латинские книги, переводить их; все дело в духе языка, о котором мы говорим, и его нужно понять, почувствовать и усвоить, что же касается того, чтобы долбить их наизусть и носиться с ними… Послушайте, вот еще задача и еще вопрос, почему – заметили ли вы эту странность – почти все поклонники прелестной латыни имеют стиль совершенно противоположный их обыденному языку. Но оставим стиль в покое! Это лишь орудие. Тут вы можете смело презирать и бравировать мнение ваших современников, это ничего не значит; успех, конечно, только большой успех оправдает вас в глазах большинства. Но, кроме стиля, существует еще выбор выражений и характера вашей мысли, относительно которых вы должны сообразоваться с темпераментом нации, для которой вы говорите. Мы, например, мы любим простоту, ясность, быстрый и живой ум, проблески света, слова, сразу западающие нам в душу, словом, формулу Шамфора и Ривароля, формулу преимущественно французскую. Нет сомнения, и, я думаю, вы не будете оспаривать этого, что человек, обладавший таким умом, как Шамфор и Ривароль, и вообще французским складом ума, назывался…
– Генрихом Гейне? – сказал Шарль.
– Вы угадали… И что же, Генрих Гейне никогда не будет популярным во Франции. Кто его читает? Только те, кто им восхищается. Это происходит оттого, что Гейне художник и в то же время ученый. Он великолепен, но туманен. Он заставляет вашу мысль идти за ним в полутьму, где под одним образом скрывается другой… Наконец, есть еще одна вещь, которой не достает вашему произведению, и, клянусь, не только вашему, но и всем современным сочинениям, это – веселость, откровенного смеха, громкого, звучного открытого смеха Мольера или Теньера, этого свободного, широкого вдохновения, названного кем-то, и совершенно справедливо, «струей старого вина». А между тем комический элемент в сочинении довольно важен. Этот добрый гений веселости – сила и большая сила. Он изобиловал даже во второстепенных сочинениях прошлых веков. Где он в настоящее время? Наш смех, боясь быть грубым и желая стать тонким, обратился в гримасу. А куда девали мы нашу веселость, стараясь воспитать и утончить ее? Она превратилась в нездоровую иронию, в гримасы сумасшедшего. Нет, наш комизм – не прежний здоровый комизм… Разве мы сделались меланхолической расой? Или нервный темперамент окончательно укоренился в современном человеке? Зависит ли зло от нас самих или от видоизменений нашей жизни?
– Оно зависит… – сказал Грансе и остановился. – Сегодня, – продолжал он, – я зашел в аукцион. Там была выставлена коллекция одежд XVIII века, платья всех цветов – серого, голубого, розового, цвета перенна, целая груда всевозможных оттенков, ласкающих взор, веселых, кокетливых, ликующих… Целая восходящая гамма красок… И после этого какого веселья хочешь ты, Франшемон, от человека в черном платье? В то время платье смеялось вместе с человеком, а теперь оно плачет вместе с ним… Смешная мысль одеть жизнь в траур!..
– О, если б только это!.. Нет. Существуют болезни человечества, как болезни почвы, нравственный грибок… Еще одно последнее замечание, господин Демальи. Не слишком ли далеко заходите вы в научном анализе? Мы уже имеем в этой отрасли последнее слово в сочинениях Эдгара По. И что же! Что в сущности представляет собой По? Таинственную науку, болезненную литературу ясновидения, анализа воображения; Задиг – это настоящий судебный следователь, Сирано де-Бержерак – ученик Арого; это своего рода помешательство на одном пункте; неодушевленные предметы играют у них большую роль, чем люди, любовь уступает место рассуждениям и другим источникам мысли, фразам, рассказу; вместо чувства, в основе романа является рассудок, вместо страсти – загадочность, развитие драмы сводится к решению загадки…
Может быть, таким будет роман XX века; но и тогда еще вопрос, литература ли это? Не знаю… но мне кажется, что роман современных нравов можно создать не ранее как в сорокалетний возраст. Романы двадцати и даже тридцатилетних – это беглый взгляд на вещи, и только. Нужно, чтобы человек имел в романе все жизненные силы, чтобы он находился в возрасте полного развития своей способности к объединению, развития высшей степени наблюдательности, правдоподобности вымысла и полной зрелости мысли. По-моему, это возраст, когда мозг достигает полного своего развития, возраст апогея производительной способности: самые лучшие произведения человека всегда носят отпечаток его лет. Относительно того, что принято называть полетом фантазии, песней души, парением в облаках, я признаю, что можно быть молодым, очень молодым… Но я говорю не об этом. Теперь перехожу к вашей книге, в которой вы опустили одну вещь, касающуюся важной стороны вашего романа; вы только слегка, вскользь намечаете ее: это привычное, постоянное участие большинства буржуазии в мелкой торговле; не в той широкой, английской торговой спекуляции, где идут сложные комбинации и рассчитанная игра на повышение и понижение, которая, заставив человека тридцать лет подряд просидеть в конторе, нисколько не убавит в нем ни честности, ни откровенности и не лишит его природных хороших качеств; среди нашего торгового класса все сводится лишь к прибылям и в связи с этим является тысяча ухищрений, которые никак не могут назваться правильной торговлей. Отсюда возникает (и вот об этом-то вы и умолчали) следующее: сыновья, т. е. молодое поколение вырастает в лавке, воспитывается среди плутовства, низостей, фальши, дутых цен, среди всего этого морочения, составляющего мелкую парижскую торговлю, не брезгающую ни двойным запрашиванием, ни продажей попорченных товаров, за ловкий сбыт которых приказчик награждается, ни даже приманками, вроде глазок конторщицы… Все это создает нездоровую атмосферу, производящую порчу крови; как первородный грех вошел в нашу плоть, точно также и эта порча заражает молодое поколение. Физиология еще недостаточно разработала вопрос о наследственности рас, это продолжение, путем наследственной передачи, не только телесных недостатков, но привычек и характера; так, например, сын наследует жесты отца; историки говорят нам о наследственной ноге, о наследственном уме…
– Ну, уж поехал! – сказал Ламперьер, – теперь только держись среднее сословие… Послушай, мой милый, солнце только однажды остановилось, и все-таки Иисус Навин не мог повернуть его в обратную сторону… Знаешь, что ты мне напомнил в данную минуту? Одно очень юмористическое воспоминание пришло мне на ум: однажды, идя в библиотеку, я проходил улицей Ришелье и увидел великолепного ньюфаундленда, бросавшегося на фонтан. Он был вне себя и бешено лаял. Он кусал воду, а она все текла. Это выводило его из терпения, и он продолжал ее кусать еще с большей яростью и ожесточением, не знаю, слышал ли он мой смех…
– Это очень мило, – сказал Франшемон, – но ты не возражаешь?
Ламперьер улыбнулся и пожал плечами.
– Ты знаешь, Франшемон, что меня не убедить. Мы стоим на двух противоположных концах земного шара, и я также далек от твоей партии, как…
– Моя партия! – быстро прервал его Франшемон. – Я не принадлежу ни к какой партии! Моя партия; это я, один я! Не могу же я назвать себя частью своей партии, или партии, которая никогда не понимала цены печатной бумаги, которая имела честь и счастье принадлежать к нации, обладавшей таким мыслителем, философом и государственным человеком, как Бальзак; партия эта в продолжение пятидесяти лет позволяла своим врагам писать о себе что угодно, целые биографии, энциклопедии, даже историю! Нет, Ламперьер, еще раз повторяю вам, что моя партия – это я сам и других партий у меня нет.
Говоря это, Франшемон ходил взад и вперед, около стола. В наружности Франшемона сохранились еще остатки былой красоты. Черты его лица были правильны, зубы великолепны, а глаза загорались пламенем, когда он говорил. Но жизнь и постоянное умственное напряжение провели вокруг глаз и по всему его бледному лицу глубокие борозды. Франшемон был рожден для политической и философской борьбы, при помощи памфлета; он обладал большим искусством высказывать смелые мысли и парадоксы, был мастер в полемике и понимал литературу только как выразительницу общественных идей, презирал поэзию, был равнодушен к гармонии фраз; будучи человеком сильных убеждений, но с неровным и необузданным характером, он ничем не руководствовался в своих верованиях, и часто был даже непоследователен; практический теоретик, он не довольствовался Богом и желал бы подкрепить его, как Карно, жандармом; враг сентиментальных утопий, он, подобью аббату Гальяни, не отступал перед насилованием мнений и грозными речами; с любовью и самозабвением предаваясь восстановлению прошлого, зная, что это также бесполезно, как восстановление античных саркофагов пенсионерами Рима, он иногда выражал сожаление о недостатке собственной энергии, для вступления в один из орденов, в том, что он не исполнил своего призвания в качестве страстного и воинственного миссионера. Обильное, жгучее красноречие так и лилось из его уст.
Его властный, сильный, определенный и резкий слог словно рубил слова топором и от избытка выбрасывал мысли, прерывая их молчанием или монологами, звучавшими как сталь, подобно голосу Наполеона, великий ропот которого сохранился в его «Мемориале об острове Св. Елены».
Вдруг одна мысль заставила Франшемона остановиться перед Ламперьером.
– Хорошо, ну а твоя партия? – резко проговорил он.
– Что моя партия?!
– Ну да, твой XIX век, если хочешь?
– Ты значит не можешь, как все добрые люди, спокойно пить свой кофе? В таком случае, если это необходимо для твоего пищеварения…
– Что такое вы открыли, ну-ка скажи? В экономическом строе, например? Политическую экономию… и только? В нравственном что? Нравы что ли? Девица легкого поведения была прежде только куртизанкой: вы сделали из неё общество… Она царит, она господствует. Этот народец играет роль общественного мнения. Для него существуют спектакли, журналы, моды. О нем говорят, он всех остальных интересует. Спросите, на прогулке у любой честной женщины, имя какой-нибудь из этих особ она назовет не только ее, но и её любовников!.. В самом деле, Ламперьер, я стараюсь найти… нравственное улучшение человеческой породы, или быть может современная история украсилась чем-нибудь? В обществе увеличилось чувство правды? Нет, всюду ложь и ложь! Для неё даже выдумали особое вежливое название: вымысел! Ложь в статистике, ложь в науке… А наша единственная комедия нравов называется «Скоморохи»! И везде слова, одни слова, слова на стенах, слова в книгах!.. Возьмем что угодно, ну хоть равенство, упразднение наследственных привилегий… Ну, прекрасно! Зачем далеко ходить, есть ли оно у нас, у интеллигентной нации, у республиканцев? скажи на милость, где! Привилегия противна природе, не находишь ли ты, однако, что привилегия наследственности преспокойно процветает? Исключи двух или трех человек, которые создали себе положение сами, прежде чем им создали его их отцы, а остальное… Но хуже всего, наследственность таланта! Если бы еще наследственность касалась только имен литературных, но у нас существует наследственность привилегии политического, административного имени! Создавайте законы, громоздите фразы, драпируйте человечество: нравы останутся те же… А твой народ, твой милый народ, который учат читать и набивают ему голову разными идеями! нет, право, я хотел бы знать…
– Имя свиньи, которая выдумала трюфели! – прервал Брессоре, кладя несколько штук к себе на тарелку.
– Знаешь, что я видел? – продолжал Франшемон, мысли которого приняли иное направление, – на последней художественной выставке, я видел народ… Знаешь, куда он стремился, где была давка. Перед витриной коронных бриллиантов, слышишь ли ты?.. Эссенция банковых билетов, снадобье из миллионов, вот что его ослепляло! Бриллианты, Ламперьер, только бриллианты!..
– Тебе, может быть, хотелось, чтобы он смотрел на картины? Ну, а мне нет. Искусство производит в целом народе тоже, что и в отдельном человеке; делает его равнодушным к отечеству, эгоистичным; перед его глазами могут совершаться какие угодно перемены в правлении, в идеях, в общественном строе, не вызывая с его стороны никакого участия. Артистический народ такой народ, который умеет жить: он отрицает преданность, жертвы, смерть. Верь мне, что была серьезная причина и мудрое вдохновение в подозрительном отношении и в упорной враждебности Конвента к искусству.
По мнению рассудительных политиков, первое условие силы и здоровья народа заключается в его невежестве. – И понижая голос, Ламперьер продолжал: – Да, у артиста нет ни веры, ни отечества; искусство заменяет ему и то, и другое, стремление к прекрасному есть тоже своего рода преданность, жертва; теперь перейдем от артиста к любителю и от творчества к страсти… Неужели ты думаешь, что из Ремонвилля выйдет хороший патриот? Э, нет, на его лице можно прочесть, что отечество для него составляют его картины!
– Послушай, Ламперьер, замолчи! – крикнул Ремонвилль.
– А я тебе скажу, что правда только в искусстве. Ты говоришь об отечестве, так знай, что бессмертие отечества в искусстве… Кроме того, только великие народы были артистичны… Или ты думаешь, что греческие патриоты за 500 лет до Рождества Христова стояли ниже современных!.. И, наконец, что мне за дело до всего этого! Для меня искусство есть единственная безусловность; все остальное, логика, положительные науки, теология, трактаты о правде и добре, философия, говорящая вам: «я объясняю вам феномены мысли», все это гипотезы, мой милый! Гипотезы, ведущие ученых к почестям, но ничего кроме теорий не дающие прочим смертным… Искусство… послушай, Ламперьер, не говори мне подобных вещей… ты меня злишь… в Риме…
– Рим! – комическим тоном воскликнул Брессоре.
– Вы были в Риме? – спросил де-Ремонвилль, обращаясь к Демальи.
– Да, – сказал Демальи, – я видел там маленькую руину в большой… Господина Созе в Колизее.
– Хочешь, я расскажу тебе мое путешествие в Рим? – сказал Брессоре.
– Я запрещаю тебе говорить мне о Риме, слышишь ты? – сказал Ремонвилль злым голосом. – Когда не знаешь по латыни…
– Но, мой милый, Гомер знал латинский язык не более меня… даже может быть менее.
– Ты глуп!
И Ремонвилль повернулся к нему спиною.
– Однако же, сказал прерывая свое молчание Франшемон, который жевал в своем углу, занятый своими мыслями, – надо управление, хоть бы пасторат какой-нибудь… Какое? Полюбовное, с общего согласия, конституционное управление… Управление… Послушайте, господин Демальи, какое по-вашему должно быть управление.
– Развратное управление, – проговорил Шарль, – если уж нет другого слова. Другими словами, мысль Ришелье в формах Морепа… Самое сильное из управлений, потому что оно основано на знании людей, вместо того, чтобы быть основанным на системах… Тюрго всегда будет строить свое здание на песке.
– А ты Брессоре, – промолвил Ремонвилль насмешливым тоном, – на чем построишь ты свое управление?
– Очень просто, на двух вещах: на фейерверках, которые буду давать каждый вечер народу, и на процессе Лафаржа, который будет вестись каждое утро для просвещенных классов.
– А я, – сказал Ламперьер, – я тогда построю его на иллюзиях.
– Это может быть потому, что ты лучше нас, – сказал Франшемон, протягивая ему руку.
XXIX
«Книга моя идет, мой милый Шаванн. Издатель не скрывает от меня своего удовольствия. Так, что дела идут хорошо. Меня продают и читают. Я думаю, раз дело начато и успех будет увеличиваться, и я готов почти поверить, что книги продаются.
Я говорил вам о мире, в котором живу. Говорил о Франшемоне. Снаружи – аффектация дендизма, который теряется в разнузданности; между его утонченностями вдруг прорывается самая странная раздвоенность, какая-то зацепка вроде трещины на его часах, заклеенной хлебным мякишем. Вот он каков.
К тому же жизнь этого малого прокатилась всюду: и в высших слоях, и в низших; он изведал счастье, женщин, море, землю, мир и все миры, все новое и все дурное! Это малый, видевший все: оттомаков, поедающих глину, актрис из Бобино, делающих себе румяны из тертого кирпича, Байрона, умирающего в Греции за иллюзию! Малый, прошедший сквозь огонь и воду, сквозь страсти и бури, бывший на пустынных островах и в Вавилоне, в отелях Лондона, на зеленых лугах Германии, за парижскими табл д'отами, в катакомбах и на обоих полюсах! Вышедши целым и невредимым из рук женщин, мошенников, ростовщиков, чумы, смерти, он изведал нищету, дуэли, войну, словом все! Какой волшебный фонарь – жизнь! Но Лалиган удерживается показывать его публике; он пишет только о путешествиях, которых не совершал. Он рассказывает Дюмон д'Юрвиля, описывает Африку холодным стилем в серьезном журнале. Человека в них нет; весь человек – на наших обедах в «Красной Мельнице». Маленький человечек с седыми усами, наружность совершенно ничего не значащая; но за то глаза, голос, вспышки, показывают страшную энергию и закаленный характер, привыкший к суровой жизни; отец его был командиром фрегата, отправленного во время Террора в Ирландию для высадки волков и злодеев. Говоря и оживляясь, он владеет собою, своими чувствами и волнениями. Он меняет тон, наружность, он весь преображается, обновляется. Его лицо меняется. Тоном, взглядом, игрою физиономии он изображает лица и вещи, теснящиеся в его воспоминаниях. Все его существо стремится и задыхается в его разнообразной, многословной неограниченной болтовне. Его оживленное красноречие, украшенное постоянными метафорами, своеобразным жаргоном, или каким-нибудь великим изречением немецких мыслителей, увлекает и сосредоточивает ваше внимание. Иногда он выражается языком, заимствованным у техника искусства и оттеняет мысль, как греческий медальон. Тогда речь его льется рекою как речь Дидро. Тысячи образов проходят перед вами: картины, наброски, пейзажи, уголки Илиады, виды стен, домов, городов, имеющих тайны и драматизм декорации, которую Шекспир называет одним словом «улица»; мрачные поля, подобные общественной могиле, куда раб уносил раба, красное солнце на другой день битвы, города, изрытые ядрами, кровавые, разоренные амбулатории, вкруг которых бродят крысы… Одни только рисунки испанских войн Гойя могут сравниться с описанием всех этих ужасов. И вдруг, посреди всей этой вспышки юмора, наблюдательности, общественные силуэты, наблюдения над расами, философия, уподобленная национальному гению народов… Один момент он обратил наши души и глаза на взятую Янину; мы видели, мы касались этого ручья, бегущего за добычей, за еще теплыми мертвецами; он меняет тон и колорит и перед нами английский замок, высокие дубравы, охота, широкая жизнь, три туалета в день, балы каждый вечер, королевский образ жизни, который ведется каким-нибудь Симпсоном или Тонсоном! «Это богатства Вестминстера, десять миллионов ренты, тридцать пять сантимов в секунду; или эти богатства Сити, эти купеческие сыновья, совсем еще мальчики, управляющие на Средиземном море двадцатью отцовскими кораблями, из которых ни один не имеет менее двух тысяч тонн, флот, – говорит Ладиган, – которого никогда не имел Египет!» Вы знаете эти великолепные французские каррикатуры, этот вечный водевиль, путешествующий англичанин. Лалиган неисчерпаем, заставляя нас краснеть по этому поводу: «Мы, мы! – восклицает он с сожалением, – да видали ли вы в Лондоне француза, который ничего не делает, и тратит там деньги, совершенно спокойно сидя в своей карете? Француз путешествует, чтобы рассеяться от любовного горя, или устроить свои дела. Но француза в коляске, француза не актера, не посланника и не повара, француза с женщиной, как наша мать или сестра, с женщиной, которая не была бы кокоткой или актрисой, вы здесь не увидите никогда, никогда!»
Лалиган идет далее, говорит об эстетике, критикует художников, пейзажи! это наводнение портретов природы без движения, он задевает пейзажистов, изображающих крестьян, которых точно окунули в кадку с красками, этих фермеров Пуссена или Сальватора Розы, солидных и сияющих как быки за плутом, злобных как деревенские жители, которых можно встретить всюду, в салонах, у итальянцев, на шелку, в музыке; солнце, деревня и жаркое, жаркое, деревня и солнце, вот все чем они держатся, и ничего более! говорит Лалиган. И всегда после таких разговоров, описаний нравов, он начинает невозможные истории, действительные происшествия, поразительные как исторические воспоминания, отрывки из быта разбойничьих вертепов, и подонков общества, где копошатся как в море все погибшие существования, все эти люди без имени и без сапог, которые никогда не описываются в романах. Он встает, садится, продолжая говорить. Стучит по столу, схватывает руку своего соседа, снова встает, прогуливается, каждую минуту нервно поправляя манжеты своего сюртука. Его вибрирующий голос заставляет молчать всех нас; вот, послушайте его:
«Все ночи, все проводил он в игорном доме «Розы Марилана», с самой гордой канальей земного шара. Не знаю, была ли у него родина, прошедшее… Я думаю, он родился в одной из тех пустынных стран, которые составляют предрассудок географии… Там, где-нибудь на равнинах, между мраком и светом, между Германией и Россией, в настоящем гнезде авантюристов, на могиле Казановы: в Богемии, Хорватии, право, не знаю… Да кажется он и называл себя чем-то в роде выходца из Хорватии. Короче сказать, каждый вечер он вытаскивал из кармана, а его карман вытаскивал не знаю откуда несколько шиллингов, которые он проигрывал с таким же благородством, как и всякий честный человек. Проиграв свои шиллинги, он глядел на шиллинги других до самого утра… Понимаете вы? Ни разу не присев, не заснув; это запрещено в таких домах; их надо было сделать великими как Англия: нищета спала бы там. И все ж таки он спал. Он облокачивался плечом об стену, и сохраняя стоячее положение, спал: он спал как муха; кончили тем, что ему и дали это название. Однажды ночью, игра была особенно оживлена, что-то скатилось под стол. Он слышит, как оно катится, прямо катится к нему… Он выставляет ногу, свою голую ногу!.. У него были видны ботинки, но их не было! Точно также как в Крыму не было настоящих деревень во время путешествия там Екатерины Великой! Ботинки его были только сверху, без подошв! Он захватил большим пальцем соверен, это был соверен! Кругом наклоняются, ищут, двигают стулья, поворачиваются, глядят на него… Наконец снова принимаются за игру. Прижав соверен ногой, он стоит не двигаясь до утра, боясь взгляда, жеста, не смея наклониться, ни поднять. Наконец, он уходит в шесть часов утра, первый раз в жизни с золотом в кармане. Он идет, думая о чем-то невозможном, безумном, о мечте: он ляжет спать! ляжет настоящим образом, ляжет в кровать, в кровать! Он громко звонит у меблированного дома, как джентльмен, привыкший иногда спать. У него есть постель, есть простыни! Он ложится во всю длину, на спину! В десять часов его будят, это горничная пришла спросит его, будет ли он завтракать с её хозяйками, двумя старыми «governesses». Он завтракает с обеими старушками, нравится им, особенно одной, как мужчина, вовлекает их в игру, обыгрывает обеих; после чего обращает их в католицизм, получает за обращение плату от католиков-лордов (за обращение в католицизм там платят премии); берет деньги, едет в Гамбург, выигрывает там двести тысяч франков, проигрывает их снова и… Теперь, знаете ли вы, чем он занимается? Он в Париже, ходит из кабака в кабак, организуя компанию игроков между обществом масонов, из которых десять, одетые в черные одежды, весною будут сопровождать его в Баден, чтобы наблюдать за его игрой и контролировать прибыль их сотоварищей!
Обычный сосед Лалигана по столу составляет с ним и почти со всеми нами совершенный контраст. В этом соседе, его зовут Ламперьер, какая-то особенная нежность, почти женская, которая встречается только у мужчин, воспитанных женщиной, выросших под крылышком матери, детство и юность которых прошли в ласках. Также видна в нем и нежность северной расы, которая не уничтожает энергии, но только укрощает ее, как говорят русские. Высокий лоб, редкие волосы, белокурые усы цвета конопли, такие светлые, что едва выделяются на его щеках; изрытое длинное лицо, синие глубокие глаза, низкий и проникающий голос, медленный, сосредоточенный разговор, вот наружные качества этой прекрасной и юной, влюбленной в природу души, которую деревня опьяняет как хорошее вино; этого мужского сердца, переполненного материнской снисходительностью; этого великодушного ума, готового на самопожертвование, открытого для всех человечных надежд, и мечтающего о будущем. В глубине души, это темперамент мистический, доходящий до веры в чудесное, и приносящий апостольскую веру человеческой религии, которая открывает ему уроки истории также, как и ложь жизни. Не имея состояния, он живет статьями, которые начинаются в таком роде: «Береговая торговля страдает, это неопровержимо»… и над которыми он сам первый смеется. Но он утешается, создавая в своей голове большую книгу, которую он никогда не напишет… Ламперьер зарылся в науках; он исчерпал веру, вместо того, чтобы найти сомнения; характерная черта в его разговоре – извлекать из знания и из примеров богатейшие сравнения, поэзию и величие парабол и нечто библейское из языка Бернардена де-Сен-Пьера. А что может быть поразительнее сцены, которую он рассказал нам третьего дня?.. Я до сих пор точно слышу ее, эту историю, переданную нам, где, казалось, мысль Кювье билась в сердце аббата Фоше. Однажды он был в Елисейских полях; встречает он одного друга: это был Мицкевич, который должен был через час вступить на кафедру «Collège de France», и который, смущенный этой великой задачей быть голосом народа, дрожал, изнемогал, искал, тер себе тщетно лоб, и не знал до сих пор что он скажет: Да, – сказал ему Ламперьер, – вы не знаете, вы не находите темы»… И он начал играть своей тросточкой по земле; почва была мягкая, он опустил тросточку в лужу: «Это грязь, да, грязь… дождь, капля воды… и пыль»… Мицкевич смотрел на него, Ламперьер продолжал мутить воду в лужице: «Немного грязи сверху, немного снизу, она уже более не сухая… земля тонкая как лист бумаги… затем приставшие камушки, тина, раковинки, прилепленные одна к другой, вместо минерального слоя пресной воды, который был в древнем составе земли, нечто в роде больших озер в средней Америке… Затем скелеты, остатки неизвестных четвероногих, кости птиц, крокодилов, черепах; стволы пальмового дерева, обратившиеся в камень… Вы следите за моей тросточкой, не правда ли? Идем далее… После того, сокровища удалившегося моря, оставившие коричневые отпечатки листьев, растительных стеблей, и сотни родов раковин; кроме того еще море проходило здесь, но, конечно, с пресною водою… Теперь надо дать место углю земного шара, большим слоям окаменевших смолистых деревьев, сохранивших до сих пор следы стеблей, веток и листьев, или древесную ткань и даже форму закопанных деревьев… это сгоревшие леса первой земли, этой первой почвы из мелу и раковин, отставленной на открытом воздухе допотопным морем. А, вы меня слушаете… Как я заинтересовал вас каплей грязи!.. А вы боитесь и не знаете, как взяться за дело, чтобы заинтересовать Францию трауром родины!»
* * *
«Мне необходимо все это, милый Шаванн; во мне гнездится какая-то жилка, что-то широкое. Мне необходимы, как жирным людям, воздух свежий, сухой ветерок. Для бодрости моего духа, для подстегивания моей работы, мне необходимо возбуждение и поощрение общества, общества интеллигентов, двигателей мысли, конечно. Да, прежде может быть были люди достаточно сильные, чтобы извлекать из себя жар для своих произведений; люди мировые, носящие в себе божественный огонь, которого ничто снаружи не поддерживало и не оживляло. Может быть, и в наше время найдутся некоторые столь же сильные, чтобы довольствоваться самими собою, поддерживать себя, создавать и жить в уединении со своим великим произведением. Но я не из тех, и они не принадлежат нашему веку. Прежде была какая-то жизненность, которую мы потеряли. Тысячи вещей в наш век леденят наш ум и мысли. Мозг охлаждается, как земля. Ум может работать только в тепле, в соприкосновении с другими умами. Вы знаете, самое лучшее удобрение для почвы, это – листва; это то, что нам надо: битва слов и мыслей, битва умов, горячая борьба в спорах… Эти проблески света, освежающие голову, игра, опьяняющая нас, лекарство, укрепляющее нас, нечто в роде восточного напитка, заставляющего кипеть мозг. Наша жизнь может быть плоска, может быть стоячей водою; но воображению необходимы потоки, его расшевеливающие, постоянное движение мнений, столкновение нравственных личностей.
Моя первая книга – это разговор с самим собою. Когда человек, устроенный как я и как многие другие, углубится в свое собственное я, он привязывается к нему и засыпает с ним. Является расслабленность, нечто, похожее на квиетизм, оцепенение людей, сосредоточившихся, в созерцании собственного пальца. Но голова не может жить одна. Я допускаю исключения, некоторые головоломные работы памяти: восстановление пунктуации у древнего автора, например, но вне этого, для выражения, для движения, для проявления творческих способностей, для возобновления исключений, я считаю необходимым для гигиены ума возбуждающий и волнующий режим; словом, некоторое опьянение головы в доброй компании умных людей, которые дают нравственному существу литератора толчок и пришпоривания, какие физической системе дают излишества…
А как поживают дорогие малютки?
Весь ваш Шарль Демальи».XXX
«Это опять я, мой милый Шаванн, я счастлив и пишу вам…
Наши обеды по четвергам продолжаются. Теперь мы, я думаю, в полном составе. Мы составляем маленькое общество – довольно полный образчик мира интеллигенции.
Если наступит потом и гибель человечества, и если Ноев ковчег примет нас, у нас со всем нашим столом будет чем заменить на Арраратской горе всю витрину Мишеля Леви, выставку Бенье и афишу Оперы!
Наш романист, это новое светило, высокий малый, разорившийся, но могущественный; железный темперамент его может вынести двадцать семь часов верховой езды, или семь месяцев каторжной работы в своей комнате; синие глубокие проницательные глаза, усы как у Манчу, собирающегося на войну; сильный громкий голос, как у военного. В этом человеке что-то убито в жизни, иллюзии, мечты, не знаю, право. Внутри его клокочет гнев и досада за неудачное стремление к небесам. Его холодная наблюдательность без стыда топчет человека в грязь, это как ланцет хирурга, вонзающийся сталью вглубь раны… Старые раны, друг мой! Самое странное то, что, несмотря на все, его ум склонен к пурпуру, к солнцу, к золоту. Он поэт прежде всего, восхитительный и неподражаемый мечтатель. Его книга, его прекрасная книга, вы не поверите, это – покаяние: он хотел посадить свой слог на сухой хлеб, и обуздать свою фантазию, в роде тех полнокровных женщин, которые, боясь искушений, выпускают себе пинту крови. У нас есть также художник, который не читает нам лекций о грунтовке холста, ни о гуманитарной роли жженой тердесьенны. Это лицо в роде Ламперьера, тихий, сдержанный, симпатичный, печальный, но такой печалью, которая у некоторых людей точно музыка. Голос его ласкающий, глаза выражают доброту и дружелюбную лень большой отдыхающей собаки. Грансей – наш художник, – человек тридцатых годов. Он участвовал в великой армии в то время, когда артисты, художники и поэты шли под одним знаменем, жили одними победами, одними страстями, часто под одной крышей в храброй и дружной армии.
Это время запечатлелось в его сердце как солнце Аустерлица в глазах инвалидов. Он рассказывает о нем тысячу легенд, исторические басни самого чудесного свойства… Вы знаете прекрасную страницу генерала Фойя, этот рассказ о победах республики, где слышится марсельеза, где все летит! рассказы Грансея о великих днях романтизма имеют тот же полет, тот же огонь. Иногда Грансей исповедуется и улыбается. Одну из его историй о братстве, о детских безумиях, о странном и великом направлении, о горячке того времени рассказал он вчера вечером. Это было перед представлением «Марион Делорм». Грансей пишет одному из своих приятелей, студенту медицины в провинцию. Друг находит тон письма печальным, думает, что его приятель нуждается в деньгах, собирает сколько может, берет дилижанс и привозит несколько сот франков Грансею. Грансей в это время случайно был почти богат. Он благодарит своего друга и ведет его вечером обедать в своей любовнице. В то время любовницей Грансея была женщина, которую он любил. И вот друг завтракает и обедает каждый день между Грансеем и его любовницей. Однажды Грансей приходит за ним. Отворяет дверь, подходит в его кровати и видит… чудовище! Друг его сбрил бороду, волосы, брови и усы. Грансей думает, что тот сошел с ума, осыпает его вопросами; друг кончает признанием, что он влюбился в его любовницу и хотел поставить себя в невозможность видеть ее. Грансей приводит его к ней. Затем, после обеда – это было первое представление «Марион Делорм», – он его ведет в театр. Друг чуть не содействовал провалу «Марион Делорм». Каждый раз, как он повертывался, чтобы заставить замолчать оппозицию, вся зала покатывалась со смеху при виде этого восторженного и гладкого чудовища. Не правда ли, как рисует это то время, о котором так сожалеет Грансей? Политические идеи 1848 г. возвратили ему немного увлечения и молодости. Когда-то и другое было убито, он опять впал в скуку, равнодушие, в бездействие мысли и стремлений. Это очаровательный, тонкий женский ум, полный оттенков и настолько изящный, что женщина заметила бы ум Грансея только обманывая его с кем-нибудь из его приятелей. Печаль его спокойна и светла, без раздражения и мстительности. Она не ожесточила его. При своей холодной наружности, он дружески и горячо пожимает руку, он скромен; он мало производит шума, смеется в полголоса; он милосерден не будучи жертвой, и он довольствуется смехом над смешным и иронией над глупостью, чтобы простить их. Но как ни спокойна меланхолия Грансея, видно, что если она и не преследует его, то всегда сопутствует ему. Будущее беспокоит его. Грансей думает о своей старости; он может заболеть, потерять работу… Недавно Грансей говорил по поводу одного из наших, очень талантливого, честного человека, умершего одиноким, в меблированном отеле, смертью своих друзей, которым XIX век дал приют в больнице или в морге, Жерара де-Нерваль повесившегося, Тона Жоанно, для похорон которого должны были сложиться те, для которых в свою очередь складывались другие. Он говорил: «да, я знаю, я получал от пяти до двенадцати тысяч франков в год… Если бы я был благоразумен, я бы занимал маленькую комнатку… тратил бы пятнадцать су в день… и сберег бы себе что-нибудь на черный день. Это моя вина… Это «mea culpa» есть припев к его терпению. – «Это моя вина», – говорил он опять, когда мы рассуждали о желании и тщеславии наших душ и умов, – почему бы не задаться посильной целью? Иметь какое-нибудь достижимое желание? Сесть на конька, которого можно было бы оседлать?.. Например, быть коллекционером, это чудесный конек для счастья… Но надо иметь призвание к счастью… Ах как я завидую буржуа, которые едут на дачу по воскресеньям и так громко смеются!.. Или, например, конек Боро: это прекрасный человек, ищущий тонкие оттенки и переливы и находящий их. Он счастлив. Ему этого довольно!.. И правду говоря, чего только мы ни требуем от жизни и от женщины! Мы хотим, чтобы наши любовницы были честны и хитры, чтобы они имели все пороки и все добродетели, чтобы они имели крылья и чувственность… Мы все безумцы! Розы, которая пахнет розой, удовольствия как оно есть, женщины как женщины, нам недостаточно. У нас болезнь в мозгу. Буржуа правы». «Человек с годами побледнел в живописце. Его безумная, торжествующая, гремящая и поющая палитра, его мифология, улыбающаяся в изумрудном и янтарном небе, праздник богинь, восхождения на Олимп, его боги с дивными членами цвета розоватой слоновой кости, эта блестящая и обманчивая жизненность мяса и голого тела, понемногу побледнели в его руке. Облако, потом креп протянулись по этой палитре, которая была прежде потоком золота и амброзии, отдыхавшей в блеске плафона Лемуана, бросая на полотно солнце и смех Дон-Кихота, эту веселую Одиссею Франции и Испании. Как подернутый мглою час, который бесшумно наступает в конце дня в мастерской, медленно погружая во мрак стены и краски, и проливает сперва легкую тень, убаюкивающую взгляд и мысль, а затем выдвигает ночь со всех сторон, так и сознание старости шаг за шагом тушит всю эту возню и эти апофеозы, Грансей покинул свет и юг для багровых небес, для тусклых дней, пустынных морей, для стоячих вод, для угрюмых скал, для пустынь, где солнце садится как сфинкс. Больной каприз и мрачные мечты Грансея перенесли его в этот таинственный уединенный и угрюмый мир природы. То он изображает свинцовое небо, старую деревню, а под витыми как медные колонны деревьями, обвитыми диким виноградом, бледную молодую девушку, прозрачную как тень, освещенную сзади солнцем и с головы до ног окруженную бледным сияньем. То – дикий кошмар сверхъестественного мира, танцы, блуждающие огни, леса, шумящие от летающих на метлах ведьм или же страшные образины, упавшие после искушения св. Антония на крышу, скрестившие ноги на зубцах стен, точно честные портные на своих верстаках, и глядящие круглыми пристальными глазами на какую-нибудь Тальони с ноготок, которая выделывает антраша в серебристом тумане луны. «Да простит мне Бог! Я ничего еще не сказал вам о нашем самом постоянном амфитрионе. Я чуть было не забыл Фаржасса. Вы знаете про старый спор Денег с Умом, дуэль Плутуса и Аристофана; в настоящее время это дело улажено. Свидетели пустили деревянные сабли, противники произнесли взаимные извинения и все вместе отправились завтракать. За десертом Деньги и Ум обнялись, как люди, которые сожалеют, что до сих пор друг друга не знали; так, что по выходе из-за стола видели богатых людей, которые набирались ума и умных людей, которые составляли себе богатство!
Наш амфитрион – человек биржи. Это красивый мужчина лет тридцати пяти, свежий, чистый, светлый, вычищенный всевозможными щеточками и стальными принадлежностями, всеми туалетными водами англичан, у которых он перенял манеру носить бакенбарды и темные цвета шотландских материй. Наш друг, надо признаться, существует для нас только с трех часов. До этого времени у него в руках карандаш и записная книжка; до тех пор он – оцепеневшая цифра. В три часа он узнает своих друзей; мысль его начинает циркулировать, сердце возвращается к нему. Он живет, улыбается, он глядит, как счастливый человек на счастье других, на Бога, на людей, на проходящих женщин. И вот предоставленный самому себе до следующего дня, снова вошедший в оболочку светского человека, веселый, умный, он вносит в наши обеды свою долю мыслей, острот, наблюдений и веселости, веселости отпущенного школьника, или только что женившегося юноши, которая охватывает все его тело, движет его руками и ногами, наполняет его уста радостными восклицаниями удовлетворения и неограниченного довольства; все хорошо, все прекрасно, и он толкает вас локтем, говоря:
– Ага? – чтобы заставить вас признаться, что жаркое отлично приготовлено и надо возблагодарить Провидение.
Это умный человек, который выигрывает на бирже потихоньку и наверняка от двадцати до тридцати тысяч франков в год посредством комбинаций, которые мне очень хорошо объясняли и в которых я равно ничего не понял. Он тратил их на дом, содержимый на широкую ногу, и на библиотеку, его главнейшую страсть, которая, я думаю, составляет самую полную коллекцию наших современных книг, не простых экземпляров на тонкой непрочной бумаге, но на голландской бумаге в сафьянном переплете, украшенном позолотой Капе. Это единственная роскошь, бьющая в глаза в его обстановке; все остальное только удобно и устроено для обыденного ежедневного комфорта. Позолот нет, но есть прекрасные кресла, которые укачивают вас как в колыбели; нет вычурных блюд, но обеды очень хорошие, с мясом, которое вас подкрепляет; отличное красное вино, теплое и не фальсифицированное; везде и во всем у него проглядывает наука практической жизни, разумное и широкое хозяйство, комфорт, перенесенный биржевиками из «home» Лондона в парижское жилище.
В нашем обществе есть и композитор, и хороший композитор, как мне говорили. По крайней мере, он никогда не играет на рояле. Бресоре написал две или три оперы, из которых я слышал… одно заглавие. Но если б я прослушал и дальше, я бы не подвинулся вперед: вы знаете, что у меня нет слуха в полном смысле этого слова. Вообразите себе человека серьезного, как латинская речь, бесстрастного, как совесть мудреца; из уст его выходят иногда шутки, от которых можно помереть со смеху, причем его мраморное лицо совершенно не меняется; это один из тех людей, которые в шарже растрачивают огромный комический гений и в шутовских выходках – замечательную фантазию и иронию; это жестокий, яростный ум, который придумал избавить Фаржасса от одного скучного гостя, постоянно навязывавшегося к нему, поместив следующее объявление в «Маленьких афишах» с именем несчастного и его адресом:
«Желают уступить поношенного паразита».
Относительно буржуа, – старое слово, столько же употребительное как слово «варвар» у греков или слово «штафирка» у военных, – он неумолимый и безжалостный насмешник. Этот демон-человек, поддев кого-нибудь, имеет вид китайца, который медленно сдирает кожу с одного из себе подобных. Он холодно, методично, систематично мстит буржуа за их дурные мнения об артистах, за их тайные нападки, за их глухое недовольство. Это реванш за все удовольствия, за все радости, которые доставляют нам наши междоусобия, разоблачение наших бедствий и публичность нашей брани……
Да, мы не дисциплинированный народ. Мы фразёры, мы хвастуны. У нас свои пороки, дурные инстинкты, свои предрассудки, свое тщеславие – наша живая рана. У нас нет веры, уважения, жалости в наших играх, и мы делаем игру изо всего… Да, но в конце концов мы все же великая и благородная раса, раса свободная, дикая, которая презирает владычество, не признает божественного права денег, и которую не закрепостила еще монета в сто су. Мы не верим ни во что, правда, но у нас есть своя религия, религия голов, за которую мы боремся, страдаем, умираем: совесть разума. Ирония, оскорбления, неудачи судьбы, нетерпимость успеха, работа, работа днем и ночью, лихорадочная работа, которая истощает, старит, убивает; жизнь без отдыха, борьба, постоянная борьба; телесные страдания и душевная усталость, долгое испытание, и долгие мучения мысли, которая исповедует до конца свои умственные верования; уменье, самое последнее в свете уменье наживать деньги – ничто на нас не действует, и мы идем, идем, состарившиеся раньше времени, с поседевшими висками в тридцать лет, желчные и бледные от света ламп, измученные бодрствованием, изнеженные ночным разгулом и работой… Ах! воюя с бумагой, мы проживем не более тех, кто воюет с железом. Мы идем, обративши глаза на другую звезду волхвов. Одни падают, другие устают, мы сеем по дороге мертвых и отстающих, и смыкая теснее наши ряды, сбирая наше знамя, мы не оборачиваемся… Мне стыдно сказать вам, милый, друг мой, чего мы ищем: это золотое руно, имеющее смешное название; это просто на-просто – идеал, «картину, как сказал Гоффман, которую мы пишем нашей кровью»; химеру, которая все же так прекрасна, что все покинувшие нашу дорогу для более легких путей, вошедшие в сделку с своей совестью и злоупотребляющие своим умом, чувствуют угрызения совести ренегатов. Они говорят себе и другим: «у меня пять человек детей»!.. Они извиняют себя и все же не могут себе простить отступничества. Да, у нас нет порядка. Мы не умеем откладывать на черный день, выигрывать на бирже. Но, я знаю, между нами есть беднейшие, которые с голодными желудками отказались от больших денег, чтоб не запятнать своей совести, не искажать своих мыслей и не выбрасывать некоторых фраз… Да, в нашем мире есть люди, которые более не краснеют, и есть вещи, которые заставляют краснеть; бывают скандалы, постыдные слабости; но, мой друг, то, что мир скрывает, наш мир выводит на чистую воду. Мы подымаем занавес, показывая все наши язвы, мы роемся один у другого в нашей жизни, в наших письмах, как роются при обыске в изголовье постели вора. Все наши подлости на глазах всего света. Посчитайте же подлости других людей, другого мира, подлости тайные, скрытые!.. Да, мы составляем враждебную семью, республику зависти, мы терзаем, грызем друг друга; но в глубине всего, в этом споре из-за славы, из-за популярности, на этом узком поприще, где часто местечко, занятое одним, есть хлеб, отнятый у другого, у нас все же есть восторги, выходящие прямо из груди: мы чтим успехи, которые нас подавляют, и мы поклоняемся великим людям между нашими сотоварищами… Я видел одного помещика, который завидовал другому из-за кусочка земли. Вся наша зависть была ничто в сравнении с этой.
Да, мы клевещем сами на себя; но под всеми нашими позами, под нашим самохвальством, нашими старческими улыбками, нашим циничным хвастовством, скрывается конфузливость, наивность и застенчивость влюбленной куртизанки; если мы уж любим, то любим, как школьники. За ложным стыдом иллюзий, преданности и всех социальных добродетелей, за нашим показным скептицизмом, нашими грубыми парадоксами, нашими бессодержательными темами, стоит то, о чем мы никогда не говорим, старушки матери, сестры, которым мы помогаем своими работами, семьи, куда таинственно идет наша сыновняя помощь… Но я кончаю свой монолог. Простите и прощайте. Шарль Демальи».
XXXI
Это было в том же самом кабинете «Красной Мельницы», где месяц тому назад Буароже представлял Демальи. Обед кончался; те же гости болтали за кофе.
– Сон Сципиона, – говорил де-Ремонвиль, – сон Сципиона! Вот что руководит моей надеждой! Прекрасное размышление о смерти… Самая лучшая мечта, какую только может создать человеческий ум. Великолепная проповедь о ничтожестве нашей жизни и об истине нашей божественности. Пусть мне оставят сон Сципиона и затем гильотинируют: я умру спокойно… Какое-то дыхание бессмертия уносит вас с одного конца в другой… Вы не верите в бессмертие, Демальи?
– Извините… Очень часто.
– Перечтите сон Сципиона… Вы рядом с африканцем, вы видите землю под вами, как точку в пространстве, и время для вас составляет момент в вечности… Вы парите в воздухе: вас окружает концерт гармоний; пусть разные Арого унижают античное небо, в нем всегда будет слышна музыка миров под лобзанием Бога, движение сфер, и бесконечный звук течения звезд… А что может быть возвышеннее рая нравственного порядка? Это Пантеон света и спокойствия, это высокое жилище счастливой вечности, где отведены места тем, кто охраняет, увеличивает отечество и помогает ему… Если бы от меня зависело дать название «сну Сципиона», я бы окрестил его «Экстазом человеческого сознания»… Какой могучий полет в бесконечность!.. Не кажется ли вам, что вы приближаетесь в Провидению, когда книга говорит вам о взгляде правителя миров, радующагося собраниям и обществам людей, соединенных на всей земле правом? Какой великий жизненный урок!.. Ах, тут все есть! Прочтите хотя бы это место: «Для принципа нет начала»… Это принцип Цицерона, созданный им самим, и из которого все вытекает, это колыбель, заря, возвещение Слова св. Иоанна: «В начале бе Слово, и Слово»…
О-э! Маленькие ягнята…Раздалась в соседнем кабинете песня, и прервала речь Ремонвиля.
О-э! Маленькие ягнята, Кто бьет стаканы!..– Да это голос Кутюра, – сказал Демальи.
– В самом деле, правда… тут вся их компания, – произнес Буароже, – ой и меня приглашали… Они празднуют новоселье маленькой газеты объявлений…
– Уйдем! – сказал Ремонвиль.
Ремонвиль и Демальи катились вокруг озера Булонского леса, в открытой коляске. Фонари коляски бросали мимоездом свой свет на темную чащу. Отражение света в озере дрожало тут и там между деревьями. Ночь зажигала звезды одну за другой над черным лесом. Лошадь бежала рысцой.
– Что касается меня, мой милый, я говорю вам, – продолжал де-Ремонвиль, – что нравственная вершина человечества – это Антонины… прекрасный тип гуманности являет собою Марк Аврелий. Я нахожу в нем то, что древние называли добродетелью в её высшей степени искренности и простоты при блеске и характерах, которых я не у кого более не нахожу… Он благоговеет перед идеей добродетели и справедливости, как художник перед идеалом. Стоицизм, это прекрасное учение, самая бескорыстная и самая благородная мораль, когда человек действительно возвышается сам собою… Как укрепляюще действуют произведения Марка Аврелия!.. Он человеческий Бог мудрости… и однако, он – Цезарь, триумфатор, выше всех, имеющий под ногами почти всю карту Птоломея, стоящей на высоте, где вино всемогущества бросается в голову!
Изо всех новых друзей Демальи, де-Ремонвиль более всего сходился с ним, с его идеями, и Шарль всего более чувствовал к нему нравственных симпатий.
Ремонвил был ни велик, ни мал, скорее даже мал ростом. Голова обличала в нем человека: голова крепкая и красивая, молодая и могучая. Волосы у него были белокурые, глаза и брови черные. Середину лба прорезывала вертикальная, прямая линия, обозначающая сильную волю. Глубокие глаза горели темным огнем, под орлиным носом вились небольшие испанские усики. Линия подбородка казалась мраморной, цвет лица был бронзовый. Во всем этом лице было что-то орлиное и похожее на Аполлона; в нем были кровь и взгляд красивых, хищных итальянцев XVI века, или молодого императора старого Рима; тип Челлини и Нерона в двадцать лет, достойный кисти Веласкеса.
Созданный и душой, и телом для иного времени, чувствующий себя неловко в черной одежде, Ремонвиль чувствовал себя неловко и в своей сфере. Ни его век, ни его отечество не подходили ему, еще менее подходило ему его ремесло. Будучи театральным критиком газеты «Temps», он каждую неделю поворачивал этот жернов возвещения о пьесах, драмах, водевилях, клоунах, новых звездах, танцовщицах, об ученом слоне, о модной актрисе, об успехе, о вздутой славе, о театральных событиях недели. Он исполнял этот ужасный новейший закон журнализма, заставляющего заниматься низшими задачами и губительной работой людей, которые, будучи свободными и употребляя свои силы только по призванию, могли бы дать Франции какое-нибудь произведение, вместо обычных отчетов публике. Ремонвиль подчинился этой роли; но он возвысил ее, внеся в нее свою личность, свои вкусы, свое знание и талант. Его фельетоны были оторванные листки прекрасной книги, без продолжения, лучшей школой относительно театра и водевиля. Если он входил в Пале-Рояль, то именно с песнью лягушек Аристофана. Если он видел Бушарди, он рассказывал вам о Байроне. Таким образом набрасывая на все плащ Музы, напоминая о чем-нибудь бессмертном по поводу каламбура, этот редкий критик, часто тратящий в своем фельетоне более мыслей, чем в целой пяти-актной пьесе, заставлял говорить о себе глупцов, что у него нет воображения, простаков – что он не рассказывает интриг, и своих друзей – что он никогда не напишет книги. Он мало беспокоился об этом, и еще менее о своем фельетоне, сделанном на скорую руку. Набросав на бумаге свои двенадцать столбцов, в субботу утром, он тотчас же забывал эти двенадцать столбцов то рифмованных, то нежных и глубоких, как псалом, то полных жизни, огня и страсти современного очевидца, когда по поводу исторической драмы он мог добраться до истории и порыться между мертвецами Сен-Симона, он не говорил более о своих статьях, это уже было похороненное дело и он довольно грубо обрывал комплименты по их поводу.
Мысль критика парила над его ремеслом. бессмертные произведения, самые нежные мелодии человеческой мысли, самые поэтические песни народной души, самые сильные драмы страстей, самые тонкие улыбки ума были его пищей и его счастьем. Мысль его углублялась в Данте, как в поток света, она наслаждалась священными книгами Индии, укреплялась в древних философах, обнимала Гомера и древних богов. Кроме того, мысль Ремонвиля питалась еще и другим насущным хлебом, имела другие занятия и радости столь же благородные и дорогие. Ремонвиль любил искусство. Прекрасное было его религией и совестью. Хорошее полотно, красивый мрамор, красивая линия, весь этот материальный мир, подчиненный воле и гению человека, составляли его величайшее наслаждение. Колорит Рембрандта, солнечное освещение Клода Лорзна, улыбка Монна-Лиза, «Страшный суд» Микель Анджело, Рубенс, Веронез, художники примитивные и декаденты, Мемлинг и Лонги, граверы, начиная Марком Антонием и кончая Гойа, рисунки, эскизы картин, сангины Ватто и синие картоны Прюдона, – вот что составляло его общество, его близких, его очарование. Если его любовь, даже восхищение его относились к настоящим векам, все же его поклонение и обожание всецело принадлежало прошлым. Он постоянно возвращался как бы уносимый потоком стольких прекрасных произведений к бессмертному источнику: греческому искусству. Он преклонялся перед этими мраморами, в которых светилась божественность, перед метопами Парфенона, перед этими лошадьми, всадниками, торсами, полный священного трепета и отчаиваясь подыскать когда-либо слова настолько божественные, чтоб не довольствоваться одними фразами! С какими желаниями, с каким восторгом несся он из своей страны, из своего времени к этой земле Парфенона, к земле Фидия! Его отечество, его алтарь, его грезы, иллюзии, его душа, – все стремилось к ним; называя Грецию, он казалось называл вам свою мать! Он жалел о всем, хвалил все в этой небольшой великой нации, с городами, более населенными статуями чем гражданами, с законами, смягченными Фриной. Что бы ни говорил он об Антонинах, все же ему хотелось, чтобы человечество воротилось ко времени процветания Греции, а не Рима, как к своей истинной зрелости. Аристотель и Платон, по его мнению, сделали достаточно великими психологию и науку. Сократ дал сильный толчок исследованию сродства душ. Геродот и Фукидид сказали последнее слово истории, Эсхил, Софокл и Эврипид – последнее слово человеческих страстей; Аристофан был лучшим выразителем смеха; Афины представляли идеал свободы и греческой цивилизации. И несмотря на все, этот поклонник греческого был католик; но он был католик из ненависти в религии иконоборцев, католик в благодарность за век Льва X; католик из ненависти к северным расам, которых он ненавидел со всем пылом южного племени, из ненависти к Германии, которую он называл Китаем Европы.
– Смотрите, – говорил он, – у них саксонский фарфор, как у китайцев; экзамены, докторские степени, как в Китае; и надворные советники… бранденбургские мандарины!
Экипаж все ехал; лошадь продолжала бежать мелкой рысцой; кучер дремал, шум каскада тихо замирал позади их; коляски как молнии мелькали мимо, унося с собой гул голосов и тени женщин. Ночь была безоблачна, звезды блестели.
– Ну, что же, да, я язычник, – признавался гордо Ремонвиль; и затем полушутливым полусерьезным тоном, тоном умного человека, рассказывающего о чуде, которому он верит, продолжал: – Милый мой, был один ученый, в Мюнхене, то есть немец, который в одной очень ученой брошюре отрицал, что Аполлон – бог солнца… Знаете ли вы, как он умер? От солнечного удара!.. Однако, что же это делает наш кучер?.. Посмотрите пожалуйста, у него вид античного паразита, облокотившегося на триклиниум… Эй! кучер!
XXXII
Интимность, полная интимность воцарилась между обедающими по четвергам; и случилось так, что различие политических верований и литературных мнений, даже диссонанс в характерах настолько же способствовали своим гармоничным противоречием взаимным симпатиям одних к другим, как и сходство вкусов и общность настроения духа. Основой этого общества и его прелестью были откровенность, свобода языка, мысли, совести, дружбы и презрения, при уверенности, что никто не предаст друг друга; редкое удовольствие этого маленького литературного мира состояло в возможности свободно и всецело раскрыть свое сердце и ум, не давая оружия сплетням, нескромности, раздражению и зависти товарищей или же материала в какой-нибудь журнал для заметок биографа! Кроме того, существовала еще сильная связь в этом обществе: взаимность уважения, признание таланта и ума; уважения настолько искреннего, что оно не требовало ни засвидетельствования, ни слов. Эта откровенность, эта взаимная вера друг в друга, придавали отношениям то равенство, до которого никогда не подымятся ничтожные умы и чрезмерное тщеславие. Это уважение делало их, кроме того, снисходительными, благодаря чему они прощали друг другу маленькие неровности в настроении, некоторую шероховатость в манерах, которые принимались ими за оригинальность темпераментов.
После нескольких обедов случалось то, что всегда случается: втерлись некоторые посторонние лица, которые привели в беспорядок скатерть, а вместе с тем разговоры и мысли. Тогда основатели решили покинуть «Красную Мельницу» и начали обедать по очереди, друг у друга. Но Фаржас, имевший столовую, удобную для обедов и болтовни, скоро принял на себя роль амфитриона и возобновил регулярно старые обеды по четвергам, обеды без женщин, непринужденные, на которых снова начались опьяняющие споры и битвы речей по поводу всего, о философской книге, появившейся утром, или исторической диссертации, прочтенной накануне, одним словом, по поводу всех приключений человеческой мысли, всех великих вопросов и сомнений души, всего, к чему стремятся мыслители во время пищеварения. Обеды Фаржаса продолжались таким образом до одного четверга, в который Фаржас предупредил, что следующий четверг обед будет подан в шале, которое он выстроил себе в Нейльи, на землях старинного парка Луи-Филиппа. Обойщик почти кончал и надо отпраздновать новоселье. Фаржас добавил, что этот обед был обязателен, что ничто не избавляло от него, ни наследство, ни свидание, ни первое представление в Bouffes-Parisiens, и что он готовит сюрприз для своих приглашенных.
XXXIII
– Ты знаешь, когда Жерар де-Нерваль повесился… мы ходили смотреть… О! Грязная улица и время!.. Помнишь, Фаржас? Я еще потрогала перекладину… Хорошо, так вот с этого дня… Мне это принесло счастье!.. Ты знаешь, на следующей неделе я встретила венгерского графа… Венгерского графа, что ты скажешь на это, Нинет? Ха, ха!.. и вот счастье не прекращается до сих пор… Вот так история! Пить!
Особа, говорившая это, была действительно красива, красива на подобие итальянских эфебов XVI столетия, которых Рафаэль изображает в бессмертном сне молодости, и нежность, и чистота линий которых походит на красивый цветок, на юность Бога. её черные, глубокие, жгучие глаза не горели огнем, они светились тихим пламенем. По совершенно бледному лицу пробегал иногда розоватый оттенок цвета чайной розы. её рот был так красен, что казался намазанным; он был полуоткрыт, но это не придавало ей глупого выражения; точно дыханье чудного сна покоилось на устах заснувшей женщины. Густые черные волосы с синими переливами лежали жгутом на её голове. Она была вся в белом. Платье из английских кружев, платье очаровательное, волновалось вокруг неё как серебряная пена. её белые ботинки с вырезом охватывали её ногу, кончаясь маленькой рюшью из тех же кружев; розовый цвет тела просвечивал сквозь паутину её чулок. Из драгоценностей одно ожерелье из черных жемчугов обвивало её шею.
Около Крэси, так звали великолепную брюнетку, сидела Нинета, маленькая блондинка. Контраст был превосходный и красота Крэси выделялась от этого еще более. Нинета, имевшая уже популярность шансоньеточной певицы и куртизанки, была светлее льна. Она уменьшала, как только возможно, свой лоб, закрывая его взбитыми буклями. Представьте себе маленькое личико, беленькое, розовое, неправильное, постоянно в движении; голубые глаза, то хитрые, то насмешливые, то сверкающие или подернутые какою-то неопределенною нежностью, которую древние художники придавали взгляду Венеры; небольшой носик; двадцать четыре маленьких острых зубов, которые показывались при всяком удобном случае в своенравном ротике, свежем как вишня… совершенный мальчишка, шалун! Тысяча гримас, обезьяньи ухватки, дьявольское кокетство, страсть возбуждать, нравиться, говорить, смеяться, прыгать, резвиться, менять голос, место, вино, физиономию, тарелки, настроение духа… одним словом все в Нинете напоминало фейерверк, который китайцы пускают за столом… Одета она была совершенно также, как и Крэси, только её платье было из индейского кашемира, и ожерелье было из марказита.
– Видишь ли, Фаржас, – продолжала Крэси, – я была сердечной, но теперь… теперь я бы извлекла деньги из кремня!.. Представь себе, я совсем больше не люблю… совсем, совсем! Мужчины предпочитают это: это их меняет! И потом…
Крэси была прервана Нинетой, которая запела неаполитанский романс, танцуя на стуле, колотя в такт ножом по столу и качая головой, бросая то быстрые, то томные взгляды через весь стол.
– Стойте! Он прехорошенький, этот малютка, – проговорила она, забывая свой романс и останавливая глаза на де-Ремонвиле. – Сударь, я нахожу вас очень красивым!
– Сударыня, – начал Ремонвиль.
– Ах, моя милая, – сказал Брессоре, – за Ремонвилем все бегают. Запиши это себе… Он выдает номера своим поклонницам… Это он похитил Розу у Клариона… Ты ведь знала Клариона?
– Клариона?.. Нет.
– Полно! человек, из-за которого ты покушалась на самоубийство!
– Кларион?.. Человек, из-за которого я покушалась на самоубийство? Во-первых, я покушалась на самоубийство три раза… Кларион… Кларион? – и она милым жестом прикрыла рукой глаза, как бы вглядываясь в даль, – Кларион… не знаю… не помню! Право, у меня такая плохая память!..
Обед оживлялся. Нинета говорила быстрее, пела громче, теребила свое платье, делала гримасы всем гостям. Вино бросилось в голову Креси, придавая её лицу какое-то страстное оцепенение, глазам – нежную истому, всей её красоте какую-то полноту, какой-то чарующий пыл. Временами, болтовня, делавшаяся все откровеннее, заставляла ее смеяться, тем безумным и фальшивым смехом женщин, ремесло которых веселиться. Фаржас сиял; Буароже искал древней оды в глазах Крэси; Ремонвиль смотрел на Нинету, как на портрет Лоуранса, Франшемон, наклонившись к ней, помогал ей вспомнить имена её любовников; Брессоре пил; Лалиган свободно рассказывал любовное приключение на необитаемом острове; Грансэ положил оба локтя на стол; Ламперьер передавал десерт и шептал мадригалы Крэси, которая отказывалась от всего. После того, как она от всего отказалась, она выдернула золотую булавку, которая сдерживала её прическу. Волосы её упали и скатились на одну сторону. Она оставила их и принялась брать концом булавки землянику с тарелки Демальи, прижимаясь к его плечу в припадке смеха, глядя на него и передавая свою мысль Нинете на странном, быстром языке, напоминавшем арабское наречие, который сначала ошеломляет ухо: Крэси говорила по явански, на этом арго Брэда, в котором слог на, повторенный после каждого слога, коверкает для профанов звук и смысл слов, и позволяет говорить громко, и не быть понятым другими.
Вдруг Нинета сделала жест Крэси и обе они, отставив свои тарелки и взявшись за руки, начали кружиться по обширной обтянутой репсом зале, которая служила и столовой, и рабочим кабинетом шале. Картины еще не были повешены и ничто не портило этой прелестной пурпурной рамы, в которой вертелись две белые женщины. Ничего не могло быть восхитительнее зрелища этой блондинки и брюнетки, шаловливых и легких теней, их перемешавшихся волос, их улыбок, их ножек, скользящих в такт воздушного вальса, который импровизировал на рояли Брессоре. Глаза их, то голубые, то черные мелькали, так что нельзя было уследить за ними. То подбирая свои юбки, они замедляли свои шаги вместе с замирающей мелодией, то вдруг, подняв юбки, ударяя ими о стены, разметая по полу трэнами, они неслись и пропадали в этом красном фоне, похожем на кровавое небо… И вертясь, и кружась, они оставляли за собой звук их запыхавшегося дыханья. Наконец они остановились, еще держась друг за друга, обмахивая платками горячие щеки, и волнующуюся грудь. Затем они оправили свои платья, помогая одна другой. В эту же минуту Нинета наклонилась к Крэси, чтобы разгладить её воланы и взбить кружева; Демальи глядел на нее: он видел, как она, наклоняясь, захватила зубами большую жемчужину из ожерелья Креси, чтобы попробовать, не поддельная ли она.
– Ну вот вы в прекрасном виде теперь, – сказал Фаржас, – идите пить кофе, а Брессоре сыграет вам свой знаменитый отрывок…
– Я в отчаянии, мой милый, – сказала Крэси, – но мы уезжаем… Так как ты был очень мил для меня когда-то, я не хотела тебе сделать неприятности и вот как видишь, приехала… Но я спешу, честное слово!.. Меня ждет один бразильянец… по очень важному делу.
– Что он такое, твой бразильянц?
– Ты его увидишь… вы все увидите… Он построил мне целый отель, этот дурак… Мы справим там новоселье, непременно!.. Я хочу веселых и неглупых людей… И так, я вас всех приглашаю лично!
– А бразильянец?
– Бразильянец?.. Он будет в числе моей мебели!
XXXIV
«Clèry-sur-Meuse.
Июль 185…
Мой милый Шаванн, мне пересылают ваши письма из Парижа. Прошу у вас извинения, что не написал вам раньше, чем сюда приехал. У меня умер мой дядя, старший брат моего отца, единственный мой родственник… Мой отец вам часто говорил о нем. Я приехал слишком поздно. Дядя мой уже умер. Я не хотел посылать вам банального приглашения на похороны. У меня было тысяча дел, печальные хлопоты… Наконец я могу с вами побеседовать.
У меня еще перед глазами и в сердце похороны, катафалк, освещенный множеством свечей, гроб с крестом, фермеры, пришедшие издалека, запыленные, с черными шляпами в руках, старые слуги, оставленные с пенсионом, семидесятилетние старики, служащие еще, их сыновья, занявшиеся торговлей и делающие себе карьеру, собравшиеся и столпившиеся около трупа их патрона, товарища по сражениям, старые, еще крепкие молодцы с ленточками ордена Почетного Легиона, – воспоминанье о моем отце, живущее еще тут и там, незнакомые объятия, открывающиеся сыну господина Анри, как меня называют здесь… Для людей нашего поколения, для века, не имеющего прошлого, для нашего обособленного мира с личными радостями и страданиями, такое зрелище есть как бы последнее представление этой клиентуры дружественной и преданной, которая составляла в семействе прочный фундамент, свадебный кортеж, погребальное шествие… Затем черные группы женщин в трауре, которые провожают здесь покойника до самой могилы, ограда из национальной стражи, которая смотрит строго, и высунувшиеся из всех окошек головы, провожающие гроб… Да, это как бы последнее явление социальной поэзии, которую убил свод законов. Все в их печали было благородно, просто, прилично; редкая вещь – не было никаких грубых происшествий и даже фермеры, угостившиеся на постоялом дворе, отнеслись с уважением к похоронным поминкам.
Дом совершенно пустой. Я брожу по нем взад и вперед. Это прекрасный большой дом с широкой каменной лестницей, большими комнатами, галереями полными портретов. Я узнал старые обои в зале, изображающие сады Константинополя и турок из «Тысячи и одной ночи»; также и палисадник, и оранжерею, эту красивую оранжерею, в которой прежде давались комедии, вместо того, чтобы вмещать апельсинные деревья; над дверью покатывается со смеху изображение Гро-Рене с током из перьев на голове, раструбами из брыжжей, с одним усом вверху, другим внизу; на всех простенках фасада изображены веселые символы, орудия веселья и смех, высеченные из цельного камня.
Бедная зрительная зала! Любимая мечта светского человека, который построил этот дом, прошел добрый век с тех пор как старый торговец башмаков, этот добрый малый, составивший себе состояние, устроился тут; влюбленный в театр, без ума от музыки, он в конце своей жизни, сидя на ступеньках крыльца, забавлял мальчишек ужасными звуками своей милой скрипки. Столовая осталась такою же, как и была, когда я совсем еще маленький видел в ней моего дедушку с тросточкой, положенной на стуле рядом с ним, бормотавшего брань своим беззубым ртом, всегда курящего, всегда зажигающего угольком свою вечно потухающую трубку… Трость его, милый Шаванн, не всегда лежала на стуле; он употреблял ее в блаженное время в своем замке Сомрёз, в то время, когда палочные удары воспитывали слуг и привязывали их к своим господам, да простит мне это Бог, как фамильярность. Надо послушать по этому поводу старую Марию-Жанну, которая все еще живет, – она была его кухаркой; она расскажет вам с своего рода забавным благоговением об ударах, раздаваемых одним, другим, ей самой наконец… Я даже не мог открыть в ней ни малейшего неудовольствия за то, что она была несколько раз выкупана в воде по приказанию моего дедушки, чтобы охладить ей кровь и помешать думать о замужестве! Старая Мария-Жанна! Это целая книга воспоминаний! С утра до вечера сидит она в мелочной лавке своего сына и постоянно рассказывает одно и тоже о моем отце, о дяде, о дедушке, обо всех родственниках, о всей семье… И в воспоминаниях старой служанки, надутой честью и гордостью дома, встает прежний образ жизни, буржуазное довольство замка Сомрёза, роскошный прием, данный моим дедушкой какому-то итальянскому принцу, имя которого она удивительно коверкает… «Мой дядя был честный, чересчур честный человек, «глупец» в хорошем смысле, какой Наполеон придавал этому эпитету, говоря Лас-Казасу: «Я не расточаю его всему миру…»
Он мог бы прожить сто лет и сердце его осталось бы детским. Жизнь его ничему не научила, ни скептицизму, ни даже опыту. Его иллюзии не поддавались урокам. Его легковерие было неизлечимо. Он верил другим, как самому себе, принципам и вещам, как людям. В партиях он видел только знамя, в революциях – идеи, в интригах – подлог. Вот его характер. Он был старый артиллерийский капитан, немного глуховатый, радушный, зовущий всех и каждого «мой товарищ», углубленный в математику и говоривший одному из своих старых друзей, который поручил ему разузнать о женихе, сватавшемся к его дочери: «отличный молодой человек… Как он объяснил мне барометр…» Он был очень добр, и его доброта, также, как и его храбрость, ничего ему не стоила, они были его темпераментом; он был неспособен к дурным мыслям, к дурным желаниями; врагов у него не было… Я чуть было не солгал, как лжет посмертная похвала; он рассердился однажды на некоего трактирщика Бержевена из-за форели, сваренной в вине.
– Форели варят в воде, господин Бержевен.
– О, сударь, в воде… Одни только бедняки…
– В воде!.. Бедняки!.. – Это было единственное воспоминание в жизни, которое приводило в гнев моего дядюшку!
Он меня лишил наследства. Собственно, то было почти решено между нами. Он предупредил меня, что если я хочу писать книги, – он называл это ничегонеделаньем, – не получу ни одного су из десяти тысяч ливров его ренты. Он сдержал слово, и если бы вы меня не знали, я дал бы вам честное слово, что сожалею об этом столько же, сколько если бы он меня сделал своим наследником; здесь есть небогатая больница, которая наследует все; мой дядя возымел желание, которое он счел достойным его и меня, сделать меня своим душеприказчиком; на память он оставил мне великолепный рисунок Малле «Произвольная вербовка», написанный гуашью в совершенно неизвестной манере, и вот я занимаюсь делами моего наследства.
У моего дяди был сосед, которого я в детстве непочтительно звал «Mardi-Gras». Этот приятель и друг всю свою жизнь служил предметом невинных шуток моего дяди. В полку дядя сминал его пороховницу, полную сладких пирожков. Здесь он выбрасывал все камни из своего сада в сад соседа, или посылал его на кухню перед большими обедами попробовать соуса. Все это привязало их друг с другу; они не разлучались в продолжение сорока лет. Этот добрейший малый хотел непременно, чтобы я остановился у него. Все что я мог сделать – это ночевать здесь; и обедаю я у него…
Ах, милый друг, что такое еда в провинции! Аппетит здесь – это особое учреждение, трапеза – церемония, пищеварение – какое-то торжество. Сердце провинциального дома – кухня, где предки говорят расслабленным голосом о раках, сотня которых наполняла целую корзину, в дни их молодости. Вся провинциальная жизнь вертится около стола. Стол у них не мебель, это центр, алтарь, очаг, что-то принадлежащее в семье, как брачная подушка в хозяйстве. Сам желудок принимает священный и торжественный характер орудия ежедневных восторгов. Желудок уже более не желудок, а какая-то животная душа, которая, удовлетворивши себя, распространяет во всем теле нравственное довольство, мирное расположение духа, увлечение жизнью, особенное расположение к себе и другим, размягченную лень головы и сердца, – самый сладкий путь честного человека к апоплексии! Мой амфитрион чествует с трогательной сосредоточенностью эти два провинциальные принципа: обед и ужин. Он чтит их как таинства, исполняет их как долг; видно, что для него это действительно религиозный обряд, когда он говорит о покойниках с полным ртом, не производя впечатления, что он этим профанирует их память; так недавно, разрезывая окорок, он вдруг остановился и, подняв глаза к небу, произнес: «Ах! как их хорошо солила моя бедная жена».
Я ничего не делаю. Я не прикоснулся к перу, и качусь как по наклону от обеда до ужина, от ужина до обеда, – жизнь совершенно животная. Время идет здесь незаметно. В голове у меня ничего нет, ни мыслей, ни волнений. Я очень спокойно скучаю. Будто я нахожусь в одно и то же время и в маленькой комнатке, где очень жарко натоплено, и в большой, где совершенно нет огня. Мне нечем дышать и вместе с тем холодно; это просто начало удушения мысли. Я думаю это здешний воздух так влияет, провинция, милый Шаванн, провинция!.. Надо быть созданным, как вы, чтобы остаться в ней мыслящим, интеллигентным человеком. Впрочем, вы еще живете в деревне. Но настоящая провинция – маленький городов… Мысля в нем, можно умереть!
Я провожу часы сидя у окошка; я вижу людей, прохожих никогда, – прохожих нет в провинции; прохожий всегда кто-нибудь! Даже собаки, милый друг, которые принадлежат главному месту округа. В Париже они не знаются, у них свои дела, вы никогда не увидите трех вместе; здесь они собираются каждый день десятками на площадь, и это единственное общество в городке… Заметили ли вы, что в провинции стены имеют особенные тени, которые производят у вас дрожь в спине, как тени улицы. Почты? Я читал в местной газете объявление о приеме туземцев в бакалаврскую степень..! Провинция – это степь, где сеют чиновников и где растут налоги. Женщины родятся тут провинциалками, одного этого довольно… Невозможная страна, выдуманная подпрефектами, где есть люди, отгадывающие ребусы. Иллюстрации!.. Я ничего не преувеличиваю. Думали ли вы когда-нибудь об ужасной вещи, какая только может быть – о сборщике податей, не имеющем к этому призвания?.. Но нет, этого не бывает, есть же Бог на небе!
Я говорю, что скучаю, милый Шаванн, но в глубине души мне грустно. Вот я теперь совсем одинок в жизни. У меня остались только родственники, не знаю в какой степени родства, родственники, которые уже не считаются. Все умерли: этот последний. Теперь у меня никого нет моей крови, моей семьи… Ах, когда последняя горсть земли падает на того, кто единственный оставался у вас, какая-то пустота наполняет вас и вы возвращаетесь домой с низко опущенной головой…
Шарль Демальи».XXXV
Есть очень приятный час в Париже: это час предшествующий обеду. Париж окончил свой день, и прогуливается по бульварам с веселым видом легкими шагами. Занятия кончены. Никто не спешит более наскоро пожав друг другу руки, и друзья останавливаются поболтать между собою. Со всех столов из кафе несется запах алкоголя, абсента, вместе с гулом и смехом людей, обсуждающих новости дня или удовольствия вечера. Читают завтрашнюю газету. Это час, когда парижанка возвращается домой самой длинной дорогой, час, когда инвалиды, стоя в пассажах, обмахиваются своими треуголками.
Демальи, сидя за столиком кафе на Монмартрском бульваре, смотрел перед собой.
– А, наконец, проговорил подходя к нему де-Ремонвиль, я уж думал, вы не вернетесь… Что ж, получили наследство?
– Нет, мой милый.
– Нет более дядюшек!.. Однако, что это вы рассматриваете, не будет нескромностью спросить?
– Я смотрел, как заходит солнце, золотя своими лучами объявления над пассажем Панорамы… Представьте себе, мой милый, я скучал там по всему этому. Что вы хотите, сердце мое радуется при виде этих оштукатуренных стен, испещренных большими буквами: это так пахнет Парижем и человеком. Изредка попадается заморенное деревцо выросшее в трещине асфальта… Есть люди, счастье которых составляет зелень и голубое небо; они счастливо созданы!.. Ну что новенького? Я только что приехал… и ничего не знаю.
– Новенького… да ничего. Ах, впрочем, есть… правда, ведь вы уже два месяца как уехали: появилась новая звезда… знаменитость, которая занимает весь Париж, женщина, о которой пишут все газеты: об её красоте, отеле, обстановке.
– Как ее зовут?
– Креси.
– Ба… Креси?
– Да, Креси, наша Креси! Она имела неделю тому назад успех в опере, но какой! Никто не слушал, как фальшивили певцы!.. Вы знаете, её бразильянец… Представьте себе человек, который где-то был императором в продолжении трех часов, там, где Гумбольт измерял горы… маленький человечек с испорченным желудком… пресмешной… с птичьим голоском… Брессоре утверждает, что он говорит на языке колибри и пьет одну сельтерскую воду. Креси обращается с ним, как с негром, и зовет его Биби!.. Он конечно без ума от неё и так как он спас свое состояние, отрекшись от престола, Креси ведет роскошный образ жизни… Она велела построить себе отель в улице Курсель, но какой отель! Это пирамида Хеопса, превращенная в палаццо. А какая роскошь! Порфировая лестница!.. Говорят, у ней будет малахитовое зало, заказанное в России… А пока у ней столовая, где едят морские финики из Люкренского озера, устрицы с мыса Цирцеи, тарептские улитки, раков из байев, кабанов из Умбрии, и фрукты из Пичентина!.. Вы знаете, она вас ждет? Я должен привести вас живым или мертвым. Она требует вас с шумом и гамом. Надо, чтобы вы пришли, к тому же это забавно. Мы воздвигли у ней настоящий Портик. У нее говорят… обо всем. И наша президентка никому не мешает. Роскошь опьяняет речи и прошлый вечер Франшемон говорил целый монолог об упадке Рима… Я никогда не слыхал такой массы мыслей. И Креси начинает понимать! Эти женщины научаются всему, даже быть богатыми… И так, завтра я вас забираю. А теперь я бегу. Я обедаю по ту сторону Сены, у черта на куличках…
XXXVI
Столовая вышла очень красива. Она была вся из белого мрамора, перерезанного пилястрами с карнизами и фризами из зеленой бронзы. Буфеты были мраморные, и поддерживались двумя бронзовыми ястребами, сделанными скульптором Каеном с его обычным стилем и силой. В обоих концах залы находились две звериные пасти, из которых струилась вода в мраморные бассейны, где плавали тропические цветы. Ели на белом саксонском фарфоре с колосьями ржи. У Креси относительно фарфора был вкус старой испанки; она выносила только белый фарфор – белый саксонский, белый севрский, белый китайский. Креси была все также прекрасна, чудно прекрасна и бледна.
Её глаза, эти два черные глаза были глазами города Тегеи, в старинной живописи музея Борбонико: страсти Пазифаи, казалось, дремали в восточной неге и томленье, платье её было опять из английских кружев, её постоянный идущий к её красоте туалет; только, вместо колье из черных жемчугов, её шею обвивало коралловое ожерелье, которое Грансэ в свое последнее путешествие по Италии купил за кусок хлеба у жида в Гетто.
Это ожерелье, ожерелье неаполитанской королевы Каролины, состояло из двойных четок, скрепленных на плечах и у горла тремя медальонами. Это пурпурное ожерелье на белом фоне производило странный эффект.
Слуги были одеты в черное платье и шелковые чулки, а чтобы не производить шума, их башмаки имели фланелевые подошвы.
– Моя первая любовница… – начал Буароже.
– У тебя была первая любовница? – прервал Франшемон, – ты очень счастлив!
– Ты признаешь любовь? – спросил его Буароже.
– Любовь?
– А?
– О!
– Хе.
– Черт возьми!
Посыпались всевозможные восклицания.
– Любовь?..
– За её здоровье!.. – провозгласила Креси, подымаясь и заливаясь смехом.
Когда все уселись, Грансэ обратился к Буароже:
– Любовь… что ты называешь любовью?
– Это единственное безумие, которое разумно, и единственное горе, которое делает нас счастливым, – отвечал Буароже.
– Но ведь это толкование брака и вдовства, – сказал Демальи.
– Можете вы мне определить любовь, мой милый?
– Конечно, – сказал Демальи. – Любовь – это любовь.
– Нет, – сказал Ламперьер. – Любовь – это женщина.
– Это мнение, – сказал Грансэ.
– Любовь?.. Это жидкость! – сказал де-Ремонвиль, – это феномен электричества… Бывают некрасивые женщины, которые выделяют из себя любовь.
– Не будем дурно говорить о некрасивых женщинах, – сказал Франшемон. – Когда некрасивая женщина мила, она восхитительна!
– Во всяком случае, – сказал Грансэ. – Это прелестная мечта: это душа всего, чего нет в действительности. Откройте роман; существует только один роман: любовь! Пойдите в театр; везде только одна пьеса, одна интрига, одна комедия, одна драма, одна развязка – любовь! В опере, в балете опять любовь! Честное слово, приходится поверить, что любовь существует в обществе и в жизни…
– Ба, – сказал Брессоре………………………………………………………………………….
– Любовь, господа, это вещь, которая случается, – сказал Буароже.
– Ого! – сказал кто-то.
– Есть примеры! – закричал другой.
– Конечно, – сказал Демальи, – я знал одного старика, женившегося на молодой женщине… Он клал себе в рот платок, чтобы не храпеть, в один прекрасный день, или скорее ночь…
– Он захрапел?
– Нет, он умер… Негры глотают свои языки; он проглотил платок!
– Я, – сказал Брессоре………………………………………………………………………….
– Постой, – сказал Франшемон, приходится молоть вздор с принципами. Любви больше, чем хворосту в лесу. Есть любовь древняя и современная, которые также далеки одна от другой, как стыдливость от добродетели… В одном веке мы имели любовные похождения Ришелье и Лозэна, дон-Жуана смеющегося, дон-Жуана плачущего… Вы знаете, что аналисты разделили и подразделили любовь, совершенно как…
– Животное царство!
– Да. О какой любви мы говорим, скажите пожалуйста?
– Начнем с платонической любви.
– Которую женщины иногда извиняют…
– И которая их не всегда извиняет.
– Если мы будем говорить о любви по возможности кратко, – сказал Ламперьер.
– Поговорим о настоящей, – добавил де-Ремонвиль, – о той, что заставляет стреляться, честных людей воровать в игре, светских людей жениться с отчаяния, и матерей семейств отравлять отца детей своего любовника!
– Да, – сказал Брессоре………………………………………………………………………….
– Господа, – сказал Буароже, – когда мир был сотворен, было воскресенье, Бог сотворил любовь.
– Неправда! – возразил Демальи, – это человек выдумал любовь… Бог только создал женщину.
– Это было хорошее начало, – сказал Грансэ.
– Однако, – произнес Ремонвиль, – уверены ли мы, что любили?
– Я, я любила, – сказала Креси. И её взгляд остановился, как бы пугаясь воспоминаний.
– За кого ты нас принимаешь? – произнес Франшемон. – За людей дурно воспитанных? Я отвечаю, что мы все читали дурные книги, целовали старую шведскую перчатку, и мечтали делать глупости… все, все!
– Вы тоже, сантиментальный господин, – спросила Креси Демальи.
– Я, – сказал Демальи рассеянно. – Ах, извините… я думаю, что я любил… Только я никогда не узнал кого.
– В маскараде? – спросила Креси.
– Тому уже много времени… мне было шестнадцать лет… однажды утром весной я шел по деревне сам не знаю куда. Земля была почти голая и трепетала от жизни и надежды, как трепетала от холода. Деревья еще не покрылись зеленью… Почки только что распускались… Небо было такого бледно голубого цвета, что казалось бледным… В воздухе и повсюду чувствовалось расцветание природы… Тогда с сердцем, полным чего то необъяснимого, с тяжелой душой, стремящейся куда-то, я принялся плакат… Никогда более я не плакал такими слезами… Нет, правда, если кто-нибудь из вас желает сделать из этого происшествия драму для Порт-Сен-Мартен, я уступаю сюжет.
– Да, – сказал Франшемон, – но обыкновенно есть женщина в конце любви…
– Если только не в начале, – сказал Ремонвиль.
– Все имеет свои затруднения в этом мире, – прибавил Грансэ.
– Женщина… – начал Франшемон; но, прервав сам себя, обратился улыбаясь к Креси:
– Мы ведь между мужчинами, неправда ли?
– Еще бы!
И Креси, наклонившись к экс-императору Бразилии, шепнула ему:
– Эти господа будут говорить глупости… ты их не слушай, Биби, это все ложь!
– Женщина, – сказал Брессоре………………………………………………………………………….Вот, что такое женщина!
– За дверь Брессоре, за дверь!
– Брессоре, – сказала Ереси, – разве надо, чтобы я краснела?
– Как, Брессоре, как? – сказал Грансэ, – нечто до такой степени невинное! Существо, которое умеет приготовить чай, настойку, играть на фортепьяно, считать белье, делать яичницу почти также хорошо, как и мужчина, метить платки, плакать не будучи глупой, повязывать белый галстук, писать каракули на бумаге, прилично декольтироваться, говорить ласкающим голосом, стягивать свою ножку ботинкой, утешать мужчину, собирать на бедных, читать, быть зрительницей и обманывать свою горничную!
– Но, – сказал Брессоре, – я говорил только о женщине: я не говорил о парижанке.
– Парижанка! Это женщина из более нежного теста, – сказал Грансэ, – вот и все.
– Да, но что такое женщина? – спросил Франшемон.
– Это заблуждение мужчины, – сказал Демальи.
– Да, если мужчина заблуждение женщины, – добавил Ламперьер.
– Ничего не значит, – сказал де-Ремонвиль, – это малолетнее дитя, которое эмансипировали современные общества.
– Да, – сказал Ламперьер, – гинекей заменили семьей.
– Это утопия! – воскликнул Франшемон.
– На которой основана семья в продолжение восемнадцати веков, – возразил Ламперьер.
– Мой милый Ламперьер, я очень огорчен за тебя, – сказал Ремонвиль, – одни только турки отдают справедливость…
– Мужчине, – сказал Буароже, улыбаясь.
– Нет, женщине.
– Это ясно, – сказал Демальи, – женщине необходим легкий фимиам рабства… Это сказала женщина.
– Ей подсказали это… – тонко возразил Ламперьер.
– Существует факт, о котором ты знаешь также хорошо как и я, Ламперьер, – сказал Франшемон, – все общества начинают полигамией и кончают на оборот… Мужчина опускается, а женщина возвышается; это фатально!
– Тебе это кажется фатальным, а мне – ниспосланным от Провидения… Мы не сходимся только в эпитетах.
– Но это совершенно противно идее о Провиденье. Женщина была дана мужчине в земном раю не как существо, равное ему, но как существо, похожее на него, что составляет большую разницу.
– Большую разницу! – подхватил Ремонвиль, – во-первых, низшее развитие женщины видно во всем её теле… Мозг женщины относится к мозгу мужчины как 16 к 17. Видели вы «Трех Граций» Альбрехта Дюрера, красота которых представляет земной идеал? У них нет затылков. Все их красоты, все формы, которые у мужчин выражаются в благородных частях, в развитии груди, у женщин сосредотачиваются между боками…
– Гений мужского рода… Гениальная женщина – мужчина, – сказал Франшемон.
– Хотите, я скажу вам, милый Ламперьер, что я думаю вопреки поэтам?
– Что же вы думаете, Демальи?
– Что душа женщины ближе к чувствам, чем душа мужчины; ее поражает наружность; она судит о характере по усам, о человеке по одежде, о книге по имени, об актере по роли, и о песне по мотиву.
– Вы можете говорить все, что вам угодно, – возразил Ламперьер, – вы Демальи, и ты мой милый, и весь свет; вы будете острить над моими предрассудками, как Вольтер над своими врагами; я вам отвечу одним словом… В жизни бывает год, в году – день, в дне – час, когда, мешая уголья, вы… это не весной Демальи, а под осень; вам минет тридцать лет, и прекрасные слезы, о которых вы только что говорили, отойдут далеко… и так, мешая уголья… вы вдруг почувствуете себя одиноким. Одиночество, которое было свободой вчера, сегодня вас тяготит… О! сердце уже более не переполнено, грудь не расширяется! Наступает ночь, а вы думаете о том, что друзья изменяют и молодость уходит… и тихо перед вашими глазами, в вашем сердце восстают воспоминания детства… Семейный очаг!.. Вы снова видите вашего отца, который не был одинок, потому что около него ваша мать убаюкивала вас… И вот, вы начинаете понемногу думать, что семья есть вторая будущность человека, а что женщина – половина семьи.
– Одним словом, брак? – сказал Демальи, – к несчастию, брак для нас запрещен.
– Почему?
– Потому что мы не умеем быть мужьями. Человек, который проводит всю жизнь, строча на бумаге, есть человек, находящийся вне социального закона, вне брачных правил… Во-первых, безбрачие необходимо для мысли… А еще что? Родительские чувства?.. Колыбель?.. Дети?.. Но что такое дети? Часть вас самих, которая составляет вашу гордость, и продолжает ваш род, частичка вашего бессмертия, которое вы ласкаете на ваших коленях… нам жениться, милый мой, бесплодно! У нас есть нечто лучше: наши дети, это наши книги!
– Это производит менее шума, – сказал Буароже с улыбкой.
– По крайней мере, оставишь ты нам любовниц? – спросил де-Ремонвиль.
– Я хочу предложить один вопрос Демальи, – произнес один голос. – Какая любовница нам подходит?
– Глупая любовница, – сказал Франшемон.
– О, – сказал Демальи, – довольно и того, чтоб она не была умной женщиной.
– Любовница, которая бы не острила, – сказал Буароже, но таких нет более.
– Еще бывают любовницы в облаках.
– Лаура Петрарки!.. Это неудобно!
– А что вы думаете об обожающей любовнице?
– А! Как законная жена…
– Именно так… женщина, которая восхищается вашими книгами, которая занимается вашей репутацией, ласкает ваше самолюбие, которая знает вас наизусть и декламирует ваши произведения на коленях… словом, нечто вроде госпожи Альбани.
– Это должно быть очень скучно, быть божком… под конец.
– Я думаю! Альфиери умер от этого.
– Остается жанр Терезы Лавассер…
– И Альбертины Марат… фи! Только одна любовница хороша, – сказал Ремонвиль, – это женщина первобытная…
– Всего умнее, – сказал Франшемон, – знаете ли вы, что всего умнее? Берут какую-нибудь историческую женщину, какую-нибудь симпатичную статую, – я не говорю вам о госпоже де-Ментенон… Ставят ее в нишу, одевают как мадонну; и привыкая к ней… начинают ее обожать.
– Вы совершенно правы, Франшемон, – сказал Демальи, – это было бы всего умнее… Разве есть место человеку в писателе?.. Есть люди, приходящие на первое представление, на балкон, вы все знаете их. Женщина, открывающая ложи, кланяется им. Зала глядит на них. Это вы, Ремонвиль, и другие вам подобные. Вас там человек двенадцать; вы серьезны, бесстрастны; глядя на драму или фарс, вы не плачете, вы не смеетесь. Вы созданы из мрамора. Вы только слушаете и смотрите. На завтра в газете вы расскажете пьесу публике… Литератор на меня производить совершенно такое же впечатление; только пьеса, которую он смотрит и слушает – это его жизнь. Он анализирует себя, когда любит, а когда страдает, он опять анализирует… Он анатомирует свою душу… Знаете ли, как литератор привязывается к женщине? Как Верне к мачте корабля… чтобы изучать бурю… Мы живем только нашими книгами… Другие говорят: вот женщина! Мы говорим: вот роман! Обуреваемые нашими страстями, мы перечисляем их!.. Мы говорим о любви как другие; мы лжем, мы не любим. Наша голова, наша жизнь слушает биения нашего сердца. В поцелуе мы ищем новизны, в скандале – успеха, в слезах женщины – слез публики, в любви – удачное произведение… Говорю вам правду: мы не любим.
– Но что же, это очень жаль! – сказала Креси, вставая. Проходя по зале, Демальи продолжал:
– Любовь есть поэзия людей, которые не пишут стихов, мысль человека, который не думает, и роман человека, который не пишет… Это фантазия купца, делового или государственного человека. Но для человека мысли, что такое любовь?
– Сон! – сказал Ламперьер.
XXXVII
Демальи и Ремонвиль сидели вдвоем в ложе, облокотившись на перила. Они интересовались пьесой столько же, сколько интересовались ею музыканты в оркестре.
– Ты очень мил, что поддержал мне компанию, позволив себя потащить сюда, потому что…
Ремонвиль прервал себя, чтобы подавить зевок.
– И я также… – и Демальи тоже зевнул, улыбаясь. – Может быть потому, что я пишу пьесу, театр мне действует на нервы… Что ты скажешь, Ремонвиль, если мы пойдем покурить?..
– Да, теперь как раз время… Какая погребальная пьеса… Точно комедия в стихах… Идем курить?
– Сию минуту, – сказал Демальи, берясь за лорнетку. – Какая хорошенькая вышла на сцену; как ее зовут?
– А, это маленькая Марта… Ты ее не знаешь?
– Она очаровательна! – сказал Демальи.
– Очаровательна, – повторил Ремонвиль, – и не без таланта.
– Но, она кажется очень молодой?
– Да, она единственная ingénue в Париже, у которой нет сына в классе декламации.
– Какой красивый оттенок волос.
– Да, пепельного цвета… Ты любишь такие?.. Идем мы курить?
– Идем, – сказал Демальи не подымаясь. – Ты знаешь ее?
– О, очень мало… Впрочем, мы раскланиваемся.
– Кто у ней?..
– У ней… мать, мой милый; мать, желающая ее выдать замуж… Она добродетельна, как кажется… Креси каждый вечер все хорошеет… это факт… Смотри, она на нас навела лорнет… Где это она выучилась этим медленным, величественным движениям? Ба, она взяла их из «Альдобрандинской свадьбы», не правда ли?
– И это все, что о ней говорят?
– Что?.. Ах, извини… я тебе говорю о брюнетке, а ты мне о блондинке… Блестящая мысль! Если мы окончим вечер в ложе Креси? Мы будем слышать еще менее, чем здесь…
– Что касается меня, – сказал Демальи, – я остаюсь. Иди один, мой милый.
XXXVIII
………………………………и перед ним скользнула тень, неясный образ, напоминающий лицо молодой девушки ingénue. Он более не слушал мыслей в своих фразах, но голос, который он слышал накануне.
По мере того, как он описывал сцену, пьеса его становилась музыкой, и он видел своих действующих лиц, выходящих из своих ролей, чтобы ухаживать за Мартой.
Через два часа этой заколдованной работы, он ударил кулаком по рукописи, бросил перо и отправился в мастерскую одного из своих приятелей, – единственное место, которое имело привилегию разглаживать его печаль и рассеивать его заботы. Шарль встретил там то, что всегда встречал: атмосферу безделья, величественного безделья, имевшего спокойствие и ясность труда, полнейшее «far niente», без угрызений совести, лень, сидящую в дыму трубок или убаюкиваемую номером «Tintamarre», грубый смех и утонченную распущенность острот, настоящее похмелье, после воскресенья, опьянение остротами, проказами, подражание актерам и животным, акробатические упражнения, всевозможные парижские шалости и шутки вокруг заколдованных красок и пузырьков, содержащих в себе солнце и тело; часы, быстро бегущие, легкие, как часы в комедии; время, убиваемое в продолжение целого дня тремя веселыми художниками, наполнявшими мастерскую своим смехом и беззаботностью; первый из них имел ум старой обезьяны, другой – ум шалуна, а третий обладал умом пройдохи. Шарля встретили восемнадцатью каламбурами и знаменитым подражанием похорон пэра Франции; с такими почестями принимали только людей, увенчанных славой, или светских дам, пришедших заказать свой портрет. Шарль нашел шутки глупыми и четверть часа спустя у него сделался вид человека, который думает о чем-то другом, так что один из художников воскликнул:
– Господа, Шарля что-то ужалило!.. Да ты влюблен, мой милейший?
Шарль почувствовал, что краснеет, взялся за шляпу и бежал… к своей любовнице.
Любовница Шарля была женщина очень хорошо воспитанная, которой Шарль запретил, под самым страшным наказанием, посещать его сюрпризом и беспокоить его в его работе и отдыхе. Шарль отлично ее выдрессировал определенными, неизменяемыми свиданиями, назначенными днями, часами, посвященными пунктуальности. Тем более велико было удивление любовницы Шарля, которая увидела его вдруг входящим не в назначенный день. Но удивление её возросло еще более, когда она нашла его очаровательным, ласковым и… влюбленным! Шарль повез ее обедать, а вечером отправился с ней в один из театров на бульварах. Но, провожая ее домой, когда они проезжали мимо еще освещенной «Gymnase», он извинился, покинул ее и отправился смотреть последний акт пьесы, виденной им с Ремонвилем.
В продолжение нескольких дней он принялся делать визиты друзьям, которые видали его не более двух раз в год, родственникам в двадцатом колене, которые, забыв, видели ли они его когда-нибудь, находили, что он очень вырос.
Но Шарль напрасно старался двигаться, ходить туда и сюда, его постоянно преследовала одна и та же мысль, так что иногда с его губ срывались фразы и заставляли оборачиваться прохожих, которым любопытно было посмотреть на господина, воображающего себя одним на улице.
– Предрассудки!.. Предрассудки! Все же, – говорил Шарль, – у меня нет матери… у меня нет семьи. Любовь всегда останется любовью; но она у каждого имеет свои различные особенности, свои странности и свои безумия.
Если некоторыми сторонами, своей внезапностью и быстротой, этим началом истинной любви, страсть Шарля и походила на страсть всех, она также имела лично принадлежащий ему редкий характер: любовь Шарля, начавшаяся и определившаяся благодаря некоторым чертам красоты, была скорее любовью головы. Он любил более как автор, чем как любовник. В этой девушке женщина говорила менее чем актриса. Марта была для него живая форма, олицетворение его идеи; она была именно той ролью, которую он лелеял в пьесе и искал con amore, она была его олицетворенная фантазия, его создание возвеличенное и обращенное в живое существо, тело и душа его произведения. Она не была более Мартой; она была Розальтой, она была его героиней, молодой девушкой в его пьесе, возлюбленной его ума… Так, когда Шарль был доведен до крайности возражениями своего разума и правилами убеждений, в которых он был воспитан, он обольщался последними доводами: «мы литераторы, жертвующие своим удовольствием, своей ленью, здоровьем, жизнью для нашего произведения, разве мы не можем ему в случае надобности пожертвовать и нашим счастьем!..». А в другие дни, когда он хотел повторить себе этот софизм, язык ему не повиновался; он произносил слова «честь» вместо «счастья» и крик «невозможно!» вырывался у него из груди… И, несмотря ни на что, он ходил каждый вечер в «Gymnase», как вдруг получил приглашение на костюмированный бал, который давал один миллионер людям своей газеты и женщинам своего театра.
XXXIX
Это была прекрасная мысль, внушенная, быть может, великолепным сбором винограда в Ферьере, окружить всю танцевальную залу золотым трельяжем, обшитым виноградными листьями и гроздьями, между которыми местами висели на лентах золотые ножницы, приглашавшие обрезать кисть винограда. Эта натуральная беседка из лоз в конце танцевальной залы образовывала дикие гроты, в которых помещались столики с двумя приборами. Оркестр был скрыт за виноградником, так что его не было видно, и он пел точно хор во время сбора винограда.
Бал был великолепен. Тут были всевозможные костюмы, красивые, кокетливые, остроумные, шикарные, странные… Можно было подумать, что танцует народ, история и мир фантазии.
Шарль стоял у двери и рассматривал входящих, когда чей-то голос произнес: – это была Марта под руку с Ремонвилем, которого она узнала еще в передней под его костюмом колдуна.
– Ах, какая чудная белая сирень!
Шарль, одетый весною, снял с головы букет белой сирени и подал его Марте, которая поблагодарила его с грациозной гримаской.
Час спустя:
– Господин Демальи!
Это проходила Марта.
– Мадемуазель!
– Не видали вы моего кавалера?.. Если он пройдет, пришлите его ко мне… – проговорила Марта скрываясь.
Шарль сел на диван. Через пять минут Марта появилась снова:
– Вы разве не танцуете, господин Демальи?
– А ваш кавалер?
– Я все ищу его, – проговорила Марта сев.
– Вам очень хочется его найти?
– Мне хочется танцевать…
– Позвольте вас просить, – сказал Шарль, предлагая ей руку.
– Правда! Как мы глупы! Значит, вы танцуете?
– Никогда, – сказал Шарль.
– Но тогда… Ах, Боже мой, благодарю вас за любезность, – проговорила Марта с улыбкой. – Я сегодня всех теряю… Где же моя мать? Ах, вон она… Я возвращаю вам свободу… Который теперь час?
– Час, когда разумные люди кушают бульон и галантин из фазанов.
– Вы думаете?
– Держу пари, мадемуазель. Хотите пойти посмотреть?
– О, я злоупотребляю…
Шарль подал руку Марте и повел ее в залу, где ужинали.
Марта была охвачена тем оживлением, тем восхитительным огнем, лихорадкой движений и взглядов, которые придают женщине в последние часы бала, опьяненного музыкой, столько прелести, жара и света. Они выбрали столик; но прежде чем сесть, Марта встала на цыпочки и, подняв обе руки к верху, обрезала золотыми ножницами кисть винограда. Она начала обкусывать веточку и виноградины хрустели у нее на зубах.
– Ах, как это мило!.. Представьте… мне это напоминает… я была еще совсем маленькая… в пансионе. Там была такая же беседка, только еще более высокая… высокая… одним словом, такая же высокая как наша стена… в конце нашего сада… а в другом саду, не нашем, была беседка… К счастью, у нас была скамейка в саду, большая, ужасно тяжелая скамейка! Мы должны были тащить ее вчетвером или впятером… но это ничего, мы ее тащили. Раз скамейка у стены, обыкновенно я, как самая высокая, взлезала на её спинку, и обрывала виноград с другой стороны… Кончилось тем, что мы сломали скамейку…
– Кончают всегда тем, что ломают скамейку, – сказал Шарль. – Этого жизнь требует!
– Все ж таки я там очень веселилась… А раздача наград!.. Сначала играли комедию… Мне очень нравилось играть комедии в то время… А как мне аплодировали… Не было этих дрянных фельетонов, которые говорят вам неприятные вещи… Как подумаешь об этом времени, и пожалеешь его; хорошо, что я не думаю… А вы, как и я…
– Я, мадемуазель, это большая разница, я воровал только яблоки… и к тому же всегда их не терпел… Греческий язык, латынь, профессора, наказания… нет я ни о чем не жалею. Впрочем, нет, я жалею одного англичанина.
– Англичанина?
– Я был также совсем маленький. Англичанин был мой сосед по скамейке, большой, сильный, выше меня на целую голову… с огромными кулаками и ногами… Теперь я немного забыл, но кажется это бывало по понедельникам утром, да, во время класса географии, мы исчезали совершенно за огромным атласом. Чего я только ни вытерпел за этим атласом… Не знаю, откуда он узнал, что я сын старого военного… Если бы он меня только бил! Но он, толкая меня под столом ногою, постоянно твердил: «Французов поколотили при Ватерлоо!.. поколотили!.. поколотили»!.. И голос его резал меня по уху в то время, как его ножищи давили мой маленькие ноги… Глаза у меня наполнялись слезами, не от боли, но от национального унижения…
– Я не понимаю…
– Ах, мадемуазель, тут было только различие мнений относительно Веллингтона, национальное самолюбие… и я видел, что это был очень добрый англичанин, когда он вытаскивал из прекрасной кожаной сумки копченую селедку, положенную между двумя хлебцами, и предлагал мне половину… С тех пор никогда мне не доставляло столько удовольствия делить что-нибудь, – даже горе друга.
И Шарль налил шампанского Марте.
– Что же, тем хуже, это очень грустно, – произнесла Марта подставляя бокал…
– Какой прекрасный бал!.. Как я веселилась, танцевала!.. И потом, я обожаю костюмированные балы. Мне кажется это менее глупо, чем современные костюмы… Это убийственно, говорить с фраками!
– А носить их, если б вы знали!.. У вас прелестный костюм… с каким вкусом…
– О, это все сама я придумала… А как вам нравятся эти большие банты?
– Восхитительные!.. Они идут вам, как ваши глаза.
– Если вы мне скажете еще хоть один комплимент, я кладу свои перчатки в шампанское.
– Мадемуазель, – сказал Шарль, разрезая ананас, – я долго не верил, что есть ананасы: думал, это голландский сыр в листьях.
– Все иллюзии разлетаются, – сказала Марта, улыбаясь. – Скажите мне пожалуйста, вы нигде не бываете? Кажется, я вас никогда не видала…
– Это подобает моему полу, мадемуазель.
– Как – вашему полу?
– Да, мадемуазель, моему полу… Вы согласитесь, что есть пытка и пытка… Положим, мне рубят голову, это ужасно…
– Какая мысль!
– Но предположим, что мне щекочут пятки, пока не наступит смерть, это еще хуже. Ну а что вы скажете, мадемуазель, о пытке между щекотаньем пяток и отсеканием головы? Дружелюбное сдирание кожи?
– Но o чем вы говорите?
– Я! Я говорю о том, что хочу сбрить себе бороду.
– Ха, ха!
– Берегитесь! Ваша прическа сейчас упадет… Вот с этой стороны.
– Видели вы прическу мадемуазель Дювер!
– Нет!
– Не нравится мне эта прическа.
– Мне также… Вы любите музыку, мадемуазель?
– Очень.
– Вы правы: женщина, которая не любит музыку, и мужчина, который любит ее – два неполных существа.
– А вы насмешник!
– Нет, уверяю вас. Я только очень робок, отчего я во всю мою жизнь никогда не смел говорить с женщиной, не делая вида, что я смеюсь… Хотите знать правду? Я насмешлив, как нотариус почтенен: по наружности… Но не говорите этого!
– По крайней мере вы искренны, – сказала Марта, смеясь.
– Не хотите ли еще шампанского?
– Мерси.
– Чтобы чокнуться?
– За что?
– За наши мысли!
– Нельзя чокаться за такие вещи… не зная о чем.
– Но пьют же за будущее… а кто его знает?
– Я! – сказал Ремонвиль, проходя мимо, – я угадываю прошедшее.
– Господин де-Ремонвиль, – сказала Марта, – погадайте мне.
– Вашу руку, прекрасное дитя… Нет, другую, левую… Какой цвет любите вы.
– Розовый.
– Что вы читаете «La Patrie» или «Le Constitutionnel»?
– «La Patrie»… вечерний номер.
– Надежда! – сказал Ремонвиль. – Вы любимы!.. Молодым человеком!.. брюнетом… рожденным в марте месяце, в третьем округе, с достатком!.. Его имя не Линдор… Чувства его чисты!.. Но минутку, молодость! Не надо делать глупостей!.. Мэр из Нантер глядит на вас сквозь золотые очки…
– Ремонвиль! – закричал чей-то голос в зале.
– Я здесь… За ваше здоровье дети мои!
Когда Ремонвиль ушел, между Шарлем и Мартой воцарилось молчание.
– Были вы на первом представлении в Порт-Сен-Мартен? – спросила Марта.
– Нет.
– О! правда, вы живете точно в башне?
– Почти так… И потом, скажу вам… между нами… театр – одно из тех удовольствий, которые мне всего более надоели. Я перестал ходить туда.
– Держу пари, вы никогда не видели, как я играю.
– Давайте держать пари!
– Только без любезностей. Говорите правду… я уверена в этом!
– Поверите вы моему честному слову, если я вам его дам?
– Да, дайте честное слово.
– Хорошо, мадемуазель; и так, клянусь вам, что видел вас вчера в вашей роли…
– А!
– …. В двадцать первый раз.
– Ах, Боже мой, в двадцать…
– Первый раз… Когда вас не было на сцене, я читал.
– Моя мать, вероятно, беспокоится… Позвольте вашу руку, господин Демальи!
XL
Три месяца спустя после этого бала, «Скандал» публиковал без комментария объявление о свадьбе господина Шарля Демальи с мадемуазель Мартой Манс.
XLI
Когда Марта проснулась у своего мужа, когда её еще блуждающие и сонные глаза раскрылись, она протерла их и, смутно вспоминая и разглядывая окружающее, подумала, что еще спит. Она посмотрела снова; она находилась в кокетливой обстановке, которой до сих пор никогда не видала… Вся её комната, блещущая шелками, свежая, веселая, была в стиле Буше; один из тех весенних стилей, где все – заря, и где стены походят на страну роз. Все цвета были нежные и веселые; от голубого цвета, который можно только увидеть на старых китайских эмалях, взгляд переходил в светло-желтому с оттенком жженого топаза; далее, он останавливался, ласкаемый лиловатыми переливами курток пастухов, на сочетании цвета их тела и щек, похожих на персики. Во всей этой природе была красивая фальшь, с далями, погруженными в голубоватые переливы утра, с барашками освещенными белоснежным цветом, с этими пурпуровыми юбками с шелковыми отливами, с однотонными руинами нежно-серого и желтого цвета увядшего мха, с равнинами, где на бледной зелени виднелись полосатые тюльпаны и густолиственные штокрозы. И вся эта картина выделялась на белом фоне, побледневшем и пожелтевшем от времени, заключающем в золотистом свете целую гамму разбросанных тонов. На потолке сияло подернутое туманом постели и лаковых полутонов тело белокурой, воздушной Венеры, обучающей розового амура. Картина деревенского праздника, подписанная на пьедестале одной из развалин «Буше 1737», шла вокруг всей комнаты, оставляя только место для окна. Она изображала ярмарку идеальной богемы, красивую волшебницу, восседающую на колеснице, детей, поднятых на руки, любопытных маленьких девочек, склонившихся над панорамой, мулов с красными кисточками, повторяющих свою роль ученых ослов и пощипывающих розы, толпы пастушек с большими корзинами и пастухов с посохами, украшенными лентами Болара; вся эта композиция была залита светом, говорящим взгляду о любви.
В этот день шел сильный ливень. Каждую минуту темные тучи заслоняли солнце, затем проходили оставляя проблески света; от этой быстрой смены темноты и света Марте казалось, будто картина то исчезала и сливалась с тенью, то вдруг, как бы оживленная росой, блестела и воскресала. Затем глаза Марты остановились на разукрашенном кружевами туалете, на котором лежали тысяча серебряных безделушек.
– Тебе нравится эта вещица? – спросил Шарль, который за занавесью ждал, когда она проснется и наслаждался её удивлением.
– О! это прелестно!.. Дай мне посмотреть… Ты купил это у Тагана?
– Нет, – сказал Шарль, – не совсем… Это некий Жермен, работавший прежде почти также хорошо… Это случай или скорее безумие, как все, купленное теперь по случаю.
XLII
Ничто более любви не походит на счастье. И что говорить? Как рассказать об этих чудных месяцах, промчавшихся как один час? Взгляды, песни, восторги, такое прошлое надо усыпать цветами. Безумные речи, безумные ласки, восторги опьянения охватывали их, несбыточные мечты, которые они забывали исполнить, долгая нега, в которую они погружались, как в вечность настоящего, надежды и капризы, игравшие около них как дети, желания, улыбавшиеся одно другому, долгое молчание, в котором они разговаривали друг с другом без слов, тысяча ребячеств, которых создает страсть, полное довольство, следующее за удовлетворением наших инстинктов, эта радость вечно молодая и постоянно возобновляющаяся, которая дает обладание идеалом, одним словом, – любовь.
Веселое пробуждение! Так встает дитя, так встает птичка с песнями и улыбкой. Дорогие мгновения, счастливые минуты, когда их смутные мысли, их сонные глаза, раскрывающиеся, чтобы прогнать ночные грезы, понемногу возвращались к сознанию их жизни, их прошедшего, которое было вчера, их будущего, которое было сегодня, каждое утро, все их блаженство вспоминалось им в одну минуту и целовало их в лоб, тогда как они, лежа рядом, улыбались не глядя друг на друга, приходя понемногу в себя и боясь пропустить последнюю колыбельную песню улетающего сна.
Это было веселое, шаловливое пробуждение, полное очарования, шалостей и ласк. Полуодетая, еще с влажным лицом, вся благоухающая свежестью и молодостью, Марта проскакивала в кабинет Шарля и появлялась в нем как видение. Она закрывала ему обеими руками глаза. Она обвивалась вкруг него, она тормошила его, била, щекотала, упав на диван, который шел вокруг всего его кабинета. Оба садились за стол и тотчас же стулья начинали придвигаться один в другому: наконец они сталкивались во время десерта. Тогда она, взяв в зубы ягоду земляники, давала ее Шарлю, закинув голову…
– Я достану ее.
– Нет…
– Постой же…
– Руки вниз! – И земляника то показывалась в её рту, то скрывалась. её влажные губы, голубые глаза, полузакрытые от смеха, то избегали Шарля, то преследовали его. Почти побежденная, она поворачивала шею, прижималась к нему, прикасалась щекой к его щеке; пока, наконец, устав избегать его поцелуев, приближая головку, покачиваясь, заложив руки за спину, она протягивала ему ротик и отдавала с земляникой свои губки для поцелуя…
– Твой вальс, скорей, твой вальс!..
И вот он за роялем, а она вальсирует… И вдруг, замедлив такт, положив локти на плечи Шарля, и склонившись к нему как Муза, она прикусывала ему ухо.
Он говорил: – «Перестань же. глупая… мне больно!» и поворачивался, чтобы отмстить, но уже не находил ее: она раскинулась на диване, и лежала там, как кошечка, которая спит с открытыми глазами. Закинув одну руку за голову, другой она ласкала волосы Шарля, который глядел в её глаза; одна из её маленьких ножек, без туфли, била по дивану в такт колыбельную песенку; и ничто бы не потревожило эту чудную негу, если бы ему не приходилось ладонью отгонять голубой дым сигары, который подымался ему в глаза.
В продолжение долгих часов, почти целых дней, с распустившимися волосами, положив одну ногу на другую, не переставая играть красной туфелькой, прислонившись всем телом к Шарлю, она перелистывала альбомы, наброски, воспоминания его путешествий. Сколько вопросов задавала она! Сколько объяснений требовалось! И зачем, и почему?
– Пешком? Неужели правда, мой милый, ты путешествовал пешком?.. И с сумкой?
– С сумкой.
– И в блузе?
– В блузе.
– Ты, вероятно, ел яичницу?
– Случалось!
– И на тебя никто не нападал?
– Нет. Я не брал экипажа.
– Ах, это мило… что это такое?.. Скажи пожалуйста, с тобой должны были случаться приключения… Приключения с женщинами, а?
– Я же тебе говорю, я не брал экипажа…
И они смеялись.
– О! какой турка!.. Ты значит везде был?.. Стой! Вся гондола черная!.. Почему это?
– Потому что маски тоже черные.
– Тогда… а это что?.. Ах, какой красивый костюм. Это швейцарский, да? Мы поедем в Швейцарию, неправда ли. жить в тихом шале… О! кукла, кукла!
– Я нарисовал ее в Ватикане: это римская кукла, моя милая.
– Но смотри, она совсем как наши!
– Конечно.
– Как смешно!
– Совсем нет; есть много вещей в этом мире, которые не меняются: игрушки, дети…
– А мужчины? – прибавляла Марта, смеясь.
– А работать? Надо, чтобы ты работал!.. Пожалуйте, милостивый государь! – говорила иногда Марта. И оба, как можно дальше один от другого садились за работу, стараясь думать о чем-нибудь другом, кроме себя самих. Но при первом взгляде, который один бросал на другого, глаза их встречались, а затем и уста… И начатый роман, и просматриваемая роль откладывались для поцелуев.
Эти бесконечные наслаждения наполняли всю их маленькую квартирку. Едва ли их рай был достаточно велик для их любви и мир достаточно далек для их счастья. Все вокруг них было ими самими… Не было ни одного свидетеля их счастья, кроме большего букета пармских фиалок, благоухание которого пробуждалось вместе с ними и ночью принимало запах умирающих цветов.
Ни одного голоса, между их голосами, ни одного докучливого друга кроме собаки с острова Скаиля, ревнивой и веселой, с одним ухом кверху, другим вниз, которая втиралась в их игры, визжала на их поцелуи.
XLIII
На улице была скверная погода, дни темные, солнце не светило, шел постоянно дождь и ветер ударял в стекла… Они почти не выходили. Только иногда, соблазнившись хорошим сухим днем, лучом солнца и кусочком голубого неба между тучами, они шли гулять.
Тогда они прогуливались потихоньку, облокотившись друг на друга, Марта положив голову на плечо Шарля; они тихо шли, как выздоравливающие больные, не видя куда идут, не видя кто на них глядит, оставляя за собой как бы завистливый шепот встречных взоров: они любят друг друга!..
Шарль останавливал Марту перед витринами магазинов и спрашивал, чего ей хочется, но древо моды так мало соблазняло ее, что она была почти благоразумна.
Иногда они отправлялись пообедать в маленький ресторан и спрашивали несуществующие блюда.
Иногда за обедом следовал спектакль; они ели апельсины в бенуаре драматического театра и смеялись, когда все плакали. Марта и Шарль были счастливы, находя дома уединение и покой. Дахе окружающие вещи казались им близкими: каждая говорила только о них, была воспоминанием или поверенным какой-нибудь минуты их счастья. Особенно вечером, очаг говорил им и убаюкивал их, как сладкий голос, в котором мешалась песнь Трильбы с пением богов Ларов. Огонь в камине нагревал комнату, лампа лила белый свет на стол, на ковер, на кресла; остальное находилось в тени, оживляемое иногда отблеском на кончике какой-нибудь бронзовой безделушки, отливом шелка, золотой блесткой. Они, в полутьме, спиною к лампе, протянув ноги на каминную решетку, говорили или не говорили между собою и кончали всегда молчанием.
Они долго смотрели в огонь оба, глядя на одну и ту же головешку, и даже не целуясь, до того этот час и пламя погружали их в таинственное общение и сосредоточенную интимность. Ударом туфли Марта внезапно прерывала этот сон их счастья; искры, вылетевшие из головешки, бросали на них мгновенный свет, потом тьма и молчание снова возвращались к ним…
XLIV
У Марты были маленькие ножки, ножки истой парижанки, быстрые, кокетливые, почти разумные; руки у нее были также маленькие, с ямочками и розовыми ногтями. Талия её была свободная и круглая. Марта была белокура, нежные её волосы имели пепельный оттенок, который при свете делает впечатление пыли, освещенной луной. Лицо её было детское, с мелкими чертами и большими голубыми глазами, открытыми и сияющими, которые освещали своим блеском и лаской все маленькое личико Марты. Один Вато, да Лоранс могли бы изобразить этот светлый, быстрый взгляд детства. Круглое личико Марты, её молочный цвет лица, розовые щеки, небольшой, прямой и выпуклый лоб, капризный и задорный носик – довершали её сходство с ребенком. Голубые жилки проходили по вискам; зубы её конечно были белые и маленький рот походил на ротик тех прелестных детей, которому нет места между их полными щечками. Нежный и слабый голосок Марты казался музыкой и шепотом. Чтобы шепнуть что-нибудь Шарлю, она восхитительно поворачивала шеей и головкой. В разговоре она волновалась и часто глаза оканчивали фразу, передавая её мысль. Таково было это очаровательное создание, эта женщина, которая была типом, воплощением своего пола и своего времени; эта артистка, соединявшая и осуществлявшая в себе все дары, все очарования, весь характер и капризы девушки-невесты нашей современной комедии, одним словом – «ingénue».
XLV
В этих ласках, в этом спокойствии, в этом отдыхе жизни любовь их неслась волной; жизнь их стремилась как светлый, журчащий ручеек, который бежит между кустарником, полным птиц, отражая солнце и розы, растущий на берегу. Часы проходили за часами, постоянно счастливые и улыбающиеся; ни горечи, ни страха, ни заботы, ни сомнений; чело их не покрывалось морщинами, небо было ясно; они не знали, что такое облако, а что такое желанье, они забыли. Одна маленькая песчинка попала в это счастье… Это был незначительный укол, и даже не сердцу мужа, но сердцу автора, его гордости, тщеславию его произведений. Марта не знала, что, может быть, по странному ходу вещей, писатель не умирает во влюбленном писателе: она никогда не говорила Шарлю о его книгах. Это молчание задевало Шарля, который не говорил Марте о своей пьесе и о роли, которую он ей предназначал. Он решил молчать, работая тайком, по ночам, над этим любимым произведением, в которое он вкладывал весь свой труд, всю свою душу, исправляя его, отделывая, смягчая и переиначивая; привязавшись преимущественно к этой женской роли, которую он наблюдал и перерабатывал с натуры, – он хотел изобразить в ней Марту целиком, её годы, её грацию, её улыбку, сердце; это будет первая ingénue, говорил он сам себе, которая не будет куклой. Когда он окончит пьесу, он прочтет ее Марте: это будет его первая публика – его первое торжество, и тогда она узнает его! Однажды она вошла к нему:
– Я в бешенстве, милостивый государь! – говорила она ему, обвивая его шею руками и бросая на кресло кружевную шляпу. – Я в бешенстве! Но, постой… я тебя не поцеловала, кажется? Да!.. Он говорит: да!.. Мне, целовать этого негодного человека, который!.. Признавайся!.. Признавайся сейчас же!
– В чем?
– В чем!.. Хитрец! Но ведь и все знаю… все!.. А, ты скрываешь от меня!
– Я!
– А, попались, сударь!.. У вас секреты!.. Хорошо, у меня тоже будут секреты, и большие… Можете смотреть мне в глаза… Я им не велю ничего говорить вам!.. Вы не узнаете более о чем я думаю, да!.. Спросите-на меня, люблю ли я вас, вы увидите! – И Марта сопровождала свои слова красивыми угрожающими жестами.
– Что такое, маленькая Марта? – спросил Шарл, не понимая, за что его бранят.
– Как, ты не угадываешь?.. Ну, что же, подумай! – И бунтовщица провела ногтями по его лицу, как ребенок. – Я скажу тебе, когда ты сгоришь… Поройся лучше в своей совести, вместо того, чтобы целовать мне кончики пальцев!
– Мне очень этого хочется, но пороемся вместе… Я скрыл от тебя, что у меня есть седые волосы – два на правом виске, три на левом.
– Их более нет, – произнесла Марта, беря его голову в руки и целуя с обеих сторон. – Потом?
– Я скрыл от тебя, что у меня есть друзья?.. Это?
– Нет.
– Я скрыл от тебя… я скрыл… Черт возьми, если я знаю, что я скрыл еще.
– Раз, два, три, признаетесь вы?
– Постой!
Он делает вид, что ищет!..
– О! Мужчины!.. Признаетесь вы или нет?
– Хорошо!..
– Хорошо, признаетесь?
– Ах!
– Ах! Что!
– Ничего, – сказал Шарль оправляясь.
– Это не то, – сказала Марта; она подождала немного.
– Маленькая Марта!
– Вы обманываете меня, сударь, – сказала Марта вставая. Голос её был почти строг. Шарль подбежал к ней взволнованный. Но она, положив подбородок на его плечо, весело улыбнулась ему.
– Ты пишешь пьесу! Ты мне дашь роль!.. Попробуй сказать нет, лгун!
– Я?.. Я?.. Кто тебе сказал?.. Пьесу! Во-первых, я никогда их не писал… и потом заставить тебя играть в моей пьесе… я бы слишком боялся, чтоб ты не провалилась… Пьесу? Зачем? Нет…
– Да! Она для меня эта роль, а если не для меня, тем хуже, я ее беру! Да! Но она для меня… для меня… Нет? Ах, ты еще говоришь нет!.. Ну хорошо, тогда объясни мне пожалуйста: зачем ты в пьесе повсюду пишешь имя Марты вместо Розальбы?.. Розальба, не имя твоей ingénue, отвечай!
Признанием Шарля был поцелуй, в котором вылилось все его сердце поэта.
Обед был подан; он перестоялся и простыл. Надо было, чтобы Шарль сейчас же принес свою рукопись и прочел ее. Марта только пробежала ее тайком, боясь, и прислушиваясь, положив руку на ключ от конторки Шарля. Шарль читал выразительно, вкладывая в свой голос все волнение, всю свою душу и сердце; и по мере того, как развертывалась интрига и перед Мартой проходили действующие лица пьесы, любовь, ум и молодость, Марта смеялась, била в ладоши, прыгала с одного кресла на другое, вертелась на одной ножке, целовала сзади Шарля, танцевала галопом… За обедом никто ничего не ел; но за то аплодисменты, счастливые разговоры, поздравления, полные надежд, вознаградили автора заранее первым шумом его успеха и очаровательным признанием его славы! Слова, восклицания, уверения, проекты, мечты теснились в устах Марты и, казалось, не имели конца.
– Ах, как это мило!.. мило… мило!.. – говорила она, напевая конец фразы. – А мой выход в первом акте… знаешь… тут маркиз… там окно… я вижу себя входящей. А мой монолог второго акта!.. и фраза в конце сцены: «Клянусь честью, сударь, мне кажется, что я люблю вас». Нет, я скажу это так: «Клянусь честью, сударь»… А?.. Да: «Клянусь честью»… И потом ты увидишь, когда мы расстаемся… Потому что я также и плакать умею, что бы там ни говорили… А какой смешной твой лакей! Надо, чтобы это вышло, знаешь… А моя большая сцена на балконе?.. Тра-де-ри-ра! Мы увидим!.. Я отлично знаю, как я скажу: «Мое сердце – птичка»… Но я скажу это так, как хочу, на первом представлении… тебе говорю, ты увидишь!..
И при этом постоянные поцелуи, салфетки на полу, рукопись на столе, исканье пальцем эффектных сцен и разговоров, проба интонаций и повторение жестов. При каждом движении Марта спрашивала глазами одобрения Шарля, тогда как он, ослепленный и счастливый воплощением своих грез, и слыша себя в обожаемых устах Марты, говорил только кивая головой: – да! да!..
– Да! А мой костюм! Идем скорее… – И они воротились в комнату; набросив абажур на лампу, они бегут в портфелю с рисунками костюмов.
– Это пропускай, пропускай, скорей же, – говорила она, – не то, не то и не это! Ах, если я возьму эту прическу!.. Нет. Надо, чтобы у меня было нечто в этом роде… Смотри… – и пальцы её складывали платок, делая невозможный и кокетливый чепчик, который она набрасывала на свои волосы. Это пойдет моему лбу; видишь ли… у меня лоб небольшой… – И она смотрелась в зеркало. – Я пойду к Люси Гоке… Только она и умеет… Эта прическа. Ах, как ты глуп… она безобразна!..
– Почему безобразна?
– Потому что она не пойдет мне… Бог мой! Как мужчине трудно быть красивым… Ах! Вот ботинки, которые я хочу… мне нравятся эти каблуки!..
– Но, милая, это ботинки времен Людовика XV… это туфли!
– Что же такое? Я упряма, они мне пойдут! – И она смеялась.
– Но, Марта, подумай, дитя мое, историческая правда…
– Ах, оставь пожалуйста твою историческую правду! Мадмуазель Марс все играла в тюрбане!.. Постой!.. Возьми карандаш!.. Потом у меня будут чулки, совершенно прозрачные… Нарисуй мне вот это и потом это… Ах, я выхожу похожа… неправда ли? А тут банты на юбке… О, я буду очень мила!.. Ты будешь мой костюмер. Так; вот мое платье во втором акте!.. Скажи пожалуйста, Шарль, я и не думала, что ты такой умный!..
– Нет, правда, не шутя, как ты находишь мою пьесу?
– Я нахожу ее… Ты должен дать мне прочесть все твои книги!
XLVI
Этот день и последующие увенчали счастье Шарля. Его гордость дополнила его счастье жизни и сердечное довольство. Марта гордилась, будучи поверенной его таланта, удивляясь и чтя его ум, и расточала ласки, восторги, нежности и похвалы, которые щекотали самолюбие Шарля, как веселая музыка постоянного благоговейного обожания. Шарль с удовольствием плавал в этом ореоле и в этом редком счастье быть великим человеком в глазах той, которую он любил.
В это время, разбирая ум своей жены, Шарль находил тысячу прелестей в этом уме и находил его юным, как лицо Марты. Шарль любил её наивности, её умные ребяческие выражения; не то, чтобы Марта была умна, но у нее были такие счастливые выражения, такая живость, такие остроты избалованного ребенка, которые происходят от уверенности женщины, что там, где она находится и где царит её слово, все готовы отнестись в ней благосклонно и аплодировать ей. её живая болтовня нравилась мужчинам, которые говорят мало; она производила в их мыслях впечатление звуков, в роде тех, когда рука слегка бродит по клавишам рояля. Но прежде всего в глазах Шарля Марта обладала прелестным неведением женщины, только что вышедшей из пансиона, добродетелью в самом начале жизни, которая становится очаровательной, когда женщина признается в этом неведении со своими ужимками, гримасами, улыбками, полу-стыдясь, с тем неловким видом, который составляет принадлежность и очаровательность молодых девушек. Марта всегда имела на устах детское «почему», но не как упрямый, смущающий вопрос, а как скромную просьбу, почти конфузливую, готовую всегда поцелуем принести свои извинения и благодарность. Шарль находил в ней прозорливость, чуткость, составляющие гений парижанок, понимание с полуслова течения жизни, так что ей ничего не надо подчеркивать; а во всем остальном, в чем он не был уверен, что Марта имела чувство и понятие, она так мило сверкала глазами, так умно глядела, или имела такой милый загадочный вид, что у Шарля пропадала всякая охота проверять и испытывать. Одним словом, первая проверка Шарля, или скорее первая снисходительность его любви встречала в Марте все, чего только можно было требовать от нравственных способностей женщины; сверх того, относительно идей, слишком возвышенных для женского пола, мужчина говорит с женщиной как с птицей и не объявляя открыто о влиянии своего ума на нее. Шарль считал Марту способной прекрасно выполнить роль, которую ирония одного мыслителя из его друзей приписывала женщине, роль Жана де-ла-Винь, этого маленького деревянного человечка, с которым разговаривает фокусник, так что через несколько минут публика и даже сам фокусник и чуть ли не сам деревянный человечек думают, что между ним и фокусником ведется диалог.
XLVII
Эта иллюзия, это опьянение, в котором все способности Шарля были направлены к забвению мелких невзгод жизни, борьбы настроения духа, скучных обстоятельств и уколов извне; это опьянение, в котором все его нравственное существо, все его желания, требования его натуры и все инстинкты его ремесла нашли пищу, удовлетворение и отдых; это опьянение длилось вечность в несколько дней, к концу которых он в своем счастье достиг только вот чего.
Это было утром.
– О-го! – говорил Шарл. – Я расскажу это… Да, я непременно расскажу… И над тобой хорошо посмеются, моя бедная Марта!.. Каково? Если бы знали, что моя жена ложится спать с зеркалом под подушкой!.. О! Это слишком!
– Извольте мне его сейчас отдать!.. Я хочу, Шарль, я хочу этого!
– Нет, я ревнив! Вы его не получите!
– Шарль!
– Нет!
– Вы отдадите мне его… Я рассержусь…
И Марта попробовала схватить его.
– Неловкая!.. Я сильнее тебя.
– Я хочу его, слышите ли? Вы мне сделали больно – но вы мне сделали больно!
И голос Марты сделался резким. Она сделала движение вперед всем своим телом; волосы её рассыпались и обе руки нервно тянулись за зеркалом, которое она отнимала от Шарля. Зеркало то показывалось, то скрывалось. Наконец, оно выскользнуло, упало и… разбилось.
– Ах! Вот несчастье!
И, упав на подушки, Марта залилась слезами.
– Это ты виноват, – отвечала она на поцелуй Шарля. – Я всегда боялась разбитого зеркала… Это принесет нам несчастье, вот увидишь!
XLVIII
Счастливый день, полный сладких волнений, первый день, когда Шарль проводил Марту в театр, как муж!
Какой прелестный гордый вид имела она, говоря горничной, одевающей актрис:
– Мадам Дюран, сколько времени я вам должна за мороженое, помните, мы ели мороженое с Бертой, этой зимой… Пожалуй уж четыре месяца!.. Вот, возьмите! – сказала она, протягивая монету в сто су. – Ах, это потому, что я теперь богата!
И, войдя в свою уборную, она смеясь показала пальцем Шарлю на кувшин для воды с отбитым горлышком и на склеенную чашку.
Марта имела ангажемент в шесть тысяч франков; но мать относилась к ним с благоговением и давала своей дочери, не считая довольно жалкого туалета, столько, сколько дают детям. Для Шарля было большим удовольствием вывести Марту из этой нищеты, окружить ее довольством, устраивать ей маленькие сюрпризы, доставлять ей тысячу радостей и опускать в её кошелек новенькие луидоры. Он забавлялся экономией своей жены, её счетами и финансовыми заботами, путая её вычисления и нарушая её бюджет, украв у ней деньги из кошелька и снова положив в него, играя с её кошельком, как играют в день святого Николая с башмаком маленькой девочки; ему доставляло удовольствие, когда его жена бранила его за беспорядочность и манию к подаркам.
Посреди этих маленьких радостей и веселых шуток Шарля, к Марте принесли счет, сумма которого равнялась ежемесячному доходу её мужа.
– Дорогая, – сказал Шарль, увидев счет, – надо быть благоразумнее.
– Но, мой друг, у меня были только зимние платья… У меня не было платья для демисезона… Мое зимнее платье вышло совсем из моды… Другое…
– Я тебя не спрашиваю о числе твоих платьев, дорогая моя; я ничего не говорю, я не браню тебя… Но ты знаешь наше состояние также хорошо, как и я, вот и все… Я знаю, что ты не тратишь для того, чтобы тратить!..
– Я отошлю платье, – сказала Марта обиженным голосом.
XLIX
Однажды утром, час, когда Марта обыкновенно входила в кабинет Шарля, – уже прошел; Шарль, думавший, что она заснула поздно, пошел посмотреть, спит ли она. Он нашел ее на кресле, окруженную тучей театральных журналов и маленьких газет, присылаемых писателям и артистам. Марта держала в руках одну из них и спрятала ее, увидев Шарля. Шарль подошел и хотел взять ее, Марта не давала.
Она хотела ее читать… Он может взять другую.
– Скажи лучше, – сказал Шарль, – что ты не хочешь, чтобы я ее прочел.
– Я… нет… нет…
И Марта, взволнованная, не выпускала из рук газеты.
– Ба! – сказал Шарль, наклоняясь к ней. – Какие-нибудь нападки на меня, держу пари… а?
Марта уныло кивнула головой.
– Чорт возьми, – сказал Шарль, овладев газетой, – три столбца!.. И подписано «Нашет»… Это обещает! Первая строка хорошо начинается…
И он начал читать статью.
«Торжество литературной революции 1830 года было непродолжительно. Раз трещина появилась в первых рядах, армия и победа ослабели. Снова образовались классики и овладели полем битвы. Кроме их произведений, все способствовало их успеху: усталость публики, расслабленность, которая наступает после сильной борьбы, умиротворение душ, вкус к зрелищам, легко перевариваемым, и к легкому чтению; сверх того, еще их личное влияние, их официальное положение в литературе, гласность, поддержка рекомендаций, уменье проникнуть туда и сюда, места и кресты, дружба и рекомендательные записки, – словом все, чем может располагать партия, которая стремится осуществить в себе «честного человека» XVII столетия. Еще кое-что помогло классикам вновь завоевать потерянную почву: это было недовольство свыше, уже замеченное г-жей де-Сталь, этот правительственный предрассудок против страсти к литературным произведениям и живости эпитетов».
Нашет отлично видел и понял эту литературную реакцию, настолько отлично, что вдруг сделал неожиданный поворот. Нашет в «Скандале», этот шут бесцеремонно обращавшийся с французским языком, который выдумал свой стиль, блистающий шутовством, этот Нашет начал каяться в своих прежних заблуждениях на спинах своих нераскаянных товарищей.
Он наблюдал, исследовал, обдумывал. Важные большие газеты, охваченные эпидемией образного стиля в юном отделе их редакций и затруднявшиеся найти нового человека, совершенно не читавшего Сен-Симона, и забывшего Дидро, эти большие газеты должны были, по мнению Нашета, непременно обратиться к нему, последнему молодому человеку во Франции, имеющему стиль Верто и мнения Жоффруа; а попав в большую газету, он достигнет всего, богатства, положения в обществе, которое составляло мечту его жизни. Потому-то статьи Нашета были с некоторых пор щепками от рубки леса, разлетающимися направо и налево в нарождающиеся таланты, это была настоящая казнь, совершаемая с умом человеком без совести, который разнообразит ее ловкими низостями и комплиментами, любезно направленными к готовым и определившимся знаменитостям, к патентованным пуристам, ко всем академическим талантам.
В этих трех столбцах, где он доставлял себе удовольствие хлестать своего друга Демальи, он находил время отвесить глубокий поклон прекрасной прозе господина X… великолепному языку господина Y… и замечательной фразе господина Z… Затем, раскланявшись с ними, он возвращался с своему пациенту. Он цитировал его, печатая отрывки фраз курсивом, – способ критики, перед которым не устоял бы стиль господина Журдена! Он долго забавлялся с иронией, полной вдохновения и с особенной злобой над претензиями автора «Буржуазии», и кончал избитой фразой, в роде клише, которое составляет часть содержания всех классических критиков, настоящих и прошлых. «Подобные книги имеют место в библиотеке Шарантона; надо сожалеть, что их авторы не следуют за ними».
– Ах, несчастный! – сказал Шарль, окончив, – ни одного литературного убеждения! – Для Шарля все другие измены совести, все отрицания политические и религиозные были ничтожными погрешностями перед литературным отступничеством. – Он заслуживает… прочесть всех этих господ, которых он хвалит!.. Нет, это ужасно!.. – И повернувшись к Марте, Шарль принялся смеяться.
– Меня не ругань его сердит… Что за удовольствие напрасно портить себе кровь… Но Нашет! Человек, который выдумывал невозможные глаголы!.. Верьте после этого чему-нибудь!
– Право, ты относишься к этому… Ты хладнокровен!.. Я не понимаю тебя… – сказала Марта, пожимая нервно плечами.
– Ах, моя бедная, если бы ты прошла чрез все это, как я!.. Ты бы отнеслась к этому философски…
– И ты не будешь отвечать?
– Не буду. На это один ответ: два секунданта; признаюсь тебе, мне кажется смешным доказывать мой талант ударом шпаги… У меня есть своя гордость, дорогая, выслушай меня: в нашем ремесле, человек, у которого нет врагов, на которого не нападали, не оскорбляли, не злословили… Я бы не хотел быть таким человеком, нет! А между тем, что я вытерпел… Видишь ли, никто не будет тратить злобы из-за пустяков… Подобная нападка показывает, что я мешаю автору, его друзьям, его патрону… Это значит, что у меня есть маленькая известность, в которой я не сомневаюсь, но которая сердит его. Несчастье в том, что у меня еще не полный ящик подобных критик… Когда целый комод наполнится ими, все четыре ящика, о, тогда!..
– Это ничего не значит, – сказала Марта, – все же это неприятно.
– А, дорогая, неужели ты думаешь, что слава набита лебяжьим пухом!
– Гавори, что хочешь… но меня это огорчает.
Шарль увидел с горечью, что это была не женщина, горюющая в своей любви, но женщина, носящая его имя, и оскорбленная в своем самолюбии. Но Марта, заметив эту мысль в глазах Шарля, сказала ему вдруг:
– Ах, как я глупа! Ты смеешься над ними! – И, взяв его голову в свои руки, она произнесла: – что нам за дело до других?
L
– Да, пьеса очень хороша, но…
– Но что? – сказал Шарль.
– Ты никогда не писал для театра… Зачем ты не возьмешь сотрудника?.. Вудене находит в тебе большой талант…
Это было две недели спустя после статьи Нашета. Статья созрела в голове Марты и принесла свои плоды. Потому что самое большее зло, приносимое критикой, это сомнение, которое она сеет вокруг того, на кого нападает. Она порождает даже у самого очага писателя недоверчивость к его силам. Действительно, критика, – это не только рана для самолюбия писателя; это прежде всего удар его кредиту. Она вооружает в будущем даже тех, которые его любят.
Шарль и Марта оба протянули ноги на решетку камина. При этих словах Марты, Шарль, мешавший уголья, сделал движение, чтобы встать.
– Сотрудника!.. Вудене!.. – и от удивления, он уронил щипцы.
– Но, дорогая… – И, поглядев на нее, он отступил перед тем, что хотел сказать ей, поднял щипцы и ничего не ответил.
Человек нашел или воображает, что нашел что-то новое, прочувствованное, незнакомый уголок человеческого сердца, легкий каприз ума, дыхание страсти, юную песню; он вызвал целый мир и обстановку этого мира и населил его своей фантазией; в нем он заставил играть, танцевать, действовать свои мечты; он выносил свое произведение, нянчился с ним, посвятил ему все дни, все ночи, всю свою душу… Похлопайте этого человека по плечу и скажите ему: «видите этого господина, который проходит? Этот господин подпишется под половиной вашего произведения, получит половину вашего успеха, половину вашей известности. Этот господин откроет вашу рукопись, и выбросит из вашего произведения все, что улыбается и шепчет, все что составляет блестящую пыль у бабочки и трепетанье её крыльев… «Это очень красиво, мой милый… но публика, вы понимаете»… Это будет его припев. Он разобьет вашу улыбку в смех для денег. Он облокотится там, где вы только скользили. Он преувеличит ваше остроумие, как дагеротип увеличивает руки. Он усилит слезы. Он подчеркнет то, что вы затуманили. Он приспособит воздушный хор ваших мыслей к своему вкусу и своему слуху. Он переворотит все ваше произведение, чтобы пристегнуть к нему развязку с женитьбой. Он разовьет какую-нибудь из таинственных интриг в вашей пьесе; он выбросит из неё ваши фразы, чтобы вставит слова, к которым привыкла публика; и сделав все это, он скажет вам подняв свой воротник: готово!.. Я переделал Шекспира для сцены».
Фраза Марты сказала все это Шарлю.
– Ну что же, – спросила Марта, которая ждала ответа.
– Ах, извини, я думал, что ответил тебе… Вудене?.. Не будем говорить об этом.
– Но, мой милый, я слышала, все говорят, что Вудене призван заменить Сириба…
– Сириб не умрет.
– Ах, если б он хотел в твоей пьесе…
– Говорю тебе, я не хочу никого… Я забрал себе в голову, чтобы меня играли одного, или же совсем бы не играли.
Воцарилось молчание.
– Что ты читаешь, Марта?
– Поль-де-Кока… «L'Homme aux trois culottes»… Видно, что это выдуманная история, но в ней есть и правда, это чувствуется… Ты знаешь? Это очень интересно… и очень ловко поставлено для сцены! Он умеет ставить для сцены, этот писатель… Представь себе… во-первых, тут есть молодой человек, который работает у дядюшки Дюшена… затем его старая мать, славная, бедная женщина… Потом банкир, на которого донес ужасный дворник, когда они стояли, знаешь, с шайкой друг за другом… Ах, сейчас видно, что это злодей!.. А богиня свободы!.. Это очень характерно… Вот вещь, вот интриги… По крайней мере всегда что-нибудь происходит… Это не то, что теперешние романы… А когда они все снова встречаются, как они довольны!.. Не очень было удобно находить такие смешные сцены в то ужасное время… Пусть говорят, как и ты тоже, что у него нет исторической верности… Это ничего не значит, я вижу тут более революции, чем во всех исторических книгах…
– А! – сказал Шарль, глаза которого открывались, и он начинал явно видеть развитие своей жены. С досады он проглотил краску с кисти, которой он писал небольшую акварель.
– Постой! – сказала Марта, – это очень мило, что ты делаешь! Когда я была маленькой, у меня был вкус к рисованию… артистический вкус. Я делала маленькие виды, куклы. Жалко, что моя мать не поощряла меня… и затем перспектива… это остановило меня… У меня был дядя… у него был талант… талант любителя, но истинный талант… Он делал шутя маленькие портреты, в профиль… прелестные, и похоже!.. Все просили его написать с них. Он видел, как я рисовала… и так как он очень любил мать… надо тебе сказать, что в нашей семье все были привязаны друг в другу… удивительно!.. Браки только еще более сближали!.. зятья, невестки, так любили друг друга, ты не можешь себе представить!.. Мой дядя хотел, чтобы мама учила меня рисовать… также и моя крестная мать, мадам Стефозер, жена банкира, которая воспитала меня как свою дочь… Она велела слугам слушаться меня также как Элизу… Я была подругой Элизы, она ничего не делала не посоветовавшись со мной… Мадам Стефозер тоже верила в мои способности… но, как я тебе сказала, моя мама… и потом перспектива остановила меня…
Шарль попробовал углубиться в свою акварель.
– Ах, скажи пожалуйста, – продолжала неумолимо Марта, – ты не видел залы, которую устроил себе Вудене… Он верно много зарабатывает! Он фабрикует пустяки, не литературные вещи, все, что хочешь… Но в этом году он получил до тридцати тысяч франков… Все украшено золотыми орнаментами…
– Из гипса?
– Из гипса или дерева, не знаю… и бархат вишневого цвета.
– Великолепно!.. Нечто в роде приемной американского дантиста, купленной по случаю разорения какого-нибудь кафе на бульваре…
– Ну, ты известно любишь свою старину… И все, что не старо… С тому же ты не хочешь, чтобы у женщин был вкус… я знаю…
– Послушай, – сказал Шарль, – мы ничего не делаем сегодня; ты не играешь вечером, что если бы нам поехать в деревню?
– О, в деревню!
– Ты не любишь деревни?
– Я? Нет, люблю… Но я люблю ее с состоянием… с состоянием, которое было бы больше нашего, с большим состоянием… с замком… Я бы любила куриц, коров, барашков… животные, это так интересно! И потом можно делать добро… У меня была бы маленькая аптечка для крестьян… Я бы посещала больных… Это так мило!.. А когда подумаешь, сколько есть горя… потому что в жизни не только все приятное!.. Вот как я понимаю деревню!.. О, я бы не позволила тронуть ни одного ласточкиного гнезда! У моей крестной было их много под крышей; и если бы ты видел, я смотрела иногда по целым дням, как мать с дерева звала птенчиков… она звала их, звала, чтобы заставить их выйти из гнезда; и когда один из птенчиков вылетал, она поддерживала его крылом, отпускала его, снова подлетала и доводила его до гнезда… Я читала очень трогательные истории о ласточках…
В первый раз после их свадьбы, Шарлю стоило труда удержаться от выражения нетерпения, которое просилось на его уста: ему слышался фальшивый мотив на всемирную песню.
– Ты не читал сегодняшней газеты? – продолжала Марта. – Меня заинтересовала там одна вещь, видишь ли. Список лиц получивших Монтионовские премии за милосердие. Старики, бедные женщины… часто без всякого образования… Сколько есть добрых сердец!.. Делать добро… в деревне… чтобы никто не знал… Самопожертвование!.. Как это прекрасно!.. Ты себе не можешь представить, как я была взволнована!.. Между прочим, там есть семидесятилетний старик!.. Это чудно! Я плакала как ребенок, читая это, хорошими слезами, знаешь, теми слезами, от которых делается так хорошо на душе!..
– Ты не очень соскучилась вчера вечером? – прервал ее Шарль отрывистым тоном.
– У этих славных людей?.. О, Боже мой, нет!.. Только их маленькая невыносима!.. Как можно так воспитывать ребенка… А ты заметил? Горошек был дурно приготовлен…
Накануне Шарль повел Марту обедать к одним старым друзьям, очень бедным, которые прибавили несколько блюд, чтобы достойно принять госпожу Демальи. Семейство с трогательным старанием бедных людей осыпало ее вниманием и услужливостью, и эта женщина, такая жалостливая к ласточкам и чувствительная к наградам за милосердие, обратила внимание только на следующее. «Горошек был дурно приготовлен!» От дружбы, которая радостно протянула ей руку, Марта сохранила одно впечатление: «Горошек был дурно приготовлен!»
LI
В последующие дни Шарль принялся испытывать ум своей жены и исследовать её душу. Марта ничего не замечала и с легкостью, и свободой, с той болтливостью, которая является у женщин вместе с довольством, она исповедовалась, сама того не подозревая. К тому же Шарль очень ловко скрывал свое расследование, и останавливал ее только, когда слишком сильно страдал, и лицо изменяло ему. Он был поражен своими открытиями, стыдясь того, что был обманут этой ложной сентиментальностью, этой кукольной личиной, её ложной наивностью, её пустотой, и он увидел в своей ошибке ослепление влюбленного человека. Однажды страдание его было так сильно, что Шарль почувствовал, как от злости кровь бросилась ему в лицо. Марта ничего не заметила. её речь, постоянно ровная, продолжалась. Шарль поднялся и взялся за шляпу.
– Как, ты уходишь?.. Ведь дождь идет! – сказала удивленная Марта.
– Извини меня… Я совсем забыл… у меня назначено одно деловое свиданье…
– Иди! – сказала Марта и подставила ему свой лоб. Шарль вспомнил, что надо поцеловать ее. Он поцеловал, бросился в переднюю, взял машинально зонтик и хлопнул дверью, слыша за собою гигиенические советы Марты и пророчества насморка, раздававшиеся из глубины комнат. Он спустился с лестницы и зашагал по улице с зонтиком под мышкой. – Правда, – подумал он, пройдя около сотни шагов, – она сказала, что идет дождь… – И он вошел в пассаж. Пассаж был битком набит мирными прохожими, застигнутыми дождем, некоторые из них выжимали свои шляпы. Шарль принялся шагать взад и вперед.
– Полно, – говорил он сам себе, – не надо ребячиться… будем спокойны… Я чересчур преувеличиваю… Ах, Боже мой, это возможно, очень возможно!.. Что ж со мной случилось, однако? Надо смотреть трезво на вещи… У меня были расстроены нервы, и я вздумал разочароваться в своих иллюзиях, чтобы свалить на что-нибудь мои нервы. Просто некоторое недоверие с её стороны, со многими в жизни это случается! Она не находит мою пьесу хорошей, вот и вся история… С тех пор как существуют мужья, сочиняющие пьесы, и жены, их слушающие, я думаю, я не первый подобный пример… да и к тому же, она поступает сообразно с успехом, она ждет, чтобы мне повезло. На самом деле я считаю ее глупой, потому что она не видит во мне гения… Я дурак… это глупо побивать свою любовь своей же гордостью!..
И Шарль повторял себе эти мысли и слова как бы желая заглушить и победить свое убеждение. Ему удалось, наконец, успокоить себя на минуту этим повторением одного и того же, которое усыпляет обсуждение жестокой истины, когда вдруг, сильно ударив зонтиком по мостовой, он воскликнул:
– И все это низость!.. Я хочу обмануть себя, как ребенок… Не о моей пьесе идет речь! Моя пьеса, мой талант, если бы дело было только в этом!.. Дело идет о моей совместной жизни, о мозге, в котором ничего нет, о душе, не имеющей отзывчивости, об уме фальшивом, как жетон. Вот в чем суть!.. Целый месяц я заставляю ее говорить, думать… Теперь, когда я раздел ее до нага в нравственном отношении… и что же? Самое большее, что можно найти в жене – это любовницу… и всегда у нее являются разговоры, которые коробят меня и вкусы, возмущающие мое сердце… Вудене! Вот её идеал!.. Это так, Вудене! Каламбур и моя жена созданы для взаимного понимания… Ну что же. Все ж таки у меня есть маленькая жена, которая во всех отношениях глупа… – И Шарль, скорчив нечто в роде улыбки, высоко поднял свой зонтик.
– Ты верно хочешь, чтобы я окривел? – крикнул ему чей-то добродушный голос. – Скажи пожалуйста, мой милый, где ты живешь? Что ты делаешь? И где ты живешь? На дереве, или у Декамерона? Камил Демулен сказал, что женщина была первым жилищем человека, я соглашаюсь с этим; но от этого и до совершенного заключения в своем счастье есть расстояние, как от земли до звезды Сириуса, в семь тысяч миллиардов льё! Так запираются только для того, чтобы сочинять стихи гекзаметром…
– А, Ремонвиль!.. Я рад тебя видеть… Боже мой, да, наш медовый месяц, очень… медовый месяц… Мы жили совсем одни… Но… если бы ты был мил, знаешь ли, что ты бы сделал?
– Сегодня я способен на все! Хочешь оскорбим янсенистов? Или будем иронизировать как де-Местр над Порт-Роялем?.. Порт-Рояль – это Святой Дух доктрины! Порт-Рояль…
– Не хочешь ли зайти к нам выпить чашку чаю?
– Я думаю, что хочу… Я сейчас из Варьете, таков, каким ты меня видишь… Ты спасаешь меня от трех длиннейших актов твоей чашкой чаю… я оставил Перраша в своей ложе; он мне расскажет пьесу… Ах, мой милый, если бы ты знал, как мне начинают надоедать первые представления! Пьесы еще ничего, я создан для них, они мне не надоедают, как и музыка… Но публика первых представлений, эта вечная публика!.. Она у меня всегда перед глазами… Ночью она является мне в кошмарах… Та же пара перчаток, те же кресла в оркестре, те же лоретки, те же блондины, те же друзья авторов!.. Прошлый раз я едва узнал одного господина: это был шеф клаки, снова занявший свою должность, проведя зиму в Сорренто! Ты думаешь, все эти личности умрут? Я представляю их себе говорящими в день Страшного Суда: «подымайте занавес».
– Дай нам чайку, дорогая, я привел тебе Ремонвиля, который пожертвовал для нас первым представлением;
– Ах, как это мило!.. Вы очень любезны, – сказала Марта и обратилась к Шарлю: – Ну что, ты весь вымок?
– Черт возьми, – проговорил Ремонвиль, садясь на диван и глядя кругом себя, – вот настоящий рабочий кабинет; я бы не написал в нем ни строчки… Я бы улегся здесь, как охотничья собака, декламировал бы себе Данте, и ждал бы с трубкой тридцать-пятого воплощения Вишны, когда он должен сделаться конституционным правителем и президентом общества литераторов… Знаешь ли ты, твоя жена очень похожа на камею… совершенный сердолик из Ватиканского музея… не помнишь?.. И так, вы женаты?
– Боже мой, конечно, – сказала Марта смеясь.
– Это удивительно, я всегда смотрел на брак только как на развязку… А твоя пьеса? Ведь ты писал пьесу?
– Одна окончена.
– Ты доволен?
– Не знаю.
– А вы, сударыня?
– Да… да… конечно… она прелестна.
– Послушай, Ремонвиль, я хочу тебя попросить об услуге, которую столь же скучно исполнить, сколько смешно о ней просить… Ты скажешь, это ловушка, но, клянусь тебе, я не думал об этом… Моя пьеса мучит меня… мы сомневаемся, не знаем… Если бы ты ее послушал, это дело полутора часа. Твое мнение одно из двух-трех, которые я уважаю и которыми дорожу…
– Полно!.. Но, если ты воображаешь, что мое мнение стоит чего-нибудь!.. Ты знаешь, что я ничего не понимаю в театре, предупреждаю тебя…
– Как, вы фельетонист! – сказала Марта.
– Да, я фельетонист… Дайте мне чаю. Так, теперь я слушаю.
Шарль прочел свою пьесу. Во время чтения Ремонвиль прогуливался по кабинету с веселым нетерпением и могущественной живостью молодого Антея: он ходил шагами моряка, толкал мебель, подпирал стену своим плечом, дышал полной грудью.
– Ну, что же, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, – обратился он к Шарлю, когда пьеса была окончена, – это очень хорошо!.. Я нахожу ее очень хорошей… Ах! вот пьеса, которая очень приятна после всей этой дряни… Легко дышится в твоей пьесе, как на горе… Для теперешних легких публики, может быть, этот воздух чересчур живой… Какая-нибудь пустяшная пьеса дается в сотый раз… Если ты веришь в Провидение после этого, тем лучше… Вот мое мнение… Еще раз повторяю, я мало понимаю в этом деле.
– Но, – начала Марта, – вам не кажется, что интрига… У него нет привычки к театру… Я советовала ему взять сотрудника… не знаю, кого бы… кого-нибудь, кто знает театр… Вудене, я думаю…
– Водевилист! Полноте! Разве пьеса Шарля касается их, Вудене и ему подобных!.. Ах, если бы когда-нибудь мне попал в руки бич Иеговы, я бы обратил их в рабство, этих водевилистов! Я бы обращался с ними, как с Аммонитами!.. Я бы обломал их остроты о перила колодцев и дуновение моего гнева проникло бы в самую сердцевину их каламбуров!.. Я бы кормил их луком и заставил бы их выстроить пирамиду в память Генриха Гейне!.. Нет, не говорите мне об этих людях, это меня бесит! – сказал резко и повелительно Ремонвиль. – Ба! Уже половина двенадцатого… я бегу… сударыня!..
И Ремонвиль раскланялся.
– Ты проводишь меня? – обратился он к Шарлю. Когда они очутились на тротуаре, Ремонвиль резко обратился к Шарлю:
– Зачем ты пишешь для театра? Тебя соблазняет этот большой белый деревянный ящик, куда кладут один на другой шесть слоев милых людей, только что кончивших обедать? Они потеют там… В это время демон драмы встряхивает их, ошеломляет, качает их и ставит в тупик… Они в воде, они в слезах, а демон драмы ворочает, катает их, ревет, рычит, топчет ногами… Занавес падает и у молодцов ночью расстройство желудка… Не прикасайся к рампе, это вредно… И потом тебя будут перетолковывать… Видел ты когда-нибудь, как играют Бомарше по воскресеньям в Theàtre-Franèais? Надо издать закон, который запрещал бы актерам прикасаться к великим произведениям: они мешают их слушать… А твоя жена?.. У меня до сих пор этот Вудене на сердце!.. Вы обожаете друг друга?
– Да…
– Ну, что же! Вам остается просить только одной вещи у Бога, чтобы он не благословлял вашего союза.
– Как?
– Да… чтобы у вас не было детей… Видишь ли, это не наше дело! Самое большее, что мы можем себе дозволить, это попугаев… Ты говорил нам это однажды вечером и ты был прав… Прощай!
– Каков оригинал? – сказал Шарль, входя в Марте.
– Я нахожу его просто дурно воспитанным, – отвечала Марта.
LII
Начиная с Евы, женщина представляет из себя только часть; начиная с христианской эры – она уже сила. С революцией женщина еще более выросла, она преобразилась, идеализировалась; в XIX веке женщина – жертва. Она не признана, она измучена. Теории, привычки любви, церковь и эпоха, предсказания и утопии, перемена свойства веяний, превращенных в наше время в нервное напряжение, – все в браке сделалось важным, даже адюльтер; равенство женщины с мужчиной, установленное с 1789 г. смелостью ума, гения, правом на эшафот, г-жей Роланд, г-жей де-Сталь, – словом, тысячи обстоятельств способствовали этому новому возвеличению, этому поэтическому преуспеянию женщины. Но еще более, чем эти перемены нравов, чем эти индивидуальные примеры, одно слово, одно влияние доставило женщине значение в общественном мнении и ей это принесло терновый венец: слово это – роман. Современный роман есть ничто иное, как страсть женщины в браке. Он приложил все свои усилия, отдал всю свою душу для этой темы ординарной, роковой и излюбленной. Он все применил для этого дела. Ода, ямб, жар слез, лед протокола, защитительная речь, констатирование фактов, испробованы все оттенки, все красноречие, лира, скальпель, даже новый язык, технический, медицинский, симпатико-психологический, доходящий до диагностики и до самой глубины патологии легального союза; так что каждый мужчина этого века, умеющий читать и умеющий жить, был должным образом тронут и удовлетворен этой органической болезнью современной женщины, болезнью, незнакомой до открытия некоторых слов; это медленное распинание на кресте души супруги, нежной, гибкой, чувствительной, примкнувшей к мужу, который ест яблоко, не очистив его, поет за десертом свадебные напевы, любит также, как переваривает пищу, одним словом к «мужу-толстяку» романа и всех романов.
А что же мужчина, другой конец цепи, муж?.. Для него никаких новых следствий, никаких противоречивых, защитительных речей. Для него нет ни ответов, ни шедевров. Ничего. Женщина имеет все, – даже самого мужчину.
Однако же этот муж, чтобы быть человеком, может иметь также душу. Может случиться, что брак ранит его также, как и женщину, в самых благоразумных и возвышенных его чувствах. Если он не плачет, у него, как у женщины, свои открытия, свои страдания, свои слезы, свои раны, которые наносит обман иллюзий, надежд, будущего, жизни, веры в подругу жизни, подходящей к нему…
Вообразите себе беднягу, покоренного этою ложью тела и комедией остального, наружностью, украшениями, всем, что останавливает взгляд и суждение, и мешает видеть и искать человека, который начинает сначала робко, потом все смелее, увлекаясь как вор, который поет входя и не доверяя самому себе, судить и разглядывать эту тайну души создания, которое Бэкон так хорошо назвал: каверной. И вот он идет ощупью в темноте, радуясь, что встречает ночь и столько покровов… Женщина не так легко читается, как мужчина. Она окутана, замкнута, скрыта часто даже для самой себя. Муж проводит недели, месяцы около этой грации, манер, нарядов, изящества; он слышит эти речи, кажущиеся чувствами, видит эту улыбку, этот взгляд, принимая их за мысль и за сочувствие. Он не знает, он колеблется, он еще не смеет… Это древняя басня навыворот: Амур хочет увидеть Психею, тень которой колеблется от лампы на стене. Наконец, устав страдать, он хочет покончить сразу и погружается в глубь… «Толстяка», которого женщина находит в муже, муж находит в жене!.. Видите ли вы его, как он проводит руками по своему счастью, как по холодной статуе, пустой и звучной… И никакого доверия, никакого утешения, никакой откровенности относительно него. Он страдает и будет страдать один, молча. Кому довериться, кому излиться, в ком найти сочувствие? Муж, который даже не обманут!.. Тогда в этом одиночестве и молчании отчаявшись, муж медленно и горько наслаждаясь спускает со ступеньки на ступеньку свою мечту. Он исследует, разбирает, анатомирует это ничтожество, это красивое маленькое ничтожество, свою жену, может быть, из лихорадочного любопытства больного, который развязывает свою рану и бередит доверяя, боясь возврата прежнего, ослепления в будущем; один решительный день, один взгляд отчаяния раскрывает ему все: мысль этой женщины никогда не поймет его мысли, никогда у них не будет созвучия и обмена мнений, во всем, что есть нематериального в ней и нематериального в нем, этого первого благословения брака, этой души человеческого существа, этого равенства нравственной жизни… Но этого недостаточно, он хочет знать все, чтобы его прошлая любовь проникла в самую глубь и тайны этого разрыва нравственных понятий и симпатий.
– И однако эта женщина, – говорил себе Шарль, – эта женщина… самая очаровательная темница, самое прелестное зеркало души, созданной Богом! её изящество, все её прелести, этот шёпот речи, этот мираж мыслей, этот взгляд… сколько обещаний эфирной натуры, создания, сделанного из более хрупкого и тонкого фарфора, чем мужчина… и под одеждой, под оболочкой сердца, под этой детской болтовней, в глубине всего, что женщины имеют снаружи, напоказ, найти – мою жену! И это та клавиатура, которую я считал подвижной и говорящей моему сердцу, аккорд, который я слушал, затаив дыхание! Вот та, которая должна была меня убаюкивать, развеселять, поддерживать и подымать усталость и изнеможение мужественной задачи моей мысли!.. Никакой связи, никакого сочувствия… В ней совершенно нет тех добродетелей и предназначения, которые связывают мужа и жену иным способом, кроме физических отношений, и придают мужу сильное, твердое счастье, отдых и смелость деятельности человека мысли и воображения…
А если бы она захотела помочь мне нести мою голову? её движение было бы круто, резко, неловко; позаботиться о моих страданиях, которые она бы не видела, о моих болезнях, которые называют воображаемыми? её заботы были бы только раздражающим прикосновением… Я, который мечтал об общих волнениях, разделенных впечатлениях жизни, об общих, параллельных впечатлениях внешнего и внутреннего мира, которые всякий носит в себе! Она слепа там, где я вижу, глуха к тому, что я слышу, холодна к тому, чем я восхищаюсь, мертва к моим восторгам… И все в этой женщине, даже её тело… её чувства наружны, они стремятся к позолоте, к кричащей роскоши, к пахучим цветам… – А её сердце? – говорил Шарль в конце своего монолога. Ах, её сердце… Не знаю…
LIII
Был прекрасный день. На улице Брульар, в Монмартре, в рощице сидела Марта, поднося к своим губам чашку с молоком; Шарль, верхом на скамейке, против неё, но положив одну руку на стол, другую закинув за голову, глядел перед собою. Они пришли навестить в Монмартре больную служанку, воспитавшую Шарля, старую Франсуазу, и на возвратном пути зашли в сад какого-то кабачка. Под ними расстилался Париж, точно синее море в ясную погоду. В громадной равнине, где утренний туман поднимается с земли, как облако, у корней деревьев и рассекается в пар у их верхушек, все плавает теряясь в инее света. Линии крыш и куполов, более синие чем дома, выделяются на горизонте. То тут, то там блеснет оконное стекло, прорезывая молнией бесконечную перспективу. А черные тени и отблески дня то набрасывая свой покров, то проливая свет лучей, проходят ежеминутно по лазурному городу, над которым парит и покоится прозрачная золотистая дымка.
– Все ж таки мы побывали на Монмартре, – сказал Шарль после нескольких минут молчанья.
– Немного высоко, – произнесла Марта с полуулыбкой.
– За то и немного красиво; это самый восхитительный вид в мире.
– А! – сказала Марта, и принялась пить свое молоко по глоткам.
Шарль курил. Они замолчали.
– Ты отдохнула? – спросил Шарль.
– А что?
– Надо уходить.
– Пойдем.
– Пойдем.
Марта кончила свою чашку. Шарль снова зажег сигару. Они забыли, что надо уходить. Вдруг что-то позвонило в садике и заставило их повернут головы. Это были качели, которые приводили в движение звонок, повешенный на перекладине. На сидении, выкрашенном в зеленый цвет, мать держала на коленях прелестного ребенка с чудными белокурыми волосами и большими голубыми глазами, которые, казалось, спали. Шарль смотрел на Марту, глядевшую на ребенка; когда её глаза обратились к нему, Шарлю показалось, что они полны того волнения, той зависти, той подавленной нежности, которой наполняется сердце женщины, смотрящей на гордость матери.
– О чем ты думаешь, Марта? – сказал он ей, заглядывая в глаза и взяв её руку в свои.
– О чем же ты хочешь, чтоб я думала? Я смотрела на звонок…
Качели остановились. Они услышали, как мать, наклонившись к головке ребенка, говорила ему:
– Тебе весело, мой мальчик?
– Да, мама, – отвечал ребенок, – но я скучаю…
– Бедное дитя! – сказал Шарль. – Ты заметила? Он слепой…
– Вот как! – произнесла Марта.
Это «вот как» было произнесено так сухо её маленьким ротиком, что какой-то холод проник в грудь Шарля.
В эту минуту раздался шум голосов на тропинке, идущей около решетки. По ней шла нервными шагами женщина, скрестивши руки, без шали, без чепца, подняв голову. «Вернешься ли ты!» – кричал в сорока шагах от неё мужской голос, дрожащий от злости. Женщина не оборачивается и идет. Человек берет горсть камней и бросает ими изо всех сил в женщину. Камни летят, женщина продолжает идти, мужчина подбирает их и снова бросает. Он кричит: «вернешься ли ты! Я тебе голову размозжу!» И он ускоряет шаги. Он приближается к женщине, он близко, совсем близко, он прицеливается.
Из кабачка слышны удары, глухой шум от камней, брошенных в спину женщины…
Она же все идет, сложивши руки, держа голову прямо. Тогда мужчина уже более не бросает, не кричит, он бежит… Женщина инстинктивно обертывается.
Человек перешибает ей ноги пинком.
Женщина протянула руки вперед; внезапно, с ловкостью дикого зверя, она наклонилась, подобрала большой камень, валявшийся на земле, и бросила его размахнувшись и крикнув умирающим голосом: «не трогай меня!» Мужчина охватывает ее сзади за руки, завязывает их под подбородком, бросает ее на землю… Когда она падала, другие мужчина и женщина, другая пара из их компании шла по тропинке под ручку веселые, сияющие, возбужденные.
Женщина говорила мужчине с улыбкой: «Боже мой, какая она сварливая, какая она сварливая! На месте Виктора, я бы не была такой терпеливой!..» Виктор в эту минуту топтал ногами лежащую женщину…
– Идешь ты? – резко сказал Шарль, бледный как полотно.
– Подожди же, – сказала Марта, поднеся руку к глазам, чтобы лучше видеть.
LIV
Случайные похороны столкнули Шарля с его старинными друзьями «Скандала».
Он очутился на похоронах знаменитого критика Лоре, в траурной карете рядом с Мальграсом, визави с Кутюра и еще одним молодым человеком, которого он не знал.
Это был высокий молодой человек с большой черной бородой, старавшийся казаться старше и прятавший свой очень молодой вид под аффектированной серьезностью. Шарлю казалось, что он видал где-то эту голову, но где, он не мог припомнить. Кутюра и молодой человек казались в прекрасных отношениях; они тихо говорили между собою, и их интимная беседа прерывалась время от времени шуткой Кутюра, тотчас же останавливаемой замечанием:
– Будьте же менее ребенком, Кутюра.
Мальграс, которому попались оба уха Шарля, тотчас же воспользовался ими по своей привычке: речь его лилась фонтаном.
– Легко сказать, урегулировать жизнь, господин Демальи, но ведь в этом-то и дело… Холостой человек – это паразит на социальном пиру. Вредные произведения, которые мы видим каждый день, происходят отсюда, от уменьшения обязанностей, которые человек пишущий присваивает себе относительно себя и своих сограждан… Великие мысли идут из сердца, но хорошие мысли идут из семьи. Безбрачие подрывает нас… Все следует одно за другим; холостая жизнь производит такую же литературу. Человек – не имеющий очага, – книга без веры. И какие вдохновения, вы хотите…
– Кто этот молодой человек? – сказал Шарль по средине монолога, наклоняясь к уху Мальграса.
– Барон де-Пюизинье… автор «Философской истории рабочих классов».
– Черт возьми!
Послышался свисток, который возвещает в театре перемену декораций, а на похоронах вход погребального шествия. Толпа была огромная и оправдывала остроту, которую сказал великий критик в последние года своей жизни, по поводу незаслуженного равнодушие публики:
«У меня будет много народу на похоронах»… Шарль, выходя из кареты, увидел себя посреди всего персонала «Скандала». Они холодно раскланялись с Нашетом, который, взяв под-руку Мальграса, сказал:
– Я пойду до могилы… Я обязан ему сделать это: он уплатит мой долг.
– Как так?
– Это покойник в шестьсот строк, папаша Мальграс.
Кутюра и барон шли перед Шарлем. Кутюра говорил барону:
– Мой милый, предоставьте это мне. Вы хотите быть человеком политики, и вы правы: это великое средство, чтобы добиться своего… Прекрасно, я берусь за это… Из Брюанде отлично сделали талантливого человека; это ему стоило только денег… но его пускали в ход дураки… И потом… вы умны… Не говоря уже о вашем имени… и книги написанной вами… хотя, правду говоря, книга… это всегда несколько компрометирует…
Дошли до могилы. Давка снова столкнула Шарля с Мальграсом и Нашетом.
Нашет говорил Мальграсу:
– На кой черт Кутюра не отпускает от себя барона?
Мальграс пристально посмотрел на Нашета со своей внутренней немой улыбкой.
– Он подымает маленького молодого человека. Вы увидите, что Кутюра сделает кое-что из этого барона… он сделает из него газету.
На возвратном пути Нашет побежал купить у первого книгопродавца «Философскую историю рабочих классов», вошел к себе, положил листок белой бумаги на стол и разрезал книгу.
Первая книга барона де-Пюизинье походила на невинную игру скептицизма и утопий. Масса эрудиции, фантазий статистики, образы немецкой метафизики, мысли и слог, перескакивающие от нравственных советов к балу Мабиль, или эстетике романов госпожи Занд; сравнения на двух страницах в конце одной главы относительно женщины в Париже между «Goualeuse» Эженя Сю и Психеей Апулея; смешение всего, порывы цинизма в политической экономии, утрировка систем, оскорбления прежних идей, постоянное возмущение общественным мнением, и ходульные парадоксы – такова была эта книга, это попурри всевозможных вещей, с солью, с перцем, могущая быть любимым блюдом самых пресыщенных вкусов, не лишенная вдохновения и даже некоторого таланта; книга странная и симптоматическая, произведение скорее своего времени, чем человека.
Очень молодой барон де-Пюизинье был соблазнен примером многих людей, достигших известности шумом, шума – битьем в барабан, оценки их реальной ценности – шарлатанскими средствами, трескотней и экстравагантностью реклам; он совершенно хладнокровно принялся писать сумасшедшую книгу.
Он решил бить стекла, и ему удалось преднамеренно скандализировать публику. С этой точки зрения его предисловие было лучшей частью его книги, и самой удачной по содержанию и форме. Он важно принимал на себя роль основателя новой исторической школы. Исходя из того принципа, что факт есть ничто иное, как случай в великой человеческой и социальной хронике, он заключал, что в человечестве существует только один факт – идея; и из этого он выводил следствие, что история не должна была больше быть фактом – случаем, но фактом идеей; должна быть интуитивной, а не дедуктивной, и что вследствие этой эволюции и обновления исторического духа, документ, эта относительная и местная истина, только уничтожает главную и абсолютную истину истории. Одним словом, надо было сжечь все книги, чтобы написать историю, по крайней мере, ту, которую он основывал, историю «Идео-мифо-историческую»; так как барон де-Пюизинье не забыл окрестить свое изобретение, бросив его в свет: он знал, что нужна формула для напыщенности, чтобы сделать из неё догму.
Эта книга, это утрированное и хладнокровное обезьянство, была сам человек, этот молодой человек, двадцатилетний старик и ребенок в тоже время. К несчастью, пример был не только его извинением, он был его правилом, его совестью. Пример был его нравственным чувством, он составлял его стремления и его тщеславие. Входя в жизнь с титулом исторического барона и миллионом капитала, он был заранее опьяненный богатством и популярностью. Есть слабые головы, подражательные умы, низкие души, в которых страсти своей эпохи созревают и портят страсти молодости, слабые сердца, для которых в этом веке Роберт Макер может сделаться типом, как Вертер.
Книга барона де-Пюизинье была скорее не удовлетворение литературного тщеславия, но проба самого себя, опыт средства, мост, перекинутый к политике, к делам, исследование путей, по которым быстро идут к кредиту и влиянию, и на котором отсутствие предрассудков может повести так высоко и так далеко.
Но Нашет ничего этого не видел. Он видел только нелепую книгу и огромное самолюбие, которому надо было польстить. Он храбро принялся валять похвалу, первую статью, в которой он не выпускал когтей, без царапин, без предательств, без «ужей», как говорится в литературе; одним словом, одну из тех статей, после которых к критику прибегает автор кланяться и благодарить.
Окончив статью, он перечел ее, пересыпал льстивыми эпитетами и, это было в субботу, понес ее в типографию с приказанием тотчас же набрать. Из типографии он направился к Шеве, заказал пирог с печенкой, ветчину Йоркскую и бургундского вина на завтра, снова зашел в типографию поправить свою статью, что давно с ним не случалось, пообедал, лег рано спать, и в кровати принялся учить наизусть некоторые фразы из «Философской истории рабочих классов».
– Вот газета, – сказал входя на другой день привратник, – и потом то, что принесли от Шеве.
– Черт возьми! – сказал Нашет глядя на привратника, у которого нижняя часть лица была закутана платком, – это для меня… Что такое с вами?
– О, господин, это ничего!.. Это паук прополз по моему лицу… Эти животные часто делают вред…
– Животные!.. Сегодня… как нарочно… Это его приведет в ужас, – проговорил Нашет в сторону. – Послушайте, Пьер, поставьте стол… Потом одолжите мне два кресла.
– Да, господин.
– Постойте… Меня ни для кого нет дома… Только для высокого молодого человека с черной бородой, который никогда не приходил сюда. Как только он будет здесь, вы оденетесь, и придете мне служить.
– В котором часу?
– Разве я знаю?.. сегодня, завтра… Вы не можете снять ваш платок?
– О, нет, господин… это очень вспухло… Так господин не знает…
– Можете рассуждать за дверью, а?
День прошел. Никого. Нашет все начинял себя «Философской историей рабочих классов».
В понедельник, в час дня постучались в дверь.
Нашет поспешил бросить кусок пирога себе на тарелку.
– Войдите!
– Тысячу извинений, сударь, – сказал барон очень смущенный, – барон де-Пюизинье.
Нашет поклонился. Барон продолжал:
– Я не думал… Я пришел в час, думая, что… Я вас беспокою… я приду в другое время.
– Нисколько, сударь, нисколько, я вам не позволю уйти. Я слишком рад вас видеть, и иметь честь познакомиться с вами, благодаря вашей прекрасной книге и моей слабой статье… Садитесь пожалуйста.
– Я должен поблагодарить вас…
– Полноте! За такой плохой отчет! Вы могли убедиться, что я не силен по этой части… Я, вероятно, сделал много промахов; но что вы хотите? Ваша книга сделала меня… Я был увлечен, я который не терпит серьезных книг… я прочел вас не переводя дыхания, как роман… роман, который заставляет думать… и я должен был сказать о ней… это было сильнее меня…
– Но я вам мешаю завтракать…
– И потом, знаете, чувствуешь себя стесненным в газете… у меня не было места сделать выписки из вашего этюда, где вы сравниваете муниципалитет и общину: «когда римское владычество»… и Нашет сказал наизусть строк двадцать из книги барона. – дело в том, что я вас читал!
– Милостивый государь, – сказал важно барон, приподымаясь, – я вас отблагодарю когда-нибудь.
– О, я уверен, что вы спасаетесь, оттого что накрыто на два прибора?.. Вы думаете, что я жду… Но нет, это правда, я ждал, но сегодня не придут.
И Нашет подчеркнул последнюю фразу улыбкой. – Я не смею предложить вам… но было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы составили мне компанию…
– Очень жаль, но я уже завтракал…
– Что ж такое? – И Нашет почти силою взял шляпу из рук барона и посадил его с ласковым насилием против себя.
Великолепное бургундское и цитаты из книги барона все время служили приправою к пирогу и ветчине. Через два часа молодой барон, у которого самолюбие и голова были довольно слабы, рассыпался в откровенностях, в скептическом хвастовстве, в признаниях и проектах насчет будущего. Он разыгрывал роль человека, стоящего выше иллюзий, угадавшего жизнь и решившегося достигнуть всего. Он парадировал в своей ребяческой гордости. Он признался в наивности своих инстинктов и неопытности своих лет. Он рассказал Нашету, как у него явился вкус к литературе, когда он поправлял в риторике опыты своего профессора истории. Он рассказал о миллионе, который он ждал, о своей семье, о газете, которая будет у него, о журнале, которого он будет основателем, о театре, которому он даст субсидию, чтобы дебютировала одна женщина, не потому, чтобы он любил эту женщину, но он хотел сделать актрису из своей любовницы.
Нашет кончал в эту минуту стакан шамбертенского, и, держа между пальцами бутылку, он небрежно лил остатки вина на дно стакана.
– Боже мой, – сказал он, – у меня есть до вас просьба… Пьер! Тарелку барону… Вы аристократ… занимаетесь литературой… серьезной литературой… в часы досуга, ради развлечения… и я не знаю, захотели бы вы… Вот видите ли я ухожу из газеты… В мои года, вы понимаете, хочется писать у себя. У меня есть обещание одного богатого промышленника относительно фонда, остается только подписать… Вы позволите мне объявить ваше сотрудничество в нашем издании?.. Газета будет платить, – продолжал Нашет не давая барону времени ответить, – нам нужно ваше имя, ваш талант… Вы будете получать пять су за строчку, как самые известные…
И Нашет наблюдал на лице барона эффект этой последней лести, зная цену, которую самый богатый придает этим деньгам, которые он считает за доказательство своей ценности. Одним словом, Нашет в совершенстве одурачил барона, так что Кутюра, возвращаясь из редакции, где он прочел статью Нашета, нашел их обоих за столиком в кафе Мазарена перед двумя стаканами мадеры. В ту минуту, как Кутюра проходил, Нашет жаловался барону на условия, которые представил ему промышленник, дающий деньги на предприятие, а барон предлагал ему свои услуги, как только тетка умрет, от чего Нашет горячо отказывался.
Кутюра подошел к ним и, пожав руку Нашета, произнес:
– Ах, мой милый, ты знаешь, я не злоупотребляю комплиментами… но твоя сегодняшняя статья… это именно то, что надо, честное слово! Ах, ах! – говорил себе Кутгора, удаляясь, – каков молодчик!.. Он сделал успехи, мой маленький Нашет!.. Он почти также силен, как и я… Пощекотать его самолюбие, как это сделал Нашет, это было так просто!.. Я ему мало говорил об нем самом, это ясно… Я разыграл из себя господина, который доставит ему славу… Я слишком изображал из себя его провиденье… и чересчур выказался хитрым, чтобы сделать из него великого человека; я надоел ему, этому мальчику… Нашет, вероятно, прочел ему его книгу наизусть… Он вероятно ее выучил… Что ж, посмотрим!.. Тетка еще не умерла… кто кого одолеет, милое дитя!
LV
Наблюдение над расстройствами, причиняемыми человеку привычкой к условной среде, к искусственным страстям и воображаемому существованию, могло бы послужить материалом для прекрасного психологического этюда. Какое мозговое явление может быть любопытнее явления, образующегося у людей театра? Их роль оставляет в них след, таким образом, что их жизнь на подмостках смешивается с реальной повседневной жизнью, часто заглушает ее и руководит ею. Но где эти нравственные изменения всего виднее и значительнее, это у женщины театра. Нередко случается, что роман, который совершается перед рампой, преследует ее и вне сцены, и предаваясь чужому воображению она создает из него свое собственное. Это продолжение театрального вымысла на практике может привести женщину к самым странным извращениям, самым странным изменениям ума и сердца, перемене суждений и является второй натурой мысли и характера. Так, встречаются между драматическими актрисами, женщины, принимающие жизнь за драму. В их повседневных отношениях у них являются сомнения, недоверие, боязнь, страх женщин, преследуемых, заключенных, отравляемых регулярно с восьми часов вечера до полуночи. Скрип двери их беспокоит. Самое простое письмо заставляет работать их мозг, пока они не находят в нем какую-нибудь западню или махинацию. Все незнакомое кажется им подозрительным. Полиция для них – это Совет Десяти. они верят в предателей и прислушиваются к их шагам, лежа на постели.
Актриса, играющая комедии, избегает этой опасности и род таланта Марты придал ей до сих пор только некоторую манерность с приправой наивности, которую Шарль в первые дни своего брака находил грациозной. Одна пьеса, маленькая пьеса в одном действии имела на Марту другое влияние. В это время давали в «Gymnase» «Демон домашнего очага». Марта нашла прелестной свою роль. Это была роль молодой женщины, смеющейся над любовью, и не любящей своего мужа, который умирал за нее.
Эта роль, эта пьеса разбудила кокетство, дремавшее в сердце Марты и поторопило её тщеславие сделаться маленьким демоном и поразнообразить семейную жизнь насмешками и комедией. Она вообразила себя интеллигентной женщиной, стоящей выше любви человека, который ее любит. У нее появился задорный дух, которого Шарль не замечал раньше. Она настроила себя на борьбу. её кошачьи ласки выпустили когти. Роль разнуздала женщину.
С этого времени начались различные хитрости, изобретение маленьких пыток, жеманство, словом, все мелкие терзания, которые можно было причинить мужу и любовнику, и секретом которых обладают некоторые блондинки с светлыми глазами и холодным темпераментом. Целая буря капризов разразилась вдруг над удивленным Шарлем, который не понимал, откуда шла эта перемена. Марта играла роль вполне: все тут было – и раздражительные слова, и уколы ревности, и кокетство с посторонними, постоянная перемена желаний, воли, мнений, припадки веселости, когда Шарль бесился, и дурное расположение духа, которое только ухудшалось от его ласк и беспокойных вопросов.
В этой игре уходило счастье. Не было более этого веселья по утрам, полного безумств, поцелуев и шутливой борьбы. Марта не имела уже на это времени. Она была совершенно погружена, с самого начала этого кризиса, в заботы о своей особе и своей красоте. Вставши в шесть часов, она оставалась сидя у открытого окна до восьми часов. Освеженная этой ванной утреннего воздуха, она брала ванну из воды, которая продолжалась до завтрака, а после завтрака она сидела на диване до своих репетиций, закинув голову, боясь малейшего прикосновения и раздражаясь, когда ласка Шарля угрожала потревожить её позу и восстановляющий покой её лица; неподвижная, немая, она время от времени подымала свои руки и расправляя пальцы трясла ими в воздухе, чтобы заставить отлить от них кровь и сделать их белее.
Шарль хворал с некоторых пор, сам не зная, что с ним. Его раздражение начало обнаруживать некоторую слабохарактерность. Он не чувствовал более в себе храбрости объясниться, и пробовал утешать себя, что это настроение Марты пройдет как оно пришло, когда вдруг почувствовал себя серьезно больным.
LVI
Наступила осень. Марта продолжала свою маленькую глухую войну, ловко ведя ее и стараясь не доводить до крайности терпения Шарля, которое она испытывала с легкомыслием женщины; и оба, как бы согласившись, жена по расчету, муж по слабости, чтобы избежать объяснения и взрыва, они жили по виду их прежней жизнью. Шарль не хотел видеть в поведении Марты ничего, кроме некоторой холодности, дурного расположения духа, капризов её пола и её лет. Марта с своей стороны находила, что друзья Шарля недостаточно «светские люди», поэтому их уединение первых дней продолжалось. Чтобы немного рассеять ее, Шарль пользовался днями, когда она не играла, чтобы увлечь ее на прогулки в окрестности Парижа, в эти хорошенькие деревушки, вдоль прелестных берегов Сены, неизвестные, спрятанные, никем не признанные, которые так презирает парижанин, имея их всегда под рукою. Он старался развлечь ее, забывая временами все свои разочарования и надеясь возвратить понемногу прошедшее, и несмотря ни на что, волнуясь, беспокоясь и ничего не работая. Все же он чувствовал себя расстроенным нездоровьем, в котором он не отдавал себе отчета; эти страдания появлялись и исчезали в нем, выражаясь тяжелым и настойчивым чувством, которое он приписывал сильным жарам этого исключительного лета. Каждую минуту ему бросался жар в голову и появлялись тупые боли. У него происходило сжатие в висках, судороги в легких, мучительное раздражение слуха и обоняния, дрожь, от которой он избавлялся только сильными движениями. Он или совсем не спал или спал очень плохо; сон его был полон кошмарами, сражениями, дуэлями и прерывался внезапными пробуждениями. К этому еще прибавилась какая-то угнетенность, которая шла все прогрессивно; в один прекрасный день Марта, наконец, заметила его манию пить воду, которая явилась у Шарля вследствие постоянной сухости в горле, его обрывистый и нервный звук голоса; Марта в этот день, вздумавши взглянуть на Шарля, нашла его настолько изменившимся, что посоветовала ему обратиться к её доктору.
Доктор Марты, бывший вместе с тем театральным доктором, осмотрел Шарля, расспросил его и тотчас же решил:
– Очень хорошо… очень хорошо!.. Прекратите всякую работу, побольше движения… Вам недостает немного железа в крови… гвозди в графин – вот ваше лечение. О, Боже мой, да… лечение хорошенькой женщины, как видите… А ваша пьеса?.. Отложена на открытие?.. Ремонвиль говорит, она очень хороша… Ах, у нас есть жилка с некоторых пор… Вчера мы сделали сбора на четыре тысячи… французский сбор!.. Мы вас возвысим, вы увидите… Только мы и умеем возвысить что-либо. Для Лафона есть роль?.. Мы с ним переговорим.
«Мы» было манией доктора. Можно было подумать, что он считал себя за-раз директором, режиссером и театральной публикой, которой он был обязан щупать пульс.
Это «мы» имело все значение его «я», направляющего и ответственного; казалось, он нес на себе «Gymnase» и её благосостояние. Исключая это, исключая еще его любовь в маленьким литературным и театральным сплетням, этот доктор, оптимист для развлечения, был отличным человеком, практиковавшим прекрасно ту медицину, которую англичанин Силенгэм называет «искусством пустомелить».
У него была прекрасная осанка, безукоризненное белье, благоухание, разлитое по всему телу, платок из тончайшего батиста, с вышитой меткой; а его руки, совершенно женские руки, постоянно играли новомодной тросточкой.
– А, вы смотрите на мою трость?.. Да, это японский бамбук, четырехугольный тростник… это совсем ново… любопытная вещь…
– Так вы думаете, – сказал Шарль, – что это лечение…
– Как же!.. Да что у вас такое?.. Ровно ничего… Вы больны, как все писатели… Талантливые люди умирают только тогда, когда они хотят этого… Ваша болезнь? Но, вы знаете, что сказал Вольтер: «я родился убитым»… Как видите, довольно медленный яд!
И, переложив ногу на ногу, с элегантностью движений Моле или Фирмена, продолжал:
– В самом деле, вместо того, чтобы принимать ваше железо здесь, у себя в комнате, вы бы его пили на месте, из источника, в Форж, например, или в Бюссан? Путешествие оживило бы вас… потом воздух, прогулки… Вы поправитесь, несмотря ни на что… У нас идет шестидесятое представление… Нечего и думать, что оно будет даваться гораздо большее число раз… Я не думаю, чтобы что-нибудь помешало дать нам отпуск вашей жене…
Марта поддержала предложение доктора и вошла в роль супруги с жаром и увлечением, которое доставило удовольствие Шарлю. Шарль противился немного; его несколько смущало ехать на воды; он боялся любопытства, которое возбудит его полуизвестность и имя его жены.
– Прекрасно, – сказал доктор, – прекрасно… Воды открываются в Сен-Совёре, около Труа… Старинный, впродолжение многих веков покинутый источник… Там есть свидетельства на пергаментах… граф из Шампаньи, какой-то Тибо, вылечился там по возвращении из крестовых походов. Серьезно, очень целебные воды… я видел анализ… я дам вам рекомендательное письмо к одному прекрасному доктору… по части анемии… очень дельный господин. Вам будет очень хорошо. Я хотел послать туда маленькую Ноэми, но… вы знаете, она разошлась с Робертом… Эмар сочинил жалобные стихи на это событие… Там есть один куплет… Постойте!.. Это на мотив… Ах, забыл… Этот Эмар!.. Вы его знаете?.. Он очень забавен… Что я вам говорил?.. Ах, да! Поджаренное мясо… Самого, самого поджаренного, нет надобности повторять вам это.
Марта, провожая доктора, спросила:
– Это ничего, доктор, неправда ли?
– Ровно ничего, дитя мое… Боже мой, у него немного крови… он нервен, очень нервен, к тому же несколько изнежен, ипохондричен, это само собой вытекает… Крови! Крови! Разве есть в Париже кровь у кого-нибудь при нашей жизни! Все обходятся без неё… и живут… Я еще не сделал вам комплимента по поводу вашего нового жеста во втором явлении… Ах, это восхитительно!
– Есть хоть небольшое общество на этих водах?
– Право, я сам не знаю… Дирекция делает массу объявлений. Публикуют, что бальная зала окончена… что есть библиотека, все журналы… одним словом, воды… Вас это огорчает? Хотите, я посоветую вашему мужу отправиться на…
– Совсем нет… я хотела знать, как там насчет туалетов.
LVII
На другой день Марта получила отпуск, Шарль укладывал свои книги в большой чемодан.
– А приказание доктора? – спросила Марта.
– Ба, – отвечал Шарль, – это я только, чтобы помешать себе работать. Я с собой везу одну лень, уверяю тебя.
К концу недели они устроились около Сен-Совёра. Шарль радовался. Он нашел в четверти часах от деревни маленький замок, кирпичи которого, окруженные рамами из белого камня, весело глядели сквозь деревья. Это был единственный флигель, уцелевший от огромного замка Людовива XIII. В XVIII столетии первый этаж покрыли крышей à la Мансарт, с тремя круглыми окошечками Людовика XV и колоколом, прикрытым китайской шляпой; с двух сторон еще остались две башни из четырех; обвитые и скрытые плющом и фруктовыми деревьями выходя из оврага, они поднимали в небу свои остроконечные крыши.
В замке, перестроенном и переделанном для буржуазного жилища, где три века оставили тут и там свои следы и как бы воспоминания, привитые одни к другим; столовая была обшита деревом, над дверями и окнами, в раковинах, высеченных из изящного камня, были написаны веселыми легкими и живыми красками, где плесень местами заменяла изображение тумана, сцены из басен Лафонтена. Над тяжелым, богатым камином Людовика XIV, выложенном прекрасной медью, где сплетался двойной герб прежнего владельца, висела большая картина в деревянной раме: она изображала трофеи охоты на дичь, которые стерегли гончие собаки песочного цвета, так хорошо изображаемые кистью Удри. На каминной подставке две большие из белого фарфора вазы портили бы впечатление без Марты. Но Марта, набрав охапку тростника в заброшенном пруду парка, тотчас же их украсила, придав всей комнате тот праздничный вид, который придают жилищу только женщины и букеты цветов. Затем шел большой зал, обставленный старыми креслами, с подушками из перьев, с белым деревом, на котором золото совершенно исчезло под белилами и не блестело более, виднеясь только еще на рамах четырех пано, где скульптор изобразил четыре времени года: весна рассыпала ленты, грабли, серп, посох, лейку и корзины с цветами; лето бросало гирлянды роз, шиповника, соломенную шляпу, корзинку с фруктами и флейту; осень сыпала чаши, охотничьи рога, гирлянды персиков, груш и корзины с виноградом; зима роняла факелы, шутовской колпак, мандолину, тамбурин, маску, треугольник и лавровый венок.
В кухне был один из тех огромнейших каминов, к которому в осенние вечера приносят свой стул и садятся, грея свои руки и вытягивая ноги к пылающему хворосту. Восходящее солнце освещало комнаты первого этажа и наполняло их веселием на целый день. Но ни одна комната во всем замке не нравилась так его двум гостям, как круглое зало одной из башен. Это была старинная часовня, которую еще можно было узнать по свинцовой оправе и маленьким окошечкам. Южное окно было заколочено. В два другие падал свет сверху. Отличная двойная дверь, крытая коричневой парчой с золотыми гвоздиками, оберегала вход; видно было, что часовня сделалась мастерскою живописи.
При выходе из стеклянной двери залы и других комнат в этом же этаже, был перекинут через ров каменный мост, железные перила которого скрывались за диким виноградом. В конце моста открывалась аллея из каштанов, старых каштанов с обстриженными верхушками, с новыми отпрысками, подымающимися прямо в небо; несколько ниже взор находил вдали полосу лугов, а далее – Сену. Направо и налево от каштановой аллеи шел парк, маленький парк, в котором Шарль и Марта тщетно старались в первый день заблудиться. Это были остатки французского парка, вырубленного в 1793 году, но потом быстро подросшего. С каждой стороны аллей свешивалась целой завесой старая сирень, сквозь которую свет играл на дорожке меняясь смотря по времени, то перебегая с веток в листву, скользя по гладким темным и светлым листьям, то образуя между двумя стенами зелени – полосы, одну из тени, другую из солнца, по которой временами проносились тени от летающих в небе птиц. При малейшем ветерке эта занавесь колебалась и при легком дуновении листья склонялись с обеих сторон аллеи и в волнующейся чаще проносилась легкая дрожь и уносилась замирая. Тут и там над сиренью дикая яблоня протягивала свои ветви. По бокам аллей ползучие растения, сплетенные и перемешавшиеся между собою, образовывали маленькую беседку для упавших пожелтевших листьев. На перекрестке был маленький уголок, где Марта и Шарль любили сидеть. Трава была помята. Со всех сторон рос вереск. Маленькие елочки подымали свои пирамидальные верхушки, посеребренные светом. Земля была горячая, целый день залитая солнцем, целый день оживляемая трескотней кузнечиков. В открытом небе виднелась ель с лиловым стволом, с изумрудной верхушкой, придающей небу лазурный цвет Италии.
С этого уголка начинались развалины. Аллеи, поросшие травой и кустами, сделались уже тропинками, посреди которых на паутинах начались сухие листья. Остатки лабиринта обратились в простую рощицу с заросшими тропинками. Фонтан из обожженной глины, с тремя тритонами, несущими двух обнявшихся амуров, печально струился в тени засохших ветвей, изломанных, забытых, уединенных. Время немного пощадило в конце парка восхитительное безумие XVIII века, ребячество самого забавного рококо: игру в гусек, настоящая игру в натуральную величину, устроенную между деревьями. Все станции, где рупор посылал далее игроков, были сделаны из окрашенного камня и гипса. Шарль и Марта нашли их одну за другой в маленькой рощице: это была тюрьма, затем гостиница, затем колодцы, и все остальное. Однажды возвращаясь со своих открытий, они заметили у края аллей выцветшую ракету, ручка которой сохранила остаток красной кожи, скелет мертвой игрушки, единственное воспоминание прошлого.
LVIII
В гамаке, повешенном между двумя каштанами посреди аллеи, ведущей от крыльца к Сене, полулежала Марта, одной ногой касаясь земли, другою покачивая в воздухе. Она слушала с рассеянным и скучающим видом господина, говорившего с Шарлем на зеленой скамейке. Это был молодой человек с четырехугольным лбом, спутанными волосами, широким лицом, львиными глазами, толстыми руками, которые упирались в коленки самым неуклюжим и буржуазным образом.
Последние лучи солнца играли на тысяче новых отпрысков, выросших на подрезанных каштанах и на ветвях нежно-зеленого цвета, на этих воздушных клетках, которые солнце покидало как бы с сожалением, опускаясь к горизонту, и окрашивая их всеми своими переливами; во всех концах слышалось веселое чириканье птиц, поющих на прощанье.
– Это совершенно верно, сударыня, – тут нет ни одной кошки, совершенно верно… Дирекция вод все сделала, чтобы привлечь публику, даже объявила, что публика уже есть; и несмотря ни на что, никто сюда не едет, исключая этой голландской семьи, да четырех или пяти женщин из Труа, приезжающих сюда в хорошую погоду… Но ведь собственно говоря ваш муж приехал сюда, чтобы лечиться и самый несчастный здесь – это я, доктор.
– Да, я понимаю, сказала Марта, – вы рассчитывали…
– Я рассчитывал, сударыня, на большое число больных… Я рассчитывал на обширное поле наблюдения и исследования. Я надеялся найти здесь орудий для борьбы с болезнью века.
– В самом деле, доктор, – сказал Шарль, – с болезнью века.
– О, я отлично знаю, что медицина, взятая в совокупности своих доктрин, рассматривает ее как индивидуальные случаи, которые надо лечить только тогда, когда организм глубоко поражен… Я, напротив, смотрю на нее, как на болезнь органическую, принадлежащую по своему характеру общности и чрезмерного развития, племени девятнадцатого века. Я считаю ее болезнью всех жителей столиц, в различных степенях развития, но поражающей более или менее здоровье нарождающихся поколений, потому что только сильные порождают сильных… Посмотрите, все стремится к централизации, к образованию маленьких и больших столиц. Современная жизнь стремится от чистого воздуха, от земледельческой жизни к сосредоточенной, сидячей жизни, к жизни газа древесного угля, к жизни газа ламп, к жизни, вскормленной на фальсифицированной, обманчивой, подделанной пище, к полному извращению нормальных условий физического бытия… Да вот, вы курите… еще одно видоизменение, противоречащее общей экономии жизненности, благодаря излишеству опиума… И все же, что касается табака, я наверно не знаю; я вижу ослабление мозга попусту; но мне трудно поверить, чтобы злоупотребление, сделавшееся привычкой, не было законом, ниспосланным провиденьем, каким-нибудь предохранительным средством, причин и действия которого мы не знаем… Наконец, ведь мы должны найти какое-нибудь лекарство, какое-нибудь противоядие от тысячи изменений нормы современной жизни, от тысячи её отправлений. Наука должна быть готова к борьбе с этой новой болезнью. Надо найти, должно существовать что-нибудь, что уравновешивало бы это извращение природных законов гигиены и состояния человеческого здоровья.
– И вы ищите это противоядие, доктор, вы верите в целебность этих вод?
– И да, и лет. Совершенно нет. Но, кроме введения железа в кровь, они ведут к двум великим лекарствам, которые я очень чту, как единственно помогающие в малокровии: к пище и движению, т. е. к отдыху и движению крови… Все заключается в этом по-моему мнению…
– А гидротерапия, доктор?
– Это только толчок… удар хлыста… и ничего более… Теперь, в моей системе, какую действительную и обязательную трату сил нужно предписать? Какая самая большая деятельность циркуляции крови переносима этим усталым телом? Какая верная доза питательных элементов подойдет к этому ослабевшему темпераменту? Сколько времени нужно для усвоения этого лечения? Одним словом, сколько месяцев понадобится для изменения, для того, чтобы лечение произвело действие, чтобы я сделал из вас человека, которого с головы до ног охватывает приятная теплота, человека, аппетит которого заявляет о часе обеда, наконец, человека, ум и сердце которого охватывает детская веселость? Потому что каждый здоровый человек – весел, знайте это… Сколько времени нужно, чтобы заставит преобладать в вас обращение артериальное над венозным?.. Ах, сколько тут материала для шарлатана и за неимением шарлатана – для человека добросовестного… А время спешит, милостивый государь, в этом нельзя сомневаться. Нервная система доведена в настоящее время до последней крайности. Стремление к комфорту, требования карьеры, положения, денег, роскоши, конкуренция, не имеющая границ ни в чем, породили расточительность сил, воли, развития, одним словом, полную растрату человеческих способностей и страстей. Деятельность каждого с верхних до нижних ступеней была удвоена, утроена, учетверена. Все мы возбуждены… даже наши дети, лепечущий ум которых мы взращиваем, как взращивают растение в горячей почве. Это лихорадочное движение жизни, раздражение, почти кризис всего, что составляет нежную и как бы нематериальную сторону нашего существа… Однако, я оседлал моего конька; тем хуже для вас.
– Совсем нет, доктор, – отвечал Шарль, – вы видите, как я вас слушаю; продолжайте же, прошу вас… Я никогда не слыхал, чтобы медицина говорила так.
– Пусть я преувеличиваю! Но возьмите всех тех, мозг которых постоянно работает, постоянно стремится к богатству или славе; возьмите банкиров, деловых, государственных людей; возьмите артистов, писателей, класс, на который старый Цельзий в свое время обращал внимание патологии; эту толпу людей, живущих почти единственно впечатлениями, наслаждениями, обольщениями, разочарованиями нравственными поражениями; этот мир людей, для которых тело есть лоскут, что-то прицепившееся к их уму, которое они тащат за собой; эта огромная семья, все те, внутри которых чередуются счастливые события и благоденствие то возвышается, то падает, династии, продолжающиеся десять лет, успехи и забвение этого века, века пожизненных знаменитостей, века, поедающего людей, вещи, богатства, правительства, славы, надежды… Знаете ли вы, что свирепствует в этом веке, как дизентерия в лагере? Анемия, а в конце анемии – легочная чахотка, раз в желудке, сумасшествие… И тут вы найдете против меня много моих собратьев, которые только с большим трудом называют подобные причины действительными. Они изучат, с терпением, со страстью проанализируют в достохвальных монографиях все видоизменения влияния злоупотребления алкоголем, наследственности, нищеты, вредных для здоровья профессий; они не пропустят ни одного химического и физического действия материальных причин. Но в нравственных причинах они потеряют почву: ни до чего более не касаясь, их скальпель будет отрицать. А какая пропасть между нервными приступами, на границе тела и души, в её изгибах, в её движениях, которые происходят от причин, не имеющих ни веса, ни специфической величины, или от нравственного влияния на чувство! А сколько материала для изучения!.. И потом, нельзя быть только доктором: надо быть священником и доктором, быть исповедником вполне, иметь искреннее призвание без оговорок, без умолчания… И тогда только можно сделать что-нибудь из этой великой идеи: «О влиянии нравственных фактов на физические факты человеческого организма»… Что я вам говорил? Я говорил вам о работе, о напряжении умственных способностей… Что такое усиленная, ускоренная мысль? Перегорание крови, огонь, сжигающий тело и оставляющий одни уголья… Животное масло, идущее на мозг, есть самое существенное в питании, в крови. Человеческий тип вырождается. Это распространено в родовитых семьях, в падающих королевских династиях… Видели вы в Лувре этих испанских королей?.. Какая усталость старой крови! Может быть, это было болезнью римской империи, некоторые императоры которой обладают какими-то оплывшими чертами лица, даже в бронзе. Но тогда было хорошее средство. Когда общество истощалось с психологической точки зрения, происходило нашествие варваров, которые вливали в него свою молодую кровь Геркулесов. Кто же спасет мир от анемии в XIX веке? Может, через несколько лет произойдет вторжение рабочих в общество?..
– О, доктор! – сказала Мария, – какая мысль!
– Извините, сударыня, я крестьянин, сын крестьянина. С десятью су в день, которые я имел в Париже на еду, мне трудно было выучиться говорить фразы, которые не шокировали бы женщин. Я предпочитал, признаюсь вам, давать из них два моему водовозу, чтобы тот будил меня в три часа утра.
Доктор встал.
– Останьтесь же, доктор, – сказал Шарль, – и садитесь… Каким образом вы не имели удач при такой сильной воле?
– Каким образом? Посмотрите на меня… Находите ли вы меня похожим на салонного доктора? Нет. Ну, вот и причина… Однако, я еще должен ехать сегодня вечером в Виллантро. Вы знаете, кстати, моя лодка к вашим услугам. Утомляйте себя. Двигайте как можно более руками и ногами… Только избегайте на Сене слишком свежих вечеров и утренников… Организм ваш здоров, обещаю вам еще раз крови совершенно новой, если вы захотите быть крестьянином в продолжение нескольких месяцев. Особенно – никакой работы…
LIX
– Шарль?
– Что?
– Куда мы пойдем гулять сегодня вечером?
– К Четырем Дорогам хочешь.
– Ты находишь очень красивыми твои Четыре Дороги?
– О!.. Ведь это прогулка… Хочешь пойдем на ферму Пиго?
– Где мы были третьего дня?
– Да.
– Не очень много здесь окрестностей… Что это за деревня… там на верху?.. Ты не знаешь?
– Там?.. нет… не знаю.
– Там звонят в колокола целый день.
– Да.
– Покачай меня… Ай! Не так сильно, злой… вот так… чуть-чуть… Я нахожу, что гамак усыпляет. А ты?
– Меня он укачивает.
– Знаешь, дом, который нас интриговал… с закрытыми окнами… ты еще всегда мимо проходил… Софи сказала мне, что там живут старые девицы, старинного дворянского рода… Что, есть двенадцать часов?
– Уже прошло.
– Почтальон приходит в одиннадцать часов?
– В одиннадцать… в одиннадцать с половиной… Ты ждала чего-нибудь?
– О, я ждала не ожидая… Кто же мне будет писать?.. Письмо от мамаши я получу через два дня, я думаю… Ах, как ты думаешь, я найду шерсти в Труа.
– Ты меня спрашиваешь? Я думаю, да.
– Тогда не стоит писать в Париж…
– Ты разве не привезла своей работы?
– Нет, я думала… я забыла.
– У меня есть книги, хочешь почитать?
– Да… как-нибудь… завтра напомни мне спросить их у тебя. – Движение гамака то замедлялось, то ускорялось. Шарль молчал. Марта, лежа в гамаке, закинув руки за голову, смотрела в небо. Через пять минут молчания:
– Ах, туча, – промолвила Марта.
– Прости меня, моя кошечка, – сказал Шарль, – это моя вина, ты скучаешь.
– Я скучаю? Почему ты это думаешь?
– Потому что ты одна… потому, что тут нет развлечений, у тебя никого нет, кроме меня, довольно печальное общество, больной…
– О! Боже мой, общество… Ведь ты знаешь, какая я. Разве я тебя мучила когда-нибудь с тех пор, как я замужем, желанием идти куда-нибудь на бал, в театр, скажи? И если ты думаешь, что я хотела бы поехать в такое место, как Трувиль, например… я привезла с собой только две шляпки, так что…
– Но я сказал это, моя милая, не для того… Только, так как тут настоящая яма, я боюсь, повторяю, чтобы ты не соскучилась… и я упрекаю себя…
– Надо сперва тебе вылечиться, неправда ли? – сказала Марта сухим тоном.
Через несколько минут Шарль произнес:
– Ужасная погода сегодня…
– Совсем нет, мой друг, я не нахожу… Ты преувеличиваешь.
– Ты не находишь, что погода неприятная, раздражающая?
– Ты страдаешь мой друг, это все твои нервы…
LX
С этого дня Марта удвоила свой скучающий, угнетенный вид, раздражающий особенно своим нежным тоном, своим упорным терпением, своей кажущейся ласковостью, своей аффектацией снисходительности и прощения к состоянию болезни Шарля. Это было противоречие, безропотное как скорбь, спокойно относившееся к мнениям Шарля, как смерть равнодушная к пытке; ангельское противоречие, так сказать, по поводу всего, по поводу вкуса вод в Сен-Совёре, по поводу оттенка цветка, качества говядины, высоты дерева, по поводу всего, что они видели, ели, пили, делали, думали. Наконец, Марта, истощив предлоги, дошла до противоречия в грамматике, до споров об орфографии и она мучила Шарля, предлагая биться об заклад по поводу трудностей причастий!.. Для человека больного болезнью Шарля трудно было найти более успешную пытку.
– Марта, я взял для тебя на прокат пианино из Труа… Завтра утром его привезут, – сказал Шарль однажды вечером.
– Пьянино?.. Но, мой друг… Я отлично обходилась без него.
– Именно для того, чтобы ты не обходилась без него долее.
Разговор прекратился. Марта произнесла:
– Мы не видим более доктора… между тем… Раньше всегда он к завтраку, или обеду…
– Ты видишь, милая, что он приходил не для этого, потому теперь его нет.
– Ты можешь находить его интересным… но для женщины, согласись… он говорит только о медицине… и об ужасных вещах…
– Доктор, говорящий о медицине… ты права, моя милая, – сказал Шарль.
Марта углубилась в свое кресло, и сжала руки.
– Послушай, моя милая, – сказал Шарль, – у тебя на лице написана такая скука, что… я к твоим услугам… Когда ты захочешь, тотчас же мы уедем в Париж.
– Нет, мой друг… Мы не уедем. Я не хочу уезжать. Я останусь здесь на все время, сколько будет нужно… Твое здоровье прежде всего, мой друг… Это долг для меня… Ах, я забыла тебе сказать, я получила письмо от матери, она велит мне передать тебе тысячу поклонов… Бедная мать! Никогда мы так надолго не расставались!..
– Ты также очень хорошо знаешь, что я предоставил ей полную свободу приехать сюда… Оказалось так, что это путешествие не входило в её планы…
– Это потому что она боялась…
И Марта сделала вид, что колеблется.
– Ах, прошу тебя, я люблю, когда говорят прямо… Она боялась, чего?
– Просто-напросто стеснить тебя, мой друг… Ты сейчас принимаешь такой тон… Я теперь не смею ничего сказать… Ты перетолковываешь каждое слово… Ты верно плохо спал эту ночь… Ты не владеешь собой, дорогой мой… С тех пор как ты болен, твой характер…
– Потому что я страдаю, Марта.
И Шарль, вообразив на минуту, что он во всем виноват, поднялся, чтобы спросить прощения в поцелуе своей жены.
– Ах, я отлично знаю… Это сильнее тебя… К счастью, дорогой мой, я начинаю с этим свыкаться.
Это слово остановило Шарля, который снова взял книгу. Марта сделала тоже самое.
– Угадай… – сказал Марта, прерывая чтение внизу страницы, – угадай, в котором часу мы легли вчера спать?
– Не знаю… В девять часов?
– Нет… В половину девятого.
– О!
– Я посмотрела, – и она принялась за чтение. Через минуту она возобновила разговор:
– Тебе не надоела эта книга? – произнесла она, оборачиваясь в Шарлю.
– Она очень интересна, – сказал Шарль.
– А! – И она снова принялась за книгу; потом, оставив ее:
– Какой сегодня день?
– Сегодня?.. Суббота.
– Нет, какое число.
– Четырнадцатое сентября.
– Мы выехали из Парижа… Это составляет ровно двадцать один день… – и после некоторого молчания, Марта произнесла с видом безнадежной покорности:
– Время еще движется.
Шарль взялся за ручку двери.
– Куда ты идешь, мой друг?
– Я хочу выкурить сигару на воздухе.
LXI
Наконец, они нашли развлечение: это была Сена. В полдень они садились в одну из тех плоских лодок, которые Жюль Дюпре изображает на своих пейзажах под тенью ольховых деревьев Пикардии; Марта садилась наперед, склонившись над водой в большой соломенной шляпе, которую она надвигала на глаза; Шарль, стоя сзади, упирался на длинный шест, и делая усилия толкал лодку, плавно идущую по воде.
Так они проводили долгие часы между деревьями, тень от которых издали, сосредоточиваясь около берега, открывала их взгляду широкую сияющую аллею, в которой отражалось синее небо. Вокруг них речные волны несли по течению светящуюся от солнца рябь, водоросли и рыбок. В этот час Сена ослепительно сияла; глаза щурились, взгляд терялся в этом пожаре, исполосованном светящимися бороздами от барки, и видел только тут и там молнии и отблески вдоль стволов ив и свай, огненную полосу, обозначавшую край челнока, и тростники, прямо растущие в воде. Они спускались, подымались вверх и вниз по течению, избегая песчаных мелей, в ямах которых стояла теплая, спящая вода; они проезжали сквозь волнующийся и сгибавшийся к воде тростник, открывая в чаще водяных растений таинственные проходы и впадины, где вода была синего цвета, как синька. Они проезжали по водорослям, которые оживали в воде, под тенью деревьев влажных, свежих, купающихся в реке; мимо старых стволов деревьев, побелевших и полированных от течения, по окаменевшим растениям на половину затопленным, которые, когда лодка проходила, подымались и выплывали из воды как лебеди. Потом вдруг русло реки исчезало из их глаз: небо распростиралось на зыбкой воде точно песок на низменных болотах и лодка казалось двигалась по синему небу.
– Повернись, – говорил Шарль, и показывал Марте пройденную ими дорогу: там, в конце реки ряд деревьев тонул в тумане; с каждой стороны деревья, расположившись как кулисы, склонялись и надвигались друг к другу, облитые светом по краям; от этого фона до лодки тянулась скатерть темно-синей воды, на которой местами сверкала и трепетала серебряная рябь; ближе к лодке темно-синий цвет делался все светлее и превращался в лазурный, почти белый, с тысячью огненных блесток, похожих на тысячу зеркальных осколков, которые прыгали, исчезали и вновь появлялись, или уносились течением, остановленные на минуту тростником, колеблемым ветром.
Вода журчала. Шелест деревьев, шум ветра, отрывающего листья, несся по обоим берегам. Вдали с каждой стороны русла Сены, на обоих розовых холмах, как бы цветущих вереском, происходил сбор винограда, и радостные крики крестьян отвечали шепчущей гармонии реки. Виноградники улыбались. Кругом все шелестело и пело, а эхо доносило удары молотков о пустые бочки, раздавшиеся как припев.
Они подвигались вперед, и река меняла свои берега. Они плыли мимо маленьких утесов, мимо отвесных холмиков, покрытых желтым песком, с которых свешивались побелевшие высохшие вьющиеся растения, напоминающие иловатые водоросли старых рек. Затем шли пространства, покрытые светлой, прозрачной зеленью, где играло солнце, и откуда каждую минуту выпархивали лапис-лазуревые птицы, зимородки, вереницей перелетающие с одного берега на другой. они плыли мимо живой изгороди из дикого шиповника с его коралловыми ягодами и спутанными ветвями; густые тростники, выпрямляя свои стволы, задевали за лодку, за которой по берегу тянулась длинная линия маленьких тополей с жидкой листвой, позолоченной осенью, ольховых деревьев с блестящими листьями, ив, серебрящихся на ветру.
Река суживалась под ивами, погребенными в крапиве, таинственные сумерки уже расстилали у берегов свой ковер из тени, над которым веселый день брал свое, луг сиял, лиловые холмы освещались солнцем, даже сама тень казалась туманом.
– Посмотри-ка, – говорила Марта, и показывала Шарлю устье ручья, черного и глубокого, как горлышко опрокинутой урны наяды. Кругом все было залито светом, начиная с дерева, склонявшегося над ручейком, и кончая полоской песка, которая пыталась заградить струю воды, пенящейся на своем каменистом дне.
Но Марта уже забыла о ручье. Она совсем наклонилась к воде. Взгляд её сосредоточивается на тысяче маленьких рыбок, похожих на тысячу черных булавок, спасающихся во все стороны. Он следит за листком тополя, листком ивы, которые крутятся в водовороте, за их тенью, идущую перед ними в глубине воды, или за водяным пауком, скользящим посреди кругов, которые все расширяются вкруг него. рассматривая дно реки, взгляд её теряется в беспредельной глубине, где сплетаются ветви и сучья, погребенные в окаменевшей тине. Взор её устремляется в камень или в пестрое дно, где что-то точно бьется в сети. Он скользит по этим водорослям, которые шевелит течение, он задумчиво останавливается на кучках желтых или почерневших листьев, которые годами лежат таким образом…
– Берегись, сейчас будет толчок, – кричит Шарль.
– Ничего, опасности нет.
Это ободранная ива, подымающаяся над водою, прямая и белая как кость.
Лодка повертывает и снова открывается лазурный ковер и солнце сверкает и трепещет в воде точно витой огненный столб.
– Смотри!.. Смотри же!
И оба наклонившись глядят, как дети погружают в воду разбитый графин, чтобы поймать маленькую рыбку. Солнце сверкает на стекле графина, и освещает бледным светом пробку из картофелины, а внутри то появляются, то исчезают серебряные нити: это маленькие пленники стеклянной темницы.
Когда Марта и Шарль подымают головы, им кажется, что они видят иллюминацию какого-нибудь сада в гареме, лампочки в чашах с цветами: это блистающие от солнца желтые и красные георгины, брошенные в воду из городского сада. Они уже против большего чашкового дерева, склонившегося над камнем для мытья белья, и вот перед ними город с его колокольней, цинковые крыши, утопавшие в темной зелени садов, балконы с зелеными перилами, выходящие на Сену, рыбные садки, наполовину поднятые над водою, барки с отражением, прыгающим вдоль них, точно веревка, ударяющая по воде.
Лодка поворачивает. Они возвращаются. Тень подымается вдоль деревьев.
Зелень, отражающаяся в воде, бледнеет и пропадает. Тростники колеблются в лиловатом тумане. Глубины речные зеленеют и принимают глухой оттенок. Вдоль по воде нет уже более яркого света, только верхушки отдаленных тростников, да некоторых высоких тополей освещены еще, и глядятся в потухнувшее зеркало реки. Проехав ряд молодых тополей, выделяющих свои беловатые стволы на розовых тенях, подымающихся с земли, лодка задевает изгородь ив, выросших из обрезанных стволов, и сгибает их низкие ветви, усеянные трясогузками, которые улетают парами, преследуя друг друга и задевая белыми хвостами спящую воду. Ночь начинает надвигаться. Шепот тополей и ив умолкает. Шум воды затихает, тогда как вдали, на дороге, слышен скрип телеги. Холм над городом имеет теперь вид темно-лиловой стены, над которой подымается голубоватый дым от испарений домов. Небо делается бледно-зеленого цвета, потом розового и постепенно переходит в голубой цвет над головами Шарля и Марты. Тень набрасывает на воду свинцовый покров, в котором молодой месяц отражает свой серебряный серп.
LXII
Но это развлечение скоро приелось. Это было все одно и тоже, говорила Марта; и она принялась скучать, преувеличивать, драпироваться в свою скуку с тем уменьем, которое составляет секрет её пола. Она то принимала неподвижные позы, то углублялась в молчание и впадала в глухоту, неумолимую глухоту замечательно разыгранную, когда слух как бы испуганно пробуждается при вторичном повторении вопроса. И вместе с тем она говорила, что очень довольна, очень счастлива, даже очень весела и решительно отказывалась покинуть Сен-Совёр раньше окончания лечения Шарля. Шарлю становилось лучше. Уже два дня как он принялся немного работать, когда войдя днем в Марте он нашел ее в пеньюаре.
– Вы значит не выходите сегодня, Марта?
– Нет…. сегодня скверная погода.
– Скверная погода, сегодня. С этим солнцем? – И так как Марта не глядела и казалось ничего не слышала, Шарль произнес: – Марта!
– Извини, мой друг…. Ты говорил!..
– Я говорю, что день прекрасный.
– Видишь ли, мне грустно сегодня…
– Что с вами?..
– О, тут умерла… Эта молодая англичанка, приехавшая на воды…. ты знаешь…. умерла!
– Но, моя милая, я не вижу….
– Должно быть она страдала…. В страшной агонии…. У меня не хватило решимости выйти, понимаешь?… И потом у тебя был такой нездоровый вид вчера вечером…. Я не хотела пускать тебя…
– Полно! Мне еще далеко до этого…
– Нет, видишь ли. тебе нельзя ничего сказать. Я не знаю, где ты только не найдешь….
Шарль ушел.
LXIII
«Сен-Совёр. 30 сентября.
«Как твоя пьеса?» пишите вы мне, дорогой мой Шаванн. Вы читали в газетах, что ее готовят для открытия и вы спрашиваете меня: бытовая ли это комедия, драма, или диалог для двух? Где это происходит? При какой обстановке? Закованы ли в латы действующие лица, или они одеты в черное сукно? В Афинах ли моя пьеса или в Париже? И вы браните меня за то, что я так мало разговорчив с вами. Ах, мой друг, будто дело в моей пьесе? Я сам не знаю, что с ней и когда ее дадут…. да и пусть с ней будет что угодно!.. А между тем я думал, что я нашел верную точку зрения. В наше время, когда театр не более чем дагерротип более или менее удачный, подняться до истинного театра, театра фантазии, невероятности, до поэзии, до смеха пляски и пения поверх реальности, поместить пьесу между небом и землей, – это была моя идея, моя пьеса. Вы знаете, я наблюдал как и другие, но хладнокровно, не увлекаясь, как бы следуя моде. Мой ум имеет другие симпатии, все что проклинают профессора логики, сказки фантазии, случаи, приключения мысли, одной ногой опирающиеся на жизнь, другой – касаясь страны воздушного Меркурия. Можете ли вы себе вообразить лучшую рамку для произведения, которое хочет сделать невозможное вероятным, лучшую родину для живого и фантастичного мира, чем современная Италия, этот уголок земли, где укрылся роман? Италия XIX века, ах, мой милый….. танцовщицы, создающие своими пуантами оппозицию существующей политике; влюбленные парочки, которые после десятилетней любви удаляются в деревню, чтобы еще более быть друг с другом; советы министров, собирающиеся для того, чтобы решить, может ли наследный принц есть скоромное в пятницу у английского посланника; разбойники, захватывающие полную зрительную залу, и продающие свои заряды; принцессы с миллионным доходом, умоляющие на коленях какого-нибудь тенора, чтобы он женился на них; узкие панталоны абрикосового цвета по последней моде на ногах баритонов, – карнавал, который представляет – социальное учреждение, – Stenter ello, скрывающие свободу печати под шутовским колпаком; императрицы, упавшие с королевства до префектуры; короли, удалившиеся на покой; рантье, с пятью тысячами ливров дохода, которые имеют экипаж, не делая долгов; общества вспомоществования, очень серьезные для женщин с погибшей честью; белокурые женщины, точно сошедшие с картин Беноццо Гоццоли; постоянная надежда и лотерея… Можно составить целый том подобных перечислений и я сделал из них мою пьесу: «Очарованная нота»…
Но что такое пьеса, моя пьеса, сравнительно с моей жизнью, моим счастьем!.. Ах! Послушайте, друг мой, оставим это. Я несчастен, очень несчастен, быть может, более, чем был бы другой, потому что у меня нет ни гнева, ни досады, ни даже раздражения. Я более не муж, я публика: я сужу. Я совершенно холодно анализирую мою жену, также холодно, как и жену всякого другого. Я смотрю на нее и вижу, как будто бы я имел перед глазами нравственную чашу её бытия. Моя жена не имеет сердца ни на волос!.. Боже мой, отлично! Сердце в жизни совсем не такое обыденное явление… Говоря прямо, это совсем не домашняя мебель. Можно отлично жить с людьми без сердца; я знаю многих таких, интимность с которыми очень приятна. Я думал, что это должно составлять смысл жены: его нет и следа в моей жене, вот и все; это было бы еще ничего… Но моя жена глупа, мой милый.
Еще если бы это была чистосердечная глупость без претензий, глупость низшей женщины, эта добрая естественная глупость, с которой так много интеллигентных людей связали свою жизнь… Увы! Нет, это не то: это глупость довольная собою, кокетливая глупость, манерная, которая разрабатывает себя и ломается, как вам сказать: это праздничная глупость. Ум её – это сборище банальностей, общих мыслей, буржуазных суеверий, так сказать, перемолотых идей, эпидемических предрассудков; одним словом, ужасная глупость, выводящая из терпения, выхоленная, деланная, благоприобретенная. Например, она не поверит, что Людовик XVIII потребовал голову кофейного цвета лошадей из короны Наполеона, прежде чем возвратиться во Францию, или что все тряпичники умирают с пятьюдесятью тысячами франков золотом в их соломенных тюфяках, или что комета предвещает конец мира; она не поверит гадальщицам на картах; но она поверит газетам, она поверит всему, что напечатано; она поверит гению человека, который рекламирует себя, уму другого, у которого есть друзья; она поверит, что только богатые люди имеют вкус; что во время царствования Людовика XV французские офицеры не были храбры; что Луи-Филипп отправил миллионы в Америку; что никогда так хорошо не делали булевскую мебель, как теперь… У нее найдутся прилагательные ко всему эпитеты, всегда готовые, как коричневый или белый соус в ресторанах, и она ими вдоволь воспользуется. При этом дерзкий, всезнающий вид, под которым нет ничего, ничего, как в голове коноплянки; если вы ее затронете слегка, тотчас же является щекотливость, она вооружается и защищается, видя в ваших словах намеки или желание дать урок; самолюбивое упрямство, холодное, но уязвленное, которое все более стоит на своем по мере того, как вы доказываете, что это не так, как она думает.
И вы можете сколько угодно доказывать ей, говорить, что она не права, прося вместе с тем извинения за то, что вы правы, принимать любезный тон, который льстит её тщеславию… Ничто не поможет, повторится всегда одна и та же сцена: обиженный вид, сухой тон: «Очень хорошо; я не так умна, как вы…» Затем недобросовестный разбор по поводу спора; если же вы отвечаете – угнетенный вид, молчание женщины, которым женщина так умеет сказать: «Вы чудовище!..» Чудовище потому, что вы хотели унизить ее, не объяснить, не посоветовать, не вывести ее из заблуждения, – она этого совершенно не допускает, – но доставить себе удовольствие пристыдить ее.
Вы знаете, друг мой, отвращение, которое питает каждый мужчина с умом и сердцем в заученным чувствам и стереотипным фразам. А моя жена скажет, что бы вам принести в пример? Она скажет о плохом водевиле: «В этом произведении видны искренность и молодость…» О картине: «В ней есть стиль…» У ней всегда готовы эти слова, эти фабрикованные фразы, попадающиеся в фельетонах, книгах, пьесах. Одним словом, она приводит в отчаянье. Однажды я не мог удержаться, выведенный из терпенья, чтобы не сказать ей: «Ты прочла это…» Понимаете ли, мой друг? Повторения, одни повторения, ничего своего, ничего, что принадлежало бы лично её сердцу и её уму! Быть может, вы меня сочтете за лунатика; вы скажете мне, что я копаюсь в своих ранах. Что вы хотите? Я так создан, и я во сто раз предпочту язык грубой крестьянки, мысль необработанную и простую, но искреннюю и свою, этому манерному образу мышления.
Но нет, мой друг, я ничего не выдумываю, ничего не преувеличиваю. Я совсем не больной, создающий себе видения и терзания. Внутренние качества моей жены таковы, как я вам говорю. Вы увидите у ней гримасы, мины, комедию брезгливости, желание казаться пресыщенной, капризной: она не понюхает рыбы, если она не первой свежести, ни яйца, немного высохшего, ни масла, простоявшего три дня; это пустяки, но в этом – вся моя жена. Она покажется вам задумчивой, замечтавшейся в туманных грезах; но я, я знаю, где она и в решение какой прозаической задачи она погружена: она думает, как бы урезать у кухарки пятьдесят сантимов барыша от провизии, или как бы купить себе тряпку, которой нет у её подруги… Ей не понравишься прекрасной душой, выражающейся на добром и честном лице, ни даже громким признанием её красоты, но скромным ухаживанием, больше даже чем ухаживанием, раболепством, ничтожной лестью лакея, который ухаживает за принцессой.
Моя жена одна из тех женских натур, которые чувствуют себя хорошо только с низшими. У ней является жалость, почти слезы, когда она видит воображаемые страдания на театре, или читает в хронике о самоубийствах, о кораблях, погибших на американских озерах; но при виде окружающего, при виде настоящих людей, встречающихся ей в жизни, она суха, жестока и неумолима; она отдает ужасные приказания, которые заставляют слуг ронять из рук тарелки; она нисколько не заботится об их страданиях, о том, что и они люди; после выговора у ней никогда не найдется того слова, того прощения, которым нежная душа женщины связывает то, что нарушила… Занятая самой собою, она ничем не отвлекается; и в то же время скука, требующая возбуждающей веселости или скорее какого-нибудь шутовства, которое забавляет ее, как шумная игрушка; её ум прельщает глупость и жестокость шутки, она будет смеяться над смешным в уродстве и над комичным – в большом горе…
И всегда в фальшивом тоне, заметьте это, мой друг! Говорит ли она вам, ободряет ли, ласкает ли вас, или утешает, всегда слышится у ней фальшивая нота, как в фортепиано одного из моих друзей, так неизлечимо фальшивом, что он кончил тем, что напустил в него красных рыбок… И затем у ней нет веры, нет доверия при такой легковерности! Я не Магомет, я не прошу ее верить в меня; но, по крайней мере, в её искусство… её искусство, мой друг! Она занимается им только как красивая женщина, не более. Музыка? Она играет на рояли, – и это все. Ничто ее не возбуждает, не трогает, не волнует, не обезоруживает, исключая её характера. Вот она тут, в деревне; она смотрит на все как она смотрела бы в музее пейзажей: она смотрит так, как зевают. Вы знаете, однако, мой друг, что я не требователен относительно этого; я не проповедую особенного восторга в природе; но, черт возьми! Она ведь женщина! Она около меня. Я вижу ее отсюда, в полуоткрытую дверь; она сидит в зале за книгой, перед зеркалом, после каждой страницы глядится в зеркало, и подавляя зевок снова возвращается в книге… Это все та же женщина, те же голубые мягкие глаза, тот же маленький ротик, тоже детское личико; если я войду в залу, этот лоб сделается мраморным, этот ротик закроется, глаза сделаются непроницаемыми, все её лицо покроется облаком, примет выражение угрозы или молчаливости; она с головы до ног окутается холодностью, которая хуже чем гнев, глухим недоброжелательством, каким-то скучающим отчаяньем, и все это с таким несчастным видом, которого не передадут ни одна статуя, ни одна картина, ни одна фраза в мире! Женщинам, не имеющим в жизни, как мужчины, тщеславия, карьеры, борьбы, чтобы блистать и выказывать себя, всем женщинам необходим, я знаю, некоторый исход, некоторая трата нервной и борющейся деятельности. Это объясняет и извиняет то жгучее удовольствие, которое они испытывают при страданиях тех, кого они любят, своих личных страданиях, даже при слезах, из которых они выходят обновленными, с добрым сердцем и хорошими инстинктами. Но эта, друг мой, превзошла свой пол. У ней положительно гений, настоящий гений для изобретения и пускания в ход ужасных внутренних дуэлей, на которых бьются отравленными булавками. Особенно после борьбы у ней является то молчание, о котором я вам говорил, молчание, выражающееся не только устами, но и всем взглядом, всем телом, покорность жертвы… Нет, нужно нечеловеческое терпение, чтобы выносить это! Кровь начинает кипеть, надо уходить, спасаться… Я у себя. Ее нет. Она приходит под каким-нибудь предлогом. Она вертится около меня. Она что-то забыла в моей комнате, и ищет долго роясь, копаясь с отчаянным видом, выражающим страдание и упрек… Наконец уставши, побежденный этой медленной пыткой, я спрашиваю: «Боже мой, что с вами?» Ей этого только и надо, для того, чтобы ответить: «Со мной ничего»… Невозможно передать тон этой фразы, которую моя жена умеет говорить как женщина. О! это: «со мной ничего!»
Самое печальное то, что голова моя от этого страдает. Я ничего не могу написать хорошего. Я думаю, что мой мозг мешается… А что меня ждет в будущем? У меня не осталось ни малейшей иллюзии. Она меня не любит более. Да и любила ли она меня когда-нибудь? В начале это было просто удовольствие избавиться от своей матери, благодарность за беззаботную и счастливую жизнь, за скромное обожание её красоты. Она не любит другого… По крайней мере теперь… Но по-моему адюльтер существует с того дня, как женщина вас разлюбит. Полюбит ли она? Я не знаю! Ей нужен молодец, повинующийся ей во время её капризов, которым она могла бы вертеть, как ветряной мельницей, и который проводил бы свою жизнь, напевая ей романсы стоя на коленях на подушке херувима. При этом она бахвалится тем, что она честная женщина в своей сфере, что она добродетель, на которую смотрят в лорнетки… Что мне за дело. О! все кончено… Три-четыре дня тому назад наша семейная жизнь как будто скрасилась; мы ласкали ребенка здешней фермерши, которая носит нам кур и яйца; и в то время, как он играл на наших коленях, я вздумал написать книгу: Ребенок! – прекрасная книга, которая описывала бы образование души в ребенке, первые дни его развития, зачатки его совести; книга основывалась бы на мелких подробных наблюдениях, высоких и поэтичных, день за днем, шаг за шагом над человеком, который растет и развивается… Жена моя, бедная душа, ошиблась относительно моих ласк и моих мыслей; нет я не хочу теперь детей! «Но Шарль, – сказала мне она, – пришлось бы взять кормилицу, и нам нельзя будет держать горничную…» Да, мне остается только работа, а я работаю дурно. Наконец, благодаря Ремонвилю, я увижу мою пьесу на открытии сезона. Вы знаете, о чем я вас просил. Вы мне не откажете. Было бы очень тяжело не иметь в этот вечер кого-нибудь, который любил бы меня с детства, для того, чтобы похоронить пьесу или обнять её автора.
Шарль Демальи».Когда Шарль сложил это письмо, когда он подумал о том, что он доверял другому, у него явились как бы угрызения совести человека, который предает женщину; и не запечатав письма, он вошел в залу. Марта лежала в гамаке.
Шарль, приблизившись к ней, увидел этот взгляд, который он так любил, этот взгляд с замирающей улыбкой, который зажигался нежным огнем – её взгляд! Взволнованный, почерпая в нем воспоминания и забвение, он погрузил в него свой взгляд, когда Марта сказала ему: – Ты думаешь, что эти глаза только для тебя? Как же! Я их также хорошо делаю вон тем камешкам!..
LXIV
Случилось, что несколько дней спустя после этого в городе Труа открывалась статуя одного из великих людей: скульптора Жирардона. Открытие послужило, как это бывает, предлогом к празднеству; были устроены скачки, концерт, бал, выставка картин; издали биографический этюд о Жирардоне с его портретом и факсимиле; произнесены были три речи, в которых Труа называли alma parens за то, что он был родиной папы Урбэна IV, Ювенала из Урсин, Пассера, двух Питу, Грослея, Матье Моле и Миньяра. Труа также воспользовался этим открытием, чтобы показать «столице» свои церкви, колокольню Св. Петра, свой музей, деревянные дома, колбасные и прогулку в Майле: Париж был приглашен посредством афиш, парижская пресса – особыми письмами.
Шарль решил свезти Марту на эти праздники. Марта заставила себя просить, затем согласилась. Приехав в Труа и поворачивая к площади Жирардона, они натолкнулись на кучку людей, которые, подняв головы кверху, осматривали город с удивлением и восклицаниями мореплавателей, открывших новый кусок земли на карте света; это были четыре представителя «Скандала»: Монбальяр, Молланде, Кутюра и Нашет, «которые считали долгом, как кричал по улицам Монбальяр, ответить на любезное приглашение Шампаньи». Недоразумения забыты, парижане столкнулись между собою за столько километров от Парижа. Так путешественники, изгнанники обнимают родину в соотечественнике, которого они встречают. Может быть, перейдя заставу, нет более литературных врагов. Нашет протянул руку Шарлю, который ее искренно пожал. Монбальяр напевал, а Кутюра представил Молланде проходящему господину, как внука Жирардона. Все засмеялись, начали болтать. Марта была весела, Шарль забавлялся; Монбальяр удивлялся Труа, Кутюра хотел устроить фейерверк, Молланде раскланивался с пожарной командой. Гуляли, ели, пили, весь день провели вместе. Обошли кругом статуи, мерии и Майля. Так как Шарль собирался уходить, редакторы «Скандала» сказали: «Мы навестим вас».
– Да, – сказал Монбальяр: – где вы живете? Под бамбуками?
– В Сен-Совёре.
– Это мне удобно… Я как раз должен сладить одно дельце с директором вод…
– Отлично, – сказал Шарль, – так приходите завтракать ко мне. После завтрака вы пойдете по своим делам и воротитесь к обеду… Решено?
– Право, это идея, – сказал Монбальяр, – а как прочие?.. Да?.. Отлично! Да!
Назначили день и расстались, как школьные друзья, которые не занимают друг у друга денег.
Три дня спустя, около девяти часов утра, компания уже подходила к замку. Монбальяр в жилетке, с сюртуком на руках, подымая на тросточке свою шляпу, открывал шествие, напевая громовым охрипшим голосом:
«И увидят просвещенного буржуа, Отдающего свою дочь беглому каторжнику, Беглому, беглому каторжнику!»За ним следовали Нашет и Кутюра. Позади всех шел Молланде и собирал ящериц со стен.
– Никого! – произнес Монбальяр. – Позвоним погромче… Все тут? Начинайте хором, дети мои…
«Отдающего свою дочь…»– Раз… Два!
«Отдающего свою дочь беглому каторжнику! Беглому…»– Каторжнику! – продолжал Шарль, отворяя дверь. – Однако, вы рано поднялись… в восемь часов? Тут встают после восхода солнца… Вы, должно быть, голодны?
Молланде исчез.
– Черт возьми! – сказал Монбальяр, входя в залу. – У вас прекрасное помещение… даже возвышенное!.. Точно входишь в книгу господина Кузена!
Спустилась Марта. Она извинилась перед гостями в том, что хозяйка запоздала и попросила позволения посмотреть на кухне, как подвигается дело с завтраком. Но в эту минуту появился Молланде и раздался взрыв хохота: он устроил себе колпак из одной салфетки, из другой сделал передник: настоящий торговец дичью, которого Изабей поместил у входа знаменитой песни об Экю Франция.
– Вот в чем дело, – сказал он важно. – У кухарки вид неисправной женщины… Она относится к завтраку, как к отдаленному будущему… Сударыня, дайте им всем салфетки! Вспомним, господа, это ободряющее слово учителя: «Делаешься поваром…» и пусть, кто хочет, добровольно следует за мною!
– Все! Все! – закричала компания с ансамблем и интонацией бульварной публики, напоминающей актеров в драме.
Через пять минут все стряпали на удивление. Посреди своей наводненной кухни кухарке оставалось только смеяться. Молланде очень аккуратно чистил куропаток. Нашет зажигал печь. Кутюра собирался делать сложный соус. Монбальяр, с часами в руках, считал минуты, стоя над яйцами, приготовление которых он взял на свою ответственность. Даже Шарль, казалось, был занят чем-то: он смотрел на печку.
– Да ну же, мой милый! – говорил ему Кутюра, – это стыдно… Делай хоть что-нибудь, по крайней мере.
– Тише! – отвечал Шарль с серьезным видом, – быть может, я сделаю яичницу.
– А я-то? – сказала Марта, подколов свою голову булавками, – или вы думаете, что я буду только смотреть на вас?
– Ах, правда, – сказал Монбальяр, – надо, чтобы хозяйка работала.
– Надо, чтобы хозяйка работала, – повторил Молланде, сдувая с груди перья от третьей куропатки. – Она очистит персики для оладий.
– Ах, да, – сказала Марта, вытаскивая из кармана ножичек с серебряной ручкой.
К досаде поваров, кончили тем, что принялись завтракать. Завтрак был очень веселым. Утреннее настроение не прекращалось. Говорили остроты, смеялись.
– Дети мои, – сказал Монбальяр за десертом, – могу вам сообщить, что «Скандал» отлично идет… В этот месяц мы заработали сумасшедшие деньги… так, что если это продолжится, я найму Одеон, чтобы поместить там контору для подписки! Там будут играть Сбор, пьесу с ящиками, каждый вечер!.. Теперь «Скандал» богат… и они могут издавать газеты… Маленький Камилл издает, Брендю тоже… Что касается меня, я желаю им успеха… Что мне за дело? А пока мы должны были на этот раз сделать двойное число экземпляров номера… И потом, если они мне надоедят, знаете ли, что я сделаю? Я буду выпускать газету два раза в неделю… и мы увидим. Кстати, вы возвратитесь сюда на будущий год, Демальи?
– Надеюсь, что нет, – сказал Шарль, – я поправлюсь на будущий год.
– Дело в том, что я был бы вашим соседом… Да… дело еще не кончено, но я приторговал маленький павильон в двух лье отсюда… Мне понравилось здесь. Достаточно я глядел, как растут подписчики… Мне хочется пожить в деревне… все удовольствия в природе… и потом недвижимость – это почва! Я займусь чем-нибудь… Я способен сделаться даже мэром… Ты видел дом, Молланде, а сад, не правда ли как мило? – обратился он к Молланде, чтобы уколоть его тайные мечты. – Есть, где присесть, дети мои! Пять десятин!.. Деревня! она продлит мою жизнь на неделю, вы увидите! И если когда-нибудь малый в роде Нашета или Кутюра найдет средства, я продаю всю лавочку, умываю руки и женюсь, чтобы играть в пикет после обеда.
– Будем пить кофе в саду, – сказала Марта, – в каштановой аллее.
– Ах, сударыня, – сказал Молланде, – вот идея, за которую надо расцеловать ручки!
– Что мы делаем после? – сказал Шарль. – Хотите, я поведу вас на воды?
– Я с удовольствием, – сказал Монбальяр. – У меня есть дело… Да существуют ли эти воды?
– Честное слово! – сказал Шарль.
– А кто их делает? Доктор? Я уверен, что этот шутник бросает гвозди в источник… Это как Виши, где кладут пастилки из Виши в источник… Кто идет с нами?
– О! Слишком жарко, – сказала Марта, – я остаюсь.
– Мне кажется, не очень вежливо покинуть хозяйку… и я не иду с вами, – сказал Молланде.
Шарль, Монбальяр, Нашет и Бутюра возвратились только к обеду. От здания вод они сделали длинную прогулку на Сену. Пообедали. Обед был менее веселым, тем завтрак. Говорили меньше, больше пили и кончили тем, что разнежились. Выходя из-за стола, Нашет взял Шарля под руку, увлек его в парк и с смущением, которое тронуло Шарля, выразил ему сожаление по поводу своих нападок.
– Но что ты хочешь? – сказал он, – у меня адская жизнь… Ты не можешь себе представить, сколько я переношу ежедневно от материальных затруднений… Мне бросают в лицо, что я зарабатываю несколько су… Я живу в пятом этаже, обедаю за сорок су, курю сигары в один су… Что ты хочешь, чтоб я делал? Мне надо бывать на первых представлениях, я должен быть чисто одетым… не могу же я быть всегда вымазанным… портной, экипажи… Это расходы, необходимые в моем положения… Я должен платить за обед, чтобы не упустить дело… и все выходит, что я рукопись… я сделал только долг из-за моей рукописи, вот и все. Я рассчитывал на пьесу, которая принесла бы мне до тридцати тысяч франков… тут нужен случай… успех… Моя пьеса? Она спит, мой милый… она таскалась повсюду… ни один директор не рискует ее поставить… Есть вещи, которые сжимают горло… и которых ты не знаешь. Попробуй войти в литературу с десятью тысячами франков долгу, ты увидишь… Неприятности, которые приходится из-за этого переносит!.. Я десять раз думал избавиться от долга: из него не выйдешь!.. Я платил его, погашал, и все же я должен!.. Сделки, возобновления, разве я знаю! Все дьяволы и их присные, которые вас доят, высасывают, а долг ваш растет!.. А на завтра что? На завтра то же, что и сегодня. Ничто меня не может спасти, мой милый, разве что-нибудь сверхъестественное. Но для меня нарочно ведь чудо не сделается, неправда ли. Монбальяр не хочет более давать мне авансов… Послушай Шарль, у меня предчувствие, что долго это не будет так идти. И так как я думаю распрощаться с тобой, то и приношу свои извинения…
В голосе его слышалась такая искренность, такое жгучее горе, что Шарль был тронут.
– Полно, мой милый, – сказал он Нашету, – что за вздор! Долги! Долги! Это только деньги. Не следует уезжать так. Ничто тебя не зовет в Париж… Перемени немного воздух. Оставайся здесь на несколько дней. Мы поищем вместе какого-нибудь средства… Оставайся…
Нашет привел некоторые затруднения.
– Нашет, сын мой! – кричал Монбальяр, что ты там делаешь. – Идешь ты? Нам добрый час ходьбы.
– Он останется с нами несколько дней… И пришлет вам статью отсюда, – сказал Шарль.
Парижан проводили до конца парка.
– Ба! – сказал Кутюра, приблизившись к Нашету, – предупреждаю тебя, тебе не везет здесь: тебя называют противной обезьяной…
– Я знаю. Молланде уже был так любезен сообщить мне это.
– Зачем же ты остаешься тогда?
– Зачем? – возразил Нашет.
Он не отвечал.
LXV
Нашет остался на неделю в Сен-Совёре. Все это время он был очарователен. Можно было сказать, что это гостеприимство, как добрая фея, лишило его той грубости и животности, которые возбудили неприязненное чувство Марты. Он не выказывал ни подозрительности, ни дурного расположения духа. Он стал ребенком, весельчаком, готовый делать безумства и смешить всех. Он только и занимался тем, что старался рассеять Шарля от его нездоровья и Марту от деревенской скуки.
Вечером он заставлял их засиживаться, по утрам будил их; он заставлял их гулять, посещать окрестности; он затевал длинные прогулки, увеселяя их всю дорогу. Но на водах он превзошел себя; комик позавидовал бы гримасам, с которыми он проглатывал стакан воды, и надо было видеть, какие шутки он устраивал человеку, который раздавал стаканы с водой из источника. Он его звал «мой племянник» и рассказывал ему дело Фюалдес, вперемежку с «Соломенной шляпой» из Италии, припутывая сюда роль госпожи Мансон.
Короче сказать, Нашет развеселил Марту и обезоружил Шарля, и в добродушном пожатии руки, которое он получал от них уезжая, он унес право бывать у них в Париже.
Нашет уехал, деревня показалась Марте пустой и безжизненной, как дом, из которого только что уехал школьник, и Марта еще сильнее впала в скуку. Она почувствовала отвращение к какой бы то ни было деятельности, отказалась от всех прогулок, и сказываясь больной, не желая видеть доктора, она проводила дни, лежа на диване, беспокоя сон своего тела и души только для того, чтобы написать матери письмо в четыре страницы. И надобно было Шарлю выдерживать постоянные битвы и борьбу, чтобы заставить ее согласиться сделать тур в красивом саду вод.
LXVI
Монбальяр устроил так, что салон вод подписался на «Скандал». Видя, что Марта смеется, читая только что вышедший номер, Шарль взял его и прочел:
Ingénue во власти невропата.
Современная история.
1.
Турецкий султан в Европе – это публика.
Только публика имеет серал. Сераль публики – идеальный сераль, спешу сказать это; но что это за идеальный сераль! – Все женщины Корнейля, Мольера, Расина, Шекспира, Виктора Гюго, Альфреда де-Мюссе, Скриба, Сиродена! одни приходят из черкесской земли трагедии, другие оторваны совсем молодыми от лона комедии; женщины в прозе, женщины в стихах; брюнетки, блондинки, – и все увеселительные таланты, каких только можно желать! Тут есть плясуньи по веревке и знаменитые гадитанские мимистки! Есть и декламаторши, и кокетки! Есть и такие, которые вызывают слезы без причины! И другие, которых господин Самсон научил искусству естественно улыбаться; или те, которые поют каскадные куплеты! Другие, которые, открывая рот, как будто открывают клетку и выпускают оттуда соловьев! Но это еще ничего; там есть даже ingénues! Когда одна из султанш великого султана бывала ему неверна, султан просил ее зашить себя в мешок и бросить в Босфор: султан мстил за себя сам.
Когда одна из любимиц публики обманывает ее перед господином мэром, когда актриса выходит замуж, – тогда Бог мстить за нас!
2.
Сцена представляет столовую в замке Людовика XIII, – как в романах Жорж Занда. За столом молодой человек и молодая женщина. Молодая женщина кажется очаровательной молодой девушкой. У молодого человека синее лицо, сильные гусиные лапки, две глубоких складки в углах рта. – Молодая женщина наливает себе воды и не вдевает пробку в графин.
Молодой человек. Розальба! Пробку!
Молодая женщина (тихо). Что, друг мой?
Мол. чел. Пробку!
Мол. женщ. (тихо). Ах! Пробка… Не раздражайтесь… вот она, друг мой. (Она вкладывает ее в графин).
(Молчание. Движения скул у молодого человека. – Молодая женщина снова наливает себе воды и опять забывает о пробке).
Молодой человек. Пробку, Розальба! Пробка сделана для того, чтобы затыкать графины!
Молодая женщина (тихо). Ах, какая я рассеянная!.. Я забыла…
Мол. чел. (вне себя). Пробку!.. Пробку! Сейчас же. – Разве вы не знаете, что я невропат, невропат… пат!
(С ним чуть не делается нервный припадок).
3.
Сцена представляет старую аллею, как в романах Октава Фелье. Молодая женщина лежит в гамаке. Молодой человек сидит на скамейке. Другой молодой человек рассказывает о последнем часе чахоточного и о его некропсии.
Мол. человек. – Чем это так пахнет, Боже мой?
Мол. женщина (тихо). Ничем не пахнет, друг мой!
Мол. чел. Вы хотите уморить меня своими духами!
Мол. женщ. (тихо). Но, друг мой, вы знаете, что я употребляю только ирис для моего белья, с тех пор как…
Мол. чел. Ах, Господи! Чем же это пахнет?.. А, жасмином! Жасмином… Дайте сюда вашу голову!
Мол. женщ. (тихо). Но…
Мол. чел. Дайте мне вашу голову!.. Жасмин, сударыня, жасмин!
Мол. женщ. (тихо). Но, друг мой, не могу же я не помадить…
Мол. чел. (вне себя): Разве вы не знаете, что я невропат? невропат!.. Разве я не невропат, скажите доктор?
(С ним чуть не делается нервный припадок).
4.
Сцена представляет омнибус, как в романах Генриха Монье. Этот омнибус перевозит из Труа на воды в Сен-Совёр анемичных больных. Сидят ужасные дети, распухшие, вздутые, как мячики. Женщина, сидящая напротив Розальбы, вся сморщена, белая как воск, с провалившимися глазами, с двумя зубами, торчащими наружу, с головой мумии, которую распеленали.
Молодой человек. – Розальба, вы смотрите вниз. Почему вы смотрите вниз.
Молодая женщина (тихо). Друг мой, мне дурно при виде этой женщины; право дурно!
Мол. чел. Это значит, что я вам противен.
Мол. женщ. (тихо). О, мой друг!.. Благодаря Бога вы никогда не будете таким.
Мол. чел. Это значит, что я не дошел еще до этого!
Мол. женщ. Успокойтесь, прошу вас… Для нас самих… На нас глядят.
Мол. чел. (вне себя). Что мне за дело до этого?.. Вы забываете, несчастная, что я невропат… пат!..
(С ним чуть не делается нервный припадок).
5.
Сцена представляет киоск, источник и старого человека, наполняющего стаканы, как в железистых романах.
Молодой человек. Розальба! Что же вы не пьете?
Молодая женщина (тихо). Зачем, мой друг? Мне не надо… Я здорова.
Мол. чел. А, вы здоровы, а я болен, не так ли?
Мол. женщ. (тихо). О, Боже мой!
Мол. чел. Еще не так болен, как вы думаете, не так, слышите ли вы!
Мол. женщ. Право, надо быть святой…
Мол. чел. (вне себя). Святой! Святой! Будьте же невропаткой… невропаткой… паткой… паткой…
(С ним делается нервный припадок).
И вот как Господь мстит за публику, и как Он наказывает ingénue, неверную долгу, ingénue, не исполнившую своей обязанности холостяка: мужем и невропатией.
Молланде.– Неправда ли, смешная статья? – сказала Марта.
– Тебя, значит, я очень заставляю страдать, Марта? – спросил Шарль.
– Но ведь это не я… Я ничего не говорила, уверяю тебя… Молланде сделал все это так… Только относительно доктора… Ах, про доктора. Я не говорю… тут я действительно… но относительно тебя, клянусь тебе!.. я сказала только, что ты… немного нервен… вот и все, право так…
Статья Молланде была слишком в шутовском тоне, чтобы оскорбить Шарля. Но Шарль угадал по запирательству Марты, откуда она идет, и это оскорбило его.
LXVII
Время их пребывания на водах кончалось. Наступал канун отъезда; наконец, пришел и день отъезда. Когда укладывали чемоданы, Марта вспомнила:
– А гамак? Я об нем и забыла. – Шарль пошел за ним в каштановую аллею. Но когда он пришел туда, он забыл на минуту, что его надо отвязать; положив в него локти, он глядел перед собою в светящийся туман осеннего утра. Он походил на зарю, плавающую в облаках. Все было в тумане. Тысяча лучей ласкали голубоватым светом группы деревьев и серебристую реку. Тут и там ветка, покрытая росою, блестела на солнце, как хрусталь. И Шарль стоял так облокотившись, в последний раз окидывая взором и сердцем это небо, эту воду, эти оголенные деревья, которые видели последние счастливые дни его любви.
LXVIII
– Смотри и критикуй, мой милый… У тебя есть вкус… Я, видишь ли, хотел осуществить что-нибудь во вкусе обстановки, которую Бальзак описывает у молодых людей, живущих по моде…
Так говорил Флориссак Шарлю, только что вернувшемуся из Сен-Совёра. Он его нагнал на углу улицы и заставил войти к нему, посмотреть его новую квартиру.
– Ну, что? – продолжал Флориссак, – они были в туалетной комнате, – что ты скажешь? Неправда ли, здесь есть все, чтобы быть холостяком?
– И красивым, вдобавок, – прибавил Шарль, смеясь.
– Ты понимаешь, сначала я хотел все устроить en grand… Я всегда мечтал иметь туалетную комнату в порядочных размерах… Ты мне скажешь, что есть люди, которые моются в шкафах, это правда, но я терпеть не могу фокусов… Да, друг мой, таким, каким ты меня видишь, я уже больше не пишу, я ничего не делаю, даже долгов… и живу своей рентой. Это не скучнее, чем жить случаем… Я нашел на своей дороге банкиров, которые мне понравились… они кладут мои деньги в ямы, где монеты во сто су толстеют… Но оставим это. Нравится тебе моя уборная?
Стены комнаты и широкий диван были обиты темно-синей кожей, лакированной как кожа карет. Кроме гравюр, изображающих лошадиные головы, знаменитые скачки в летописях английского спорта, вставленные в лаковые рамы, во всей комнате были только туалетные вещи. Губки, щетки, подпилочки, все инструменты античных alipili и elacolhesii, усовершенствованные и приспособленные к теперешнему времени, тысяча блестящих орудий, светлых как готовальни хирургов, саше, мыла, рисовая пудра, уксусы, косметики, эссенции украшали, наводняли стены и этажерки из лимонного дерева. На огромной мраморной подставке лежали туалетные принадлежности из розового богемского хрусталя, и две огромные хрустальные чаши блестели рубинами, освещенные последними лучами солнца.
– Так ты находишь это порядочным?
– Очень хорошо… Очень хорошо… Единственная уборная, какую я до сих пор видел.
– Ну, я очень доволен… Я очень дорожу твоим мнением…
– Но, скажи пожалуйста, Флориссак, должно быть это имеет безумный успех у…
– У безумных куртизанок? – сказал Флориссак, делая себе пробор перед зеркалом, – и не говори! они хотят все унести… Я должен был им сказать, что это все фамильные предметы… Что эти зубные щетки принадлежали моему дяде… и это память о нем!
В эту минуту между портьерами полуоткрытой двери скромно высунулась голова человека.
– А, это вы, – сказал Флориссак. – Положите это там!.. У меня теперь нет времени… Вы придите в другой раз.
– Но, – сказал Шарль, – я тебе не хочу мешать.
– Мешать мне? Напротив, я в восторге… Представь себе, что тот, которого ты только что увидел, портной… но портной… литературный! Да, он позволяет себе любить писателей… Я когда-то по слабости доставлял ему удовольствие и писал мои фельетоны у него… Милый мой, это опьяняло его… Наконец, он позволяет себе читать меня и исправлять мои эпитеты!.. Портной! Несчастный, обреченный одевать себе подобных!.. Я очень доволен поставить его теперь на свое место… Он хотел, чтобы я бывал на его вечерах…
– Как, он принимает, твой портной?
– Конечно, он принимает… Он принимает всех, кто ему не платит: это отлично устроено… А твоя жена? Она здорова?
– Да… совершенно здорова.
– Кстати, мне сказали… Знаешь ли что, она жалуется на тебя?.. Ты должен был видеть… О, это сплетни. Но в этих вещах лучше…
– Боже мой! Это статья Молланде…
– Да, статья Молланде… Но все равно, на твоем месте я бы объяснился с женой… А что, играют тебя?
– Идут репетиции.
– А твоя жена играет в пьесе?
– Конечно… А что?
– Нет, я хотел спросить тебя… Ну, вот я и обрезался… Однако, их новое изобретение для ногтей неудачно.
– У тебя есть Caprichos Гойя? – спросил, входя, Ремонвиль.
– Здравствуй Шарль… Я делаю одну работу…
– Гойя? Черт возьми! Рембрандт в стране апельсинов… великолепный экземпляр!.. Я тебе его отыщу, – сказал Флориссак, подымая портьеру своей комнаты.
– Ты занят в воскресенье? – спросил Ремонвиль Шарля.
– Нет. А что?
– Ты должен бы поехать с нами в Севр, посетить Галлана, который дрался. Знаешь?.. Ты его знаешь, Галлана?
– Я видел его.
– Поедем… Ты ему кстати должен сделать визит: он дрался за всех нас. Он получил удар шпаги за роман Мэнара.
– Вот, – сказал Флориссак, подавая Caprichos Ремонвилю.
– Ты участвуешь в компании, – сказал ему Ремонинь: – визит Галлану, в будущее воскресенье… Мы пообедаем там где-нибудь.
– Невозможно, – сказал Флориссак.
– В котором часу? – спросил Шарль Ремонвиля.
– В три с половиной, на Сен-Лазарской железной дороге… Решительно ты не едешь? – обратился Ремонвиль к Флориссаку.
– Я никогда не обедаю в деревне… Если бы я был господином Лаландом, который ел пауков… Но я не господин Лаланд…
Шарль, на улице, очутился позади мужчины и женщины; идя не под руку, они занимали весь тротуар.
– Ах, мой милый, – говорила женщина, – ревностью никогда он не приведет никого из знакомых. Он дает мне есть в клетке!.. А когда я выхожу, он преследует меня… даже когда это ему стоит пять франков.
– Настоящий муж! – отвечал Кутюра, это ничего не значит, женщины могут пройти сквозь игольное ушко, это известно!.. И я обещаю тебе…
Шарль больше ничего не слышал. Дойдя до конца улицы, он остановился перед магазином картин. На выставке была большая акварель Жиру, представлявшая бал Мабиль, прелестный рисунок, в котором рисовальщик, минуя подражания, вложил свои наблюдения в этот парижский мир и не только представил его копию, но и нравственную физиономию порока 1850 г. Шарль стоял перед окном, рассматривая и внутренне аплодируя этому произведению, когда позади него раздался смех и он почувствовал сильный толчок. Это был опять Кутюра, но на этот раз с Нашетом, оба шли под руку, с полной откровенностью, показывая Шарлю, который обернулся, две спины самых интимных друзей в Париже.
LXIX
Шарль, придя домой, сказал своей жене, что в воскресенье он поедет с друзьями навестить одного журналиста, который ранен, и что он не будет обедать с ней. Марта очень мило произнесла: «Правда?» и поцеловала его в глаза, чтобы лучше заглянуть в них, – хорошо, я буду обедать у матеря, сказала она без всякой досады.
В воскресенье Шарль встретил на железной дороге Ремонвиля, Брессоре, Ламперьера, Буароже, Франшемона и Грансэ, который привел Жиру. Поехали, побывали у Галлана, ему было лучше и завтра должны были перевезти его в Париж, затем принялись за поиски обеда.
– Однако, где мы обедаем?
– Пойдемте прямо.
– Это всего дальше.
– Пойдемте в Севр.
– В ресторан, где цветные стаканы! Мерси.
– Тогда в Сен-Клу.
– Да, где мы будем отражены в «Черной Голве»… Там поваром тень Кастинга.
– А в Отейль?
– Это у черта на куличках!
– Там напечатаны на тарелках стихи Буало.
– Пообедаем в первом заброшенном замке.
– Таких нет более.
– Господа, – сказал Шарль – во время моих прогулок на лодке я знал здесь один кабачок, в котором была настоящая говядина, свежие продукты, как в Неаполе, и особенная рыба в масле…. гордость хозяина! Подходит вам это? Хотите идти за мной? Это недалеко отсюда: в Ба-Медоне…
Все последовали за Шарлем. Дорога шла вдоль берега Сены, усеянного кирпичами, почерневшими от угля.
– Дай мне руку, – сказал вдруг Жиру Шарлю, пройдя несколько шагов. – Это камни, неправда ли. Я совсем делаюсь слепым, мой милый.
– Ты?
– Я теряю глаза… я вижу плохо… на железной дороге я едва узнал тебя… Плох я стал… У меня какая-то глазная болезнь… не знаю названия!.. у них есть названия!.. Кончить этим, а? Это жестоко!.. Это со мной сделалось за рисунком… за моим последним рисунком… Вдруг, как удар из пистолета… Демарес лечит меня; но, увы! Это кончено….. я готов!.. Ты видел мой рисунок?
– Бал Мабиль, неправда ли? Да, я видел его, это очень сильно, мой милый…. Блондинка, стоящая посреди….. и другие… это типы…. настоящая бытовая живопись.
– Да, я не кое-как работал… я начинал что-то делать…. И ничего не оставить после себя… ничего, кроме глупостей! Иллюстрации пожрали меня… я ничего не сделал… ничего… Вот уже три года я мечтаю о парижских сценах; я собирал этюды…. Мазать двенадцать часов в день, в продолжение десяти лет!.. И когда я начинал принадлежать самому себе, показывать себя… Я ничего не сделал, я знаю отлично…. Но ты бы увидел…. Я проводил ночи для этих негодяев издателей, губил свои глаза вместо того, чтобы…. Я добывал деньги, вот все, что я сделал!.. В тридцать два года, черт возьми, быть подкошенным!.. Мой Мабиль еще что; ты бы увидел!.. Ну что же, неудача! что ты хочешь?… Кажется шесть или семь месяцев я буду видеть так, как теперь… В этом нет роскоши, как видишь… а после этого… после этого, покойной ночи! Я буду видеть руками…
Дошли до ресторана. Двери и окна были открыты, но дом казался мертвым: ни звука, ни души. На ставнях дверей, на которых с одной стороны были изображены карпы, а с другой – жаркое, был приклеен кусочек бумаги, где было написано: Заведение закрыто по случаю болезни. Требуется преемник.
– Вот хорошо! Закрыто! Черт возьми, Шарль! Да благословит тебя Бог!
– Погодите, раньше чем кричать.
И Шарль вошел в большую залу, где стояла маленькая дрянная печка. Он узнал эстраду в глубине, где когда-то в одно из воскресений под шумный и веселый оркестр прыгали танцующие пары. Толкнув дверь, он спустился в кухню, другие следовали за ним, – и увидел около огня бедного человека съеженного, изнуренного, с сморщенным лицом, между нитяным колпаком и кашне из коричневой шерсти; на нем был фланелевый жилет, поверх панталон. Обе его руки, вытянутые и окоченелые, опирались дрожа на палку.
– Ах, это вы господин Шарль, – произнес человек приподымаясь. – Я вас хорошо помню. Вы приходили прежде с этими господами из Лонгшана… Видите, я болен теперь… вот уже два месяца моя болезнь не покидает меня… Моя жена умерла вот уже год, тринадцатого числа этого месяца… Доктора все испробовали… Теперь они хотят послать меня на морские купанья… Это ничего, сколько вас человек? Я постараюсь приготовить вам что-нибудь… Я не могу сделать хорошо, все же умею кое-что, господин Шарль!.. И у нас есть барвена… Жанна!
Этот мертвый дом, этот больной человек, нагнали грусть на компанию. Голодный желудок, ожидание обеда, затем плохое вино привели гостей в нервное расположение духа. Умы были зло настроены, разговоры сердитые, Шарль сердился и сердил других. Да и все были раздражены и мрачны. Брессоре заметил, что тенор, который пел в его опере на репетиции, совершенно не имел голоса. Франшемсона продернул утром на четырех столбцах в республиканской газете один очень умный человек. Ламперьер думал о чем-то, что заставляло его хмурить лоб. У Ремонвиля были новые сапоги, которые ему жали. Буароже поссорился накануне с своей любовницей. Жиру думал о том, что ему скажет завтра окулист. А Шарль, видя все так изменившимся, думал, что было почти так же глупо желать возвращаться в красивые местности своей молодости, как и в красивые места своего счастья.
– Ну что же, дело идет на лад? – сказал Шарль за столом после первого куска.
– Гм!
– Хлеб черствый!
– Это обещает.
– Наконец!
– Ты возьмешь?
– Нет.
– Это что такое?
– Говядина… поддельная!
– Господа, – сказал Шарль наскучив слушать, – есть очень простой выход: заплатим и вернемся обедать в Париж.
– Чтобы сесть за стол в половине второго, не так ли?
– Мы теперь здесь…
– Из чего это сделано?
– Что?
– Бифштекс? – сказал Брессоре, – они делают его из филе Сен-Клу.
Острота не заставила смеяться.
– Брр!.. Тут сквозняк…
– Печка чадит, как человек.
Разговоры замолкли. Никто более не говорил. Все озабоченно ели.
– Знаешь ли ты, что ты нас покинул? – сказал Брессоре Шарлю.
– Как покинул! – сказал Шарль, который не хотел говорит о своей жене и отвечал, что его счастье заняло его.
– Если это так… Ты понимаешь…
Вилки в тишине стукали о тарелки. Ламперьер глядел на Шарля. Через несколько минут он сказал:
– Однако, Шарль, надо это высказать… Тем хуже! Это мутит у меня на сердце… К тому же я старше тебя… и твой друг… Ты не хорошо обращаешься с своей женой…
– Я?
– Мы между своими, и что я говорю не выйдет отсюда… как же ты оставляешь ее без гроша… она должна была занять двадцать франков у жены Вудене…
– Чья это шутка?
– Она не моя… и я не шучу.
– И ты поверил?..
– Какой интерес твоей жене говорить это?
– А! Это она… – Шарль постучал ножом по стакану.
– Девушка! Пошлите в Севр… нам нужна карета в шесть мест… Вот за дорогу… сейчас же, мы спешим… Будем продолжать обед… я отвечу тебе в Париже, Ламперьер… и всем вам.
Тогда на пороге двери показался бедный человек, принявший их.
– Довольны ли, господа? – сказал он, скромно поворачивая свой колпак в своих парализованных руках.
Никто не отвечал.
Человек подождал немного; потом он мрачно вышел.
Приехала карета.
– Куда ты нас везешь?
– В Париж, ко мне.
В дороге никто ничего не говорил. Шарль позвонил у себя. Антуан отпер:
– Барыня дома? – спросил Шарль.
– Она еще не приезжала, сударь.
– Подите за слесарем.
Антуан вернулся со слесарем.
– Надо открыть комод, – сказал ему Шарль, показывая на комод своей жены.
Замок соскочил.
– Смотрите, – сказал Шарль своим друзьям, выбрасывая оттуда кошелек, где лежало триста франков банковыми билетами, золотыми монетами, и монетами в сто су.
– Извини, – сказал Ламперьер, пожимая ему руку. – Я жалею тебя… а твоя жена…
– Довольно! Она моя жена…
Шарль слышал, как заперлась дверь. Друзья его уехали.
LXX
Когда Марта вошла, она нашла своего мужа бледным и серьезным.
– Что с тобой? – спросила она и подошла поцеловать его.
Шарль оттолкнул ее.
– Шарль!.. Боже мой! Но что случилось?
– Что случилось, Марта? Вы сказали…
– О! «Вы…» – прервала удивленная Марта.
– Позвольте мне кончить… вы сказали, что я вас оставляю без гроша… вы отлично знаете, что это неправда…
– О! какие сказки!.. Это Ремонвиль или Ламперьер…
– Это не сказка, Марта… и вы это отлично знаете. Зачем?
– Во-первых, я этого не говорила.
– Вы заняли двадцать франков у жены Вудене, а у вас триста франков в комоде… Это правда?.. Но не лгите же теперь, по крайней мере!
– Но… я совсем не так сказала… Я сказала, что мне нужны деньги, чтобы купить что-то, чего ты не хотел… Нет, слушай! Я лучше во всем признаюсь: мне пришла глупая мысль в голову… тебе никогда не приходило глупых мыслей? Я хотела представиться просто на-просто несчастной женщиной… клянусь тебе. Ну полно, Шарль, я больше не буду… Это кончено… Я виновата… я прошу у тебя извинения.
– Вам хотелось представиться несчастной женщиной?.. Но поймите же… Такими вещами не шутят… Вы не ребенок… Вы говорите подруге, женщине, жене Вудене, сплетнице, вы это знаете… Но ведь это подлость, моя милая!.. Вы компрометируете, бесчестите меня…
– Я уверена, вам это наговорили… Ваши друзья меня не любят… Кстати Шарль, скажи, вы были только одни мужчины? – сказала Марта, стараясь улыбнуться.
– Как вы глупы!
– Потому что вас никогда не узнаешь, – и Марта наклонилась поцеловать его.
– Мы были… – сказал Шарль, отталкивая ее, – вы отлично знаете, кто был, Ремонвиль, Франшемон…
– Они говорили тебе о твоей пьесе?
– Они знают ее по репетиции… Они ждут первой… Что хочешь ты, чтобы они говорили о ней?
– Знаешь… Так, между прочим… Ты уверен в фельетонах Ремонвиля и Франшемона, неправда ли.
– Уверен… Уверен, конечно, как можно быть уверенным, т. е. если я провалюсь, они мне не помешают падать… но они постелют мне матрацы…
– О, полно, она отлично идет, твоя пьеса… Я верю в успех, в большой успех… В самом деле, мне завидно предоставить тебе одному всю славу…
– Я не понимаю…
– Это ясно… так как машина идет сама собой, ты более не нуждаешься во мне… Роль утомительна, и…
– Ты не будешь играть? Ты не будешь играть в моей пьесе?.. В этой пьесе, где я хотел… Ты не будешь играть? – и голос Шарля прервался.
– Ну, пожалуйста, прошу тебя, не впадай в такое настроение. В Gymnase довольно женщин… Что ты хочешь? Эти эффекты не по моим силам… Маленькая вещица, например… Она пойдет очень хорошо… Я… я не чувствую этой роли… Я предпочитаю сказать тебе это сама… Ты бы мог взять…
– Ты не хочешь играть в моей пьесе, неправда ли?
– Тебя это очень сердит, скажи?
– Очень хорошо, милая Марта.
На другой день после завтрака:
– Куда ты идешь? – сказала Марта Шарлю, который выходил.
– В театр.
– Ты не подождешь меня? Вместе выйдем.
– Нет.
Когда Шарль вернулся, у Марты был Нашет.
Нашет сделался другом дома, и он изо всех сил старался трубить об «Очарованной ноте» в маленьких газетах.
– Здравствуй, Нашет, – сказал Шарль, – знаешь ли последние новости?.. Моя жена не играет в моей пьесе.
– Ба! – сказал Нашет с удивленным видом; и повернувшись к Марте, спросил: – Это правда?.. Что за идея!
– Боже мой! Я говорила Шарлю… Пьеса не по моим силам, вот и все… Публика меня ошикала бы, а я не хочу скомпрометироваться…
– Вы позволите вам сказать, что вы очень неправы, – сказал Нашет Марте. – Когда узнают, что вы отказались от роли, после того как приняли ее, изучали, репетировали, это поведет к сплетням, к историям… Публика захочет сунуть свой нос в ваш семейный очаг… Парижские известия будут жить на ваш счет в продолжение недели… Если бы дело касалось интересов пьесы! Но оно касается интересов вашей семьи!.. Это поведет во всевозможным неприятным шуткам на ваш счет и на счет Шарля… Нет, право, не делайте этой глупости… Я знаю, что я не могу убедить вас после того, как Шарль не мог убедить… но…
– О! вас, мой милый, – сказала Марта, – вас я не послушаю… Вы всегда поддерживаете моего мужа… Ну что ж, я делаю глупость, большую глупость, будут сплетничать, все что вы хотите… Но я не вижу необходимости рисковать в роли, которая не в моих средствах… я не хочу играть, и не буду.
– Но, – сказал Нашет будто бы затрудняясь, – я никого не знаю в Gymnase, кто бы заменил…
– Одиль, – сказал Шарль, – она согласилась…
– Одиль! Ах правда, – сказал Нашет, – мы спасены!.. Она будет очаровательна…
– Однако, – сказала Марта Шарлю, – недолго я вас заставила жалеть о себе, мой милый… О! вы прекрасно сделали… Право, вы не теряли даром времени!
LXXI
Ледяная холодность установилась между Шарлем и Мартой. Они жили один подле другого, разделяя между собою только обеды и завтраки и говоря друг с другом только за столом, чтоб предложить, принять или отказаться. Разговор понемногу иссякал и свелся на обмен односложных слов.
Так что Шарль был удивлен, когда однажды Марта, опрокинув голову на кушетку, и протягивая ноги к огню, заговорила:
– Заметили ли вы мой друг, как иногда изменяешь своим первым впечатлениям? Начинаешь дурно относиться, а потом мало по малу, невольно, незаметно антипатия исчезает и является мало по малу симпатия. С вами это случалось?
– Очень редко.
– Со мной также… Но когда я думаю, как я прежде судила о нем… потому что я дурно судила о нем… я себе вообразила… Он совсем не такой человек, каким я его представляла…
– О ком вы говорите, скажите пожалуйста?
– О Нашете.
– А! о Нашете… Это тем похвальнее с вашей стороны, что вы начали не со снисходительности… Вы правы, Нашет очень любезен… Я также изменил мнение насчет его…
– Вот видите!
– Он меня удивил своим терпением… Право, я видел, как он переносил от вас все ваши насмешки… Уверяю вас, что на его бы месте…
– Да, – продолжала Марта, следуя за своею мыслью, – это очень странно!.. И даже то, что мне не нравилось… этот взгляд, которого я боялась, эта голова, казавшаяся мне такой злой, его резкие манеры, этот дикий вид, словом, все, что отвращало меня… Поверите ли, Шарль, теперь я не обращаю на это никакого внимания? Точно я смотрю другими глазами… Я уверена теперь, что у него прекрасная натура.
– Милая моя, вы, как все женщины… Если вы создаете себе что-нибудь, то у вас нет середины… Ваше суждение переходит от одних крайностей к другим… Нашет просто на-просто…
– О! Вы до сих пор сердитесь на него за его статью.
Шарль пожал плечами.
– Женщины, женщины, – продолжала Марта, – вы можете говорить что угодно, они еще менее ошибаются в людях, чем вы: вы судите, мы угадываем… И так в этом молодом человеке я вижу горячку, гнев, нетерпение… одним словом, в нем есть страсть… которая заставляет меня любить его… Я убеждена, что этот человек способен на большое самопожертвование, на истинную любовь… А минутами, у него, такого грубого, является предупредительность, внимание, заботы, такое нежное обращение, такие…
– Ах, прошу вас, Марта, будьте осторожнее… вы мне рассказываете, что он влюблен в вас, и что вы почти влюблены в него.
– Ну что ж! Да, я говорю это вам, друг мой, – сказала Марта, принимая тон невинного ребенка.
– Вы согласитесь со мной, что для мужа, по меньшей мере, странно слышать такие сообщения.
Тогда Марта, с видом серьезно взволнованным, проникнутым голосом, медленно опираясь на каждый слог, произнесла:
– Простите, друг мой, предположим, что я вам ничего не говорила… Я доверилась… Я шла к вам… Я хотела сказать вам, как честная женщина честному человеку: я боюсь себя… я чувствую себя слабой… силы меня оставляют… пропасть близко… помогите мне… спасите меня. Вы моя помощь, моя опора… мой муж!
– Благодарю вас за эту мысль, – сказал холодно Шарль, – благодарю вас, Марта… Но я думаю, что вы слишком преувеличиваете: пропасть не так близка. Вы много времени проводите вместе… не знаю, право, зачем, если это не для того, чтобы жаловаться на меня и иметь эхо под рукою… Видите ли, я не угадываю, но я чувствую, я чувствую эти вещи… И никогда не ошибаюсь… Что касается любви, вы не любите ни тот, ни другой… Что он для вас? Для вас, говорю я, он, – пара ушей… и еще – игрушка для вашего каприза… и может быть, еще пугало ревности для меня… Что же касается его, что можете вы быть для него, например… я затрудняюсь… Но, несчастная! Что я сделал вам, что вы меня так мучаете? Какая страсть выискивать для меня терзания! Ах, довольно их у меня и без вас… Я болен, очень болен!.. Дайте мне отдых… Дайте мне умереть спокойно, по крайней мере!
– Вот вы все таковы мужья… а потом, когда…
При этом слове Шарль в первый раз отбросил обращение и тон светского человека.
– Ты комедиантка… всегда! Ты лжешь своим сердцем, как ты лжешь своим ртом! Ты говоришь о любви!.. Но ты рождена во лжи!.. Твои слова лгут, твой голос обманывает, твоя улыбка фальшива, твои слезы поддельны!.. В тебе все то, что лжет людям… и все, что лжет Богу!
– Сударь, в первый раз вы себе позволяете… и это будет в последний…
– Куда вы идете? – спросил Шарль, когда она надевала шляпу.
– К Нашету, – сказала Марта, как только можно драматичнее.
– Идите, моя милая.
LXXII
На другой день Шарль получил письмо от Марты. Она удалилась к своей матери и просила его через посыльного прислать ей мебель из её комнаты. Шарль ответил через посыльного, что она получит ее сегодня. Но час спустя Марта была у своего мужа. Она бросилась на шею Шарля, плакала, выразила такое раскаяние, что оно не давало места упрекам, размышлению, второму движению. Она говорила ему, что она сумасшедшая, что в ней сидит бес, что Шарль слишком был добр, перенося ее, что она никогда себе не простит, что она хочет любить его за все то зло, которое она ему сделала… И слезы, обещания, уверения прерывались поцелуями и улыбками, похожими на солнечные лучи во время дождя.
Марта в продолжение часа играла эту очаровательную комедию влюбленного раскаяния. Целый час она была великой актрисой; она была кошечкой, она была женщиной. Затем, когда она увидела, что воля Шарля таяла под её ласками, её сожалениями и унижением, слезы, которые обезоруживают, заменил смех, который заставляет забывать. Она смеялась – и там мило – над самой собой, над ними обоими, над их глупостью, особенно над своей; они создают себе муки, страданья, заставляют оплакивать свою любовь, когда у них есть все, чтобы быть счастливыми: молодость, свобода, будущее… Как это вышло? Кто ее толкал? Потому что это была её вина. Она была злая, капризная, взбалмошная; он был слишком добр, слишком слаб; он должен был бы наказать ее, как ребенка, которым она была… И поток этих очаровательных слов женщины, которая строит из себя маленькую девочку и просит, чтобы ее бранили, когда она непослушна, был неистощим. Их прекрасная жизнь возобновилась, их прошлое вернулось. Вся забота Марты состояла в том, чтобы понравиться Шарлю. Она прилагала все свои старания и средства, чтобы быть ему приятной. Кокетство её исчезло. Она только и смотрела, только и думала о нем. Она вспомнила прежние утренние праздники, эти пробуждения, которые своими сумасшедшими объятиями подымали Шарля. Ни на минуту ею не овладевало прежнее настроение. Она представляла его в карикатуре, так комично преувеличивая его, что Шарль говорил ей, обнимая ее:
– Наше счастье излечено теперь!
LXXIII
К концу двух недель, – так как это продолжалось две недели, – однажды вечером Марта задумалась.
– Что с тобой, моя маленькая Марта? – спросил ее Шарль.
– Со мной?.. Ничего.
– Ничего? Правда?.. Ровно ничего, Марта?
– Ничего, уверяю тебя, ничего.
– Я верю тебе… Что же это?
– А если я не хочу сказать.
– Маленькая Марта!..
– Ну хорошо, я хочу, но…
– Но?
– Ты видишь это не я… Я ни о чем не говорила… Это ты… Я скажу тебе завтра… обещаю тебе.
– Нет сейчас.
– А, ты упрям… Ну хорошо, с условием.
– Ого!
– Дай мне слово, что ты исполнишь то, что я попрошу.
– Но подумай, дорогая, ты можешь у меня попросить… я не знаю… прядь волос Сильвио Пеллико, например!.. Я не могу ручаться…
– Ты не хочешь, хорошо.
– Марта!
– Нет!
– Значит это серьезно?
– Не знаю.
– Однако, дорогая моя…
– Ну, хорошо, я хочу снова получить мою роль… вот.
– Моя маленькая Марта, подумай же… Мне бы тоже очень хотелось… Еще если бы ты сказала это раньше, но теперь… Будь рассудительна, дорогая моя, осталось всего несколько репетиций…
– Как хочешь.
– И потом, хочешь я скажу тебе правду?.. Я боюсь теперь, я сомневаюсь, да… Может быть, это усталость от репетиций? Но мне кажется, что я составил себе иллюзии насчет моей пьесы, и твоя роль… Я тебе сделаю другую, гораздо лучше, ты увидишь, обещаю тебе…
– Значит, нет?.. Хорошо. Одиль будет играть мою роль. Одиль будет иметь успех… Она займет мое положение в театре, она уничтожит меня, она…
– Полно, дитя мое, ты себе вообразила… Ты придаешь чересчур большую важность моей пьесе… Самое большее, что она составит, это – маленькое имя её автору.
– Ты не хочешь, не правда ли, ты не хочешь? – повторила Марта и вдруг, приняв сухой, иронический вид и острый, светлый, как лезвие ножа, взгляд, проговорила:
– Ну что ж, мой милый, ты может быть прав… Если бы я была на твоем месте, я бы сделала также… К тому же еще ты любишь меня, а я тебя не люблю…
– Марта, – сказал Шарль.
– Ах!.. Чего же ты хочешь? Я тебя никогда не любила… Я вышла замуж за тебя потому, что я была комедиантка… Я хотела настоящего мужа… а потом, выйдя замуж, я пожалела… Я бы могла выйти за более богатого, или… я не знаю… Словом я пожертвовала тебе своим будущим… Ты знаешь, тот день, когда ты вернулся из Ба-Медона? Я солгала тебе… помнишь, о займе у мадам Вудене… я рассказала тебе, что мне пришла идея представиться несчастной женщиной, что я хотела заинтересовать собой… Это было не то, это было…
– Это было?
Тон Шарля прервал фразу Марты, которая продолжала:
– Ты сказал, что это было для того, чтобы тебя лишить уважения… что я хотела обесчестить тебя… Ну чтоже! Может быть, было и это…
– Молчи!.. Ведь ты клялась… Ты, безумная, молчи!
– Подожди!.. Я также сказала, что ты заложил все мои бриллианты…
– Ты сказала это? – сказал Шарль, схватив ее за руки.
– Оставь меня… Оставь же!
И она пробовала освободиться от него, затем произнесла презрительным тоном:
– Не тебе бить женщину!
– Ты сказала, что я бил тебя?.. Ты могла это сказать, не так ли?
– Я сказала это.
Шарль упал на стул, почти без сознания, со слезами на глазах:
– Поплачь, поплачь немного! Это тебе принесет пользу… Я никогда еще не видела тебя плачущим… О! какое смешное лицо!..
Шарль вскочил, бросился в ней, потом в отчаянии внезапно ударился головой в стену, чтобы разбить себе череп…
Шарль поднялся и провел рукой по лбу.
– Что? Осекся? – сказала Марта.
Шарль схватил ее и понес… окно было открыто… Но он почувствовал мертвое тело в своих руках: Марта упала в обморок перед взглядом своего мужа. Она была спасена, Шарль бросил ее на землю и кинулся с лестницы.
LXXIV
Шарль шел по улицам, было поздно. Отблеск газа играл на окнах закрытых лавок на пустынных тротуарах, на мостовой, по которой вдали катился последний омнибус. Шарль шел, преследуемый маленьким сухим шумом, чем-то в роде ударов крюка тряпичника по его корзине.
Он шел из улицы в улицу; наконец пришел на бульвар.
Шарль шел как пьяный. Ноги его сгибались и уносили его. Смутная, безличная, механическая воля толкала куда-то. Все в нем умерло. Он ничего не помнил, не думал. Он только чувствовал пустоту в голове и дрожь в теле. То он торопился, то бродил без цели.
Свет фонарей, освещение в кафе, в клубах казалось ему померкшим. Он толкал прохожих, чтобы подойти к фонарю табачной лавки, спешил к другой, ударяясь плечом о ставни лавок. То, вдруг, остановившись перед чем-нибудь, он глядел ничего не видя. Он пристально смотрел в окно магазина, где приказчики закрывали товар полотном, или на канавку у края тротуара, которая вела в сточной трубе, или в маленькую лавочку с ячменным сахаром, которую стерегла старушка, сидящая на корточках и дремлющая согнувшись вдвое. На Монмартрском бульваре он остановился перед картиной, нарисованной красками и изображающей последнюю сцену из Тридцати Лет или Жизни Игрока…
Время от времени острое страдание, как молния, мелькало в его мозгу; затем тотчас же завеса падала, голова переставала работать, и он шел далее… Он прошел Gymnase, бульвар Бон-Нувель, то останавливаясь, то снова принимаясь идти, дойдя до ворот Сен-Дени, он пошел вдоль стены, которая поворачивала и выходила на улицу Сен-Дени… Все спало. Только в колбасных коптили свинину, да в лавках каштанов светились красные печи и белые лампы.
Белая блуза толкнула Шарля, женщина остановила его и говорила ему что-то, он слушал ее, но не слыхал. Он почувствовал какой-то холод в ногах: это были помои от винных лавок, которые ему мели под ноги. Тогда вдруг его пленила тьма, как раньше пленял свет. Он бросился в черный переулок, в глубине которого дрожал красный свет. Он пошел вдоль обвалившихся тумб, закрытых ставней, мимо ворот сияющих, как печные горла. Ноги его попадали в грязь, в обрезки, скользили по узкому скату, заключенному между двумя канавами. Взгляд его блуждал и останавливался на подозрительном свете, сквозящем через сальные занавески, или на лампе, дымящейся в глубине узкого прохода; наконец он остановился перед красным фонарем и принялся складывать одну за другой черные буквы: «Меблированные комнаты и кабинеты помесячно и в сутки»… Шарль пошел дальше, где дорога тонула в грязных потемках и нищете, машинально и с ожесточением стремясь заблудиться, заворачивая тысячу раз в переулки, которые ведут от улицы Сен-Дени к рынку, спеша, все спеша, лихорадочно стуча ногами, спотыкаясь и будя эхо этого лабиринта безыменных домов, кривых отелей и разбитых фонарей. Наконец, он вздохнул легче и ему показалось, что грудь его расширялась: он был на рынке.
Затем он пошел дальше, открыл дверь какого-то кабачка, сел перед столом, накрытым полотном поверх ящика, полного салфеток, запачканных яичным желтком, не мог вспомнить чего он хотел, и охваченный страхом ушел… Наконец, ноги донесли его до своей двери. Он ничего не видел, кроме тени от лампы на потолке комнаты без занавесей во втором этаже, Шарль вошел в комнату своей жены: он нашел Марту в постели.
– А, вы легли?.. Вы спали, быть может?.. Вставайте и убирайтесь вон… Вы зашли слишком далеко… На этот раз кончено, навсегда кончено… У меня никогда не являлось желания поднять руку на женщину, но… ничего не известно, я мог вас убить.
Марта поднялась. Она медленно одевалась с красивым бесстыдством и кокетством куртизанки. Шарль ходил большими шагами, не глядя на нее. Марта смотрела на него; и судя по её странному взгляду умоляющему и укрощенному, можно было сказать, что эта грубость, в которой она не считала способным своего мужа, эта смерть, которая прошла так близко от неё, холод, который она почувствовала, этот ужасный гнев, наконец, этот человек, близкий с преступленью, внушил ей развратную покорность женщины, которая боится своего любовника…
– Так это вправду кончено, Шарль?.. Конечно навсегда.
Шарль отвечал кивком головы.
– Ничего, мой милый, – сказала ему Марта в дверях, – я ношу твое имя, это тоже самое.
И она убежала.
LXXV
Уже три недели как репетировали Очарованную Ноту, пьесу Шарля. Шла предпоследняя репетиция, после которой оставалась еще одна перед генеральной репетицией.
В полутемной зале, завешанной чехлами, широкая полоса света прорывается из окошка райка и косыми лучами освещает часть сидящей налево публики. Наружный свет ударяет в красные занавеси лож и делает их огненно прозрачными. Посреди этих сумерек, темная люстра сверкает в нескольких местах, где в призмах играют сапфировые и рубиновые огни. В оркестре, в зале, на балконах авансцены, рассеяны тут и там черные пятна – это публика; человек двадцать зрителей. На сцене рампа опущена; а в антрактах во время перемены декораций, между плафоном, который медленно спускается и декорациями, на которых он будет покоиться, видны леса синеющих декораций. Любовник весь закутан в кашне. Актеры только делают жест, будто снимают шляпу и оставляют ее на голове.
Что-то ночное, молчаливое, призрачное, таинственное блуждает всюду вокруг простуженных актеров.
– Вы верите в успех?
Это было сказано одной тенью другой, сидящей в ложе на авансцене.
– И даже в большой успех, да, – отвечал голос Нашета Марте. – После этой первой сцены он овладевает публикой… Между нами, машина отлично построена… Я никогда бы не подумал… И потом его поддержат… Если вы его освищете, вы заставите его вызывать… За вами будут ложи, но не зала… А фельетоны! У него есть истинные друзья… которые подогреют успех… Но она великолепна, эта маленькая Одиль… Есть женщины, на которых никогда не смотришь… Я ее никогда не видел, честное слово… Говоря правду, знаете ли, она сыграла с вами хорошую штуку, взяв вашу роль? Это ее выдвинет… Очень хорошо, право, очень хорошо… Она способна сесть вам на голову, эта девочка…
– У вас злость… ваша собственная, милый мой… Что это за женщина на той стороне балкона?..
– Конечно… да, Греси… Вы не знаете, она влюблена в вашего мужа… Вы ее знали? Ах, он её каприз, помешательство! Смешны эти женщины! Любовь овладевает ими… как и другими…
Марта прервала:
– Друзья Шарля, это Ламперьер, Франшемон, Ремонвиль, Буароже, Лалиган, не так ли?..
– Да.
– И вы положительно думаете об успехе, Нашет?
– Посмотрите на нее… нет, вы посмотрите на нее, у ней такое личико, у этой Одиль… Что вы говорили? Успех, но он ясен как день. Постойте, слышите, смеются?
Марта не произнесла ни слова.
– Что с вами? – спросил ее Нашет.
– Я думаю.
– О чем?
– Ни о чем.
По окончании репетиции Нашет проводил Марту домой. С тех пор, как она покинула своего мужа, Нашет сделался её рыцарем. Он сопровождал ее всюду, он составлял ей компанию дома. Болтуны приняли его сначала за любовника Марты; но некоторые слова, некоторые злые насмешки Марты, которые никогда не срываются с любящих уст, разуверили наблюдателей, которые порешили считать Нашета козлом отпущения, patito капризов этой женщины, заместителем мужа в роли предмета мучения. Нашет позволял говорить, что угодно, и казался совершенно довольным тем, что обманывает публику и считается у дураков за любовника этой элегантной и красивой женщины, всегда появляющейся об руку с ним.
Придя в комнату и бросив шляпу и шаль, Марта взяла маленькую шкатулочку, отперла замок и вытащила оттуда письма. Нашет глядел на нее, стараясь угадать и не угадывая, видя только злую улыбку, играющую на губах Марты.
– Что это такое?
– Письмо, – сказала Марта.
– Я это вижу.
– Ах! Он очень умен…
– Кто?
– Мой муж.
– Я в этом не сомневался… Далее?
– Ах, мой милый, – воскликнула Марта, все улыбаясь и опрокидываясь на кресло с демоническим видом, – если б я захотела!.. Как зовут его друзей, которые поддержат пьесу?
– Вы их знаете: Франшемон, Ламперьер… и другие, вы их только что называли…
– Если б я захотела!.. – повторила Марта пробегая письма. – Слушайте, – и она прочла Нашету дюжину строк, где самые тайные желания, иллюзии и утопии Ламперьера были осмеяны и пародированы очень едко.
Эти письма были письма Шарля, которые он писал Марте до своей женитьбы в Брюссель. Шарль, влюбленный, боясь быть забытым, напоминал о себе Марте каждое утро, чем-то в роде маленькой газеты, которую он старался сделать забавной, и вложить в нее как можно более соли и веселости, чтоб не очень надоедать актрисе приторностью своих нежностей и монотонностью своей любви. Он представлял все в смешном виде, чтоб заставить ее смеяться, Париж, своих друзей, самого себя; это были маленькие насмешки по поводу всех, попадавшихся ему под перо; сердце его в них не участвовало, но к несчастью они почти всегда касались чувствительного места каждого, единственного смешного, в которому даже самые не мнительные относятся с особенной деликатностью, делая из него вопрос чести, той незаметной точки, маленькой особенности характера, ума или физического качества, которая составляет у каждого уязвимое место его тщеславия. Зло было бы еще не так велико, если бы Шарль касался только таланта людей; но он касался банта их галстука, формы их ногтей, и эти нескромности, которые, брошенные в разговор, были бы забыты и прощены, эти нескромности напечатанные, опубликованные, должны были сделать из его друзей злейших и безжалостных врагов.
– А! Вот и Франшемон… и Марта прочла места, где говорилось о Франшемоне.
Потом дошла очередь до Ремонвиля, Лалигана и Буароже.
– Но это посылает вам Провидение, – сказал серьезно Нашет.
– О, – сказала Марта, опуская письма, – вы могли подумать?.. Вы понимаете, что я никогда этим не воспользуюсь…
– Да, это правда… вы не можете ими воспользоваться… Ну, что же. Демальи будет иметь огромный успех… Одиль помешает возобновлению вашего ангажемента в Gymnase… А вы знаете, что такое успех?.. Он побеждает все! Симпатии, уважение, сострадание… все! На другой день представления Демальи будет хорошим мужем… Теперь общественное мнение за вас, тогда оно будет против вас… Ему достанется лучшая роль; вам…
– Это дурно, что вы мне советуете…
– Я? Я ничего не советую… который час? Я еду обедать…
– Послушайте еще насчет Ламперьера… и она прочла. Ну, что?
– А то, что вам надо оказать услугу… и одним движением руки Нашет выхватил у ней пачку писем, – чтобы помешать вашему мужу играть лучшую роль!..
– Нашет! Нашет! Послушайте, мои письма! Отдайте мои письма!.. Это невозможно… Это было бы отвратительно…
– Не надо ребячиться, моя милая… Вы только что переехали, переезды существуют для потерь корреспонденций…
– Боже мой, но… Нашет! Что вы хотите с ними сделать?
– Я скажу вам в воскресенье, и Нашет, быстро взяв шляпу, исчез, не давая Марте времени опомниться.
LXXVI
– Улица Шильдберт, номер четвертый! живо! – крикнул Нашет, бросаясь в карету. По дороге он прочел письма, и отчеркнул карандашом около двадцати мест, которые он переписал в памятную книжку. Работа его была окончена, когда карета остановилась. Он бросился по сырой грязной лестнице, поднялся в третий этаж и дернул за колокольчик, сделанный из железной проволоки с деревянной палочкой на конце.
– Ключ в двери, – проворчал голос изнутри.
Нашет вошел в комнату, заваленную бумагами. В углу кровать, выкрашенная по-старинному в белый цвет со светло-зелеными полосами, сделалась серой и грязной, а рваные простыни открывали внутренность несделанной постели. Пакеты негодных старых бумаг валялись на полках. На камине стояли бюсты Вольтера и Руссо, двух богов автографа. Около сидел человек, красный, с лоснящимися щеками, почти синими от крови, как у некоторых стариков, ноги его были обуты на босу ногу в туфли с каемочками и протянуты к потухшей печке, где стоял стакан вина на две трети наполненный водкой.
– Господин Ганьер? – сказал иронически Нашет, низко кланяясь.
– Надень свою шляпу, твои вши могут простудиться.
– Ты все такой же, старый плут, – сказал Нашет, одевая шляпу.
– Не стесняйся со своим приемным отцом, который тебя направил в Париж, неблагодарный… Но ты кажется довольно прилично одет?
– А коммерция?
– Пустяшная коммерция… Ах! Если бы господин королевский прокурор захотел позволить мне продолжать мою старую коммерцию!.. она шла довольно хорошо… Школьники и старики проглатывают эти книги как ангелы…
– Сократили тебя… Я знаю твое горе.
– Да… Видишь ли, великие люди, это менее серьезно, чем рента… Нет ли у тебя кого-нибудь, у тебя теперь есть знакомства, который купил бы у меня коллекцию писем гильотинированных польской династией? У меня есть очень полная… Однако, что тебе надо?.. Чем можно служить тебе; и не делай пожалуйста quoniam bonus…
– Это что такое?
– Письма.
– Хорошо… Дальше?
– Надо сделать выписки из этих писем; я тебе их отметил под рубрикой: «Продажа интересной коллекции автографов»…
– А другие?
– Какие другие?
– Другие письма… Ты хочешь, чтобы я устроил их продажу?.. И притом имя, которого я не знаю.
– Ты прибавишь к ним те, которые ты у меня выманил… Ты ведь взял их у меня массу… Ты прибавишь к ним несколько благодетелей человечества и твоих гильотинированных… так как дело идет не о продаже.
– А! Дело идет не о продаже… Тогда, что ты платишь?
– Пять луидоров, это все что у меня есть! – сказал Нашет, выворачивая четыре подкладки двух жилетных карманов и двух карманов своих панталон, – и еще десять в субботу после получения корректурного листа.
– Не жирно, милейший.
– Кроме того, обещаю тебе корреспонденцию Дежазе… пресмешную… она есть у одного из моих друзей, и он обещал мне дать ее. Говори после этого, что тебя забывают, старый злодей!.. Потом у меня скоро будет масса автографов, как у редактора большой газеты… Быть может, и для тебя будет доверенная должность в объявлениях.
– Болтун!.. Что ж, надо что-нибудь сделать для детей, у которых в виду… А какой риск.
– Никакого… Продает законный владелец… И так, из пачки ты составишь с тем, что прибавишь, около листа… На воскресенье мне необходима корректура, понимаешь?.. Ты их распределишь, затем через неделю я заставлю тебя объявить, что продажи не будет… богатый любитель иностранец купил их оптом… Ты принесешь мне письма вместе с корректурой.
– Нет, я сохраню их… Быть может, автор захочет их выкупить?.. У меня издержки, их надо покрыть.
– Как хочешь… мне все равно… тебе будет заплачено, чтобы ты меня не называл… Самое позднее в воскресенье, а? Мне нужен каталог в воскресенье утром… Ах! Там стоит везде моя милая… уничтожь моя милая… Это бесполезно.
– Понимаю! Публике не должно быть известно, что это адресовано к даме… Честь женщин!
– Ты угадал.
И Нашет направился к двери.
– Ты уходишь?.. Останься же на минуту… Идет проливной дождь… Мы поболтаем маленько.
– У меня карета, я спешу.
И Нашет пошел.
– Скажите пожалуйста, – сказал насмешливо Ганьер глядя ему в затылок, – знаешь ли ты, что Господь Бог оказал тебе великую милость! Он хотел тебя сжечь… и сделал только рыжим.
LXXVII
– Отлично все устроено, – сказал Нашет, садясь в карету, – что могут мне сказать? Ничего. Я только повторяю каталог, напечатанный в четырехстах экземплярах. Мой ответ прост: вот каталог, вот он… вот он!
Он посмотрел на часы:
– Восемь часов!.. Черт возьми! Я сегодня не буду обедать… Скорее, кучер!.. Мне еще надо время, чтобы переодеться…
– Заплатите за карету, – сказал он консьержу, который поклонился и шепнул ему на ухо.
– На верху вас ждет маленькая дамочка.
– Как? Вы пускаете… Когда меня нет дома?
– Я думал, что это прежняя любовница господина.
– Во первых никогда не впускают прежних любовниц, слышите ли?
– А! Это вы, Марта, – сказал Нашет, – входя к себе.
– Да, милый Нашет… Я обдумала… Это невозможно… Серьезно, это было бы отвратительно!.. Вы хотели оказать мне услугу… Но, право… отдайте мне мои письма… пожалуйста!
– Я в отчаянье, милая Марта… Революция говорит на это одно слово: слишком поздно!
– Не говорите этого, Нашет…
– Нет, вы не хотели бы…
– Я ничего не знаю, – сказал Нашет, – холодно глядя на нее.
– Ну полно… вы меня ведь любите… немного.
И Марта призвала на помощь все свое кокетство, всю ласковость.
– Я?
И Нашет покатился со смеху, от которого задребезжали стекла.
– О!.. Я боюсь вас… Прошу вас… Поспешите… Нашет, отдайте письма…
Вдруг глаза Нашета загорелись; такой блеск бывает у диких зверей.
– Так вы значить не понимаете, что я смеялся над вами?
И он снова захохотал; его глухой голос дрожал.
– Вы значит не поняли, что дрянная обезьяна вошла в вашу жизнь не для того, чтобы обожать вас, но зачем-то другим? Вас любить, вас?.. Да разве у вас есть сердца хоть на два су?.. Женщина, которая находила удовольствие попирать ногами любовь человека, которая заставила и общество попрать его!.. Ваш корсет? Ах, чорт возьми! Известно, что под ним: мясо на камне!.. Однако, вам повезло!.. Найти дурака с сердцем, который вам поклонялся; вам, комедиантке, которой всякий встречный говорит «ты» и может взять за талию!.. Он сделал вам честь, женившись на вас перед настоящим мэром… Ему пришла идея вложить в ваши уста то, что у него было в голове, чтобы разделить с вами свои мысли, свой успех… И вы думаете, что найдется два таких идиота?.. Я? Но вы значит не чувствовали, что вы орудие в моих руках, вещь, ведущая меня к цели?.. Вы не посмотрели на меня? Вы не видели значит, что счастье Шарля обдавало меня грязью?.. Что я завидовал, да, завидовал! Завидовал его богатству, которое делало его хозяином себя и свободным от работы, которая убивает; завидовал его домашней жизни, которая коробила меня; завидовал друзьям, которые у него были; его имени, его лицу, его книге… всему, да! Вы меня не поняли, не исследовали, не угадали?.. Как вы глупы!
– Сударь…
– Да, я вошел в ваше жилище, чтобы опрокинуть лампу, и заставить вас пройти то, что съедало, разрывало меня… Теперь вы поняли?.. Вас любить… Ах, вы вообразили себе!.. У меня нет времени, моя милая!.. Но если бы даже мне и пришла фантазия… Потому что, иногда… отчего же? У вас нет таланта; ваши гримасы ingénue начинают увядать, красота ваша дурного качества… Вы полетите из театра и так низко, что в один прекрасный вечер… когда я хорошо пообедаю…
– Сударь!.. – воскликнула Марта.
– Мы поговорим о разных вещах… о хорошеньком салоне вашего мужа… о детях, которых вы могли бы иметь… Говорят, что материнство связь, которая не обрывается у женщины: мы увидим!.. Тысяча извинений, я вас не удерживаю…
И принимая ужасную интонацию Бильбоке:
– Я занят своим туалетом!
И он снял свой галстук, когда Марта вышла.
– Это облегчает, – сказал Нашет перед зеркалом, крепко проводя щеткой по своим зубам. – Отлично, дело идет на лад… Я уверен в Пюизинье, и… кстати, на сегодня кажется приглашение Кутюра?
И он перечел письмо:
«Старик, я при деньгах. Твой прибор поставлен в пятницу 18-го, с девяти часов вечера до следующего дня. Празднество будет в мастерской Жиру, который отправился покупать зеленые абажуры в своей стране. Будет Мария и другой ангел.
Твой Кутюра».LXXVIII
Не было и половины десятого, когда Нашет вошел в мастерскую Жиру.
– Какова? – сказал Кутюра, показывая ему глазами на женщину, сопровождавшую Марию.
– К птицам! – отвечал Нашет, употребляя один из парижских идиотизмов, которые производят впечатление жабы, выходящей из человеческих уст.
– Дочь моя, – сказал Кутюра женщине похваленной таким образом Нашетом, без волнений и любезностей. – Этот господин – директор Délass! Com!..
– Господин директор?..
И бедная девушка посмотрела на Нашета, как нищета глядит на менялу.
– Он самый! – отвечал Нашет, уловив подмигиванье Кутюра и прекрасно войдя в свою роль. – Да, моя милая, от меня зависят ангажементы.
Сели вокруг стола, Кутюра около Марии, Нашет около Германс, так звали спутницу Марии.
– Есть категории актрис, – говорил Нашет, – как есть сорта мяса… Не надо скрывать этого от вас… У нас есть женщины, которые платят в театр, чтобы играть… это не в вашем роде, отлично… У нас есть женщины, получившие ангажемент, который они могут показать… вы понимаете… но мы им не платим… Это все еще не то, не правда ли. Наконец, у нас есть первого качества… настоящие ангажементы… и подлинные как книжка сберегательной кассы!
Германс спросила:
– А что надо для того, чтобы…
– Что надо?.. Надо все: волосы, глаза, зубы, ляжки! Все, что у вас есть… Если кроме того вы обладаете талантом госпожи Марс или Альфонсины, талант не вредит. Вы не говорите в нос, это уже кое-что, и с протекцией…
– Но я никого не знаю…
– А директора, моя милая, – сказал Нашет, сделавшись любезным.
Мужчины и женщины пили и ели.
Нашет, которому Кутюра подливал, не оставляя пустым его стакана, пил более всех, и сон Аталии, который декламировала Германса, делая ударения на полустишиях и окончаниях, разнеживал его, что скорее делало честь вину Кутюра, чем таланту Германсы. Мария в свою очередь начала петь простонародную песню под аккомпанемент ножей по стаканам, как вдруг прервала себя:
– Скажи пожалуйста, Кутюра, что это за глупости?
И она показала на стену, где висела масса маленьких башмачков из белого шелка, с бантиками и розетками.
– Башмачки испанских танцовщиц, которые мы привезли из наших путешествий… Башмачки-автографы. – Мария вскочила на табурет, взяла один башмак с красным бантом, такой маленький, что китайская мать не рискнула бы его примерить своей дочери; поднеся его к носу Кутюра, она спросила:
– И на кончике этого была женщина?
– Почти! – отвечал Кутюра.
Мужчины курили. Женщины напевали куплеты или чистили фрукты.
– Однако, очень неудобно сидеть на твоих креслах, – сказала Мария.
– Идея! – сказал Кутюра. – Что если мы снимем козлы со стола?
Положили на землю стол, который служил для людской, и каждый уселся или улегся вокруг в интимных позах Лампре и со свободой, которая является в конце ужина. Нашет на животе с турецкой трубкой в зубах, окруженный табачным дымом, рассказывал Германсе, положившей голову на подушку, пьесу, в которой он заставит ее дебютировать, и костюм, который она должна была надеть. Кутюра, сидя по-турецки, скрестив ноги и, прислонившись к стене, подставил свое плечо дремавшей Марии; по временам он смотрел на булевские часы, стрелка которых подвигалась к четырем часам утра.
На столе в беспорядке стоят стаканы; в некоторых из них налита вода, которую женщины пили, чтобы не очень опьянеть. Ставан с рейнвейном наполовину полон, и белое вино в зеленоватом стекле кажется топазом, упавшим в море. Светло-розовые остатки шампанского пенятся в бокалах, стоящих на столе как хрустальные фонтаны. Китайские десертные тарелки сдвинуты, указывая на фамильярность, как кресла после вечера; косточки; кожа от фрукта, кусочки сахара, лежащие на них, закрывают их цветы и узоры. Посреди стола рассыпавшаяся пирамида из груш; несколько обсахаренных вишен забыты на кружевной бумажке. Персики один на другом, две кисти винограда валяются на сухих скоробленных листьях. Тут и там маленькие хлебцы, выщипанные посредине ноготками, хлебный шарик, который скатала Германса в начале ужина.
Освещенная свечами на столе, венецианская люстра бросает на потолок огромную тень с тысячью лап, похожая на насекомого в микроскопе. Уже пят часов. Вдруг раздался звонок.
– Ах, – сказал Кутюра, – я и забыл… извините меня господа, так как я дерусь сегодня утром… и подойдя к Германсе, шепнул ей:
– Помни, я не знаю, что ты любовница Пюизинье… – и он положил её голову на грудь Нашета.
Молодой человек, введенный Кутюра, был закутан в большой плащ, который справа расширялся под пистолетным ящиком, а сзади подымался от двух шпаг.
– Господа, барон де-Пюизинье… Благодарю, ты аккуратен… Да, мой милый, я приготовлялся к смерти в семье, как видишь…
Пюизинье увидел Германсу, увидел Нашета. Он бросил один из тех взглядов, которые хотят убить; произнес: – А! – и сел.
Нашет, у которого еще было настолько сознания, чтобы узнать Пюизинье, сконфузившись и чтобы что-нибудь сказать, спросил Кутюра.
– Как?.. Что это за фарс?.. Ты дерешься?
– Да… глупое дело… глупое!.. Толчок, который окончился пощечиной… моя рука оказалась на щеке англичанина… нас разняли… англичанин кричит мне: «послезавтра, Сен-Жерменская терраса, семь часов!» И он бросает мне свою визитную карточку, я кладу ее в карман, прихожу домой, смотрю и читаю: Лондон, Пиккадилли… Я попал на англичанина, живущего в Лондоне, единственного англичанина, который не живет в Неаполе или в отеле Виндзор!.. Ты понимаешь, невозможно было нашим секундантам свидеться… Они переговорят на месте дуэли… Я рассчитывал на тебя и Пюизинье… но ты кажется несколько взволнован… Да, ты взволнован… я зайду по дороге за Бурнишем.
И видя Пюизинье неподвижно стоящего в гневной позе.
– У тебя вид горя мраморного сердца, мой милый, или ограбленного человека… Что ты потерял, а? А ты тоже, что с тобой делается, – спросил Кутюра Германсу. – Германса у вас вид слишком невинный для того, чтобы не иметь грехов.
И обращаясь в Пюизинье:
– Это верно, да?.. Ах, мой милый, что ты хочешь? Несчастье: я в отчаянье… но это случается со всеми и с твоей стороны будет также глупо сердиться на Нашета как на слепого, который отдавил тебе мозоль… Что за черт! Он не мог угадать… Ах, вот неудобство скрывать от своих друзей своих любовниц… Но без шуток… мы опоздаем… Дай руку Марии, Пюизинье… тебе, Нашет, дружеский совет: или ложись на кровать Жиру, ты передашь ключ… Идем!
И взяв под руку Германсу:
– Ни слова, – сказал Кутюра, – он вернется к тебе – и еще любезнее, чем прежде… Твой ангажемент в ходу… а ты знаешь, что я держу свое слово женщинам.
Женщин проводили. Затем разбудили Бурниша, который полетел на дело Кутюра, как жук на фонарь. Он рассыпался в вопросах и восклицаниях до самого Сен-Жермена, он видел этого англичанина, он был уверен, что встречал его; он рассказывал себе происшествие, переспрашивал Кутюра, представлял себе секундантов, которых они должны были встретить, высовывался из кареты, думая увидеть бакенбарды англичанина и ничего не видя, возвращался к Кутюра, который посылал его прогуляться.
Приехав в Сен-Жермен, он прошел всю террасу; никого. Прошел час; ничего. Кутюра послал Бурниша справиться в павильоне Генриха IV и в ближайших отелях: никакой англичанин не появлялся там. В десять часов Бурниш объявил, что ему надо быть в Париже в двенадцати часам. Кутюра вспомнил, что знает одного офицера в гарнизоне Сен-Жермена, который не откажет ему быть его секундантом; и отправляя Бурниша, он объявил, что сам будет ждать целый день, «по примеру испанцев». Оставшись один с Пюизинье, Кутюра стал прогуливаться с ним в лесу; и там, в этой таинственной атмосфере, в этом воздухе, который раскрывает сердце и душу, пользуясь местом и обстоятельствами, Кутюра, приняв тон человека, готового умереть и доверяющегося другу, отбросил вдруг свои насмешки, свое шутовство; тот самый Кутюра, которого так хорошо знал Пюизинье. Голос его сделался ласкающим, выражение печальным; он сочувствовал горю Пюизинье, слушал его, обнимал, отнесся к нему со вниманием и главное с уважением, и не стал утешать его. Он только жалел вместе с ним, оплакивал его обманутую любовь, сказал ему, что и он также был когда-то обманут, и – это было шедевром Кутюра – рассказал ему о своей первой любви, об этом первом обмане, который сделал его, как он признавался, дурным и насмешливым. Он завладел бароном в продолжение целого дня, льстя ему, пробуя играть на его чувствительности, усыпляя его недоверчивость, залезая ему в душу, как бы отдаваясь ему, изливая свою откровенность без всякого ложного стыда, овладевая им посредством его еще горячей страсти и первых слез его иллюзий… Когда они воротились в шесть часов вечера в Париж, Пюизинье и Кутюра были друзьями, будто оба были обмануты одной и той же женщиной.
LXXIX
В шесть с половиной часов Кутюра и Пюизинье под руку входили на бульвары, болтая о близкой смерти тетки Пюизинье, к которой барон зашел с железной дороги, и которой оставалось «тянуть» не более двух, трех дней. Они говорили о будущем, о наследстве, о том, что мог бы Пюизинье предпринять на те средства, которые будут у него в руках, о положении, которое он займет в публицистике, когда вдруг они повстречались с Монбальяром, фланировавшим заложив руки в карманы.
– Откуда, черт возьми, вы вылезли, – произнес Монбальяр, – вы грязны как проселочная дорога… Кстати, что у тебя вышло с Нашетом?.. Он страшно зол на тебя!.. Он рассказывает в кафе шарж, который напишет на тебя и на твою сегодняшнюю дуэль… Это правда, что ты дрался?..
– Нет, мой противник не пришел… А ты, что ты поделываешь?
– Я, мой милый, скучаю… я думаю, что становлюсь слишком стар для ремесла… Париж смердит… Я бы дал десять су, чтобы быть теперь в деревне… Я возвращаюсь к Petite Fadette, не шутя!.. Мне хочется видеть барашков…
– Подстригать! – сказал Кутюра.
– Шути, – дружески ударяя его кулаком, сказал Монбальяр, – увидишь, как поживешь сорок лет в этом дрянном Париже… Я мечтаю о старости Одри: умереть в Курбвуа… Довольно мне ломать голову… и заниматься этой лавочкой! Все эти хитрости… и потом эта ломка, дуэли… тюрьмы… это мило, пока молоды… Но видишь ли, в конце концов, такая жизнь… одна насмешка!
– Послушай Монбальяр, ты красноречив сегодня как человек, который хочет сделать дело.
– Как он проницателен, эта собака Кутюра!.. Ну что же! Да милый, я хочу продать мою газету. Нашет ко мне подъезжает. Но он скрывает своего капиталиста… и если я буду обманут Нашетом, ты понимаешь… Нет более детей! И потом я тебя больше люблю… нет, честное слово, я хочу сказать тебе… Нельзя бросить газету, как рубашку; это как дитя; и я думаю, что с тобой она пойдет, он будет жить мой «Скандал»… Ты мечтаешь о конкуренции, о большой маленькой ежедневной газете, с корреспонденциями и еще черт знает с чем… Знаешь ли ты лучший способ? Купи у меня его… У тебя, во-первых, будут подписчики, тебе не придется населять новый дом. Ах! Если бы ты знал количество газет, которые погибли у меня до этого!.. Что тебе мешает купить?
– Деньги.
– Деньги! С таким дворянином, как этот господин, – сказал Монбальяр, указывая на барона. – Во-первых, пустяшные деньги! Что я прошу? Восемьдесят тысяч франков… А ты знаешь, что с объявлениями он имеет дохода тридцать тысяч… Найдите-ка мне лучшее помещение капитала… Ну что! Что вы скажете?
– Мы покупаем! – смело сказал Кутюра, рассчитывая на слабость Пюизинье, вперив свой взор в барона и внушая ему свою волю, – неправда ли, Пюизинье? – И не давая времени ему ответить, обратился к Монбальяру, – Пюизинье покупает у тебя, но у него нет денег… они у него будут завтра, или через два, через три дня.
Монбальяр, который казалось все отлично знал, не сказал ни слова. Кутюра продолжал:
– Ты понимаешь, он покупает у тебя; но ему надо время, чтобы собрать свою рухлядь; он покупает за восемьдесят тысяч франков… сорок тысяч заплатит в шесть месяцев, проценты считая с сегодняшнего дня; что касается остальных сорока тысяч, он будет в состоянии заплатить их тебе в шесть месяцев после первого платежа, пять процентов… или заплатить тебе разом восемьдесят тысяч.
– Но тогда, – сказал Пюизинье, – я заплачу проценты только за шесть месяцев.
– Понятно… и так, без лишних разговоров! Сорок тысяч франков в шесть месяцев… Однако, молодой человек, вы не надуете с вашим богатством? Ваша тетушка не выдумка? – спросил Монбальяр с таким корректированным сомнением и недоверием, что Кутюра тотчас же понял, что это было разыграно. – А другие, другие сорог тысяч, шесть месяцев спустя, или в одно время… ну что ж, ударим по рукам, вы владелец «Скандала»… Ах! Я вам оставляю в наследство отличный номер! Этот плут Нашет выкопал напечатанные не знаю где письма Демальи… Буароже, Франшемон, Ремонвиль и вся компания там жестоко осмеяны! Хорошие глаза сделают они, прочтя это от интимного друга… Только Нашет способен на такие штуки!.. Но ты меня не слушаешь?
Монбальяр ошибался, Кутюра слушал во все уши, но он глядел перед собою, как человек, углубленный в размышления.
– Я… А?.. О чем ты говорил?.. А, ты говорил о номере… Мы берем газету в свое владение тотчас же, знаешь?
– О, вы оставите мне завтрашний номер… напоследок.
– Проценты идут с сегодняшнего дня, мой милый… и потом, это ребячество; но Пюизинье и я сейчас же хотим завладеть твоим зеленым креслом директора. После обеда мы напишем маленькое условие между нами, просить, если хочешь, всего, о чем нужно сказать после того, как тетка уложит свои пожитки… Условия редакции уничтожаются с переменой дирекции?
– Да.
– Очень хорошо! И так, в восемь часов… ты введешь нас.
– Ну хорошо… только для вас… я вам передам сегодня вечером обстановку «Скандала»… это решено, я распространю новость.
– Нет… не говори ничего… Я хочу, чтоб это удивило.
Когда Монбальяр оставил их, Кутюра обратился в баррну:
– Мой милый, ты поблагодаришь меня… У Германсы только одна мечта: ангажемент… Я ее знаю… Она любит тебя, честное слово! Но видишь ли! Шутник, который пообещает ей попасть в Folies-Dramatiques… Что ты хочешь? Это у ней idée-fixe… Имея «Скандал» в руках, в две недели ты можешь потребовать ангажемента, и тогда… Тогда ты ее держишь… и крепко! Ты внушишь ей страх газетой, как муж внушает страх уголовным судом… Время от времени ее можно поцарапать, чтобы удержать на хорошей дороге… и клянусь тебе, она больше не спотыкнется!
В пять минут пообедали у Пюизинье, которого Кутюра заставил помириться с Германсой. Кутюра проскользнул в переднюю и шепнул ей на ухо:
– Дело сделано… ты получишь ангажемент… Теперь как можно больше любви этому ребенку и погорячее! Для тебя будет хороший клочок ренты…
– Нельзя ли тебе дать доверенность, – сказал Пюизинье, протягиваясь в кресле.
– Невозможно!.. Дело прежде любви… Я увожу тебя, надо, чтобы ты был там… Скажут, мы тебя принудили… Ведь это ты покупаешь… Я ничего более – как твой главный редактор… ты назначишь жалованье… жалованье, какое ты захочешь… Если ты хочешь сделать меня участником в доходах…
Они входили в редакцию, когда одна из современных знаменитостей, попробовавшая завести газету под своим именем, прошла у них под носом.
– Постой, – вскрикнул Кутюра, толкнув локтем Пюизинье, и бросился навстречу знаменитости: – мой милый, у вас счастливая рука; в вашей газете есть малый… не знаю его имени, но он дает жизнь вашей газете… вчера в кафе Риш только об этом и говорили… Прелестные статьи!
– Мелин, не так ли… Да, у него талант… Читал ты мою статью вчера?
– Нет, – сказал Кутюра.
– Вот именно, Мелин… Держите этого мальчика в хлопке, это счастье вашего журнала.
– Зачем ты ему это сказал? – спросил Пюизинье, – у него сделался беспокойный вид.
– Зачем? Ты увидишь завтра… У тебя, вероятно, нет желанья оставить Нашета?
Пюизинье сделал движенье.
– Ну вот тебе Нашет и замещен.
– Как, замешен!
– Этот великий человек, как он ни будь велик – все же писатель… Если будут говорить немного об одном из его редакторов, не будут говорить только о нем… Мелин будет выброшен за дверь завтра утром под каким-нибудь предлогом, и он будет наш.
Монбальяр ждал их, прогуливаясь взад и вперед по конторе газеты.
– Ты аккуратен, – сказал ему Кутюра.
– Как солнечное затмение, дети мои… Все готово, вот проект условия.
Кутюра взял его из рук Монбальяра и передал Пюизинье, затем взял его обратно и внимательно перечел.
– Отлично! – сказал он после чтения. – Пюизинье и вы перепишите его в двух экземплярах на гербовой бумаге… А я посмотрю условия относительно редакции…
И в то время как они переписывали, Кутюра, просматривая корректуры, пробежал глазами статью Нашета.
– Так! Подпишем!.. Перо Фонтенебло, господа! – сказал Монбальяр.
Они подписали.
– Господа, дом ваш… он очень хорош… Черт возьми!.. Я старался…
И забирая все, что было в кассе, продолжал:
– Вот ключ, который запирал не одни только железные перья!.. А теперь, когда все справлено, имею честь… я пойду выпью что-нибудь… Ах, скажи пожалуйста, хочешь видеть рукописи, раньше, чем они пойдут в печать?
– Зачем? – сказал Кутюра. – Нет, отдай их в набор…
И когда Монбальяр подходил к двери:
– А то, не трудись… Мне надо обойти типографию, я их отдам.
Монбальяр вышел.
– Я тебе больше не нужен? – спросил Пюизинье.
– Нет, нужен, – сказал Кутюра. – Поспи немного на этом диване, тут очень хорошо.
Кутюра снова взял корректуры и погрузился в продолжение двух часов в чтение многочисленных столбцов. Внутренний его монолог был следующий:
– Каталог писем, где дают отрывки писем такой знаменитости, каков Демальи, это хитрость… Отрывки, которые оскорбляют только и непременно Франшемона, Ремонвиля, Ламперьера и других, это чересчур верно прицелено, это злость слишком литературная для торговца автографами… Я чувствую ложь во всем этом…
– Ах, если б можно было угадать, кому адресованы письма, это может быть меня вывело бы на дорогу… Посмотрим… Гм… манера слишком откровенная, для писем, писанных к мужчине… Мы обыкновенно более осторожны, чем тут… Ага, это к женщине… они не подумали об этом окончании, дураки! Вот окончание слова, которое разрешает вопрос… Хорошо, это к женщине… Да, но далее… Перечтем… В них слышится особенно почтительный тон, который может быть обращен к женщине… как к законной жене… И потом, каталог печатает его письма, подписанные его именем… Как я глуп! Это письма Демальи к его жене… Нашет, который вертится около неё вот уже несколько месяцев, имел в руках эти письма, а каталог – это выдумка… Нет, Нашет умнее этого… Подлость до такой степени глупая выше его… Тут была продажа…
И Кутюра углубился в свои размышления.
– Очень хорошо, – продолжал, он, выходя из них, – теперь я знаю… Ганьер, это каналья, которого я видел два три раза бродящим в конторе… Это подобие продажи, устроенное между Нашетом и им… покрывало, довольно хорошо придуманное!
Он положил корректуры на бюро, взял большой лист белой бумаги и проработал всю ночь над программой новой редакции; он начинал ее два или три раза, чтобы сдержать обещание в каждом слове, и устроить приманку в каждой фразе. Затем он дождался дня, пробегая списки абонентов.
Пюизинье, утомленный прогулкой целого дня, спокойно спал на диване, как бы он спал в своей кровати.
Вдруг сильно застучали в дверь.
– Извините, господин! – сказал мальчик из типографии, – мне велели посмотреть, есть ли кто в редакции… Вчера вечером не отдали корректур… Произойдет задержка…
– Ах, черт возьми!.. А я-то забыл прочитать их… Это ничего, бери… пусть наберут сейчас же… Без корректур… поправок не будет.
– Скажи пожалуйста, зачем ты меня держал? – сказал Пюизинье, подымаясь.
– Погоди же!
И Кутюра принялся прогуливаться по конторе, Пюизинье опять заснул. Через час он был разбужен Кутюра.
– Ты спустишься в типографию… ты поторопишь печатанье… Погляди, как печатают… Ты никогда не видел… это поучительно… Когда будет около пятидесяти экземпляров, возьми один… т. е. ты возьмешь два, один, который увидят, как ты берешь, другой возьмешь так, чтобы не видели… и принеси мне их.
Пюизинье вернулся с двумя экземплярами.
– Очень хорошо! Возьми один… скорее же. Напиши: Господину Шарлю Демальи… Садись в карету… Поезжай по его адресу и пошли это в его квартиру.
– Я не понимаю… – сказал Пюизинье.
– Ты сейчас поймешь… иди!
Кутюра тотчас же спустился в типографию с газетой в руках. Слух о его новом положении окружил его почтением со стороны наборщиков.
– Остановите печатание! – закричал Кутюра, – сейчас же. Где все напечатанные экземпляры? Все, чтобы ни одного не затерялось!.. Мишель, возьмите пакет… Вы сожжете это в камине сейчас же. Я не хочу таких вещей в газете… – И Кутюра показал пальцем на статью Нашета. – Шутки, хороши! Но это чересчур… Монбальяр мог ничего тут не видеть… Пусть разберут весь нумер.
Потом, после нескольких минут размышления:
– Однако, газета должна же выходить… там наверху нет никакой рукописи… Оставьте набор… Пусть разберут только четвертую страницу объявлений из Жизни Марселя.
– Но, господин Кутюра, – сказал Мальграс, который снова спустился из конторы, чтобы отправить газету, – это объявление более чем в двести франков, и мы их потеряем! Вот уже три недели, как оно отдано…
– Пусть его разберут… Видите ли, господин Мальграс, я дал бы тысячу франков, чтобы не иметь этого проклятого номера на совести… и мой первый номер! Пусть подождут теперь!.. Мы появимся сегодня! Завтра или после завтра!
Пюизинье ждал Кутюра в конторе.
– Дело сделано.
– Хорошо.
– Что ты задумал?
– Я ничего не знаю… Только есть человек… ты знаешь, о ком я говорю… Он два или три раза становился на моей дороге… Я просто хочу его выбросить за дверь… так, чтобы он сломал себе ноги!
– А средство?
– Я ищу его… я жду чего-нибудь… случая… Провидение… всего, что ты хочешь… чего-нибудь… или кого-нибудь… Но я думаю, что произойдет все что от бомбы, которую я кинул в чашку с кофеем Демальи… Теперь мой маленький Пюизинье, если бы ты пошел поцеловать Германсу?.. Мне надо быть одному.
LXXX
Кутюра ждал в продолжение двух часов, прислушиваясь к шуму просыпавшегося Парижа. Из передней послышался голос.
– Кто там, Мишель? – спросил Кутюра входившего конторского мальчика.
– Какой-то господин спрашивает адрес г. Нашет.
– Ты сказал ему?
– Нет, я не знал… Он сказал, что подождет.
– Каков собой этот господин?
– Маленький, толстый, смотрит провинциалом… сердит как…
– Попроси войти.
– Что вам угодно? – холодно произнес Кутюра, вставая на встречу входившего.
– Милостивый государь, – произнес толстяк, как вихрь, влетая в комнату, – я спрашиваю адрес негодяя, по имени Нашет… и я не думаю, чтобы мне отказали… Кутюра с достоинством улыбнулся: – Извините, милостивый государь, но позвольте заметить вам, что вы, по-видимому, совершенно незнакомы с обычаями газеты… причины… общественного благосостояния, вы меня понимаете!.. обыкновенно заставляют хранить в тайне жилище писателя… от кредиторов… Но для вас, руководимого, как мне кажется, иным мотивом…
– Я пришел, чтобы запечатлеть на его щеках негодование честного человека… я пришел избить его… да, избить.
– Избить?.. Вы, кажется, слишком взволнованы.
– Ах, я не знаю, взволнован ли я!.. но нужно не иметь крови в жилах… Помилуйте! Негодяй украл письма у женщины!.. Ведь это разорит, убьет её мужа!.. Его мысли, милостивый государь, его сокровенные мысли будут преданы публично!.. Ах! я кажусь вам взволнованным! Подумайте, выдать то, что он говорил по секрету, на ухо, впечатления дня, минуты… его исповедь… нет, даже шпион не совершил бы такой подлости.
– И так вы говорите…
– Я говорю, что этот господин украл письма Шарля б жене… украл!.. и…
– Я слышал это, милостивый государь…. но не будете ли вы так добры объяснить мне, каким образом г. Демальи мог узнать о номере журнала, не поднявшемся в свет.
– Не появившемся!.. Если бы вы побывали в моей шкуре в продолжение одного часа, вы бы видели, как он не появился!.. Вы бы видели, прочел ли его Шарль, ваш не появившийся номер! Он упал плашмя на паркет… словно сраженный молнией… Побежали за доктором… я не знаю, жив ли он, или умер… Он мне дорог, как родной сын… Если я решился, не умея держать шпаги в руках…
– Я говорю вам, что я дам этому господину пощечину!
– Вы не умеете владеть шпагой?.. Это большое несчастие, Нашет искусный противник!.. Где-то, кажется в Нанте, он имел неловкость убить кого-то… О! Конечно, в этих делах играет роль случай…
Продолжая следить взглядом за собеседником, выказывавшим свою горячую и добрую натуру, свой сангвинический темперамент, подчинившийся первому движению и противопоставляя взамен всему этому с холодной вежливостью практическую сторону дела, Кутюра заметил, как мало по малу к тому вернулось размышление, как в нем заговорили годы и жизненный опыт, явилось воспоминание о хорошеньких детях, оставленных им там дома… и понемногу начало смягчать его…
Наступило молчание, которое Кутюра нарочно продолжил, чтобы дать слабым, человеческим чувствам укрепиться в друге Шарля; наконец, он увидел, как тот понемногу бледнел, словно смерть заглянула ему в лицо.
Тогда Кутюра продолжал:
– Какова бы ни была ваша преданность к г-ну Демальи, преданность, которую я уважаю, милостивый государь, как бы ни было велико ваше презрение в шансам противника, вы позволите мне выразить мое сожаление, что вы заступаете место друга, который гораздо моложе вас, болезни которого не поверят… я знаю нашу публику… и наконец, – продолжал Кутюра, наблюдавший за собеседником, – если вас проколют шпагой, какую услугу окажете вы этим г-ну Демальи?.. Слушайте, – воскликнул Кутюра внезапно, оставляя тон главного редактора и впадая в добродушный тон обыкновенного смертного, – знаете ли вы, что сделал разговаривающий с вами в настоящую минуту? Знаете ли, что сделал я? Не зная, подложны ли эти письма или нет, откуда они явились, каким образом ими заручились и о чем в них говорилось, по одному подозрению, что они заключают в себе подобное тому, о чем вы только что говорили мне, я остановил печатание номера… Да, милостивый государь, даже рискуя опозданием… Я отказался от одного объявления в полтораста строк, доход с которого я потеряю. Я велел собрать все отпечатанные номера и вот пепел от них в камине… Номер, полученный вашим другом, для меня загадка… если только Нашет ранее меня не побывал в типографии… единственно этим можно объяснить… Словом, в настоящую минуту я ищу ответ, который даст наглядно понять, что должен думать всякий честный человек о статье Нашета… Сообщить об этом через неделю было бы слишком поздно, я хотел бы вместе с выпуском сегодняшнего номера выбросить за дверь эту личность… Послушайте, вы крепкого сложения… у вас хорошие мускулы и кулаки… Вы питаете в Демальи такую дружбу, о которой мы не имеем понятия; всего этого вполне достаточно!.. Вы мигом слетаете в улицу Шильдебер, 4… там вы найдете некоего Раньера, труса, негодяя и пьяницу… теперь одиннадцать часов, он будет пьян… вы пригрозите, что задушите его – вы даже его подушите немного, покуда он не даст вам удостоверения в том, что письма были ему вручены Нашетом… Это все, что нам нужно… Не бойтесь вцепиться в него! Вы должны иметь вид человека, пришедшего с тем, чтобы убить… Поезжайте! Внизу есть карета… Двадцать минут езды туда, двадцать обратно, десять, чтобы разыграть сцену… менее чем через час вы будете здесь.
Спустя три четверти часа толстяк вернулся весь в поту, вытирая себе лицо и торжествующе махая в воздухе своей широкой рукой.
– Трудненько было… однако, вот!
И Кутюра прочел:
«Я заявляю, что продажа, назначенная на 24 января, под заглавием: «Продажа хорошенькой коллекции современных автографов» была фиктивной. Я заявляю, что письма г-на Демальи, упомянутые в каталоге, были переданы мне господином Нашетом; утверждаю, кроме того, что я действовал, не сознавая серьезного значения всего этого. Ганьер».
– Позвольте выразить вам мое уважение, – сказал Кутюра, глаза которого заблестели.
И, бросившись к своей конторке, он одним духом настрочил строк пятьдесят.
– Мишель! Сейчас же в набор, в конце статьи г-на Нашета… и чтобы немедленно печатали!
– Сударь, – сказал Мишель, – там кто-то желает говорить с вами… какой-то г-н Миллен или Меллен…
– Невозможно!.. Скажите ему, что я назначаю ему свиданье на завтра, в десять часов… Ах, пошлите ко мне г-на Мальграса… Г-н Мальграс, – сказал Кутюра, – ваша программы изменяется… Вычеркните имя Нашета… и на его место поставьте имя Меллера… и дайте печатать.
Толстяк хотел встать.
– Не уходите, – сказал ему Кутюра, – мы посмеемся!
LXXXI
Нашет в передней столкнулся с Мальграсом.
– Я не знаю, останетесь ли вы, мой милый Нашет, – сказал ему Мальграс, показывая его вычеркнутое имя.
– Всегда с хорошими новостями этот Мальграс!.. настоящий ворон!
И Нашет вошел в контору.
– Объясни пожалуйста, что такое говорят, – сказал он, бледный от гнева, наступая на Кутюра, – что такое говорят, что моя статья помешала газете выйти? Я нахожу ее хорошей… В чем же дело? а?
– Ни в чем… твоя статья прошла.
– А мое имя, вычеркнутое на твоей программе… Мальграс мне показал… что это значит?
– Это значит, что появился новый директор и что прежние договоры с Монбальяром теряют свою силу вследствие перемены состава редакции… Ты можешь пройти в кассу и рассчитаться за авансы, которые тебе давала газета…
– Послушай, Кутюра, ты говоришь это мне в пику… Ты не можешь прогнать меня таким образом… как какую-нибудь собаку… из-за пустяков… из-за твоей дружбы к г-ну Демальи.
И Нашет иронически улыбнулся.
– Почему нет? Я мог смеяться над ним, но…
– Слушай, Кутюра, ты напрасно играешь со мной в эту игру…
Рука Нашета нервно сжимала набалдашник трости. Кутюра, следивший за ним глазами, небрежно играл железной линейкой.
Нашет продолжал, стараясь понизить голос:
– Так ты не желаешь, чтобы смеялись над этим милым Демальи?.. Я не настаиваю на том, если это причиняет тебе неприятность… Я, я даже готов находить в нем талант, гений, все что ты пожелаешь! Я скажу, что он образец мужей… оставленных… Я напечатаю в газете его каламбуры на твой счет… Ты видишь, мой дорогой патрон, что я по-прежнему достоин подписываться в «Скандале»… и ты, конечно, оставляешь меня.
– Невозможно, мой милый… Новая дирекция журнала не желает иметь в числе своих сотрудников господина, пишущего статьи при помощи писем, украденных у женщины…
И железная линейка, бывшая в руках у Кутюра, словно нечаянно повернулась в сторону Нашета.
– Ты лжешь!
– Вам хорошо известно, Нашет, что я несколько раз дрался на дуэли… и посерьезнее чем вчера… – проговорил Кутюра, подчеркивая последнюю фразу насмешливой улыбкой.
– Это жена Демальи тебе сказала…
– Нет, это Ганьер… Ты знаешь Ганьера… а вот этот господин принес заявление Ганьера… заявление, которое – Да, вот, читай!
И Кутюра протянул Нашету газету, которую в эту минуту принес Мишель. Нашет пробежал глазами заметку Кутюра и побледнел как полотно. Он бросил газету и проговорил, опираясь на свою трость:
– Ты скоро обо мне услышишь.
– Я тебя не провожаю… – сказал спокойно Кутюра.
Когда Нашет захлопнул за собой дверь, он обратился к совершенно взволнованному толстяку, – если я заявляю вам здесь о своем уважении к характеру и таланту Демальи, то делаю это в сознании, что вы мне поверите… Ваш друг стоит нас всех, я это знаю и говорю вам… Но что вы хотите? Зло было сделано. Я ничего не мог, кроме того, что я сделал; моя совесть говорит мне, что, поступив так, я предоставил Демальи единственное удовлетворение, которое я мог…
LXXXII
При этих словах дверь стремительно открылась и в комнату вбежал Шарль Демальи, с перекошенным лицом и совершенно растерзанным видом.
– Вы здесь! Шаванн! – увидев толстяка, воскликнул он. – Оставьте, это касается меня одного… я только что от Нашета, которого не было дома…
И Шарль бросил вызывающий взгляд на Кутюра.
– Ты сошел с ума! – сказал ему Шаванн, видевший его взгляд и боявшийся чего-нибудь худшего. – Этот господин дерется из-за тебя с Нашетом…
– Демальи не будет мне обязан этой услугой, – сказал кланяясь ему Кутюра, не могший, несмотря на весь свой загар, скрыть волнение, которое ему причинило появление Шарля, походившего на привидение. – Нет… Завтра Нашет не найдет на всем пространстве Парижа двух людей, которые бы захотели пойти к нему в секунданты… Есть люди, которые всегда найдут двух секундантов, но он задел всех… Вы увидите, как все разбегутся от него… Завтра у него не останется двух друзей; после завтра не будет и одного, а через неделю он не в одной газете не найдет места, чтобы поместить свой ответ… О! В нашем обществе беспощадны к подлостям, неловко сделанным… Это как в другом в разорившимся плутам… Я приношу мое искреннее сожаление в том, что меня не было, когда принесли статью…
И, на минуту забывшись, Кутюра произнес последнюю фразу искренно.
– Все же такой человек отрадно действует на душу! – сказал Шаванн вместе с Шарлем спускаясь с лестницы.
Шарль взглянул на него и одну минуту с языка его готово было сорваться все, что он угадал; но он промолчал.
– Какая неосторожность выйти!.. Как ты себя чувствуешь?
– Благодарю!.. лучше… Ноги у меня горят… это горчичники, о которых я забыл… Кажется, доктор сказал, что это нервный удар… Фу! во рту я чувствую эфир… а голова, странно, словно в тумане…
– Ты очень страдал?
– Ужасно… Я не знаю, что там происходило. – И Шарль показал на голову. – Я только помню, что в минуту самых сильных страданий мне вспомнилась одна фраза… которую я, не знаю где, прочел, кажется, в одной медицинской книге… что молодые осужденные чувствуют, как в голове у них что-то твердеет… Мне казалось, что я тоже ощущаю это отвердение… отвердение… ну, я забыл название.
– Что за мысль!.. отвердение подкостной плевы…
– Да, кажется, так… Ах! мой бедный Шаванн, и я заставил вас приехать смотреть мою пьесу! оторвал вас от домашнего очага, заставил покинуть все, что вы любите… стоило того!.. Видно было суждено, чтобы вы уехали ни с чем…
– Вот так раз!.. Какая же причина, чтобы твоя пьеса не шла завтра?
– Как! Играть мою пьесу!.. мою пьесу, которую я ненавижу, которая внушает мне страх!.. Она мне стоит дружбы и уважения людей, которых я сам любил и уважал! Она стоит мне еще большего… вы знаете… Нет, довольно, кончено… я питаю ужас к театру, ужас к литературе… Эта жизнь ужасна! Я умру от неё и не желаю выносить ее долее!.. Клочок славы, купленный мучениями… О! если б только знали, какими мучениями!.. Нет в конце концов, это слишком глупая сделка!.. Довольно с меня книг, журналов, виньеток, Парижа… Довольно… довольно!.. Пойдем в театр…
Шарль нашел директора, до которого дошли отголоски всего происшедшего, порядочно охладевшим к пьесе и к автору, Шарль объявил, что берет обратно свою пьесу. Директор настаивал из вежливости и в душе обрадованный, что избавился от первого произведения автора, неизвестного в театральном мире и вызвавшего такую бурю негодования, он позволил отменить пьесу.
Шаванн несколько дней пробыл с Шарлем. Он удивился, что тот не говорит ни об Нашете, ни о шуме, по поводу отмены его пьесы, ни о всем том, что в прежнее время составляло его жизнь, предмет его разговора, наполняло его мысли. Ему даже показалось, что тот слишком часто спрашивал, когда он уедет, тем более, что он оставался в Париже единственно ради Шарля, чтобы ухаживать за ним. Когда он уезжал, Шарль проводил его на железную дорогу и обещал, в ответ на предложение Шаванна увезти его с собой, что он вскоре навестит его, тотчас же, как устроит некоторые свои дела в Париже.
LXXXIII
Когда Шарль снова сел в карету, привезшую его и Шаванна на железную дорогу, кучер спросил, куда его везти теперь.
– Куда хотите, – отвечал тот.
– Вы шутите?
– Нисколько… везите куда хотите… катайте меня.
Кучер уселся на козлах и поехал вдоль бульваров.
– Сударь, мы у Бастилии…
Шарль не отвечал.
Кучер равнодушно свернул в улицу св. Антония, и очутился на набережной, время от времени он полуоборачивался и искоса, с беспокойством, поглядывал на странного седока, неподвижно сидевшего, со скрещенными на груди руками, в углу кареты. Набережные тянулись бесконечно. Экипаж продолжал катиться. Наконец кучер слез с козел и отворил дверцы:
– Нет, я не сплю, – сказал Шарль, не переменяя положения. – Я нанял вас по часам, поезжайте.
– Видите ли, в чем дело, сударь, мои лошади с утра не получали корм.
– Где мы?
– В начале улицы Львов св. Павла.
– Что это там виднеется над дверью? Объявление об отдаче квартиры?
– Да.
– Получите ваши деньги.
Шарль вошел в привратнице. На дворе была ночь.
– У вас отдается помещение?
– Точно так, сударь, – отвечала привратница, – но…
– Но что?
– Вы должны знать, сударь, что после семи часов квартиры не показываются.
– Покажите ее мне, – и Шарль положил на стол монету в десять франков.
Привратница пошла вперед, по большой каменной лестнице с деревянной балюстрадой, открыла дверь во втором этаже и при свете свечи показала ему квартиру, состоящую из четырех или пяти больших комнат, очень высоких и с большими окнами, – бывшее помещение…
– Какая цена? – спросил Шарль.
– Я бы должна сказать вам тысячу; но так как сейчас видно, с каким человеком имеешь дело, то окончательная цена будет восемьсот.
– Вот вам за первую треть и двадцать франков задатку. Принесите мне пачку свечей и стул.
– Но вам не на чем будет спать, сударь…
– Дайте мне пачку свечей и стул, – повторил Шарль.
Привратница возвратилась со свечами и с креслом.
– Вам ничего более не угодно, сударь?
– Ах! да, еще ведро воды.
Шарль всю ночь проходил по комнатам, время от времени, погружая руки в холодную воду и прикладывая их во лбу.
На утро он вышел и отправился к себе, Слуга отпер ему дверь.
– Ах! это вы, сударь… Мы с женой всю ночь не ложились… но как вы бледны, вы нездоровы, сударь?
– Приготовьте ваш счет.
– Вы недовольны нами?
– Ваш счет!.. Потом отправьтесь к какому-нибудь мебельному торговцу и тотчас же приведите его сюда.
Торговец пришел:
– Сколько за все? – сказал Шарль, жестом указывая на все, он оставлял за собой только свою прежнюю холостую обстановку.
Торговец, несмотря на всю свою привычку к продажам такого рода, широко открыл глава: – Все?.. не исключая постели покойницы?
Шарль сделал нетерпеливое движение.
– Все, кроме этой комнаты.
Торговец назначил цену.
Шарль согласился. Он рассчитался с прислугой, поручил привратнику взять оставшуюся мебель и доставить ее ему в течение дня и сел в привезенный экипаж. Но в ту минуту, когда он собирался захлопнуть дверцу, в нее проскользнула какая-то женщина и села нерешительно, словно боясь быть отвергнутой, на кончик передней скамейки.
– Ах! это ты, Франсуаза?.. хорошо! садись, если хочешь быть со мной…
Это была воспитавшая его старуха, с которой он расстался со времени своей женитьбы, боясь обыкновенных несогласий и затруднений между старой служанкой и молодой женой. Шарль положил ей маленькую пенсию, за которой она приходила каждый месяц. Попав в разгар этой непонятной для неё продажи и взглянув на расстроенный вид Шарля, Франсуаза поняла, что за этим взрослым человеком ей придется еще ухаживать как за ребенком, и с самоотверженностью, свойственной простому крестьянскому сердцу, она оставила все и села за ним в карету, увозившую Шарля в улицу Львов св. Павла.
LXXXIV
Когда Шарль подошел к окну, первое, что ему бросилось в глаза, это большие четырехугольные ворота, с нарисованными над ними черными подковами, выделявшимися на белой стене; толстая дверь, украшенная огромными гвоздями, головки которых расположены рисунками в роде крестов; над воротной аркой, в темном углублении ложи привратника блестят какие-то изразцы, и под оконцами маленькой полуотворенной двери колыхалась занавеска из голубого тика; в уступе, образуемом двором, направо чернеет кузница; перед ней стояла белая лошадь, наполовину скрытая тенью от сарая, наполовину облитая солнцем; согнутая нога лошади лежала на колене человека с засученными рукавами рубашки, копыто лошади дымилось, и белый дым поднимался струйкой в голубом воздухе, под навесом сарая, в ногах лошади и вокруг расхаживали петухи, время от времени быстро хлопая крыльями, куры клевали зерна, попадавшиеся в соломе, и все это птичье царство прыгало, летело и клохтало; сарай сверху был забран старыми досками, грубо сколоченными и заплатанными маленькими дощечками, образующими наверху вместе с выступом бревен нечто в роде деревенского голубятника, населенного шумной стаей пернатых, откуда неслось постоянное воркование белого голубя; в глубине двора куча старой мебели на половину загораживала площадку широкой каменной лестницы; далее навалены были ручные тележки разносчиков, по которым порхали, лазали и присаживались домашние животные: голуби, кошки, куры налево, тощие изъеденные виноградные кусты ползли по стене, между большими окнами rez-de-chaussée, словно букеты из лоз; стекла этих окон бутылочного цвета, местами разбитые, были заменены деревянными досками, сделавшимися серыми от старости; у старого колодца, обложенного голым истертым камнем, прохаживалась мотая головой белая козочка, стараясь найти шероховатый выступ, чтобы потереться об него. И во всем этом хаосе жизни последовало такое смешение красок, о котором можно иметь понятие только по эскизам, набросанным кистью Фрагонара в какое-нибудь светлое, радостное утро, тут и белые крылья, и красные гребешки и киноварь, и лазурь и серебро и все это было залитое потоком света.
LXXXV
Несколько дней прошло в устройстве нового жилища. Шарлю, казалось, нравился этот дом. Снаружи Шарль остался таким же, и в жизни его незаметно было никакой перемены. Он, как во время своих прежних работ, любил подолгу сидеть в своей комнате. Выходил он только в ясную погоду и то, если Франсуаза понуждала его к этому. Он спал, ел и Франсуаза, видя это, совершенно успокоилась на его счет: по мнению простого народа больной человек не может есть. Шарль казался сосредоточенным, тревожным, он едва отвечал на её вопросы, но Франсуаза знала его таким во время разгара работы, и не беспокоилась об этом. Всего более ее удивляло, что Шарль, в течение недели своего пребывания здесь, ни разу не открыл фортепиано. Но однажды вечером он открыл его. Сначала он перебирал одну мелодию за другой; потом ему пришел на память один мотив. На этот раз из-под его пальцев полились звуки, воскрешавшие в его памяти один день из его путешествия, в который он увидел спускавшийся на встречу с горы свадебный поезд; он вспомнил идущим впереди скрипача и другого музыканта, игравшего на цитре, вспомнил лицо молодой и её взгляд и статного молодого в обтянутых гетрах и панталонах, и пары гостей, раскачивавшихся под такт вальса, наигрываемого в два голоса скрипкой и цитрой. Он игрой и голосом стал подражать песни эхо, издававшему ласкающие и грустные звуки ля, ля, ля, у! и спел всю свадебную песнь до последней ноты, на которой старый скрипач обрывал мелодию, заканчивая ее взрывом хохота. Шарль придавал этой последней ноте все более усиливающийся оттенок иронии и отчаяния…
В продолжение нескольких дней, с утра до вечера он наигрывал одну и ту же арию, и пел все ту же безумную мелодию. Наконец слышалась только одна трель дьявольского смеха; потом голос совсем умолк, и он продолжал наигрывать арию, но вскоре оставил ее и одним пальцем, без конца, ударял одну и ту же ноту, издававшую звук: ля, ля…
– Ах, сударь, что это за скверная музыка! – сказала Франсуаза Шарлю, который совершенно погрузился в бесконечные звуки, – словно мертвых хоронят… Вы бы лучше прошлись… Посмотрите, какая чудесная погода…
– Нет, я устал… мои ноги словно свинцом налиты… Я пойду… я пойду завтра.
Фортепьяно осталось открытым, но Шарль не дотронулся до него больше. Он погрузился в свое кресло у камина, без слов, без признака мысли, прячась от дневного света, ища тени и встречая сумерки, все в том же положении. С наступлением ночи он готов был лечь, как он был, не раздеваясь, в постель: Франсуазе приходилось раздевать его.
Апатия Шарля, его бездействие по целым дням, полнейшее равнодушие ко всему, это состояние сна с открытыми глазами, опечалило старую служанку. Заметив, что с тех пор, как он впал в это состояние, он беспрекословно слушается ее во всем и машинально подчиняется тому, что она от него хочет, Франсуаза однажды, когда Шарль сидел неподвижно у огня в своем кабинете, подошла к нему и, подавая ему шляпу и перчатки, проговорила:
– Однако, сударь, надо вам прогуляться, надо развлечься!..
– Да, – повторил Шарль, – надо развлечься… – и продолжал сидеть.
Но Франсуаза настояла на своем. Шарль должен был встать, должен был выйти. С этих пор он начал выходить ежедневно. Он шел все прямо по печальной набережной Арсенала, вдоль мертвого и холодного бульвара, мимо медленно текущей реки. Блуждающей рукой он задевал полированный край перил; прохаживаясь взад и вперед, он иногда останавливался у ларя букиниста, открывал первую попавшуюся книжку и часами простаивал, читая, но не поворачивая страницы.
Когда букинист, видя, что он не покупает, заставлял его, наконец, отойти, то наступая ему на ноги, то толкая его, Шарль прислонялся к дереву и смотрел на ученье солдат на посту возле моста; кругом его, на животах, лежали уличные мальчишки, упершись локтями в землю, положив подбородок на руки и следя глазами за заряжанием на двенадцать темпов. Вскоре мальчишки признали Шарля и безжалостно подсмеивались над дурачиной, как они его прозвали.
Старая Франсуаза, удивленная его постоянным молчанием о том, кого он видел, что он делал во время своих отлучек, словом, о всех его прежних впечатлениях, поверенной которых она являлась, захотела узнать, куда он ходит и проследила его. Она видела, как грубо оттолкнул его один из букинистов, видела, как целая банда мальчишек, становившаяся все смелее, преследовала его насмешками.
За обедом она сказала ему:
– Почему, сударь, вы не навещаете своих прежних друзей? Вы, видно, хотите умереть с тоски? И разве у вас не хватит денег, чтобы купить всю лавчонку этого торгаша на набережной?.. А для шалунов, которые смеются над вами, разве у вас нет палки?
– Да, правда… у меня есть друзья…у меня есть деньги… у меня есть палка! – сказал Шарль, возвысив голос. Потом, понижая голос и опуская глаза, он прибавил: – правда… правда…
LXXXVI
С каждым днем все более и более нарушался его душевный покой, обусловливаемый в человеке сознанием разума. Между ним и его чувствами мало по малу порывалась связующая их нить, и вкрадывалось нечто постороннее и мертвое, нечто такое, что ощущала одна безумная мать между своими губами и щекой ребенка, когда она его целовала. В нем медленно происходила глухая работа разрушающегося существования, в котором вследствие неуловимого изменения жизненного состава и разъединения органов, всякое чувство, всякая составная часть личного «я», отделенная и изолированная от целого, словно теряла способность соответствовать одна другой и воздействовать одна на другую. Он чувствовал, как в нем происходил разлад между двигателями разума и телесными органами. Он чувствовал на всей поверхности своего тела то уменьшение чувствительности, то притупление чувства меры, которыми начинается порча организма, и, по какой-то непонятной странности, действия и отправления его тела казались ему лишенными свойственных им ощущений и удовольствий, происходящих от сознания этих ощущений.
Печальная тайна: сумасшествие почти никогда не бывает полным затмением мыслей, оно не переносит сознание всецело в мир видений, который вырвал бы у безумца всякое воспоминание о его духовном отечестве, о его потерянном разуме! По временам в погруженных в галлюцинацию чувств, в окаменелом мозгу бывают светлые дни, проблески сознания; у некоторых является даже уверенность, ужасная уверенность, что какая-то злая сила завладела их разумом и руководит их действиями и все, что они думают, что слышат, к чему прикасаются, что едят, все это жестокая, обманчивая шутка!
Эта уверенность встречается при самых сильных сумасшествиях; примером тому могут служить те безумцы, которые, видя смех посетителей, желают им никогда не сходить с ума! Но прежде этого, прежде чем болезнь сделается неизлечимой, в то время, когда только начинается безумие, и покуда оно как бы испытывает намеченный им рассудок и щекочет мозги, еще не скованные его железной рукой, – кто сумеет выразить порывы, страдания и отчаянную борьбу, так сказать, поединок колеблющейся и чувствующей свою шаткость мысли, которая наконец падает, словно опьяненная атмосферой пропасти, все еще продолжая бороться и цепляясь за свои последние здоровые проблески, как человек, падающий в бездну, цепляется за кустарник? Кто опишет это унижение всех человеческих прав на гордость и пытку этого сознания?
И теперь, представьте себе, что подобные муки раздирают человека, все свои надежды возложившего именно на этот разум, человека, который надеялся управлять его страстями и извлечь из него славу своего имени и бессмертие своих идей, и который чувствует, как между ним и всем, что он задумал исполнить, сгущается мрак; чувствует, как ускользает от него прошлое и будущее его мыслей; чувствует, как мало по малу исчезает главный двигатель его существования, и нарушается порядок представления идей, – и вы будете иметь картину страданий Шарля. Он тоже пробовал бороться.
И однажды, собрав все силы и всю энергию, он попробовал в последний раз сразиться на знакомой ему почве. Он бросился к письменному столу и ожесточенно принялся работать, он писал, писал, быстро исписывая целые страницы и вслух произнося бессвязные слова. Потом он бросил перо и удрученный, словно побежденный, уселся в кресло, перед камином и более уже не покидал его.
LXXXVII
Вот одна из написанных им страниц: «…Я находился в огромной прачешной. То, что ее освещало, походило на яшму, прозрачную как хрусталь. Вода в лоханке издавала приятный запах. Вокруг бледные и белые ангелы, озаренные тихим светом, напоминавшим зимнее солнце, одетые в белые, розовые или бледно-голубые одежды, стоя на коленях, подобно прачкам у реки, мыли души. Валек в их божественных руках звучал как нежная арфа и в виде припева слышалось: Аминь! Аллилуйя! Другие ангелы, тянувшись, вынимали из корзин более или менее грязные души; некоторые, впрочем, были невинны и почти совсем белы, другие грязные и почерневшие от жизни, как почернел злой дух, сожженный факелом святого Георгия. Несколько ангелов стояло у двери, с лилиями, крестом или зеленой ветвью в руках и с улыбкой бесконечного милосердия в глазах, принимали свертки душ, держа, вместо бельевой книги, лазуревую книгу жизни. До самого свода поднимались белые лестницы, где младшие ангелы, с венками из маргариток на головах, летали и сушили вымытые души, висевшие как пары чулок»…
Здесь мысль его прерывалась и до самого низу страницы, он большими буквами множество раз написал Шарль Демальи, Шарль Демальи, Шарль Демальи, – словно боясь, чтобы его имя не ускользнуло из его памяти!
LXXXVIII
В продолжение нескольких дней старая Франсуаза наблюдала, как Шарль делал беспокойные знаки. Он нетерпеливо отталкивал от себя и точно старался прогнать что-то, невиданное им. Он шевелился в кресле и постоянно прикладывал руку в уху. Франсуаза, не смея заговорить, молча наблюдала за ним, как вдруг он произнес: – Это невыносимо!.. невыносимо!
– Вы говорите со мной? – спросила Франсуаза.
Шарль не ответил; но немного спустя заговорил опять: – Это неправда, я вам говорю, что это неправда… вы лжете!.. О! этот женский голос… всегда!.. Ты лжешь!.. Ты лжешь!.. Да замолчи же! замолчи!.. Ты меня убиваешь…
– Кому это вы, сударь?
– Шш!.. Слышишь ты их?.. слышишь?
– Да это, сударь, огонь в камине.
– Вот! слышала теперь?
– Это ветер на дворе, сударь.
– О! Ты оглохла, моя бедная старушка… Слушай хорошенько… ты услышишь женский голос… насмешливый голос, повторяющий мне постоянно: сумасшедший! сумасшедший! сумасшедший!
– Это ваше воображение, сударь… ведь вы же видите… здесь никого нет, кроме вас и меня…
– Молчи! – вот они все… все болтуны здесь: два мужских голоса, и третий… На этот раз ты не можешь сказать… Ты их слышишь, неправда ли?
– Да, сударь, – сказала бедная женщина, испугавшаяся состояния своего хозяина, – я открою им окно и, всякий раз, когда они появятся, вам стоит только позвонить меня, я их прогоню.
Она помогла ему раздеться и прилегла на кресле возле его постели. На утро, видя, что он спит спокойно, она побежала за доктором, указанным привратницей, и привела его.
Шарль, увидев входившего доктора, бросил вопросительный взгляд на Франсуазу, которая поспешила сказать ему:
– Г-н Шарль, я привела доктора потому, что у вас ночью была лихорадка…
– Милостивый государь, – сказал Шарль, – я не нуждаюсь ни в докторе, ни в… шпионе.
– Я вижу, сударь, – отвечал доктор, – ваша служанка напрасно встревожилась… Позвольте ваш пульс… превосходен!.. Вы совершенно не нуждаетесь во мне. Честь имею кланяться.
Если книга, брошенная в свет в нескольких тысячах экземпляров, наудачу попавшая в эту толпу, называемую публикой, возбуждает много зависти, вражды, много скрытой злобы, то нередко она приносит своему автору и большую, в высшей степени отрадную, но часто неведомую им, награду, состоящую в том общении мыслей, той симпатии к его уму, которые возникают в сердце его читателя, иногда вдали от него, а подчас со всем близко, в то время, как он и не подозревает этой близости; подобная дружба драгоценна; сознание и предчувствие её дает бодрость всякому, кто сеет свою мысль в толпе; для того, чтобы эта скрытая преданность заявила о себе, нужен предлог, какая-нибудь встреча, какой-нибудь случай. Книге Шарля посчастливилось в этом отношении. Позванный Франсуазой доктор был один из его скрытых друзей.
На другой день, узнав от старой служанки все признаки болезни Шарля, он снова пришел навестить его, но тотчас поспешил уверить Шарля, что не пришел узнать об его здоровье, так как он уверен, что оно в превосходном состоянии, но просто желал засвидетельствовать ему свое удовольствие по поводу знакомства с человеком, которого он полюбил не зная лично; и он принялся говорить о его книге, в качестве читателя, не раз перечитавшего ее.
– Ах! да! – сказал Шарль, – «Буржуазия»… да, я написал это, будучи слишком молодым… Если бы вы прочли то, что я хотел написать…
– Одна вещь, – прервал его доктор, – удивляет меня в этой книге: все ваши типы словно списаны с натуры, и, как бы ни были вы наблюдательны, мне кажется чрезвычайно трудно…
– Ах! видите ли, в то время я владел необыкновенной проницательностью, это было нечто в роде откровения.
– Похожего на голос, не правда ли? – сказал доктор, делая ударение на слове «голос», – который как бы диктовал рассудку…
– Да, да голос, именно голос… но внутренний голос, слышимый рассудком, как вы говорите, но не тот, что я слышу последнее время… ушами.
– В самом деле, вы слышите голоса?.. Ах! это очень интересно… воображаемые голоса?
– Нет, действительные.
– Голоса, принадлежащие каким-нибудь лицам?
– Нет, лиц я не вижу… не знаю.
– Это очень странно… И вы вполне уверены в этом?
– Подождите… вот! слушайте хорошенько: три голоса, один, нервный, гневный голос молодого человека… один тонкий голосок женщины… и наконец третий, грубый, насмешливый. Они не всегда говорят… и не все зараз, но голосок женщины – постоянно. Я говорю с ними, прошу их уйти, предлагаю им денег: болтуны не унимаются!..
– Боже мой, я охотно признаю, что в вашем мире есть превосходные мистификаторы, но, право, с вашей стороны не хорошо делать такого старика, как я, мишенью подобных шуток… – и желая затронуть самолюбие Шарля, чтобы в споре вызвать полное признание относительно его иллюзий, доктор продолжал: – Вы ведь отлично сознаете, что то, что вы мне рассказываете, невозможно… Голоса!.. Как вы хотите…
– Невозможно?.. Ничего нет невозможного для науки, в наша дни: все открытия невозможны: дагерротип, электрический телеграф… все!.. И потом, если бы я себе это воображал, если б это не были настоящие голоса… вы бы могли назвать меня, как зовут меня болтуны!
– А как они вас зовут?
– Это не ваше дело!.. – И тотчас понижая голос, Шарль продолжал: – Они меня зовут… Это неправда милостивый государь!.. Что со мной? У меня болит голова, потому что со мной случилось… много несчастий… Но вы можете спросить у женщины, живущей у меня… Она вам скажет… я спокоен… я не делаю ничего безрассудного… Я немного сбит с толку, да, чуть-чуть… иногда мне трудно собраться с мыслями… но это проходит… и я не знаю, почему голоса называют меня сумасшедшим… я не сумасшедший… Неправда ли, ведь я не сумасшедший?
LXXXIX
Доктор, позванный к Шарлю, принадлежал к тому, уже многочисленному разряду врачей, которые к болезням духа применяют и лечение духовное. Победить болезнь при помощи доверия и кротости, дружеским и снисходительным убеждением, не препятствуя в начале больному предаваться своим иллюзиям, не задевая его самолюбия, стараться вернуть и собрать в нем мало по малу остатки самосознания, ясного суждения, еще непоколебленных болезнью истин, здоровых проблесков мысли, затронуть и пробудить в нем все самолюбивые чувства, отвечающие разуму и заставляющие его бодрствовать; стараться дать больному почувствовать собственное безумие и, если возможно, отдать себе в нем отчет, действовать в физическом отношении осторожным лечением, как например теплые ванны, горчичники, в случае надобности пиявки. Такова была система этого доктора, таково же было и его лечение. Собственно говоря, в этой иллюзии слуха, иллюзии сумасшествия самой обыкновенной, но далеко не самой серьезной, он видел только временное помешательство, затмение умственных способностей как вследствие сильного нравственного потрясения, от которых время, возвращение к обыденной жизни и прежним привычкам и перемена места, могут вылечить больного, не оставив в нем никакого следа. Поэтому, окружив Шарля своими заботами, тихонько убаюкивая его разными проектами, он старался склонить его к большому путешествию по Италии, ища уже между своими помощниками по больнице самого веселого и кроткого спутника, для бедного больного. Шарлю было лучше. Но эта ужасная болезнь, болезнь сумасшествия, сама словно безумная. Она не подчиняется правильному ходу. Случайно увиденное лицо, воспоминание, вызванное неизвестно чем, физическое расстройство, какое-нибудь изменение во времени, наконец просто что-то необъяснимое, неуловимое для науки, как например, атмосферические влияния, подобные тем, которые в июле 1848 г. взволновали всех больных в Бисетре, словом, тысяча неизвестных причин действуют на нее и ожесточают ее. Внезапно, без всякой видимой причины, улучшение в состоянии Шарля усложнилось в худшему. Он начал снова слышать голоса еще более настойчивые и надоедливые. Он не хотел более отвечать на вопросы окружающих. Только мгновенные изменения в лице свидетельствовали о его понимании того, что ему говорил доктор и Франсуаза. Он вглядывался в даль широко раскрытыми от ужаса глазами. По целым дням сидел, облокотившись, сжимая одной рукой грудь, а другой поддерживая слегка запрокинутую голову, дрожа при малейшем шуме, неподвижный и боязливый, он напоминал собой скорбную статую страха…
Увы! он достиг того печального периода такого помешательства, когда бессознательная воля, охваченная отчаянием, уступает суровому выводу ложной идеи: он начал страдать манией самоубийства!
Уже несколько раз, созерцая проносившиеся белые облака в голубом небе, он вдруг начинал звать их, прося взять его в себе и уже заносил ногу за окно; его вовремя останавливали. Но за этими порывами, за инстинктивными призывами смерти и покушениями при удобном случае, вскоре наступали созревшие и определенные планы самоубийства, составление которых не ускользнуло от врача.
ХС
Предупредили жену Шарля. Шаванн, вызванный в Париж, примчался. Семейный совет учредил над Шарлем опеку, и больной был перевезен в Шарантон. Там ему дали отдельную комнату, особого слугу, самое дорогое содержание, словом, окружили Шарля роскошью и комфортом, каким только может располагать болезнь, не знающая нужды.
Первое впечатление, которое испытывает больной, перевезенный в сумасшедший дом, с решеткой у камина, с решеткой у окон, со множеством незнакомых лиц, в новую и сомнительную для него обстановку, перенесенный внезапно с театра своего безумия – из своего жилища, освобожденный от выражения скорби окружающих, встречая заботы и снисхождение там, где боялся найти что-то неизвестное, но страшное для него, это первое впечатление есть чувство полного удивления, делающего поворот в состоянии больного.
Вместе с тем является и смутное чувство страха, которое, умеряя нервное возбуждение, успокаивает больного и располагает его к пассивности, к послушанию, к исполнению предписаний доктора. Случается, что в первое время сумасшедший, в виду этого надзора, который он чувствует повсюду за собой, отступает от всякой попытки к самоубийству, заранее уверенный в её бесполезности.
Осунувшийся, с желтым лицом, сухими, воспаленными губами и беспокойным взором, Шарль оставался неподвижен в своем новом жилище. Он отрывисто отвечал на вопросы, по временам тяжело вздыхая и вскрикивал: «я хочу уйти отсюда!.. я хочу знать!..». Он трясся, вздрагивал при малейшем шуме, приходил в отчаяние в тишине, постоянно меняясь в лице, на котором то появлялось выражение жалости, то выражение ужаса и отчаяния; но он, казалось, оставил всякую мысль о самоубийстве и, хотя с большим трудом, однако добились того, чтобы он принимал пищу.
Система главного доктора относительно специально меланхоликов была та же, что и у первого доктора Шарля. Он был сторонником духовного лечения, если не исключительно, то в главных чертах; но изучением этой болезни по опытам, он пришел к заключению о необходимости ввести в лечение чувство боли, не как физическое наказание, а как нравственный двигатель. Мысленно приравнивая сумасшедших к детям, он думал, что наказания, столь необходимые в детском возрасте, и так благотворно действующие в первые годы жизни человека, должны быть применимы к сумасшествию, этому детству рассудка, который следовало вернуть в его прежнему состоянию возмужалости посредством сурового обуздания. Желая дать Шарлю время вернуться к своим привычкам, желая также заставить его ожидать своего посещения, расположить его к признанию над собой той власти, которая составляет главное оружие доктора против болезней этого рода, он думал дождаться конца недели, чтобы отправиться навестить больного, когда ему пришли сказать, что г-н Демальи решительно отказывается от принятия пищи. Доктор быстро вошел в комнату Шарля, взял чашку бульона и подал ему. Взмахом руки Шарль отбросил ее на середину комнаты. Доктор ничего не сказал Шарлю, спросил другую чашку и спокойно протянул ее Шарлю. Шарль решительно отвернулся.
– Я в отчаянии, – сказал ему доктор, – что вы заставляете меня прибегнуть к подобной крайности… Но, так как вы не хотите быть благоразумным, мне придется употребить силу…
– Как… силу?.. О!
И глаза Шарля угрожающе сверкнули.
– Зонд! – приказал доктор. Трое человек схватили больного, закинули ему голову и вставили зонд… Но Шарль с энергией и ожесточенным усилием воли, являющейся у всех меланхоликов, желающих умереть с голоду, постепенно выплевывал бульон. Между ним и тремя людьми шла борьба. Зонд становился опасен.
– Есть в резервуаре лед? – сказал доктор. – Снесите больного в залу.
Шарля положили в ванну, под кран самого сильного душа; началось холодное обливание.
Страдания Шарля должны были быть ужасны; он страшно побледнел, но не раскрывал рта. Доктор спросил, будет ли он есть. Шарль был нем. Он молчал минуту… другую… Наконец, при продолжающемся душе, он залился слезами и разразился криками и прерывающимся голосом заговорил:
– Зачем вы заставляете меня так страдать?.. Зачем?.. Что я вам сделал?.. Ах! я знаю, кто вы такой!.. Я сам читал медицинские книги, когда я начал бояться за себя… Вы доктор Хемрот! варвар Хемрот!.. и вы все тоже немецкие палачи!.. Я вас отлично понимаю! Для вас сумасшествие – это болезнь души, греховной души… Да, это ты проповедуешь, что для сумасшедших нужны наказания… ты говорил о грехе! ты говорил о наказании! Да, да, я отлично помню… и ты говоришь, что это потому, что люди забывают Бога, не имеют его всю жизнь перед собой… но я не забывал, я всегда помнил образ… Бога… всегда!.. Я не хочу, чтоб мне лили на голову, довольно!.. Я никогда не делал ничего дурного, честное слово, никогда!.. Это голоса, которые меня преследуют… Нет, вы не Хемрот… и вы не друзья Хемрота… нет, добрые господа… я вас прошу… ведь я же вам обещаю… я буду есть, слушайте, я буду есть!..
Когда Шарль вышел из ванны, ему принесли бульон. Он сперва отказался; но при угрозе повторить душ, он решился проглотить его. Новые сопротивления с его стороны вызывали то же наказание; и Шарль кончил тем, что стал принимать пищу.
XCI
Он был в ванне под ужасным душем. Доктор говорил ему:
– Нет ни одного слова правды в том, что вы мне рассказываете… За это вы и посажены сюда и вы не выйдете отсюда, пока вы не опомнитесь и не сознаетесь в этом самому себе…
– Вы хотите, чтобы я не слышал того, что я слышу? – тихо отвечал Шарль. – Очень хорошо… Я-то хорошо знаю, что я слышу; но вы не хотите, чтобы я об этом говорил… так как, по-вашему, это неправда… я постараюсь, я не буду больше говорить… но не слышать я не могу.
– Вы должны постараться не слышать.
И душ продолжался.
XCII
Заботы, строгий режим, искусное пользование, быть может, даже эти грустные исправительные средства, это усиление страдания, употребляемое в расчете на ослабление воображения, мало по малу, все это решительно, хотя и медленно, восторжествовало над болезнью Шарля. В своих беседах с доктором, обратившихся в приятные разговоры, Шарль, если и упоминал об «докучливых голосах», то только как о слышанном ему шуме.
Это уже не было положительное утверждение, но последнее, застенчивое, стыдливое сомнение, с которым доктору легко было покончить. Жизнь и тепло, день за днем, возвращались в это жалкое, похудевшее, разрушенное тело. Одновременно с этим физическим восстановлением, его, до сих пор порабощенная, воля, освобождалась от порабощения и от захвата всех своих способностей, получала вновь свои силы и свою личную жизнь, и начала действовать сознательно.
И морально, и физически Шарль освобождался от апатии, неподвижности, бессознательности и смерти. Упражнения вернули ему аппетит; всякая боязнь брюшных заболеваний исчезла, и полное выздоровление было уже в мыслях и надеждах доктора лишь вопросом времени; он видел, как больной уже начал подсмеиваться над голосами и как на губах его при этом появлялось что-то в роде улыбки, он стал проявлять интерес к вещам, не имевшим отношения к его болезни, и принялся читать, не испытывая этого утомительного явления зрения, которое при чтении громоздит одну букву на другую.
Шарлю, надо сказать правду, помогали и двигали его на пути к выздоровлению внимание и предупредительность всех окружающих. Его окружали одной симпатией. Все, даже самые закаленные, в этом доме, привыкшем к несчастью, отнеслись сочувственно к несчастью молодого человека.
Его помешательство, в начале такое бурное, а теперь тихое и серьезное, его молодость, его ласковая благодарность, его история, дошедшая сюда, хотя и не в полном виде, располагавшая к нему всякого человека с сердцем, также, как и его имя, которое было знакомо некоторым, благодаря его книге, все это завоевало ему расположение, дружеское сожаление и милосердие окружающих, возникающие в подобном положении вокруг несчастной жертвы. Весь этот сонм желаний и забот об его выздоровления, столько рук, которые, казалось, поддерживали и несли его по пути к здоровью, преданные и нежные заботы всего медицинского персонала, который, быть может, сам того не сознавая вкладывал в это лечение, помимо профессионального самолюбия, большую долю человеколюбия, все это играло немаловажную роль в борьбе Шарля с самим собой против иллюзий и отчаяния.
Шаванн, приехавший навестить его в конце зимы, нашел его настолько поправившимся, что хотел увезти его к себе. Но доктор, знавший по горькому опыту опасность возвратных заболеваний, и желая вернуть Шарля в полной свободе совершенно здоровым, посоветовал Шаванну обождать весны, настоящего времени для деревенской жизни, и наиболее благоприятствующего счастливому окончанию психических болезней. Пока же он освободил Шарля от всякого присмотра и почти от всякого режима. Шарль вел приблизительно образ жизни политического заключенного в больнице; и, соглашаясь сам с опасениями врача, он ожидал назначенного срока с благоразумием вполне здорового существа.
Улучшение прогрессировало; помощник главного доктора, привязавшийся в Шарлю, получил позволение брать его иногда с собой в Париж, гулять с ним и развлекать его, чтобы, так сказать, приготовить его и ввести на путь в свободе.
Однажды вечером они обедали у Бонвале; доктор говорил ему, что нет более причин держать его, что конец зимы очень хорош и он может, без затруднения, отправиться к своему другу; болтая, они очутились перед маленьким, освещенным театром на бульваре Тампля и доктор прочел в глазах Шарля такое сильное желание войти, что он взял ложу и они вошли. Они уселись вдвоем; взглянув на Шарля, доктор в первый раз увидел на лице Шарля оживление и возбуждение того человека, каким был когда-то Демальи.
– Я вам очень благодарен, доктор… Право, это прошло, совершенно прошло, я чувствую… У меня давно было это желание, но я не смел сказать вам об нем… Ах, как я счастлив! – И в глазах Шарля показались слезы.
– Я знал, что это прошло… Успокойтесь же, мой друг…
Но Шарль плакал, закрыв лицо платком, и эти слезы были ему так приятны, что он долго не глядел на сцену. Когда он, наконец, поднял глаза, на сцене была женщина; между ней и молодым человеком происходило объяснение в любви, довольно рискованное… В одну секунду кровь бросилась Шарлю в голову, глаза его страшно раскрылись, губы задрожали… Доктор хотел увести его.
– Нет, доктор, ведь я не сумасшедший больше, клянусь вам, я не сумасшедший!
Страшная дрожь потрясла все его тело… Доктор хотел взять его на руки и унести; но Шарль уцепился руками за скамейку и могучим усилием плеч освободившись от объятий доктора и выпрямляясь во весь рост, почти высунувшись из ложи, при всеобщем удивлении, он крикнул, указывая пальцем на актрису:
– Голос… голос изменницы!..
XCIII
Когда Шарля схватили, доктор услышал позади себя: – смотрите! это бедный Демальи! – Говорили, что он выздоровел… Он, вероятно, не знал, что его жена спустилась, из театра Gymnase, сюда?
Пришлось унести Шарля на руках. Он защищался ногами, руками и зубами, рвался, кусался и бился. В карете принуждены были его связать. Когда приехали в Шарантон, никакие самые сильные средства, начиная с кровопускания и кончая ужасной полосой до красна накаленного железа, прикладываемого к затылку, не помогли против овладевшего им приступа бешенства, против жажды разрушения, заставлявшей его обращать в мелкие куски все, что попадалось под руку.
За этим долгим и ужасным припадком последовал полный упадок сил. И несмотря на страшную слабость и истощение безумца, по временам у него все еще вырывались крики бешенства. Наконец, Шарль был не в состоянии произнести ни одного слова. Он не мог сделать движения, по которому можно было бы заключить, что он понимает слова других. Лицо его подергивалось судорогой, глаза были устремлены в одну точку и ничего не выражали, все тело было покрыто ссадинами; пульс слабый и медленный. Начиналась предсмертная дремота. Шарль Демальи умирал, освобождался от мучений!.. Но случилось чудо, чудо, заключавшееся в том, что он вдруг проснулся от своего сна и проснулся живой, он почувствовал жажду… Несчастный! он забыл слова, которыми выражают желание!
XCIV
Он остался жив. Он живет, как будто ему было предназначено до дна испить чашу искупления, испытав весь ужас унижения человеческой мысли. Он живет, представляя собой ужасный пример крайности наших печалей и отрицания нашей гордости… Все, даже названия предметов первой жизненной необходимости, на человеческом языке, все улетучилось из его памяти. У него нет прошлого, нет воспоминаний, нет времени, нет мысли! Нет ничего, что пережило бы тело; это бездушная масса, откуда изредка слышатся выкрикивания, нечленораздельные звуки, плач, смех, выражение, ни на чем не основанной, идиотской радости! Ничто не напоминает в нем человека, кроме этого тела, живущего одним пищеварением! тела, прикованного в креслу, бормочущего детским лепетом отдельные слоги и беспрестанным движением вздергивающего и опускающего плечи, и при виде солнца кричащего по звериному: кок… кок…. открывающего рот, когда ему приносят пищу и благодарно, по животному, ласкающегося к человеку, кормящему его.





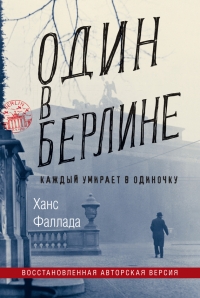
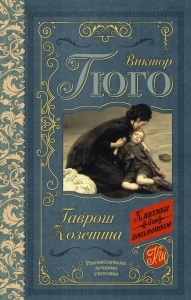
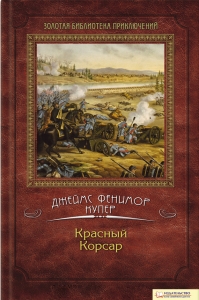


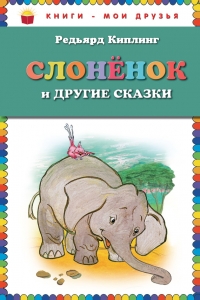

Комментарии к книге «Шарль Демайи», Эдмон Гонкур
Всего 0 комментариев