ИСПОВЕДЬ
Дул горячий ветер, он смешивал раскаленный песок с землей и бросал его в лица путешественников. Солнце нещадно палило. В такт мерным шагам верблюдов однотонно позвякивали железные и бронзовые колокольчики. По мрачному выражению опущенных морд и обвислым губам верблюдов было видно, что они недовольны своей судьбой.
Поднимая пыль, караван медленно двигался по грязной серой дороге. Насколько хватало глаз, вокруг простиралась песчаная, безводная волнообразная пустыня серого цвета, без малейших признаков зелени. Лишь в некоторых местах она переходила в небольшие холмы. На протяжении многих фарсахов не было видно ни одной пальмы, которая украсила бы пейзаж. Воздух был накален. Люди дышали прерывисто, словно они попали в преддверие ада.
Тридцать шесть дней шел караван. Во рту у всех пересохло, люди устали, карманы их опустели. Деньги путешественников таяли, как снег под палящими лучами аравийского солнца. Но сегодня, после того как предводитель каравана поднялся на «холм приветствия» и получил от паломников подношения, показались золотые купола мечетей, и путешественники воздали хвалу богу. Все приободрились, словно в их измученные тела вдохнули новую душу.
В своих порыжелых от пыли чадрах Ханум Гелин и Азиз-ага тряслись от самого Казвина. День казался им годом. Хотя Азиз-ага чувствовала себя совершенно разбитой, мысленно она повторяла: «Очень хорошо, ведь я еду на поклонение!» Рядом ехал на муле босоногий араб с черным лицом, наглыми глазами и редкой бороденкой. Он держал в руках толстую цепь, которой бил животное по израненным бокам. Время от времени он оборачивался, чтобы разглядеть лица женщин.
Спутник женщин, Мешеди Рамазан Али, вместе с Хосейном, пасынком Азиз-ага, сидели в корзинах по бокам верблюда. Мешеди внимательно пересчитывал деньги.
Ханум Гелин, побледневшая от усталости, приподняла занавеску, разделявшую корзины, и, наклонив голову, обратилась к Азиз-ага, сидевшей в другой корзине:
— Когда я увидела купола, я ожила. Бедная Шахбаджи, видно не судьба ей была их увидеть.
— Бог ей простит. Как бы то ни было, она была праведницей, — ответила Азиз-ага, обмахиваясь веером, который держала в руке, покрытой искусственными родинками. — Как случилось, что ее разбило параличом?
— Она поссорилась из-за чего-то с мужем и потребовала от него развода. Потом она поела маринованного луку, и утром у нее отнялась половина тела. Сколько мы ее ни лечили, она не поправилась. Я взяла ее с собой, чтобы святой Хосейн ее исцелил.
— Может быть, ей стало хуже от дорожной тряски?
— Но душа ее попала в рай. Ведь если паломник умрет по дороге к святым местам, бог простит его грехи.
— При виде погребальных носилок я всегда начинаю дрожать. Я обязательно пройду в святилище и у самой гробницы открою святому свою душу. Куплю для себя саван, а потом уже можно и умереть.
— Вчера я видела Шахбаджи во сне. Да минет нас это! Вы тоже там были. Мы гуляли в большом зеленом саду. К нам подошел какой-то благообразный сеид1. На нем был зеленый платок, зеленый халат, зеленая чалма и зеленые2 туфли без задников. Он подошел к нам и сказал: «Добро пожаловать. Вы принесли с собой радость». Потом он показал пальцем на какой-то большой зеленый дом и сказал: «Пойдите туда и отдохните». В этот момент я проснулась.
— Пусть найдет счастье на том свете!
Караван шел все с таким же шумом. Впереди запел проводник:
— Кто желает повидать Кербелу, добро пожаловать!
Кто хочет нам сопутствовать, добро пожаловать!
Другой ему ответил:
— Тот, кто желает повидать Кербелу, пусть будет счастлив!
Всякий, кто хочет нам сопутствовать, пусть будет счастлив!
Потом первый снова пропел:
— Какая это чудная Кербела!
Кербела вдохновляет человека,
Все еще слышен плач Зейнаб3.
Второй ответил:
— Какая это чудная Кербела, о дорогие!
Да поможет вам бог посетить Кербелу!
Да паду я жертвой за имама Хосейна!
Первый взмахнул знаменем4 и еще громче запел:
— Пусть отнимется язык у того, кто не повторит этих слов:
Благословение любимцу бога — Мохаммеду, последнему из пророков!
Благословение одиннадцати потомкам Али Абу Талиба5,
Благословенны их лица, прекрасные, как луна.
В конце каждого стиха паломники хором возносили хвалу аллаху.
Уже близко были пышные золотые купола, красивые стройные минареты и симметрично расположенные голубые купола, казавшиеся на фоне глиняных домов заплатами другого цвета.
Солнце клонилось к западу, когда караван вошел на улицу, по обеим сторонам которой тянулись полуразрушенные стены и маленькие лавчонки. Огромная толпа бурлила вдоль дороги. Здесь были арабы с хитрыми лицами, в закатанных штанах и фесках на голове. Здесь были люди в чалмах, туфлях без задников, с выкрашенными хной бородами и ногтями, с бритыми головами, которые, не переставая, перебирали четки. Воздух был наполнен гулом голосов. Одни говорили по-персидски, другие — по-турецки, третьи — на арабском языке с характерными для него гортанными звуками.
В толпе стояли арабские женщины с воспаленными глазами, с кольцами в носу и с множеством искусственных родинок на грязных лицах.
Все эти люди тем или иным способом старались привлечь к себе внимание. Один читал поминания, другой бил себя в грудь, третий продавал четки и священный саван, четвертый заклинал джиннов6, пятый писал молитвы, а кое-кто предлагал жилье. Евреи в долгополых сюртуках покупали у путешественников золото и драгоценные камни.
Когда караван остановился, Мешеди Рамазан и Хосейн-ага быстро соскочили с верблюдов и, подбежав к женщинам, помогли им вылезти из корзин. На путешественников сразу же накинулось множество людей. Каждый, схватив что-либо из их вещей, приглашал к себе. В этот-то момент и исчезла Азиз-ага. И сколько ее ни разыскивали, сколько о ней ни расспрашивали, все было напрасно.
После того как ханум Гелин, Хосейн-ага и Мешеди Рамазан наняли грязную комнату в глиняном домишке по семь рупий7 за ночь, они снова принялись искать Азиз-ага. Они исходили весь город, спрашивали о ней возле мечети в будке, где сдают туфли, у каждого чтеца молитв, но она как в воду канула.
Площадь понемногу начала пустеть, и было уже довольно поздно, когда ханум Гелин в девятый раз вошла внутрь гробницы и увидела, что группа женщин и ахундов окружила какую-то паломницу, которая, крепко ухватившись за замок на решетке, целует его и громко кричит: «О дорогой имам Хосейн, услышь мои мольбы! В день воскрешения из мертвых, который будет длиться пятьдесят тысяч лет, когда у всех глаза вылезут из орбит, каким прахом я посыплю свою голову в могиле? Помоги мне, помоги мне! Грешница я, каюсь, великий грех я совершила, прости меня!» Сколько ее ни спрашивали, что случилось, она ничего не отвечала. Лишь после долгих уговоров женщина проговорила:
— Я сделала такое, что боюсь, святой Хосейн меня не простит!
Она все время повторяла эту фразу, и слезы градом катились по ее лицу. Ханум Гелин узнала голос Азиз-ага, подошла к ней, взяв за руку, вывела во двор и с помощью Хосейн-ага проводила в комнату. Все собрались вокруг нее. Выпив два стакана сладкого чая, Азиз-ага взяла приготовленный кальян и сказала, что поведает свою историю лишь в том случае, если Хосейн-ага выйдет из комнаты. Когда Хосейн-ага вышел, Азиз-ага затянулась и начала свой рассказ.
— Душечка Гелин-ханум, знаешь ли ты, что когда я пришла в дом Гада̀ Али, да простит его господь, то три года мы жили так, что даже Сакине Солтан ставила моего Гада̀ Али в пример своему мужу.
Гада̀ Али обожал меня. Однако в течение всего этого времени я ни разу не забеременела, а покойный муж все время твердил, что хочет ребенка. Каждую ночь он приставал ко мне: «Что же мне делать? Ведь мой род прекратится!» Сколько я ни пила лекарств, сколько ни молилась, ребенка у меня не было. Однажды ночью Гада̀ Али заплакал и сказал: «Если ты согласишься, я возьму сиге8, она будет выполнять разные домашние работы, а потом, когда родится ребенок, я дам ей развод, и ты вырастишь ребенка как своего собственного». Я поддалась на его обман, да простит его бог, и сказала: «В этом нет ничего плохого. Я все сделаю сама».
Назавтра я накинула чадру, пошла и посватала для своего мужа Хадиче, дочь Хасана, который занимается приготовлением кислого молока. Она была рябой, черной и уродливой. Когда Хадиче пришла к нам в дом, на ее платье было столько заплаток, что, если бы ее с ног до головы осыпать просом, ни одно зернышко не упало бы на землю. К тому же женщина была так слаба, что стоило только взять ее за нос, как у нее выскочила бы душа. Ну, ладно, я была хозяйкой в доме, Хадиче работала, готовила обед.
Ханум, не прошло и месяца, как она стала поправляться, расцвела, располнела и забеременела. Она крепко обосновалась у нас в доме, муж выполнял все ее прихоти. Если в зимнюю стужу ей хотелось вишен, то Гада̀ Али доставал их для нее из-под земли. Для меня наступили черные дни. Каждый вечер Гада̀ Али, придя домой, нес в комнату Хадичи шелковый цветной платок.
Я же жила только ее милостями. И вот дочь того самого Хасана, у которой, когда она пришла к нам в дом, один туфель рыдал, а другой бил себя в грудь — такие они были рваные, — эта Хадиче теперь важничала и ломалась передо мной.
Вот тогда-то я поняла, какую совершила ошибку!
Ханум, девять месяцев я жила стиснув зубы, но перед соседями я старалась казаться довольной и веселой. Однако днем, когда мужа не было дома, Хадиче от меня хорошенько доставалось, пусть не передаст ей этого земля. Я клеветала на нее мужу и говорила: «Влюбился на старости лет в лягушачьи глаза! У тебя никогда не будет сына. Это нечистое семя. Это не твой ребенок. Хадиче забеременела от Мешеди Таги, который делает ложки». Хадиче же в свою очередь подстраивала мне разные пакости и наговаривала на меня Гада̀ Али. К чему вас утомлять подробностями? Словом, каждый день в нашем доме происходили такие ссоры, что хоть уши затыкай. Своими скандалами мы надоели всем соседям.
Сердце мое обливалось кровью, больше всего я боялась, что родится мальчик. Я раскрывала книгу, делала разные заклинания, но ничего не действовало, как будто Хадиче, не дай бог, наелась свинины.
День ото дня она все больше полнела, пока, наконец, спустя девять месяцев, девять дней, девять часов и девять минут не родила. И что бы вы думали? Она родила мальчика!
Ханум, в доме собственного мужа я превратилась в стертую монету. Не знаю, имела ли Хадиче при себе позвонок змеи или опоила чем-нибудь Гада̀ Али, но, дорогая ханум, да паду я за тебя жертвой, эта женщина, которую я сама привела из квартала трепальщиков хлопка, стала надо мной издеваться. Она сказала мне при муже: «Азиз-ага, постирай пеленки ребенка, тебя ведь это не затруднит, а мне никак не управиться».
Когда она это произнесла, я вспылила и при Гада̀ Али наговорила и про нее и про ребенка все, что мне пришло в голову. Я сказала мужу, чтобы он дал ей развод, но он, да простит его господь, целовал мне руки и твердил: «Зачем ты так поступаешь? Как бы у нее не испортилось молоко, ведь это повредит ребенку. Подожди немного, мальчик начнет ходить, тогда я разведусь с Хадиче».
Но с тех пор я уже не могла ни спать, ни есть. И вот однажды, прости господи мои грехи, когда Хадиче ушла в баню, я осталась дома одна для того, чтобы сделать Хадиче зло, я подошла к колыбели ребенка, вынула из платка под подбородком булавку, отвернулась и проколола темечко ребенка, а потом в страхе выбежала из комнаты.
Ханум, этот ребенок не умолкал два дня и две ночи. Его крик разрывал мне сердце на части. Сколько над ним ни читали молитв, сколько ни лечили его, ничего не помогало. На второй день к вечеру он умер.
Как муж и Хадиче плакали и тосковали по ребенку! Я же как будто оледенела. Про себя я думала: по крайней мере им тяжело!
Прошло два месяца, и Хадиче снова забеременела. На этот раз я не знала, что сделать с собой, Ханум, клянусь святым Хосейном, от тоски я два месяца пролежала в постели, как мертвая. Через девять месяцев Хадиче разродилась мальчиком и снова стала дорогой и любимой.
Гада̀ Али отдавал мальчику всю свою душу. Бог наградил его сыном с золотистой головкой. Два дня Гада̀ Али никуда не отлучался. Он положил перед собой спящего ребенка и не отрываясь смотрел на него.
И опять все пошло по-прежнему. Ханум, я была не в силах смотреть на свою соперницу и ее сына. И однажды, когда Хадиче была занята, мне удалось отвлечь ее внимание и я снова проколола мальчику темечко булавкой. Этот ребенок тоже умер на второй день. Снова начались стенания и плач. Вы не можете себе представить, что делалось со мной. С одной стороны, я радовалась, что досадила Хадиче, принесла ей горе, но в то же время как я мучилась: на моей совести были две невинные жертвы. Я все время плакала и била себя по голове. Я так убивалась, что Гада̀ Али и Хадиче жалели меня и удивлялись, что я так люблю ребенка своей соперницы. Но я плакала не о ребенке. Я плакала о себе. Я боялась страшного суда, боялась загробной жизни. В ту ночь муж сказал мне: «Значит не судьба, чтобы у меня был ребенок, видишь, мои дети не живут!»
Еще не наступили зимние холода, как Хадиче опять забеременела, и каких только обетов не давал мой муж, чтобы ребенок выжил. Он поклялся, что, если родится девочка, он отдаст ее замуж за сеида, а если родится мальчик, то назовет его Хосейном и до семи лет не будет стричь ему волосы. Потом он острижет волосы, возьмет равное им по весу количество золота и поедет на поклонение в Кербелу.
Через восемь месяцев и десять дней Хадиче родила третьего сына, но ее сердце как будто что-то чуяло. Она ни на минуту не оставляла ребенка одного. Я же не знала, что делать: убить ребенка или заставить Гада̀ Али развестись с Хадиче. Но все это были пустые мысли! Хадиче опять заважничала и стала главной хозяйкой в доме. Она постоянно попрекала меня, командовала. Ей нельзя было ни слова сказать наперекор. Так продолжалось до тех пор, пока мальчику не исполнилось четыре месяца.
Я все время гадала, убить мне мальчика или нет, и однажды ночью, сильно поссорившись с Хадиче, решила утопить ребенка. Я ждала два дня. На третий день Хадиче пошла в парфюмерную лавку купить сушеных фиалок. Я побежала в комнату и вытащила из колыбели спавшего ребенка. Потом достала из-под подбородка булавку. Но лишь только я дотронулась до его темечка, мальчик проснулся и, вместо того чтобы заплакать, улыбнулся мне. Ханум, я не знаю, что со мной стало. У меня не поднялась рука, ведь на самом деле сердце-то мое не каменное! Я положила ребенка обратно в люльку и выбежала из комнаты. Я подумала: в чем же вина ребенка? Все дело в матери. Нужно извести мать, и тогда я успокоюсь.
Ханум, даже сейчас, рассказывая вам, я вся дрожу. Что же делать? Во всем виноват мой муж; это он сделал меня служанкой дочери человека, изготовляющего кислое молоко. Пусть не донесет ему об этом земля!
Я украла волосы Хадиче и снесла их еврею Мулла Ибрагиму, который был известен в квартале Рахчаман. Он мне поворожил. Я положила подкову в огонь. Мулла Ибрагим взял с меня три тумана, чтобы прокалить подкову в сале, и дал мне слово, что не пройдет и недели, как Хадиче умрет. Но о чем же говорить, если прошло более месяца, а Хадиче день ото дня все больше толстела, как гора Ухуд в Кербеле. Ханум, я перестала верить в гадания и заклинания.
Спустя месяц, это было в начале зимы, Гада̀ Али сильно заболел, он даже дважды оставлял завещание, и мы кропили святой водой его горло. Когда Гада̀ Али сделалось очень плохо, я пошла на базар и купила яд. Я принесла его домой, засыпала в горшок с супом, хорошенько перемешала и поставила на огонь. Себе я купила готовый ужин и, придя домой, потихоньку поела одна. Наевшись, я пошла в комнату Гада̀ Али. Хадиче дважды приглашала меня ужинать, говоря, что уже поздно, но я ответила, что у меня болит голова и что мне не хочется есть, пусть лучше желудок будет свободен.
Ханум, Хадиче в последний раз поужинала и легла спать. Я пошла к двери и стала прислушиваться, не раздадутся ли стоны. Однако стояла холодная погода, двери были плотно закрыты, и ничего не было слышно. Всю ночь я оставалась у постели Гада̀ Али, как будто для того, чтобы ухаживать за ним. Перед самым рассветом, трясясь от страха, я опять подошла к двери и прислушалась. Я услышала плач ребенка, но у меня не хватило смелости открыть дверь. Тогда я опять вернулась к Гада̀ Али. Ханум, вы не представляете, в каком состоянии я была.
Утром, когда все проснулись, я вошла в комнату Хадиче. Она лежала мертвая, черная, как уголь, чувствовалось, что она всю ночь металась: одеяло и тюфяк были сбиты. Я положила ее на тюфяк, натянула одеяло. Ребенок плакал и стонал. Я вышла из комнаты, вымыла в бассейне руки, затем, плача и ударяя себя по голове, рассказала мужу о смерти Хадиче.
Когда он спросил, отчего умерла Хадиче, я ответила, что она пила разные лекарства, чтобы забеременеть, и к тому же очень растолстела. Вероятно, с ней случился удар.
Никто меня ни в чем не подозревал, но я сама про себя думала: неужели это я загубила три души? Глядя на свое лицо в зеркало, я пугалась. Жизнь моя была отравлена. Я постилась, плакала, раздавала нищим деньги, но никак не могла успокоить свое сердце.
Бог знает что со мной творилось, когда я думала о судном дне, тяжести могилы, об ангелах смерти Накире и Мункире9. Поклявшись стать служанкой в святилище, я решила пойти в Кербелу, а так как Гада̀ Али дал обет в честь сына, то я думала, что мы поедем вместе, но Гада̀ Али каждый раз придумывал какой-либо предлог и говорил: «Поедем в Мешхед10 в будущем году». Но так как в том году свирепствовала эпидемия, он все откладывал и откладывал путешествие, а в конце концов умер.
Тогда я распорядилась сама. Я продала все имущество мужа, как он завещал. И вот присоединилась к вам. А этот юноша, который едет со мной и который называет меня своей матерью, есть тот самый Хосейн-ага, сын Хадиче. Я просила его выйти из комнаты, чтобы он не слышал моего рассказа.
Все молчали словно окаменелые. Глаза Азиз-ага наполнились слезами.
— Теперь я не знаю, простит ли мои грехи бог? Исцелит ли меня пророк в судный день? Ханум, сколько лет я лелеяла мечту поведать кому-нибудь о своих страданиях! Сейчас, когда я все рассказала, словно водой залила огонь, но что будет в день страшного суда?
Мешеди Рамазан Али помешал пепел в чубуке и сказал:
— Да простит господь твоего отца. А зачем мы все сюда приехали? Три года назад я занимался извозом на Хорасанском шоссе. Однажды я вез двух богатых пассажиров. Посредине дороги коляска опрокинулась, и один из них погиб. Другого я задушил сам и взял у него из кармана полторы тысячи туманов. Когда я повзрослел, мне стало ясно, что эти деньги добыты нечестным путем и их надо очистить в Кербеле. Сегодня я подарил часть из них одному улему11, и он освятил мне тысячу туманов. Теперь эти деньги кажутся мне более чистыми, чем молоко матери.
Ханум Гелин взяла из рук Азиз-ага кальян, сделала две затяжки, пустила густой дым и, немного помолчав, сказала:
— Я хорошо знала, что для Шахбаджи-ханум, которая ехала с нами, дорожная тряска очень вредна. Я даже гадала, и было дурное предзнаменование, но, несмотря на это, я ее повезла. Она была моей сводной сестрой, и ее муж стал моим любовником. Он привел меня к себе в дом и сделал своей второй женой. Это я колотила Шахбаджи-ханум так, что ее разбил паралич. И это я доконала ее в дороге, чтобы не делить отцовское наследство.
Азиз-ага от радости плакала и смеялась.
— О, значит, и вы тоже!.. — проговорила она.
Ханум Гелин, затянувшись кальяном, ответила:
— Разве ты не слышала на проповеди?! Если паломник отправился в путь, то пусть даже у него будет так много грехов, как листьев на дереве, он станет чистым и непорочным...
Заметки
[
←1
]
Сеидами называются в Иране лица, считающие себя потомками пророка Мохаммеда.
[
←2
]
3еленый цвет — цвет мусульманской религии.
[
←3
]
Зейнаб — сестра Хосейна (см. примечание к стр. 36).
[
←4
]
Лицо, сопровождающее караван паломников, обычно несет знамя черного или зеленого цвета.
[
←5
]
Али Абу Талиб и одиннадцать потомков, то есть Али и одиннадцать имамов — прямые потомки Мохаммеда, являвшиеся, по представлениям шиитов, его наместниками на земле.
[
←6
]
Джинн — мифическое существо, бес, злой дух.
[
←7
]
Рупия — денежная единица в Ираке.
[
←8
]
Сиге — временная жена, у шиитов существует обычай, узаконенный религией, брать жен на время с заключением брачного обряда и последующим разводом.
[
←9
]
Накир и Мункир — ангелы, которые, по представлению мусульман, допрашивают умерших об их земных поступках.
[
←10
]
Мешхед — город в провинции Хорасан, где находится почитаемая Шиитами гробница восьмого имама Резы.
[
←11
]
Улем — богослов, толкователь мусульманских законов.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
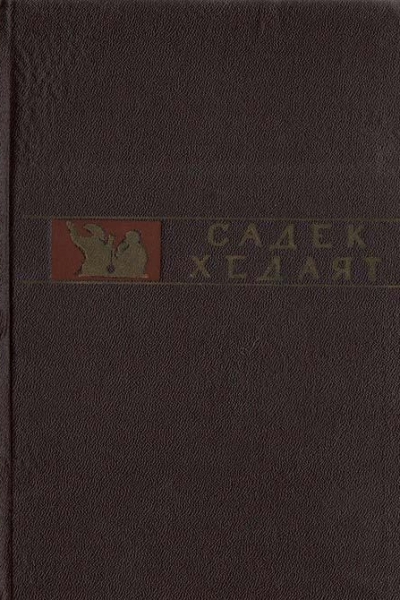
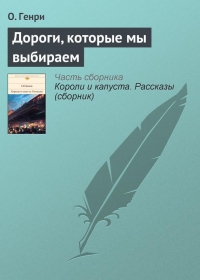

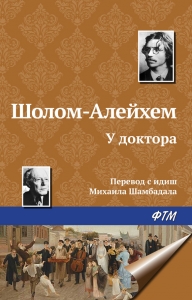

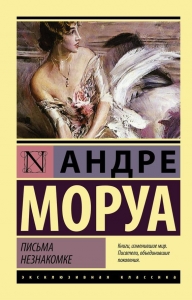

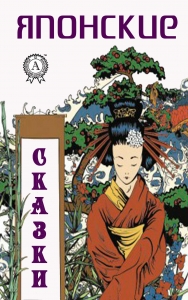

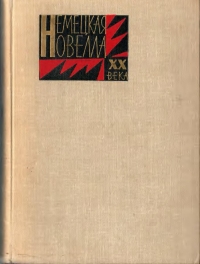

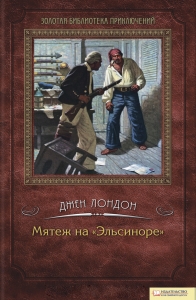
Комментарии к книге «Исповедь», Садек Хедаят
Всего 0 комментариев