Фернандо Пессоа Книга непокоя
FERNANDO PESSOA
LIVRO DO
DESASSOSSEGO
COMPOSTO POR BERNARDO SOARES,
AJUDANTE DE GUARDA-LIVROS
NA CIDADE DE LISBOA
TRADUCAO DA I RYNA FESHCHENKO-SKVORTSOVA
CONSULTAS DO PEDRO SERRAO
© Ирина Фещенко-Скворцова, перевод, 2016
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2016
Вступление
Попадаются порой в Лиссабоне ресторанчики или харчевни, в которых над нижним этажом – лавкой, похожей на приличный трактир, возвышается мансарда, тяжеловесная и скромная, напоминающая кабачок в глухой деревушке без транспорта. В подобных надстройках, полных разве что по воскресеньям, можно наблюдать любопытные типы, безучастные лица, целый ряд персонажей из драмы жизни.
Желание покоя и невысокие цены часто приводили меня в определенный период моей жизни в одно из таких заведений. Случилось так, что, ужиная около семи вечера, я почти всегда встречал там одного субъекта, чья внешность, поначалу меня не интересовавшая, мало-помалу становилась мне любопытной.
Это был мужчина на вид лет тридцати, худой, скорее высокий, чем низкорослый; садясь, он как-то преувеличенно сутулился, но сутулость была менее заметна, когда он стоял; одевался он с определенной небрежностью, но нельзя сказать, чтобы вовсе неряшливо. Выражение страдания в замкнутом и бледном его лице не усиливало участия к нему, и было сложно определить, какой именно оттенок страдания застыл в его чертах – он был похож на след лишений, на тоску и на то горькое терпение, которое у страдающих слишком много рождается безразличием.
На ужин он ел всегда немного, заканчивал ужин, выкуривая унцию табаку. Глядел на присутствующих как-то по-своему, не с подозрительностью, а с неким любопытством: не так, будто что-то хочет выведать, а будто интересуется, не желая, однако, запоминать их манеры или проявления их нрава. Эта необычная повадка первая возбудила мой интерес к нему.
Мне случилось рассмотреть его лучше. Я увидел, как отражение мыслей временами несколько оживляет неопределенность его черт. Но подавленность, холодная тоска так часто замыкали это лицо, что было трудно обнаружить под этой маской что-либо еще.
Я узнал случайно, от прислуги в кабачке, что он служил по торговой части где-то неподалеку.
Однажды на улице под окнами произошла драка между двумя субъектами. Посетители, в том числе и я, подбежали к окнам, подбежал и человек, о котором я рассказываю. Я бросил ему несколько необязательных слов, он ответил тем же. Его голос был глухим и дрожащим, как у тех, кто уже ничего не ждет, потому что ждать и надеяться совершенно напрасно. Но, возможно, это было нелепо – приписывать моему случайному знакомому такие чувства.
Почему – не знаю, но с этого дня мы начали приветствовать друг друга. Вследствие каких-то случайных обстоятельств мы постоянно совпадали во времени – оба приходили ужинать в половине десятого – и однажды разговорились. В какой-то момент разговора он спросил меня, не пишу ли я. Я ответил утвердительно. Рассказал ему о журнале «Орфей», появившемся совсем недавно. Он похвалил этот журнал, похвалил достаточно восторженно, что меня немало удивило. Я позволил себе обратить его внимание на то, что произведения авторов «Орфея» были известны немногим. Он сказал, что, возможно, принадлежит как раз к этим немногим. И скромно заметил, что искусство не является для него чем-то совсем далеким: не зная, куда пойти и что делать, не имея ни друзей, которых мог бы навещать, ни интереса к чтению, он имел привычку посвящать ночи на съемной квартире писательскому ремеслу, как и я.
Он меблировал свои две комнаты удобно, почти роскошно. Особенно позаботился о креслах – мягких, глубоких, с подлокотниками, – а также о портьерах и коврах. Он говорил, что создавал таким образом особый интерьер, «поддерживающий достоинство скуки». А при современном убранстве комнаты скука превращается в дискомфорт, причиняет физическую боль.
Он никогда не испытывал принуждения к чему бы то ни было. Будучи ребенком, он проводил время в одиночестве. Так случилось, что он никогда не присоединялся ни к каким группам. Никогда не посещал каких-либо курсов. Ему никогда не приходилось вращаться в людской толпе. В его жизни произошло то, что имеет место в жизни многих, а быть может, и каждого: вследствие случайных обстоятельств усилились заложенные в нем от рождения инстинкты, склонность к инертности и одиночеству.
Он никогда не был вынужден противостоять требованиям Государства или общества. Он сумел уклониться от требований собственных инстинктов. Ничто никогда его не сближало ни с друзьями, ни с любовницами. Я был единственным, кто – до определенной степени – сумел сблизиться с ним. Но – зная, что он жил всегда как бы под чужой маской, и предполагая, что настоящим другом он меня не считал, – я наконец понял, что он нуждался в ком-то, кому мог бы оставить книгу, которую он и оставил. Мне нравилось думать так, хотя в начале, когда я понял это, мне стало больно. Но затем, посмотрев на все взглядом психолога, я остался его другом, предназначенным для того, ради чего он меня и приблизил к себе, – для публикации его книги.
Даже в этом – любопытно было осознать сей факт – обстоятельства, столкнувшие его с человеком моего нрава, именно тем человеком, который мог бы ему послужить, сложились для него благоприятно.
Фернандо ПессоаАвтобиография без фактов
В этих впечатлениях без связи, без желания связать их я рассказываю отстраненно мою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя Исповедь, и если я в ней ничего не говорю, то лишь потому, что не имею что сказать.
(Отрывок «Завидую – но не знаю, завидую ли»)
Я родился в такое время, когда большинство молодых людей потеряли веру в Бога по той же причине, по которой их предки ее имели: не зная почему. И, так как дух человеческий имеет свойство критиковать оттого, что чувствует, а не оттого, что думает, большинство этих молодых выбрали Человечество в качестве замены Богу. Я принадлежу, между тем, к людям, всегда остающимся у края того, к чему принадлежат, видящим не толпу, частицей которой являются, а только большие пространства рядом с собой. Поэтому я не оставил Бога так легко, как они, и не принял никогда Человечества. Я решил для себя, что Бог, будучи недоказуемым, мог бы существовать, и в этом случае его должны были бы обожать; что Человечество, будучи чисто биологическим понятием, означающим просто-напросто вид животных, именуемый человеком, было не более достойным поклонения, чем любой другой вид животных. Этот культ Человечества, с его обрядами Свободы и Равенства, казался мне всегда оживлением древних культов, когда животных обожествляли или богов наделяли головами животных.
Итак, не умея верить в Бога и не имея возможности верить в определенную совокупность животных, я остался в стороне от людей, на расстоянии от всего, что обычно определяется как Декадентство. Декадентство – это полная потеря бессознательности, потому что бессознательность – фундамент жизни. Сердце, если бы могло думать, остановилось бы.
Для того, кто подобно мне живет как бы вне жизни, что остается, кроме немногих партнеров, кроме отречения как способа и созерцания как судьбы? Не зная, что такое религиозная жизнь, и не имея возможности узнать это, потому что рассудочной веры не бывает; не имея возможности иметь веру, отвлеченную от человека, не зная даже, что с ней делать, мы имели лишь одну возможность: оставить себе, чтобы не потерять живую душу, эстетическое созерцание жизни. Таким образом, чуждые торжественности всех миров, безразличные к божественному и презирающие человеческое, мы легкомысленно посвящаем себя ощущению без цели, культивируемому в утонченном эпикуреизме – единственному, что соответствует нашей умственной энергии.
Усвоив у науки только то главное наставление, что все покоряется неизбежным законам, против которых ничего нельзя сделать, потому что, сопротивляясь, мы исполняем их; и понимая, как это правило приспосабливается к другому, более старому, о божественной предрешенности всего, – мы отрекаемся от усилия, как слабые телом отказываются от атлетических упражнений, и склоняемся над книгой ощущений с большим усердием к учености, которую обретаем.
Не воспринимая ничего серьезно, не считая, что нам может быть дана достоверно другая реальность вне наших ощущений, мы в них укрываемся и их исследуем, как обширные неизведанные земли. И если занимаемся прилежно не только эстетическим созерцанием, но также выражением возможностей и результатов ощущений, то проза или стихотворение, которые мы пишем, не добиваясь, чтобы они были поняты другими или возбуждали в них желания, становятся подобными чтению вслух с целью объективной оценки субъективного удовольствия от чтения.
Мы хорошо понимаем, что все творения рук человеческих должны быть несовершенными, что наименее верным из наших созерцаний эстетического характера всегда будет то, что легло на бумагу. Но все несовершенно, даже самый прекрасный закат, чудеснее которого не может быть ничего, даже легкий бриз, навевающий нам такой сон, что спокойнее не бывает. Вот так и мы, одинаково созерцающие горы и статуи, читающие наши дни, как читали бы книги, размышляющие обо всем, главным образом для того, чтобы переработать это внутри себя, будем все описывать и анализировать, чтобы эти описания, однажды вышедшие из-под нашего пера, стали чужими, и мы могли бы наслаждаться ими, словно они появились сами собой этим вечером.
Я вовсе не придерживаюсь концепции пессимистов, как де Виньи,[1] для которого жизнь – это тюрьма, где узники плетут солому, чтобы развлечься. Быть пессимистом – значит воспринимать любое событие как трагическое, и подобная установка является преувеличением, доставляет лишнее беспокойство. Конечно, когда мы создаем наши творения, у нас нет четкого представления об их ценности. Конечно, мы создаем их для развлечения, и нас невозможно сравнить с заключенным, плетущим что-то из соломы в стремлении забыть о собственной Судьбе, – скорее, с девушкой, забавы ради вышивающей подушку.
Жизнь представляется мне неким постоялым двором, где приходится ждать прибытия дилижанса, отвозящего всех в небытие. Я не знаю, куда меня отвезет дилижанс, не знаю ничего. Могу считать этот постоялый двор тюрьмой, так как принужден ожидать именно здесь; могу считать его общественным местом, так как встречаюсь здесь с другими. Но я не чувствую нетерпения и не чувствую себя связанным с другими. Я оставляю их запертыми в своих комнатах, безвольно простертыми на постелях, где они лежат без сна; я оставляю их беседующими в залах, откуда доносятся до меня музыка и их голоса. Я сижу около двери и впитываю цвета и звуки открывающегося передо мной пейзажа и тихонько напеваю – только для себя одного – песни, которые слагаю в ожидании.
Для всех нас когда-нибудь опустится ночь, и придет дилижанс. Я наслаждаюсь данным мне легким бризом и душой, которая дана, чтобы я мог наслаждаться им, и ни о чем не спрашиваю, и ничего не ищу. Если то, что я оставляю в книге путешественников, прочитанное однажды другими людьми, развлечет их или поддержит в пути, это будет хорошо. Если же они не прочтут эту книгу или она не задержит их внимания, будет хорошо и это.
Я должен выбирать между вещами, вызывающими во мне отвращение: выбирать или мечту, которую мой разум ненавидит, или действие, которое моя чувствительность отвергает; или действие, для которого я не рожден, или мечту, для которой никто не был рожден.
В результате, ненавидя и то, и другое, я ничего не выбираю; но так как я все-таки должен выбрать: действовать или мечтать, – я смешиваю одно с другим.
В долгие летние вечера я люблю спокойствие нижнего города и особенно тот покой, что контрастирует с сутолокой и шумом дня. Арсенальная улица, Таможенная улица, продолжение печальных улиц, ведущих на восток, пока не заканчивается Таможенная улица, вся эта линия, отделенная от спокойных набережных, – все это меня утешает в печали, если я вливаюсь этими вечерами в их уединение. Я живу тогда в другом времени, в прошедшем, а не в том, в котором нахожусь на самом деле; я могу представлять себя современником Сезариу Верде, и во мне живут не стихи, подобные его стихам, но некая субстанция, что присутствует в его стихах. До самой ночи ношу я в себе ощущение жизни, подобной жизни этих улиц. Днем они полны шума, и это ни о чем не говорит; ночью – отсутствием этого шума, также не говорящем ни о чем. Днем я есть ничто, ночью я есть я. Не существует никакой разницы между мною и улицами, близкими к Таможенной, за исключением одного: они являются улицами, а я – живой душой, но возможно, и это ничего не значит перед тем, что есть сущность всех вещей. У нас одинаковая судьба, ибо и для людей, и для вещей существует определение, одинаково смутное, в алгебре таинства.
Но есть и еще одно… В эти тягучие, пустые часы поднимается во мне, из глубины души до высот разума, печаль обо всем живущем, горькое сожаление обо всем существующем, – это одновременно и мое субъективное ощущение, и нечто внешнее, то, что не в моей власти изменить. Ах, сколько раз мои собственные мечты являлись мне в каких-то вещах, не заменяя реальности, но для того, чтобы исповедоваться в своем подобии мне, хочу я этого или не хочу, чтобы возникнуть во мне, придя извне, словно трамвай, который возвращается при повороте в конце улицы, или словно голос ночного сторожа, приходящий неизвестно откуда, выделяясь арабской мелодией, как внезапный отход от монотонности сумерек!
Проходят будущие супруги, проходят парами портнихи, проходят молодые люди с их жаждой удовольствий, курят на своей бесконечной прогулке люди, отошедшие ото всех дел, возле той или иной двери можно заметить застывших в праздном ожидании хозяев магазинчиков. Неторопливые, сильные и слабые, новобранцы целыми группами галлюцинируют на улицах, чрезмерно шумные или более чем шумные. Приличные люди появляются реже. В этот час автомобили проезжают редко, их шум представляется музыкой. В моем сердце живет целый мир печали, мой покой основан на отречении.
Все это проходит мимо, ничто не говорит мне ни о чем, все это – чужое моей судьбе, чужое, потому что по своей природе – бессознательность, проклятие несуразности, когда случайность правит бал, эхо неизвестных голосов, нелепая мешанина жизни.
…и верх величия мечты, помощник бухгалтера в городе Лиссабоне.
Но контраст не подавляет меня – он меня освобождает; ирония, которая в нем есть, – это моя кровь. То, что должно унижать меня, оказывается моим развернутым знаменем; смех, призванный меня уничтожить, становится горном, с ним я порождаю и приветствую зарю, в которую превращаюсь.
Величие ночи в том, чтобы быть самой значительной, не будучи ничем! Пасмурное величие неизвестного великолепия… И я чувствую внезапно совершенство монаха в пустыне и отшельника в его уединении, заполненное субстанцией Христа на камнях и в пещерах отрицания мира.
И за столом в моей нелепой комнате, жалкий безымянный служащий, я пишу слова во спасение души и купаюсь в золотых лучах немыслимого заката в отдаленных высоких горах, в золотом шитье моей епитрахили, которую выменял за удовольствия, и сверкающего кольца отречения на моем пальце, украшения, оставшегося от моего экстатического пренебрежения.
Вот, передо мной две большие страницы тяжелой книги; я поднимаюсь из-за старого письменного стола с усталыми глазами и еще более усталой душой. Взгляду не представляется ничего, кроме сущих пустяков: склад, тянущийся до улицы Золотильщиков, ряд аккуратных полок, аккуратные служащие, человеческий порядок и заурядный покой. Из окна доносится разнообразный шум, и этот шум так же зауряден, как и покой, какой царит возле полок. Новыми глазами смотрю на две белые страницы, на которых мои старательные числа представили результаты деятельности человеческого сообщества. И с улыбкой, заметной лишь мне самому, вспоминаю, что жизнь, в которой есть эти страницы с названиями земельных владений и денежными суммами, с их пробелами, и прямыми линиями, и каллиграфией, – включает в себя также знаменитых мореплавателей, великих святых, поэтов всех веков, – и все они нигде не записаны, множество ярчайших личностей, тех, кого вытолкнули в забвение сильные мира сего.
В регистрационной записи, касающейся какой-то неизвестной мне ткани, открываются долина Инда и ворота Самарканда, и поэзия Персии, неизвестно откуда пришедшая, слагает из своих четверостиший далекую опору моему непокою. Но я не ошибаюсь, пишу, подвожу итоги, и написанное выходит аккуратно и точно из-под пера служащего этой конторы.
Я прошу так немного у жизни, но и в этом немногом она мне отказывает. Луч солнца, поле неподалеку, глоток покоя и кусок хлеба – вот меня уже и не огорчает мое существование, вот я и не требую ничего от окружающих, только бы и они не требовали от меня ничего. Но и в этом малом было мне отказано, словно кто-то не подал милостыню не со зла, а только от нежелания расстегивать пиджак, чтобы достать мелочь.
Пишу, печальный, в моей спокойной комнате, одинокий, каким всегда был, есть и буду. И думаю, не воплощает ли мой голос, кажущийся таким слабым и ничтожным, субстанцию тысяч голосов, неудержимую жажду высказать себя тысяч жизней, терпение миллионов душ, покорных, как и моя, этой повседневной участи, этому бесполезному мечтанию, этой безнадежной надежде. И эта мысль заставляет мое сердце биться сильнее. Жизнь моя становится в эти минуты интенсивнее, подпитываясь энергией других жизней. Я чувствую в себе силу веры, во мне рождается подобие молитвы, подобие мольбы. Но вскоре мне приходится упасть на грешную землю… И снова я вижу себя на пятом этаже над улицей Золотильщиков; ощущаю сонливость; вижу поверх наполовину исписанного листа бумаги свою некрасивую руку и дешевую сигарету, которую машинально держу левой рукой над старой промокательной бумагой.
И здесь, на этом пятом этаже, я вопрошаю жизнь! говорю о том, что чувствуют души! продуцирую идеи, подобно мудрецам, гениям! Вот так!..
Сегодня, в одном из этих неопределенных мечтаний, подобного многим, какие составляют большую часть моей духовной жизни, я вообразил себя навсегда свободным от улицы Золотильщиков, от патрона Вашкеша, от бухгалтера Морейры, от всех служащих, от посыльного, от мальчика и от кошки. Я чувствовал так явственно свою свободу, будто приливы южных морей мне уже обещали чудесные острова, которые я должен открыть. Тогда меня ждали бы отдых, свободное творчество, интеллектуальное самовыражение.
Но внезапно, а мечтал я в одной из кофеен, во время скромного полуденного отдыха, в мое воображение ворвался какой-то диссонанс и разрушил мечтание: я почувствовал, что мне жаль чего-то. Да, говорю со всей откровенностью, я почувствовал боль, как от потери. Патрон Вашкеш, бухгалтер Морейра, кассир Боржеш, остальные – служащие, веселый парнишка, который носит письма на почту, мальчик на побегушках, ласковый кот – все они стали частью моей жизни; я не мог всех их оставить без боли, без понимания, что каким бы пустым и ничтожным все это ни казалось мне, часть меня останется с ними, отделение от всего этого есть разделение меня самого, есть подобие моей смерти.
Иначе говоря, если бы завтра меня отделили от всех этих людей и освободили от всего, связанного с улицей Золотильщиков, что́ вместо этого пришло бы ко мне? почему нечто другое должно было появиться в моей жизни? в какие иные одежды я облачился бы – разве кто-то должен подарить мне другие одежды? Все мы имеем патрона Вашкеша, но для одних он видим, для других – нет. Что до меня, он действительно зовется Вашкешем, это достаточно здоровый мужчина, приятный, порой грубый, но не злопамятный, эгоистичный, но в душе справедливый, отличающийся честностью, которой недостает многим гениям и многим всемирно прославленным людям. Пусть другие будут тщеславнее, будут желать богатства, славы, бессмертия… Я предпочитаю Вашкеша, моего патрона, более искреннего и приветливого в трудные часы, чем все абстрактные патроны в мире.
Один мой знакомый, компаньон преуспевающей коммерческой фирмы, сказал как-то, считая, что я получаю мало: «Тебя эксплуатируют, Суареш». Сейчас мне это припомнилось; однако разве не все мы в этой жизни являемся эксплуатируемыми, так не лучше ли быть эксплуатируемым Вашкешем, продающим земельные угодья, чем быть угнетаемым высокомерием, славой, досадой, завистью или невозможностью? Есть и такие, кого «эксплуатирует» сам Бог, это пророки и святые в пустыне мира.
Я выбираю для себя в качестве домашнего очага, который есть у других, этот чужой дом, эту просторную контору на улице Золотильщиков. Я укрываюсь за моим письменным столом, как будто он является бастионом, защитой от жизни. Чувствую нежность, нежность до слез, к моим книгам, в которые заношу заключенные контракты, к старой чернильнице, к сгорбленной спине Сержиу, оформляющего накладные для посылок немного в стороне от меня. Я люблю все это, возможно, потому, что мне нечего больше любить, а, может быть, оттого, что ничто по-настоящему не заслуживает любви, и если уж есть потребность отдать свое чувство кому-то или чему-то, не все ли равно: отдать любовь старой чернильнице или холодному безразличию звезд над нами.
Патрон Вашкеш. Замечаю неоднократно, что он меня необъяснимым образом гипнотизирует. Что́ для меня этот мужчина, по случайному обстоятельству ставший хозяином моих часов в дневное время моей жизни? Он хорошо обходится со мной, вежливо разговаривает, кроме тех моментов, когда, беспокоясь о чем-то нам неизвестном, становится груб со всеми. Да, но почему я думаю о нем? Он для меня какой-то символ? Какой-то довод, основание? Что́ он для меня?
Патрон Вашкеш. Вспоминаю о нем с тоской уже сейчас, как бы в будущем, когда я буду тосковать о нем, я это знаю. Живя в тишине в маленьком домике на окраине, наслаждаясь покоем, где я не буду трудиться над творением, над каким не тружусь сейчас, я буду бесконечно искать прощения у тех, кем сегодня пренебрегаю. Или буду жить в богадельне, счастливый полным поражением, потерявшийся среди сброда, среди тех, кто считался гениями, но были они не более чем нищими мечтателями, среди безымянной толпы тех, кто не имел ни власти, чтобы побеждать, ни воли к самоотречению, чтобы победить другим способом. Знаю, где бы я ни был, я буду с тоской вспоминать патрона Вашкеша, контору на улице Золотильщиков; монотонная повседневность жизни будет для меня воспоминанием о любви, которая не случилась, или о победах, которые не были моими.
Патрон Вашкеш. Вижу его оттуда, из будущего, как вижу его самого сейчас, передо мной – среднего роста, коренастого, грубоватого до известных пределов, открытого и хитрого, резкого и приветливого – хозяина, кем он стал благодаря его деньгам, с волосатыми руками, двигающимися медленно, с венами, напоминающими маленькие окрашенные мускулы, с мясистой, но не толстой шеей, со щеками, румяными и тугими, с заметной темной бородкой, всегда сбритой вовремя. Вижу его, вижу его жесты, энергично медлительные, его глаза, вбирающие в себя внешнее, чтобы обдумать его, снова расстраиваюсь, как в тех случаях, когда он мною недоволен, и до глубины души радуюсь его улыбке, широкой и очень человечной, чем-то напоминающей рукоплескания целой толпы.
Думаю, это происходит по той причине, что в моем окружении нет более заметной фигуры, чем патрон Вашкеш, что много раз эта самая обыкновенная личность не выходила у меня из головы и выводила меня из равновесия. Верю, что это какой-то символ. Верю, что где-то, в какой-то давней жизни, этот человек был значительно более важной персоной в моей жизни, чем сейчас.
Ах, я понимаю! Патрон Вашкеш – это сама Жизнь. Жизнь – монотонная и необходимая, властная и непознаваемая. Этот вполне заурядный человек представляет собой банальность Жизни. Он является всем для меня, что приходит извне, потому что Жизнь – все, что находится вне меня.
А если контора на улице Золотильщиков символизирует для меня Жизнь, то мой третий этаж, где я живу, на той же улице, символизирует для меня Искусство. Да, Искусство, которое живет на одной улице с Жизнью, но в совершенно другом месте, Искусство, которое приносит утешение жизни, но не приносит облегчения живущему, искусство, которое так же монотонно, как и сама жизнь, только по-другому – «в другом месте». Да, эта улица Золотильщиков заключает в себе для меня весь смысл вещей, разрешение всех загадок, кроме тех, что не имеют разгадки.
Да, вот такой я и есть, ничтожный и чувствительный, способный на побуждения сильные и захватывающие, хорошие и плохие, благородные и низкие, но не способный на чувство сохраняющееся, на эмоцию, длящуюся во времени и проникающую в самую глубину души. Во мне живет стремление к постоянной перемене объектов внимания, какое-то нетерпение, присущее самой душе, ее можно сравнить с легкомысленным ребенком; беспокойство, постоянно возрастающее и всегда то же самое. Все меня интересует, но ничто не привязывает. Внимаю всему, пребывая в состоянии, близком к трансу; отмечаю мельчайшие мимические изменения лица собеседника, бережно собираю тончайшие модуляции его голоса, интонации, передающие оттенки настроений и отношений; но, слушая его, не слышу, думая при этом о другом, и главный предмет беседы, таким образом, остается на периферии моего внимания, равно как и смысл сказанного мною и моим партнером остается практически почти вне поля моего зрения. Поэтому я часто повторяю собеседнику то, что уже говорил ему неоднократно, снова задаю ему вопросы, на которые он уже отвечал; зато могу описать фотографически точно и кратко выражение его лица в то время, когда он говорил мне что-то, чего уже не помню, или особую готовность воспринять мои слова в глазах слушателя, хотя уже не скажу, о чем именно я тогда ему сообщал. Во мне живут два человека, и оба держат дистанцию – сиамские близнецы, разделенные и уже не соприкасающиеся друг с другом.
Литания
Мы никогда не реализуем себя.
Мы – две бездны – колодец, созерцающий Небо.
Завидую – но сам не знаю, завидую ли – тем, чью биографию можно написать, или тем, кто может написать собственную. В этих бессвязных впечатлениях я и не ищу связи, рассказывая беспристрастно собственную биографию, лишенную фактов, свою историю жизни, лишенную жизни. Это моя Исповедь и, если я в ней ничего не говорю, значит, рассказывать нечего.
В чем может признаться кто-либо, что могло бы быть ценным, полезным? То, что с нами произошло, или происходит со всеми людьми, или произошло только с нами; в одном случае это не новость, в другом – это непонятно. Если я пишу о том, что чувствую, то только потому, что таким образом ослабляю лихорадочное желание чувствовать. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, поскольку ничего не имеет значения. Я творю пейзажи из собственных ощущений. Устраиваю себе отдых в ощущениях. Хорошо понимаю тех, кто, стремясь отогнать печаль, вышивает, вяжет, плетет кружево, потому что это – жизнь. Моя старая тетя раскладывала пасьянс бесконечными вечерами. Эта исповедь впечатлений – мой пасьянс. Не пытаюсь истолковать эти ощущения, как бы это делал тот, кто использует карты, чтобы узнать судьбу. Не ощупываю их, ведь в пасьянсе карты, собственно, не имеют значения. Разматываю себя, как разноцветный моток ниток, или сплетаю из себя самого веревочные фигурки, такие же, как те, что плетутся вручную исколотыми пальцами, а потом переходят от одного ребенка к другому. Забочусь только о том, чтобы большой палец не упустил узел, который он прижимает. Потом поворачиваю ладонь, и изображение изменяется. И возобновляю процесс вязания.
Жить – это плести кружево с тем, чтобы это видели другие. Но, когда делаешь это, твои мысли свободны, и все заколдованные принцы могут гулять в своих парках между одним и другим погружением иглы из слоновой кости с изогнутым концом. Кроше́ (плетение)… Промежуток… Ничто…
Впрочем, с кем я могу еще говорить, кроме себя? Страшная обостренность ощущений и глубокое понимание состояния чувствования… Напряженность рассудка, способная меня разрушить, и власть нетерпеливой утешающей мечты… Умершее желание и размышление, которое пеленает его, будто живое дитя… Да, плетение…
Бедственности моего положения не ухудшают эти соединенные по моей воле слова, с помощью которых я складываю понемногу свою книгу случайных размышлений. Я продолжаю существовать недействительным в глубине каждого высказывания, как нерастворимый осадок на дне стакана, откуда, кажется, пьется чистая вода. Я создаю литературное творение, как делаю записи в торговых книгах – аккуратно и безразлично. Перед простором звездного неба и перед загадкой многих душ человеческих, перед ночью безвестной бездны и хаосом непонимания, – перед всем этим то, что я пишу в кассовой книге, и то, что пишу на этом листе моей души, одинаково ограничено улицей Золотильщиков, ничто для Вселенной, для ее грандиозных пространств.
Все это – мечта и фантасмагория, ну и что, если бы даже мечта оборачивалась неплохо оплачиваемыми записями? Разве лучше мечтать о принцессах, чем о входной двери в контору? Все, что мы знаем, это всего лишь наше впечатление, а все, чем мы являемся, – всего лишь чужое впечатление, отделенное от нас, будто мы назначаем себя собственными активными зрителями, нашими богами с разрешения муниципалитета.
Знать, что будет несовершенен труд, который не будет закончен никогда. Но хуже, если он вообще не будет создан. То творение, что создается, по крайней мере, уже есть. Ничтожна его ценность, но оно существует, как жалкое растение в единственном цветочном горшке моей соседки-калеки. Этот цветок – ее радость, а порой и моя. То, что я пишу, жалкое и ничтожное, может также подарить моменты отвлечения от горестей тому или другому больному или печальному духу. Достаточно этого для меня или нет, но мой труд находит какое-то применение, и так бывает всегда.
Скука, включающая в себя предвосхищение еще большей скуки; горе, испытываемое уже сейчас оттого, что назавтра будешь сожалеть, что огорчался сегодня, – страшная путаница, в которой ни пользы, ни истины, страшная путаница…
…где, съежившись на скамье ожидания на полустанке, мое презрение спит под плащом моего уныния…
…мир картин моего воображения, из которого построены также мои познания и сама моя жизнь…
Меня совсем не огорчает, словно не живет во мне вовсе, ограниченность настоящего часа. Я жажду расширения времени, я хочу быть собой, не скованным какими-либо условиями.
Размышляю на пути, где-то между Кашкайшем и Лиссабоном. Поехал по поручению патрона Вашкеша заплатить налог за его дом в Эшториле. Прежде всего, я насладился самой поездкой – час туда, час обратно, – рассматривая живописные берега большой реки и ее устья, где она впадает в Атлантику. По правде говоря, во время поездки я заблудился в своих отвлеченных раздумьях так, что смотрел, не видя, на чудесный водный пейзаж, радость от созерцания которого предвкушал; на обратном же пути полностью погрузился в эти ощущения. Я не смог бы описать ни малейшей подробности путешествия, ни малейшего фрагмента увиденного. Я извлек пользу из этих страниц, идя путем забвения и внутренних противоречий. Не знаю, лучше это или хуже, чем противоположный путь, сущность которого для меня также смутна.
Грохот поезда стих, это Кайш-ду-Содре́. Я прибыл в Лиссабон, но не пришел к определенному решению.
Оцениваю спокойно, только улыбаясь в душе, вероятность того, что жизнь моя замкнется навсегда на этой улице Золотильщиков, в этой конторе, в этой атмосфере, среди этих людей. Мне дана возможность есть и пить, у меня есть где жить и есть немного свободы чтобы фантазировать, записывать свои ощущения, спать – чего еще могу я просить у Богов или ждать от Судьбы?
У меня были горячие стремления и грандиозные мечты, но они имеются у любого посыльного или портнихи, ведь мечтают все: что нас отличает, это сила, чтобы осуществить свои мечты, или удача, которая поможет нам осуществить их.
В своих мечтах я равен посыльному и портнихе. Меня выделяют только мои литературные способности. Да, только это действие есть то, что меня отличает от них. В душе мы все одинаковы.
Хорошо знаю, что есть острова к югу, есть великие вселенские страсти…
Если бы на моей ладони лежал весь мир, я уверен, что променял бы его на билет до улицы Золотильщиков.
Может быть, моя судьба – вечно быть бухгалтером, а поэзия или литература – это бабочка, которая, сев мне на голову, делает меня тем более смешным и нелепым, чем прекраснее она сама.
Тоскую по Морейре, но что эта тоска перед большим восхождением?
Понимаю прекрасно, что день, когда стану бухгалтером в конторе Вашкеша и K°, станет одним из великих дней моей жизни. Знаю об этом, предвосхищая всю горечь иронии, но знаю это, отдавая должное истине.
На подкове пляжа, у самого моря, между тропической растительностью и мангровыми зарослями, непостоянство вспыхивающего желания поднималось из неопределенной пропасти небытия. Не было выбора между пшеницей и чем-то другим, даль тянулась между кипарисами.
Ценность отдельных слов или объединенных согласием звуков с сокровенными резонансами и смыслами, расходящимися в то же время, когда они сходятся в одной точке, торжественность выражений, читаемых между другими смыслами, злоба развалин, надежда лесов, и ничего более, только спокойствие, тишина водоемов среди садов моих детских шалостей… Так, между высокими заборами безрассудной отваги, в чаще деревьев, среди беспокойства того, что чахнет, другой, который не был мною, слышал из печальных уст исповедь, отрицающую величайшее упорство. Никогда – даже если бы рыцари возвратились по дороге, видимой с вершины стены, среди звона копий тех, кто их увидел, из внутреннего дворика, – не было бы большего спокойствия в Жилище Последних, и не вспоминалось бы другое имя, здесь, на дороге, кроме того, что однажды ночью, подобно мавританкам, заколдовало одно дитя, уже умершее, очаровав его жизнью и чудом.
Воздушные, еле заметные пути последних потерянных, между бороздами, которые были на траве, потому что шаги открывали пустоту среди взволнованной зелени, звучали тягуче, как смутное воспоминание о будущем. Были старыми те, кто должен был прийти, и только молодые не пришли бы никогда. Барабаны катились по краю дороги, и усталые руки держали бесполезные горны, не имея силы для того, чтобы их оставить.
Но снова в очарованном тумане громко звучали утихшие крики, и собаки бродили по аллеям. Все было бессмысленным, как скорбь, и принцессы из чужих снов гуляли вне монастырей бесконечно.
Пишу с ощущением странной боли, причиняемой неким удушьем разума, которое идет от совершенной красоты вечера. Это небо драгоценной синевы, блекнущей, уступая место бледно-розовым тонам под нежным розовым бризом, рождает в моем сознании желание закричать. Я пишу в конечном счете чтобы убежать и найти пристанище. Избегаю идей. Забываю точные выражения, но они возникают, сверкая, в процессе физического действия, письма, будто производить их – настоящее наказание.
От всего, о чем я думал, что я только чувствовал, остается смутное, бесполезное желание плакать.
Нелепость
Мы превращаем себя в сфинксов, вернее, их подобие, до тех пор пока не перестанем сами понимать, кто мы. Впрочем, мы и есть подобие сфинксов и не знаем, кем являемся на самом деле. Единственный способ существовать в согласии с жизнью – это быть в разногласии с самим собой. Нелепость – вещь священная.
Устанавливать теории, обдумывая их терпеливо и честно, – только затем, чтобы потом действовать наоборот, против них, оправдывая наши действия как раз теми теориями, которые их осуждают. Определять для себя путь в жизни – только затем, чтобы потом этим путем не следовать. Приобретать все признаки и установки, характерные для того существа, каким мы не являемся и не стремимся ни быть, ни даже считаться.
Покупать книги – чтобы их не читать; ходить на концерты не для того, чтобы слушать музыку, и не для того, чтобы увидеться с теми, кто там присутствует; предпринимать длительные прогулки – чтобы устать от ходьбы, и проводить дни в поле, потому что нам там не нравится.
Порой меня будто стесняет некое телесное ощущение, некое подспудное гнетущее беспокойство, сегодня переполнившее меня настолько, что я не смог есть, не смог пить, как обычно, в харчевне, в которой я поддерживаю свое физическое существование. И когда я выходил оттуда, слуга, заметив, что бутылка вина опустошена лишь наполовину, повернулся ко мне и сказал: «До скорой встречи, сеньор Суареш, желаю вам скорее поправиться».
Эта простая фраза прозвучала для меня горном, успокоившим мою душу так, как если бы на облачном небе внезапно поднявшийся ветер разогнал все тучи. И тогда я осознал нечто, никогда так ясно мне не представлявшееся: что к этим прислужникам в трактире, этим цирюльникам, этим мальчикам-посыльным на углу я испытываю возникшую стихийно симпатию, что не имею права пренебрегать этими людьми, которые так хорошо ко мне относятся, не допуская между нами большей близости, неуместно высказанной…
Дружба имеет свои тонкости.
Одни управляют миром, другие сами являются миром. Между каким-нибудь американским миллионером, Цезарем, Наполеоном или Лениным и лидером социалистов в деревне нет качественного различия, только количественное. Ниже их находимся мы, бесформенные, драматург-путаник Вильям Шекспир, школьный учитель Джон Мильтон, бродяга Данте Алигьери, мальчик на посылках, который мне вчера принес извещение, я, цирюльник, рассказывающий мне анекдоты, слуга, который только что проявил свои дружеские чувства ко мне, пожелав мне доброго здоровья при виде недопитой мною бутылки вина.
Передо мной олеография неизбежности. Смотрю на нее, не зная, вижу ли. На витрине она выставлена вместе с другими и находится в центре витрины в пролете лестницы.
Она прижимает к груди весну, и глаза ее, устремленные на меня, грустны. Улыбается блеском бумаги и алым цветом щек. Небо за ней ясно-голубое. Вырез ее небольших губ своим выражением дополняет ее печальный взгляд, кажется, она глядит на меня с большим сожалением. Ее рука, поддерживающая букет цветов, напоминает мне чью-то знакомую руку. Платье или блузка открывают грудь в глубоком овальном вырезе. Глаза ее действительно грустны: их взгляд из реальности картины проникает в душу, как взгляд живого человека. Она пришла с весной. Ее печальные глаза велики, но это не имеет значения. Я отрываю себя от витрины большим усилием. Пересекаю улицу и оборачиваюсь – попытка обреченного мятежа. Она по-прежнему хранит подаренную ей весну, а глаза ее грустны, как то, чего у меня нет в жизни. Оказывается, с такого расстояния олеография имеет больше цветов. Я и не заметил, что голову ее обвивает розовая лента. Замечаю также в ее таких живых, хоть и нарисованных, глазах, пугающее выражение: неизбежное предостережение совести, тайный крик имеющего душу. Ценой большого усилия пробуждаюсь от сна, в котором я промок, как собака, отряхивающая с себя влагу густого, непроницаемого тумана. Довершают ощущение дезертирства, какое возникает при прощании с любой другой вещью, печальные глаза самой жизни с этой метафизической олеографии, что издали смотрят на меня так, будто я все знаю о Боге. Внизу под гравюрой – календарь. Снизу и сверху гравюра обрамлена черными линиями – границами 1929 года с устаревшей, каллиграфически выписанной виньеткой, прикрывающей неизбежное первое января. Печальные глаза улыбаются мне иронически.
Забавно, откуда я, как оказалось, знаю эту фигуру. В одном углу нашей конторы висит точно такой же календарь, и я видел его много раз. По какой-то причине, таящейся то ли в олеографии, то ли во мне самом, экземпляр в конторе не смотрит на меня так. Это просто олеография на блестящей бумаге, которая висит над головой нашего служащего Алвеша-левши, выполняя в своем сомнамбулическом сне роль обрамления, смягчающего его резкие черты.
Мне хочется посмеяться надо всем этим, но я чувствую сильное недомогание. Меня внезапно охватывает душевная дрожь. Не имею силы возмутиться против такой нелепости. Не окно ли это, через которое приближается ко мне тайна Бога, против моего желания? Куда обращена эта витрина в пролете лестницы? Что это за глаза глядят на меня так пристально с олеографии? Я почти дрожу. Непроизвольно поднимаю глаза к тому отдаленному углу конторы, где находится настоящая олеография. Постоянно возвращаюсь к ней взглядом.
Придавать каждому чувству – индивидуальность, каждому состоянию души – душу.
За поворотом дороги было много девушек. Они приближались, напевая, и голоса их звучали счастливо. Не знаю, кем они были. Я слушал их голоса издали некоторое время без определенного чувства. Но горечь, связанная с ними, легла мне на сердце.
Горечь за их будущее? За их беспечную радость, еще не знающую боли? А может быть, не только из-за них я печалился? кто знает? Может быть, только из-за себя.
Литература, являясь искусством, обвенчанным с мыслью и с реализацией, но избежавшей бесчестия реальности, представляется мне той целью, к которой должны бы устремляться все усилия человечества, если бы оно было действительно человечеством, то есть совокупностью гуманных существ, а не бесполезных животных. Верю, что говорить о какой-то вещи означает сохранить ей ее добродетель и убрать из нее страх. Поля в рассказах о них зеленее, нежели в природе. Цветы, если они описаны чудесными словами, подсказанными воображением поэта, сохранят свои краски вечно, чего жизнь растительных клеток не позволит никогда.
Двигаться – значит жить, говорить – значит выживать. Нет ничего в реальной жизни, что не существовало бы потому, что было кем-то превосходно описано. Критики «маленького дома» имеют обыкновение обращать внимание, что подобная поэма, с так тщательно подобранным ритмом, не имела в итоге иной цели, как поведать миру, что день был хорош. Однако сказать, что день хорош, достаточно сложно, а сам этот день проходит, как и все на свете. Мы должны стремиться сохранить этот прекрасный день в многоцветной и многословной памяти и, таким образом, усыпать свежими цветами или украсить новыми звездами поля или небеса – пустые и преходящие.
Все перенимает от нас наши свойства, становится нами, так будет и с нашими последователями, с теми, кто придет за нами в самом отдаленном будущем; мы будем страстно воображать его, это вымечтанное нами, как бы впечатанное воображением в наше тело, существующее на самом деле. Я не верю, что история может быть чем-то большим, в своей большой, несколько поблекшей панораме, чем простая смена интерпретаций, толкований, смутное согласие невнимательных свидетелей. Некий романист включает в себя нас всех, и мы рассказываем, когда видим, потому что видение наше – сложный процесс, как и все остальное.
В этот момент столько сложных, фундаментальных идей роится в моей голове, о стольких по-настоящему метафизических вещах я должен рассказать, что внезапно чувствую себя обессиленным и решаю ничего больше не писать, ни о чем больше не думать, но подождать, когда лихорадка рассказывания отпустит меня в сон, и я смогу наслаждаться всем тем, о чем стремился рассказать.
Запах музыки или мечты, любая вещь, которая заставляла бы почти чувствовать, любая вещь, которая заставляла бы не думать.
После того как последние капли дождя начали задерживаться на скате крыш, а посреди вымощенной камнем улицы постепенно проявилась отраженная лазурь неба, звук от движения транспорта принял другой оттенок, более высокий и радостный, послышался шум открываемых окон – навстречу солнцу. Тогда, вдоль по узенькой улице, из глубины ее, от ее следующего поворота, покрывая все звуки, разлился громкий призыв первого продавца лотереи, и гвозди, забиваемые в ящики в магазине на смежной улице, засверкали в прозрачном воздухе.
Был один из тех неопределенных праздников, официально признанных, но несохранившихся. Было спокойно, но кто-то работал, а мне было нечего делать. Поднялся я рано и медлил, готовясь вступить в утреннюю жизнь. Слонялся из угла в угол по комнате и вслух бессвязно мечтал о недостижимом – вещах, что я позабыл сделать, невозможных и неопределенных стремлениях, беседах, непреклонных и непрерывных, которые, если бы состоялись, непременно имели бы успех. И в этих мечтах, где не было ни величия, ни покоя, в этом ожидании без надежды и цели, растрачивались мои шаги этим свободным утром, а мои высокие слова, произнесенные тихо, звучали многозначно в монастыре моего обыкновенного одиночества.
Моя личность, если бы ее оценивали посторонние наблюдатели, имела бы смешную сторону точно так же, как имеет ее любой человек, сколь бы серьезным он ни был. Поверх простой, несколько неряшливой пижамы я надел старое пальто, которое мне служит для этих утренних бодрствований. Тапочки мои порвались, особенно левая. И, сунув руки в карманы уже отжившего свой век пиджака, я превращал мою небольшую комнату в проспект, меряя ее широкими, решительными шагами, воплощая в бесполезной мечте сновидение, такое же, как у всех людей.
Сквозь открытую свежесть моего единственного окна доносился стук падающих с крыш крупных капель дождя. Еще расплывчатой казалась зелень из-за льющейся воды. Небо между тем уже приобрело торжествующий синий цвет, и облака, остававшиеся от побежденного или уставшего дождя, отступали, вытягивая в сторону Крепости настоящие дороги по всему небу.
Это был повод для радости. Но что-то меня тяготило, неясная тоска, желание, неопределенное, но не пустяковое. Быть может, во мне замедлялось ощущение жизни. И когда я высунулся из высокого окна, глядя на улицу, но не видя ее, я внезапно ощутил себя влажной тряпкой для стирания пыли, из тех, что вывешивают в окно для просушки, но забывают скомканными на подоконнике, так что они медленно покрываются пятнами.
Я узнаю – не уверен, что с грустью, – человеческую черствость собственного сердца. Для меня имеет большее значение какое-либо прилагательное, чем искреннее рыдание души. Мой учитель Виейр.[2]
Но иногда я бываю иным, у меня находятся слезы, из тех горячих слез людей, у кого нет и не было матери; и мои глаза, горящие от этих мертвых слез, горят в моем сердце.
Я не помню своей матери. Она умерла, когда мне был год от роду. Все, что есть рассеянного и грубого в моей восприимчивости, приходит из-за отсутствия этого тепла, из-за бесполезной тоски о тех поцелуях, которых я не помню. Я – искусственный. Всегда просыпался у чужой груди, укачиваемый чужими.
Ах, это ностальгия по иному, чем я мог бы стать, вот что меня рассеивает и пугает! Кем бы я мог стать, если бы мне была дана та нежность, идущая еще от материнского чрева и изливающаяся поцелуями на маленьком личике?
Возможно, что тоска по небывшей материнской ласке сыграла решающую роль, внесла безразличие в мою душу, в мои чувства. Тот, кто ребенком прижимал мое личико к груди, не мог прижать меня к своему сердцу. Она находилась далеко, в месте упокоения – та, что была бы моей родной душой, если бы Судьба судила бы мне иметь дорогого человека, родного мне по крови.
Мне говорили позже, что моя мать была красива, и я ничего не отвечал. Был уже готов – телом и душой – к невосприимчивости в чувствах, и то, что говорили мне, еще не было известием о других страницах, менее доступных для воображения.
Мой отец, живший далеко, покончил с собой, когда мне было три года, я никогда его не знал. Даже не знал, почему он жил далеко от меня. Да я и не хотел этого знать. Помню, я воспринял известие о его смерти как значительное событие, это было во время первого завтрака. Помню, как на меня время от времени смотрели. И я в ответ смотрел на них, понимая с трудом. Потом ел, скрупулезно соблюдая правила, ведь, возможно, за мной продолжали незаметно наблюдать.
Я есть все это, хотя и не хотел бы быть этим, в неясной глубине моей гибельной впечатлительности.
Часы, которые находятся там, позади, в погруженном в сон доме, бьют четким учетверенным боем четырех часов ночи. Я еще не спал, да и не надеюсь заснуть. И не потому я не сплю, что на чем-то сосредоточен, не потому, чтобы что-то давило меня и беспокоило, я нахожусь в тени, которую блуждающий, подобный лунному, свет уличных фонарей делает еще более одинокой, покинутой, – мертвое молчание моего чужого тела. Не умею думать о том сне, в каком пребываю; не умею почувствовать тот сон, какой ко мне не приходит.
Все вокруг меня – обнаженный мир, абстрактный, сплетенный из ночных отрицаний. Я разделяюсь между состояниями усталости и беспокойства и постигаю каким-то ощущением моего тела метафизическое знание о мистерии всего сущего. Порой моя душа размягчается, и тогда бесформенные детали повседневной жизни колеблются на поверхности сознания, и я мечусь по этой поверхности, не имея возможности заснуть. А чаще, в согласии с тем полусном, в каком я пребываю, смутные изображения непроизвольного поэтического колорита просачиваются сквозь мое невнимание, представляя собой некое бесшумное зрелище. Мои глаза не закрыты полностью. То, что открывается ограниченному полузакрытыми веками зрению, озарено светом, идущим издали; это фонари, зажженные там, внизу, в конце пустынной улицы.
Перестать, заснуть, заменить это прерывистое сознание лучшими меланхоличными состояниями, сообщенными по секрету, о котором я еще не знаю!.. Перестать, проходить текучим и прибрежным, приливом-отливом широкого моря, на видимых берегах ночи, где спалось бы действительно!.. Перестать, быть неизвестным, чем-то внешним, движением ветвей в далеких аллеях, хрупким скольжением листьев, скорее звуком, чем падением, открытым морем, испещренным водными струями там, вдали, и всей бесконечностью ночных парков, потерянных среди постоянной путаницы, естественных лабиринтов тьмы!.. Перестать, окончательно закончиться, но остаться, как бы метафорически, быть страницей какой-то книги, прядью распущенных волос, колебанием вьющегося растения у полуоткрытого окна, никому не нужными шагами по мелкому щебню на повороте улицы, последним высоким дымком заснувшей деревни, оцепенением кнута ломового извозчика у края утренней дороги… Нелепость, путаница, угасание – все, что только не было бы жизнью…
И я дремлю, как умею, без сна и отдыха, растительная жизнь, жизнь фальшивая, и под моими веками беспокойно парит, как спокойная пена какого-то грязного моря, далекий отблеск немых уличных фонарей.
Сплю и не сплю.
С другой стороны от меня, там, позади моей постели, тишина дома прикасается к бесконечности. Я слышу ход времени, капля за каплей, ни одна капля не падает беззвучно. Память, сведенная на нет, о том, что было или чем я был, ощутимо сдавливает мое сердце. Чувствую, что моя голова лежит на подушке, превратившейся в холм. Ткань наволочки касается моей кожи, будто люди касаются друг друга в тени. А ушная раковина, прилегающая к подушке, с математической точностью впечатывается в мой мозг. Моргаю от усталости, и мои ресницы производят едва заметный шорох, неслышный на чувствительной белизне взбитой подушки. Дышу, вздыхая, и мое дыхание – так случается – становится уже не моим. Страдаю, не чувствуя и не думая. Часы в доме, в определенном месте, там, в бесконечности, бьют полчаса, сухое, обезличенное время. Вот и все – так, все – такое глубокое, все – такое черное и холодное!
Прохожу временами, прохожу молчаниями, бесформенные миры проходят через меня.
Внезапно, будто дитя из Таинства, поет петух, невзирая на ночь. Я могу спать, ведь во мне – утро. Чувствую, что улыбаюсь, легко отодвигая мягкие застежки наволочки, мешающие мне. Могу отдать себя жизни, могу заснуть, могу забыть о себе… И благодаря новому сну, что уже бросает на меня тень, или вспоминаю о певшем петухе, или это он действительно опять поет.
Симфония одной беспокойной ночи
Все было погружено в сон, будто весь мир оказался одной ошибкой; и ветер, колеблясь неясно, уподобился бесформенному знамени, развернутому над нереальным зданием. Но ничего не разрывалось в воздухе, чистом и густом, и оконные рамы подрагивали стеклами, это как бы слышалось здесь. Во глубине всего, молчаливая, ночь была гробницей Бога (душа страдала, жалея Бога).
И внезапно – новый порядок всемирных вещей воцарялся над городом – ветер свистел время от времени, и было спящее познание о множестве волнений в вышине. Потом ночь закрывалась, точно люк, и наступивший покой вызывал желание уснуть.
В первые дни осени, пришедшей внезапно, когда сумерки делают очевидной некую преждевременность и кажется, что мы опаздываем во всем, что мы делаем с нашим днем, я наслаждаюсь даже посреди каждодневного труда этим предвосхищением отдыха от работы, которое сама тень несет с собою, поэтому существует ночь, и ночь – это сон, родные края, освобождение. Когда огни зажигаются в просторной конторе и она перестает быть темной, когда вечереет, но дневные труды еще не закончены, я ощущаю какой-то странный комфорт, будто это воспоминание другого человека, и спокойно пишу так, как обычно читают, до тех пор, пока не чувствую, что погружаюсь в сон.
Все мы – рабы внешних обстоятельств: один солнечный день открывает нам широкие возможности в обычном кафе в переулке; одна тень в природе втягивает нас внутрь себя, и мы едва укрываемся в доме без дверей, которым являемся сами; один приход ночи, даже посреди привычного дневного окружения, расширяет, как медленно раскрывающийся веер, глубинное сознание, готовящее нас к отдыху.
Но все это не задерживает работу, скорее, наоборот: оживляет ее. Мы уже не работаем, мы забавляемся с тем предметом, к которому мы прикованы, как осужденные носить кандалы. И внезапно, на широком разлинованном листе моей судьбы – числителя – старинный дом моих старых тетушек дает мне приют, он закрыт для мира, чай в сонные десять часов, и керосиновая лампа моего утраченного детства, освещая только накрытый льняной скатертью стол, делает фигуру Морейры расплывающейся, неясной, освещает каким-то тусклым светом таящиеся там, за мною, бесконечности. Несут чай – и прислуга, старше моих тетушек, приносит его вместе с руинами моего сна и плохим настроением, навеянным нежной памятью о прошлом, – и я выписываю без ошибок определенную денежную сумму или некий итог сквозь все мое умершее прошлое. Снова погружаюсь в себя, теряю себя в себе, забываю о далеких ночах, незапятнанных еще долгом и миром, свободных от таинств и от будущего.
И так нежно это чувство, так отчуждает оно меня от дебета и от кредита, что в случае, если кто-то задает мне вопрос, отвечаю мягко, словно мое существо – полое внутри, будто оно – не более чем печатная машинка, что я ношу с собою, портативный я, с откинутой крышкой, готовый для письма. Меня не задевает, что прерывают мои мечты: они такие нежные, что остаются со мной, когда я говорю, пишу, отвечаю, даже долго беседую с кем-то. И сквозь все это мой потерянный чай заканчивается, и контора закрывается… Поднимаюсь от книги, закрывая ее медленно, мои глаза устали от не пришедших к ним слез, и меня увлекает в свой круговорот какая-то смесь ощущений, я страдаю оттого, что вместе с конторой закрывается и моя мечта; что с тем жестом, которым я откладываю в сторону книгу, скрывается от меня безвозвратное прошлое; и надо идти в постель жизни, не имея ни сна, ни спутника и ни покоя, в приливы и отливы моего спутанного сознания, подобные ночным приливам и отливам в конце судеб, исполненных ностальгии и отчаяния.
Иногда я думаю, что никогда не уйду с улицы Золотильщиков. И это, написанное мной, тогда представляется мне вечностью.
Не удовольствие, не слава, не власть: свобода, только свобода.
Переходить от призраков веры к привидениям разума – это всего лишь поменять одну тюремную камеру на другую. Искусство, если оно освобождает нас от идолов, мирных и абстрактных, нас освобождает также от благородных идей и социальной озабоченности – таких же идолов.
Найти личность, потеряв ее, – даже вера одобряет такое осознание судьбы.
…Глубокое и тоскливое презрение со стороны тех, кто работает для человечества, тех, кто сражается за родину и отдает свою жизнь за сохранение цивилизации…
…презрение, полное тоски, со стороны тех, не знающих, что единственная реальность для каждого – его собственная душа и все остальное – внешний мир и другие люди – некрасивый кошмар, как результат мечтания в условиях несварения духа.
Моя антипатия к усилию доходит до страха, на чисто физическом уровне, перед всеми формами силы принуждающей. И война, и труд, энергичный и продуктивный, и поддержка других… все это представляется мне не более, чем продуктом определенного бесстыдства…
И перед высшей реальностью моей души все полезное и внешнее мне представляется ничтожным и тривиальным перед верховным и чистым величием моих самых необычных и повторяющихся мечтаний. Они для меня гораздо более реальны.
Не обшарпанные стены моей безликой комнаты, не старые письменные столы чужой конторы, не нищета прилегающих к Байше улиц, исхоженных мною настолько, что запустение уже представляется мне неотъемлемым их свойством, – не эта грязь повседневной жизни вызывает у меня порой душевную тошноту. Причина в людях, что обычно окружают меня, в душах тех, кто, не зная меня, ежедневно стремится меня узнать в тесном общении и беседах, из-за которых мой дух сжимается от чисто физического отвращения. Эта однообразная грязь их жизни, протекающей параллельно моей, внешней, это их представление о себе как о существах, мне подобных, – это заковывает меня в кандалы, обрекает меня на заключение, делает ненастоящим и нищим.
Бывают моменты, когда каждая подробность, деталь обыденного приковывает мое внимание, и у меня появляется страсть читать ясно все, что меня окружает. Тогда я вижу так, как, по словам Виейры, писал брат Луиш де Соуса[3] – «о заурядном – необычайно», тогда я – поэт с той душой, с которой греки сформировали духовный возраст поэзии. Но случаются иные моменты, и один из них – нынешний, стесняющий мое дыхание, когда я чувствую себя изолированным от внешнего и словно переношусь в дождливую грязную ночь на затерянном полустанке, в стороне от главной дороги, меж двух поездов третьего класса.
Да, моя внутренняя способность часто быть объективным и, таким образом, исчезать в собственных мыслях, страдает тем же, что и все способности, и даже все пороки, воздержимся от определения… Тогда я спрашиваю себя, как я выживаю, как нахожу в себе смелость быть таким низким, чтобы оставаться здесь, среди этих людей, быть одинаковым с ними, искренне покорным иллюзии человеческих отбросов, возникающей при виде их всех? Вспоминаются мне в далеком свете маяка все рыдания, доказывающие, что воображение – это женщина: самоубийство, бегство, отречение, великие проявления аристократизма индивидуальности, плащ и шпага существований не на подмостках сцены.
Но совершенная Джульетта из иной действительности закрыла над живущим во мне Ромео высокое окно литературного свидания. Она послушна своему отцу; он послушен своему отцу. Продолжается вражда Монтекки и Капулетти; падает занавес над тем, что непривычно; и я возвращаюсь домой – в ту комнату, скупая хозяйка которой отсутствует, к ее сыновьям, которых я вижу редко, к людям в конторе, к которым я вернусь только завтра – как всегда, в форме торгового работника с высоким воротником, поднятым без всякой неловкости над шеей поэта, в сапогах, покупаемых всегда в одном и том же магазине, обходя автоматически холодные лужи, со смешанным чувством озабоченности и от того, что забыл дома зонт, и от разлада с собственной душой.
Болезненный промежуток
Вещь, брошенная в угол, тряпка, упавшая на дорогу, моя низкая сущность притворяется перед жизнью.
Завидую всем людям, кто не является мною. Поскольку среди всего невозможного именно это всегда представлялось мне наименее возможным, оно составляло суть моей повседневной тоски, отчаяния всех моих грустных часов.
Один слабый луч тусклого солнца лишил меня физического ощущения зрения. Желтизна тепла застыла на зеленой черноте деревьев.
Оцепенение…
Внезапно, словно судьба-хирург вернула меня из мира слепых, я внутренним зрением ясно вижу свое существование. Вижу, что все, что я делаю, о чем думаю, чем я являюсь, – все это ошибка и безумие. Поражаюсь, как я мог до сих пор не понимать этого. И удивляясь этому, вижу, что в конечном счете я не существую вообще.
Вижу, будто в свете яркого солнца, разрывающего тучи, мою прошлую жизнь; и замечаю с метафизическим испугом, как все мои действия, наиболее правильные, мои идеи, наиболее ясные, и мои решения, наиболее логичные, были не более чем врожденным опьянением, природным сумасшествием, огромным незнанием. Я даже не играл. Играли мною. Я не был актером, но лишь его игрой.
Все, что я делаю, думаю, что представляю собой, – это сумма подчинений или некое поддельное существо, кого я считал собой, посредством кого взаимодействовал с внешним, или же, под грузом обстоятельств, я выдумывал существо, бывшее воздухом, которым я дышал. Я оказываюсь в этот момент прозрения внезапным отшельником, признающим себя изгнанником там, где был гражданином. В самом личном, о чем я думал, я не был собой.
В это время овладевает мной смешанный с презрением ужас перед жизнью, упадок духа, переходящий границы моей сознающей индивидуальности. Знаю, что ошибался, шел без дороги, никогда не жил, существовал только потому, что заполнял время своим сознанием и мышлением. И мое ощущение собственной сущности напоминает пробуждение после сна, заполненного реальными сновидениями, или освобождение из привычной мне темницы в результате землетрясения.
Угнетает меня, действительно угнетает, как некое проклятие знания, это неожиданное представление о моей подлинной сущности, о той, что сонно бродит меж своими ощущениями и зрительными впечатлениями.
И так сложно описать, что именно чувствуется, когда чувствуется, что в действительности имеется, и что душа – реальное существо; я не знаю таких слов в человеческом языке, которые бы могли это все определить. Не знаю, не заболел ли я лихорадкой ощущений, выздоровев от лихорадки сонной. Да, повторяю, я чувствую себя путником, внезапно обнаружившим, что находится в каком-то диковинном поселении, и не знающим, как попал туда; со мной случилось нечто подобное тому, что происходит с теряющими память и долгое время живущими как бы в чужой шкуре. Я жил в чужой шкуре долгое время – с момента рождения и пробуждения сознания – и просыпаюсь сейчас, на середине моста, склонившись над рекой и зная, что существую более реально, чем это было до сих пор. Но город мне незнаком, улицы новые, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому я жду, склонившись, на мосту, чтобы он привел меня к истине, и я из недействительного и вымышленного стал настоящим и духовным.
Был момент, и вот он прошел. Я уже различаю окружающую меня мебель, рисунки на старых обоях, вижу солнце сквозь запыленные стекла окон. На один момент открылась мне истина. Был миг просветления и понимания, чем великие люди являются в их жизни. В их жизни? Вспоминаю их поступки и слова, и не знаю, не испытывал ли их тоже победоносный Демон Реальности. Ничего не знать о себе означает жить. Знать о себе немного означает думать. Понять себя внезапно, как в этот ослепительный миг, – значит неожиданно познать какую-то внутреннюю субстанцию, магическую сущность души. Но этот внезапный свет все сжигает, все уничтожает, оставляя нас совершенно нагими.
Это было только одно мгновение, и я себя увидел. После я даже не мог бы объяснить, что это было. И под конец я ощущаю сонливость, почему? я не знаю почему, просто нахожу, что это чувство – сонливость.
Порой меня неизвестно отчего будто касается предчувствие смерти. Или, может быть, неизвестная болезнь, которая не проявляется в боли и под конец одухотворяется, или усталость, требующая сна, такого глубокого, что простой сон для нее недостаточен, – несомненно, я чувствую себя точно больной, чье состояние ухудшилось, раскидывающий без сил, без тоски, слабые руки поверх печального покрывала.
Полагаю, это и есть то, что мы называем смертью. Не хочу говорить о таинстве смерти, ведь я его не постигаю, но это физическое ощущение, что жизнь прекращается. Человечество боится смерти, но бессознательно; обычный человек храбро сражается, обычный человек, больной или старый, редко смотрит с ужасом на пропасть небытия, видя в этой пропасти именно небытие. Все это – недостаток воображения. Нет ничего глупее: думать, что смерть – это сон. С какой стати, ведь смерть вовсе не похожа на сон? Главное свойство сна – что мы можем проснуться, а от смерти, как мы предполагаем, проснуться нельзя. И если бы смерть была подобна сну, следовало бы предполагать, что от смерти тоже можно пробудиться. Однако вовсе не так представляет себе это обычный человек: он думает, что смерть – это сон, от которого не просыпаются, который нельзя определить. Смерть не подобна сну, потому что во сне я жив и сплю; не знаю, как может человек с чем-то сравнивать смерть, ведь он не имеет опыта смерти.
Для меня, когда я вижу умершего, смерть подобна отъезду. Труп оставляет во мне впечатление сброшенной одежды. Кто-то уходит и уже не нуждается в том единственном костюме, который он носил.
Тишина, возникающая из шума дождя, распространяется – крещендо серой монотонности – вдоль узенькой улицы, которую я разглядываю. Сплю, бодрствуя, стоя перед оконной рамой, на которую опираюсь. Хочу понять, какие ощущения во мне возникают при виде падающих струй воды, сумрачно светящейся, – в отличие от грязных фасадов и открытых окон. И не знаю, что чувствую, не знаю, что хочу чувствовать, не знаю ни того, о чем думаю, ни того, кто я такой.
Вся отложенная горечь моей жизни сбрасывает перед моими застывшими глазами одежду естественной радости, носимую все эти долгие дни. Понимаю, что столько раз казавшийся себе радостным, столько раз довольным я неизменно оставался печальным. И та часть меня, что это понимает, находится за мной, будто склоняясь надо мной, опирающимся на оконную раму, над моими плечами, или даже над головой моей, и видит близко – ближе, чем я, – перед собой медлительный дождь, уже слегка волнистый, творящий своим движением из темного неприветливого воздуха плетеное кружево, филигрань.
Оставить все обязанности, даже те, которые нас ни к чему не обязывают, отвергнуть родные края, даже те, что не были нашими, жить неопределенностью, руинами прошлого, среди необъятных пурпуров безумия и поддельных кружев придуманного величия… Быть чем-то, что не чувствовало бы ни скорби идущего снаружи дождя, ни боли внутренней пустоты… Бродить без души и мысли, ощущение без ощущения, по дороге, огибающей холмы, по долинам, скрытым между обрывистыми откосами, – таким дальним, глубоким, роковым… Затеряться между пейзажами, подобными картинам. Небытие дали и ее оттенков…
Легкий вздох ветра, неслышный за окнами, разрывает неровностями прямолинейное падение дождя. Проясняется невидимая мне часть неба. Понимаю это оттого, что за наполовину промытыми стеклами переднего окна уже смутно вижу календарь на стене, внутри комнаты, что еще недавно не видел.
Забываю. Не вижу и не думаю.
Дождь заканчивается, и от него остается на краткий миг тончайшая алмазная пыль в воздухе, словно где-то наверху стряхнули крошки с огромной лазоревой скатерти. Чувствуется, что часть неба уже открылась. Календарь виден через окно во всех своих деталях. На нем женское лицо, остальное я тоже хорошо узнаю, особенно изображение зубной пасты.
Но о чем я думал до того, как потерял физическое зрение? Не знаю. Желание? Усилие? Жизнь? Прибывающий свет заставляет чувствовать, что небо почти все очистилось. Но нет покоя – ох, нет и не будет никогда! – в глубине моего сердца, только старый колодец в глубине давно проданного сада, только память детства в пыли, оставленная на чердаке чужого дома. Нет покоя – и горе мне! – даже нет желания его иметь…
Не толкую иначе чем как недостаток чистоты, инертное постоянство, в каком пребывает моя собственная плоская жизнь, подобная пыли или грязи на никогда не меняющейся поверхности.
Так же как мы моемся, должны мы чистить свою судьбу, менять жизнь, как меняем одежду, но не так, как едим или спим – лишь для поддержания жизни, – ради уважения к себе самим, словно к другим существам, мы должны иметь то, что мы сами зовем чистоплотностью.
Для многих нечистоплотность – не склонность, но, скорее, безразличие разума. И для многих стертость и монотонность жизни не является чем-то желанным или естественной покорностью тому, чего не желаешь, но угасанием разума в них самих, непроизвольной иронией знания.
Есть свиньи, ненавидящие собственное свинство, но не бегущие от него, подобно тому как испуганный зачастую не убегает от опасности. Есть свиньи волей судьбы, как я, они не бегут от банальной повседневности из-за собственного бессилия. Это птицы, зачарованные отсутствующей змеей; мошки, танцующие среди стволов деревьев, ничего не видя, пока не попадут на клейкий язык хамелеона.
Вот так и я прогуливаю медленно свою сознательную бессознательность в моем саду обыденности. Вот так прогуливаю свою судьбу, которая проходит, потому что я не двигаюсь; мое время, которое следует своим путем, так как я не следую своим. Не спасают меня от монотонности даже мои короткие замечания относительно этой монотонности. Я доволен, что в моей келье есть окна, пусть и за решетками, и пишу на стеклах, на пыли необходимости, свое имя большими буквами, ежедневную роспись на моем договоре со смертью.
Со смертью? Нет, даже не со смертью. Кто живет, как я, не умирает: заканчивается, увядает, перестает прозябать. Место, где он был, остается существовать без него, улица, по которой он ходил, остается прежней без него, дом, где он жил, заселен другими. Все – есть, и мы называем это небытием; но и эту трагедию отрицания мы не можем встретить аплодисментами, ведь мы и не знаем наверняка, есть ли небытие, мы – растения истины, равно как и жизни; мы – пыль, что существует также внутри, как и снаружи оконных стекол; мы – внуки Судьбы и пасынки Бога, обвенчавшегося с Вечной Ночью, когда она стала вдовою Хаоса, породившего нас.
Покинуть улицу Золотильщиков для Невозможного…Подняться от письменного стола для Неведомого… Но это подсказывается Здравым Смыслом – Великой Книгой, как говорят французы.
Существует усталость абстрактного разума, и это самая страшная усталость. Она не давит так, как телесное утомление, не тревожит так, как утомление от познания и от чувствования. Это тяжесть от постижения мира, удушье души.
Поэтому, словно подхваченные ветром и созданные тучами, все идеи, приходившие к нам в течение жизни, все стремления и замыслы, на которых мы основывали надежды на ее продолжение, разрываются, открываются, удаляются, становясь обрывками туманов, лохмотьями того, чего не было, да и быть не могло. И за этим поражением появляется чистое одиночество, черное и неумолимое, пустынного звездного неба.
Таинство жизни по-разному огорчает и пугает нас. Порой оно нисходит на нас, будто бесформенный призрак, и душа трепещет от ужаснейшего из страхов – страха перед уродливым воплощением небытия… В другой раз оно находится за нами, видимое только, пока мы не оборачиваемся посмотреть на него, и это есть вся истина, внушающая глубочайший ужас от ее неведения.
Но тот ужас, что сегодня уничтожает меня, менее благороден и разъедает сильнее. Это желание не иметь мышления, стремление не быть ничем, сознательное отчаяние всех клеточек души. Это внезапное осознание своего вечного заточения в келье бесконечности. Разве можно думать о побеге, если эта келья – весь мир?
И потому приходит ко мне желание, чрезмерное, абсурдное, напоминающее сатанизм, предшествующий Сатане, чтобы однажды – в день вне времени и материи – случилось бегство от Бога, и в нас осталось бы нечто самое глубокое, чтобы стать частью бытия или небытия.
Повторяется один сон, я не умею его объяснить, и он часто одолевает меня, впрочем, в отношении такого необычного явления лучше сказать, что он одолевает кого-то. Я иду по улице, но мне кажется, что я сижу, а мое внимание, открытое для всего окружающего, тем не менее подобно расслаблению, отдыху всего тела. Я словно бы не могу обойти прохожего, идущего навстречу. Словно бы не могу произнести слова вслух или хотя бы внутри себя, мысленно, чтобы ответить на вопрос кого-то случайного, кто совпадал бы с моей случайностью. Я будто не могу ни желать, ни надеяться, ни двигаться, я уже будто не владею собой полностью, но, если так можно сказать, владею в отдельности теми элементами, из которых состою. Не могу думать, чувствовать, хотеть. Иду, следую своим путем, странствую. Ничто в моих движениях (я замечаю то, чего другие не замечают) не делает заметным состояние оцепенения, в котором я нахожусь. Это подобно состоянию отсутствия души, с ним должно быть спокойно отдыхающему или откинувшемуся на спинку кресла человеку, – но оно особенно неудобно, даже болезненно, для человека, идущего по улице.
Это ощущение опьянения бездеятельностью, хмель без радости, ее нет ни в самом состоянии, ни в его источнике. Это болезнь без мечты о выздоровлении. Это воодушевленная смерть.
Жить жизнью бесстрастной и культурной, под открытым небом идей, читая, мечтая и записывая свои мысли, жизнью довольно медленной, чтобы всегда быть на грани скуки, достаточно полной размышлениями, чтобы никогда не встретиться со скукой. Жить той жизнью, отдаленной от чувств и от мыслей, только мыслящей чувствами и чувствующей разумом. Застыть на солнце, золотясь, подобно уединенному озеру, окруженному цветами. Хранить в тени то благородство личности, проявляющееся в способности ничего не требовать от жизни. Существовать во вращающихся мирах, словно цветочная пыльца, что поднимается вверх в вечернем воздухе от дуновения ветра, и оцепенение ночи позволяет ей, чуть заметной, опуститься там, где придется. Быть этим, спокойно обладая знанием, ни радостным, ни грустным, постигаемым на солнце его сияния и при свете звезд его отстранения. Не быть ничем бо́льшим, не иметь ничего бо́льшего, не хотеть бо́льшего… Музыка голодного, песенка слепого, реликвия неизвестного путника, бесцельные шаги верблюда в пустыне…
Перечитываю пассивно, с чувством освобождения, те простые фразы Каэйру[4] относительно характера размышлений, к которым его приводит небольшой размер его села. Он говорит: оттого, что оно небольшое, оно видится более принадлежностью мира, чем города; а значит, село больше города…
«Потому, что моя величина зависит от того, что я вижу,
А не от моего роста».
Фразы, подобные этим, что, кажется, имеют тенденцию возникать без нашего участия, очищают меня от всякой метафизики, которую я невольно вношу в жизнь. Прочитав их, подхожу к моему окну над узенькой улочкой, вглядываюсь в огромное небо с множеством планет – и я свободен и окрылен сиянием, окутывающим меня с головы до ног.
«Моя величина зависит от того, что я вижу!» Каждый раз, когда я вдумываюсь в эту фразу, мне кажется, что она предназначена расцветить, преобразовать вселенную. «Моя величина зависит от того, что я вижу!» Как велики владения разума, простирающиеся от колодца глубоких чувств и ощущений до высоких звезд, отражающихся в нем, а значит, в определенном смысле, в нем обитающих.
И я, сознающий, что умею видеть, смотрю в глубину необъятной объективной метафизики небес, этого воплощения надежности, и они пробуждают во мне желание запеть и умереть с песней на устах. «Моя величина зависит от того, что я вижу!» И расплывчатый лунный свет, мой, полностью, начинает искажать почти черную синеву горизонта.
У меня возникает желание воздеть руки и выкрикивать что-то неведомое и жестокое, слова какого-то возвышенного таинства, утверждать новую необъятную личность в громадных пустых пространствах.
Но я возвращаюсь в себя и успокаиваюсь. «Моя величина зависит от того, что я вижу!» И фраза остается со мной, она заполняет всю душу, на ней зиждутся все мои чувства, и надо мною, внутри меня, как над городом – снаружи воцаряется необъяснимый покой сурового лунного света, заливающего мироздание с падением ночи.
…в грустном беспорядке моих неясных чувств…
Печаль сумерек, сотканная из усталости и лживых отречений, скука и нежелание чувствовать что-либо, боль, как от подавленного рыдания или от постигнутой истины. Разворачивается в моей невнимательной душе этот пейзаж отречения – аллеи оставленных жестов, высокие клумбы, где цветут мечты, которые даже не раскрыли своих глубин, непоследовательности, как заборы из самшита, разделяющие пустые дороги, предположения, как старые водоемы со стоячей водой, без живых струй, все путается и все выглядит жалко в грустном беспорядке моих неясных чувств.
Чтобы понять, я себя разрушил. Понять – значит забыть о любви. Я не знаю ничего другого, ложного и многозначительного одновременно, чем высказывание Леонардо да Винчи о том, что нельзя любить или ненавидеть что-то, чего ты не понимаешь.
Одиночество приводит меня в отчаяние; общество людей меня угнетает. Присутствие другого человека мешает ходу моих мыслей; я мечтаю в его присутствии с особой рассеянностью, которой не может объяснить мой аналитический разум.
Изолированность вырезает на мне свое изображение, творя меня по своему подобию. В присутствии другого – всего одного человека – мое мышление сразу тормозится, и, если общение служит для большинства людей стимулом к проявлению себя и к разговору, то для меня контакт с другими является «антистимулом», если возможно употребить подобное словечко. Я способен наедине с собою выдумывать столько афоризмов, быстрых ответов на незаданные вопросы, способен на разумное общение ни с кем; но все это исчезает, если я нахожусь рядом с человеком во плоти, я теряю способность рассуждать, говорить и менее чем через час впадаю в сонливость. Да, беседа с людьми вызывает у меня всего лишь желание спать. Только мои друзья, призрачные и воображаемые, только мои беседы, протекающие в мечтах, только они по-настоящему реальны, рельефны, и в них, словно в зеркале, отражается дух.
Огорчает меня, впрочем, сама мысль о необходимости общения с другими. Простое приглашение на ужин к одному из друзей вгоняет меня в тоску, определить которую сложно. Мысль о любой социальной обязанности, долге – пойти на похороны, выполнить какое-то поручение в конторе вместе с другим человеком, встретить на станции кого-то, знакомого или нет, – одна только перспектива этого способна нарушать мои размышления в течение целого дня, а порой и ночью я беспокоюсь и плохо сплю, и когда наконец эта обязанность или долг выполнены, оказывается, что беспокойство было ничем не оправдано; но случай повторяется, а я так и не приобретаю никакого опыта, ничему не научаюсь.
«Мои привычки от одиночества, не от людей»; не знаю, кто – Руссо или Сенанкур – это сказал.[5] Но это был дух, подобный моему, – или, вернее, дух моей расы.
Разделенная промежутками мерцающая синева блуждающего света, отливающая белым, находится в постоянном движении. Вокруг расстелилось темное поле с его огромным безмолвием и свежими запахами. Покой во всем физически давит и причиняет боль. Бесформенная скука душит меня.
Я редко выхожу в поле, почти никогда не провожу там весь день и не остаюсь там на ночь. Но сегодня мой приятель, в чьем доме я остановился, не позволил мне отказаться от его приглашения, и я пришел сюда, несколько стесняясь, – как застенчивый человек приходит на шумный праздник – пришел сюда с радостью, я всегда любил свежий воздух и этот простор, с удовольствием пообедал и поужинал, а сейчас – глубокая ночь в моей комнате, погруженной в темноту, какой-то нежилой, наполнила меня тоской.
Из окна в моей спальне открывается поле, поле бесконечное, будто все поля на свете, в ночи, смутно усыпанной звездами, где дуновение ветра если не слышится, то чувствуется. Сидя у окна, я впитываю все ощущения, которые возникают при созерцании этой пустоты всеобъемлющей жизни там, за окном. Час гармонирует с тем тревожным чувством, возникающим от многих вещей, начиная от видимой невидимости окружающего и заканчивая неопределенно шершавой от растрескавшейся старой краски поверхностью дерева – чуть белеющего во тьме подоконника, на который опирается моя левая рука.
Столько раз тем не менее я, как мне казалось, не испытывал тревоги при виде этого покоя, от которого убежал бы сейчас, если бы это было легко, а главное, прилично! Столько раз считал, верил – там, внизу, средь узеньких улочек меж высокими домами, – что покой, проза, определенность есть скорее здесь, меж предметами естественными, чем там, где полотно на столе цивилизации заставляет забыть окрашенную древесину сосны, на которой оно лежит. И здесь, сейчас, чувствуя себя здоровым, чувствуя приятную усталость, я беспокоен, я подавлен, я тоскую.
Не знаю, только ли со мной это случилось или со всеми, кого цивилизация заставила родиться во второй раз. Но кажется мне, что для меня или для всех, кто чувствует, как я, искусственное стало натуральным, и теперь натуральное нам удивительно. Лучше сказать так: искусственное не стало натуральным; натуральное перестало отличаться от искусственного. Ненавижу средства передвижения и не нуждаюсь в них, ненавижу результаты научных открытий, которые делают жизнь легкой, – телефоны, телеграф – и не нуждаюсь в них, или субпродукты фантазии – фонографы, радиоприемники – они для тех, кого они развлекают, делая их жизнь забавной.
Ничто из этого меня не интересует, я не желаю ничего из этого. Но я люблю реку Тежу из-за большого города на берегу этой реки. Я наслаждаюсь видом неба, потому что вижу его с пятого этажа на улице Байша. Ничего не могут мне дать поле или природа, что сравнилось бы с величавой неправильностью спокойного города в лунном свете, когда смотришь на него с площади Грасы или улицы Сан-Педру-де-Алка́нтара. Нет для меня таких цветов, что были бы краше залитого солнцем красочного разноцветья Лиссабона.
Красота обнаженного тела ценится только народами, в чьем обычае ходить одетыми. Целомудрие имеет значение, главным образом, для чувственности, как препятствие для энергии, для легкого достижения желаемого.
Искусственность – это один из способов наслаждаться естественностью. То, чем я наслаждаюсь на этих необъятных полях, мне так нравится, потому что я не живу здесь. Не чувствует свободы тот, кто никогда не жил под гнетом принуждения.
Цивилизация учит ценить природу. Искусственное – путь, на котором начинают высоко ценить естественное.
Но тем не менее важно никогда не принимать искусственного за натуральное.
Гармонически сочетать естественное и искусственное – естественное свойство высокой человеческой души.
Черное небо над южным берегом Тежу было зловеще черным по контрасту со сверкающе-белыми крыльями чаек в беспокойном полете. Но день не наводил уже на мысли о грозе. Вся масса туч, угрожавших дождем, переместилась к другому берегу, и город внизу, еще влажный от прошедшего ливня, улыбался от вымощенных улиц до небосвода, уже заголубевшего в просветах на севере. Весенняя прохлада пробирала дрожью, как легкий холодок.
В час, подобный этому, пустой и невесомый, приятно позволить мыслям скользить, не задерживаясь ни на чем, но при этом захватывая в свою пустую прозрачность любой предмет в одиноком холоде прояснившегося дня, с черной глубиной вдали так, чтобы предчувствия, подобно чайкам, вызывали в сознании ощущение таинства всего, происходящего в этой огромной темноте.
Но внезапно, противореча моей интимной литературной теме, черная глубина неба на юге воскресила во мне воспоминание, настоящее или выдуманное, о другом небе, может быть виденном мною в другой жизни, на берегу небольшой реки, поросшей печальным тростником, вдали от городов. Сам не знаю, каким образом, но этот речной пейзаж с дикими утками расширился с помощью воображения, и с четкостью, иногда бывающей во сне, я почувствовал себя самого внутри этого воображаемого мною пространства.
Почва, поросшая тростником по берегам рек, заповедник для охотников и для печали, неровные берега, врезающиеся, подобно грязным мысам, в свинцово-желтые воды, и вновь отходящие, образовывающие илистые заливы для лодок, почти игрушечных, в ручьях с блистающей водой и загадочным загрязнением на поверхности между стеблями тростника, зелеными с черным, там, куда нельзя заходить, чтобы не провалиться в воду.
Безутешность оттого, что небо, мертво-серое, там и сям морщится тучами, гораздо чернее основного тона самих небес. Не чувствую ветра, но он есть, и другой берег, в конце концов представляется далеким островом, позади которого обнаруживается – огромная и затерянная в пространствах река! – другой берег, настоящий, смутно видный на большом расстоянии.
Никто его не достигает и не достигнет. Только если бы благодаря противоречивому движению времени и пространства я мог убежать от мира туда, к этому пейзажу, никто никогда не нашел бы меня там. Я бы напрасно ожидал, сам не зная чего, и не дождался бы ничего, кроме медленного падения ночи, постепенно окрашивающего все пространство в цвет самых черных туч, шаг за шагом проникающих в глубину уничтожаемых ими небес.
И вдруг я чувствую здесь – тот, нездешний, холод. Он касается моего тела, проникая до костей. Глубоко дышу, пробуждаясь от прохлады. Мужчина, что встречается со мной под аркадой недалеко от Болса, смотрит на меня с недоверием, которого не умеет себе объяснить. Черное небо, стягиваясь, опустилось ниже над югом.
Поднялся ветер… Вначале он был подобен голосу пустоты… дуновение пространства внутри какого-то отверстия, отсутствие чего-то в безмолвии воздуха. Потом послышался вздох, вздох из глубины мира, чувствовалось, что дрожат окна и что, на самом деле подул ветер. Потом выше прозвучал глухой рев, рычание чего-то несуществующего среди уплотняющейся ночной темноты, скрежетание предметов, падение минут, один момент конца мира.
Потом показалось, что…
Когда, точно грозовая ночь, за которой следует день, христианство прошло через души, виделся вред, причиненный незаметно; причиненное разрушение стало видно ясно, когда оно уже прошло. Одни считали, что это падение произошло по причине его недостатка, но было из-за его прихода; что падение это открылось, но не произошло из-за его прихода.
Осталось, так или иначе, в этом мире душ видимое падение, очевидное бедствие, без покрова тьмы, который укрыл бы его своей поддельной лаской. Души тогда стали видны такими, какими они и были.
Тогда началась в недавних душах та болезнь, называемая романтизмом, то христианство без иллюзий, то христианство без мифов – черствая сердцевина его болезненной сущности.
Все зло романтизма в путанице между тем, что нам нужно, и тем, чего мы желаем. Все мы нуждаемся в нашей жизни, в самом насущном для нее, в ее сохранении и в ее продолжении; все мы желаем жизни более совершенной, счастья более полного, реализации наших мечтаний…
Это свойственно человеку – хотеть того, что нам необходимо, и также свойственно человеку – желать того, что для нас не является необходимым. Болезнь в том, когда желают с одинаковой интенсивностью как необходимого, так и желательного, и страдают от несовершенства так, будто бы страдают из-за отсутствия хлеба. Вред романтизма в этом – хотеть луну так, будто есть способ ее получить.
«Нельзя съесть пирог и не утратить его при этом».
В сфере политики, как и в интимной часовне душ, – то же зло.
Язычник не знал в реальном мире этого болезненного смысла всех предметов и себя самого. Будучи человеком, он тоже желал невозможного; но не хотел его. Его религия была… и только в скрытых от других таинствах, только для посвященных, вдали от народа и от… обучали этим трансцендентным вещам, идущим от религий, наполнявших душу пустотой мира.
Личность оригинальная и величественная, так романтики представляли самих себя, – я много раз в мечтах пытался стать подобной личностью, и столько же раз подвергал осмеянию эту свою идею. Человек необычный, избранный, роковой в конце концов существует в мечтах всех обычных людей, и романтизм всего лишь ввел его в нашу собственную повседневность. Почти все мужчины мечтают – втайне от себя самих; их мечты о господстве над людьми, о владении всеми женщинами, о всеобщем восхищении, о знаменитости и славе во всех эпохах… Немногие, как я, привычные к мечтаниям, имеют вследствие этого достаточно ясный ум для того, чтобы смеяться над эстетической возможностью грезить подобным образом.
Главное обвинение романтизму еще не предъявлено: это то, какой он показывает изнутри человеческую природу. Его преувеличения, его нелепости, его разнообразные возможности производить впечатление и соблазнять состоят в следующем: он есть внешнее изображение того, что живет глубоко в душе, но конкретно, видимо, даже возможно, если бы живое существо могло зависеть от чего-то другого, кроме Судьбы.
Сколько раз я сам, я, кто смеется над подобными обольщениями, ловил себя на том, что думаю, как было бы хорошо стать знаменитым, как приятно быть обласканным, как славно быть победителем! Но не могу видеть себя в этой яркой роли без того, чтобы другой «я», который всегда рядом со мной, как улица Байша, не расхохотался бы вслух. Вижу себя знаменитым? Но я вижу себя знаменитым в качестве бухгалтера. Чувствую себя вознесенным на пьедестал известности? Но то, что происходит в конторе на улице Золотильщиков, и сами работники этой конторы мешают этому чувству. Слышу, как мне рукоплещут толпы? Аплодисменты достигают пятого этажа, где я живу, и составляют резкий контраст грубой мебели в моей бедной комнате, всему ничтожеству, которое меня окружает, унижает меня, спуская с высот моей мечты на кухню. Во всех иллюзиях у меня не было хотя бы замков в Испании, как у великих испанцев. Мои были из игральных карт, старых, грязных, из дешевой неполной колоды, которая не годилась для игры; они не падали, их надо было разрушать своими руками, подчиняясь нетерпеливому настоянию старой служанки, желавшей расстелить завернутую наполовину скатерть на весь стол, потому что время вечернего чая наступало, подобно проклятию Судьбы. Но даже это – совершенно бесполезное видение, ведь у меня нет дома в провинции или старых тетушек, на чьем столе в завершение семейного вечера меня ждала бы чашка чая. Мои мечты потерпели неудачу даже в метафорах и изображениях. Моя империя не была построена из старых игральных карт. Моя победа не состоялась без чайника и древнего кота. Я умру, как и живу, в обыденности пригорода, оцененный по весу среди постскриптумов утраченного.
Если бы я только мог противопоставить громадной всепоглощающей бездне славу моего разочарования и поднять безверие как знамя поражения! Знамя в слабых руках, знамя, волочащееся по грязи и по крови слабых, но поднятое ввысь утопающими в зыбучих песках то ли в знак протеста, то ли в знак вызова, то ли как жест отчаяния. Никто не знает, потому что никто ничего не знает, и пески поглощают имеющих знамена так же, как и не имеющих. И пески покроют все, мою жизнь, мое пустословие, мою вечность.
Несу с собой сознание поражения как знамя победы.
Как бы я ни был в душе близок к языку романтиков, не нахожу отдыха нигде, кроме как в чтении классиков. Даже их некоторая ограниченность, узость, благодаря чему достигается ясность, меня успокаивает, хотя не могу объяснить почему. Получаю от них радостное впечатление свободной жизни, созерцающей широкие просторы, которые не надо пересекать. Будто сами древние боги язычников отдыхают от мистерий.
Тщательнейший анализ чувств и ощущений – иногда ощущений, выдуманных нами, – уподобление собственного сердца окружающему пейзажу, анатомическое обнажение всех нервов, использование желания в качестве хотения, а стремления в качестве мысли – все это для меня чересчур привычно, чтобы удивить или успокоить. Когда я все это чувствую, мне хочется именно потому, что я это чувствую, чувствовать нечто иное. И только читая классику, я понимаю, что мне дано это – иное.
Признаю это без лицемерия или стыда… Это не отрывок из Шатобриана, не песня Ламартина, что столько раз представлялись мне голосом моего собственного мышления, или столько раз, казалось, были мне рассказаны, что я их узнавал, – то, что меня восхищает и возвышает так, как проза Виейры или та иная ода одного из немногих классиков, что следуют путями Горация.
Я читаю и становлюсь свободным. Обретаю реальность. Перестаю быть собой, исчезаю. И то, что я читаю, становится для меня не подобием одежды, привычной, а порой тесной, но внешним миром, видным и понятным: солнцем, видящим всех, луной, роняющей тени на тихую землю, широкими пространствами, оканчивающимися океаном, черной плотностью деревьев, колышущейся зеленью в вышине, прочным покоем водоемов в садах, дорогами, укрытыми виноградными лозами.
Читаю, будто отрекаюсь. Королевская корона и мантия никогда не бывают так значительны, как в миг отречения короля, оставляющего их на полу, – так вот и я слагаю с себя на плиты прихожей все свои триумфы мечты и скуки, и вступаю на парадную лестницу, оставив себе единственное величие – всевидящий взгляд.
Читаю, будто прохожу. И это благодаря классикам, всегда спокойным, – а если они и страдают, то молчат об этом, – я чувствую себя святым путником, помазанником и пилигримом, просто созерцателем этого бесцельного мира, Наследником Престола Великого Изгнания, подающим нищему, уходя, последний обол своего отчаяния.
Компаньон хозяина нашей конторы, постоянно чувствующий себя не вполне здоровым, не знаю, по капризу или в связи с болезнью, захотел иметь групповой портрет всех служащих. Поэтому позавчера мы все выстроились в одну линию, чтобы веселый фотограф запечатлел нас перед грязно-белой перегородкой, отделяющей главное помещение конторы от кабинета патрона Вашкеша. В центре – сам Вашкеш; в два ряда, располагаясь сначала по ранжиру, потом – вне его, другие души человеческие, объединяющиеся здесь в единое целое каждый день ради ничтожных целей, ведь конечная цель всего этого – секрет, который известен лишь богам.
Сегодня, придя в контору немного позже и, по правде говоря, уже забыв, как нас фотографировали, я встретил Морейру, вставшего непривычно рано, и одного из двух служащих биржи, склонившихся над какими-то темными листами, в которых я неожиданно узнал первые пробы фотографий. Это были две фотографии, отпечатанные с негатива, оказавшегося лучшим.
Мне было неприятно видеть себя, ведь я, понятно, вначале разыскал на снимках себя самого. Я никогда не считал свою внешность сколько-нибудь значительной, но еще никогда не чувствовал себя таким ничтожным, как в этот раз, на фоне других лиц, столь хорошо мне знакомых на этой дороге повседневности. Я напоминаю неотесанного иезуита. Мое лицо, худое и невыразительное, в нем не видно ни ума, ни энергии, ни чего-либо другого, что выделяло бы его среди мертвого моря других лиц. Да нет, не из мертвого моря. Вижу среди лиц на фотографии, действительно, выразительные. Патрон Вашкеш здесь такой, как есть: широкое лицо, веселое и суровое, твердый взгляд, жесткие усы. Энергия, сообразительность – вещи для мужчины, в общем-то, достаточно банальные, столько раз повторявшиеся в лицах такого множества мужчин во всем мире, – были все же оттиснуты на этой фотографии, словно на каком-то психологическом паспорте. Два коммивояжера были восхитительны; служащий биржи выглядел хорошо, но почти весь скрывался за плечом Морейры. И Морейра! Мой шеф Морейра, воплощение монотонности и повторяемости, выглядел гораздо человечней меня! Даже мальчик – я подыскиваю название обуревающему меня чувству в надежде, что это не зависть, – обнаруживал в лице уверенность, открытость по сравнению со стертостью моего лица, лица сфинкса из писчебумажного магазина.
О чем это может говорить? Какую истину это открывает, если пленка фотографа не ошибается? Что удостоверяет бесстрастная линза фотоаппарата? Кем я являюсь, почему я такой? И тем не менее… И шок, полученный мной от сравнения с другими служащими?
– А вы получились очень хорошо, – говорит неожиданно Морейра. И добавляет, оборотившись к служащему биржи: – Как раз такое у него лицо, так ведь?
И служащий биржи соглашается с добродушной радостью, так, что мне показалось – меня выбросили в мусорное ведро.
И сегодня, думая о сути своей жизни, я чувствую себя каким-то насекомым, которое перевозят в корзине на плече между двумя пригородными станциями. Глупый образ, тем не менее жизнь, им определяемая, еще глупее. Такие корзинки обычно имеют две крышки, два полукружия, которые слегка приподнимаются, если насекомое бьется, пытаясь выбраться. Но рука того, кто ее несет, придерживая крышки, не позволяет такому слабому существу поднять выше краев корзинки ничего, кроме беспомощно дергающихся конечностей, подобных ослабевшим крыльям бабочки.
Я уже забыл за описанием этой корзинки, что говорил о себе. Вижу ее во всех подробностях, вплоть до толстой белой руки прислуги, ее несущей. Не могу увидеть прислугу целиком, только ее руку, покрытую пушком. Не могу почувствовать себя хорошо, только – вдруг – большая прохлада от… от… этих белых ручек и тесемок от… которыми переплетают корзины, и где бьюсь я, насекомое, между двумя остановками, которые ощущаю. Во время их я отдыхаю, кажется, на какой-то скамье, а там, вне моей корзины, разговаривают. Сплю, потому что могу отдохнуть, пока меня снова не понесли на станцию.
Окружение – это душа вещей. Каждая вещь имеет свое собственное выражение, и оно приходит к ней извне.
Каждая вещь – пересечение линий, ее формирующих: определенное количество материи, способ ее истолкования и окружение, в котором она находится. Этот стол, за которым я пишу, – это кусок дерева, это стол, это вид мебели среди другой мебели в этой комнате. Мой образ этого стола, если бы я хотел его описать, был бы составлен из определений, что он деревянный, что я называю его столом и приписываю ему определенные функции, и что в нем отражаются, на него помещаются и его изменяют предметы, на него поставленные, по отношению к которым стол – нечто внешнее. И даже цвет этого стола и то, что он выцвел, его пятна и трещины – все это замечается как пришедшее к нему со стороны, и вот это – более, чем его деревянная природа, – придает ему душу. И сущность этой души, что это именно стол, тоже дана ему извне и составляет его индивидуальность.
Я считаю поэтому, что это не ошибка, свойственная человеческой природе, и не поэтическая метафора – приписывать наличие души предметам, которые мы называем неодушевленными. Быть предметом – значит быть объектом, какому приписываются определенные свойства. Возможно, это неправильно – говорить, что дерево чувствует, что река бежит, что закат печален или спокойное море (синее от неба над ним) улыбается (благодаря солнцу, которое тоже не в нем самом). Но такой же ошибкой будет приписывать красоту тому или иному предмету. Такая же ошибка – приписывать определенный цвет, форму, возможно, даже само существование тому или иному предмету. Это море – всего лишь соленая вода. Этот закат означает, что на этой широте и долготе начинает убывать солнечный свет. Этот ребенок, играющий передо мною, – это умное скопление клеток – более того, это часовой механизм с вялыми движениями, странный электрический конгломерат миллионов солнечных систем в миниатюре.
Все приходит извне, и сама душа человеческая, возможно, не более чем солнечный луч, сияющий и отделяющийся от земли, где находится груда навоза – человеческое тело.
В этих рассуждениях, возможно, заключается вся философия для того, кто нашел бы в себе силу делать заключения. Во мне такой силы нет, моего усердия хватает лишь на смутные размышления о логических возможностях, и все это оттеняет для меня в этом видении золотистого солнечного луча навоз, как темную солому, влажную и мятую, на земле, почти черной, возле каменного забора.
Таков я. Когда я хочу думать, вижу. Когда хочу спрятаться в свою душу, внезапно застываю, забывшись, в самом начале спиральной крутой лестницы, глядя из окна верхнего этажа на солнце, смачивающее прощальным взмахом рыжей кисти беспорядочное нагромождение крыш.
Каждый раз, когда под влиянием мечтаний мое намерение возвышается, над уровнем моей повседневной жизни, я на миг чувствую себя высоко, как ребенок на качелях, и каждый раз я должен опускаться, как этот ребенок, в муниципальный сад и познавать свое поражение, без развернутых боевых знамен, без меча, даже если бы имел силы вытащить его из ножен.
Предполагаю, что большинство из тех, с кем я случайно встречаюсь на улицах, несет в себе – замечаю это по молчаливому движению губ и по нерешительности взгляда – подобное чувство солдата в бесполезной войне без знамен. И все – оборачиваюсь назад и созерцаю их спины, спины бедных побежденных, – как и я, будут побеждены, унижены среди тины и тростников безлунной ночью, павшей на берега, среди непоэтичных болот, жалкие и неопытные.
Все они обладают, как и я, сердцем восторженным и печальным. Хорошо знаю их: одни – мальчики из магазинов, другие – конторские служащие, третьи – коммерсанты из небольших торговых предприятий, есть и другие – баловни судьбы из кафе и пивных, благородные, но не кичащиеся этим, или довольные молчаливым сознанием собственного величия скряги, коим нечего охранять и беречь. Но все они, бедняги, являются поэтами и тянут за собой, на мой взгляд так же как и я, – на их ничтожество нашей общей несообразности. У них – у всех, как у меня, – будущее в прошлом.
Сейчас, когда я сижу вялый в конторе, а все, кроме меня, ушли обедать, я пристально смотрю через давно не мытое окно на шатающегося старика, медленно проходящего по тротуару на противоположной стороне улицы. Это не пьяница; это мечтатель. Он внимателен к несуществующему; возможно, еще ждет чего-то. Боги, если они справедливы в своей несправедливости, сохранили бы нам мечты, даже когда они невыполнимы, и дали бы нам мечты, красивые несмотря на их заурядность. Сегодня, пока я еще не стар, я могу мечтать о южных островах и о невозможных Индиях; может быть, завтра мне будет дана теми же богами мечта стать хозяином табачной лавочки или пенсионером в маленьком пригородном домике. Любая мечта подобна другим, потому что все они – мечты. Пусть боги изменяют мои мечты, но не мою способность мечтать.
Пока я думал об этом, старик выпал из зоны моего внимания. Я уже не вижу его. Открываю окно, чтобы лучше видеть. Его нет определенно. Ушел. Для меня он послужил визуальным символом; выполнил свою задачу и повернул за угол. Если бы мне сказали, что он повернул за абсолютный угол и никогда не проходил здесь, я бы принял это с тем самым жестом, с которым сейчас закрываю окно.
Добился своего?..
Бедные полубоги-подмастерья, одним словом и благородным усилием завоевывающие империи и нуждающиеся в деньгах, в жилье и пище! Кажется, это войска бегущей армии, чьи командиры – мечты о победе, тогда как для тех, потерявшихся в тине болот, остается только понятие о величии, сознание принадлежности к армии и пустота от незнания, что делал командир, которого они никогда не видели.
Так, каждый, кто мечтает, в течение мгновения является командиром армии, из арьергарда которой сбежал. Так, каждый, среди грязи ручейков, приветствует победу, которую никто не может одержать и от которой остались крошки среди пятен на скатерти, их забыли стряхнуть.
Заполняют трещины повседневных событий, как пыль заполняет трещины мебели, если ее не протирают тщательно. В обычном свете заурядного дня видятся блестящими, как серые черви на красном дереве или между деревом и черной клеенкой. Выдергиваются, как маленький гвоздь. Но ни у кого не хватает терпения их выдергивать.
Мои бедные компаньоны, мечтающие о высоком, как я завидую им и стыжусь этой зависти! Со мной – другие, самые бедные, у которых нет никого, кроме них самих, кому бы они могли рассказать о своих мечтах и прочесть свои стихи, если бы они их писали, – бедняги, все творчество которых заключено в их собственной душе, умирающие от удушья из-за того, что не могут сдать того неведомого трансцендентного экзамена, подготавливающего к жизни.
Одни из них – герои, они победили вчера пятерых мужчин, напавших на них за углом той улицы. Другие – соблазнители, и даже женщины, которые никогда не существовали, не могут перед ними устоять. Они верят этому, когда говорят, и возможно, потому и говорят об этом, чтобы самим поверить. Другие, мечты которых ничтожнее, слушают и соглашаются. Иные… Для них для всех победители мира, кто бы они ни были, остаются людьми.
И все, точно угри в большом тазу, запутываются, переплетаясь друг с другом, выползают один поверх другого, но никогда не вылезают из таза. Иногда о них пишут в газетах. Порой газеты пишут кое о ком из них, но славы это им не приносит.
Те из них – счастливцы, ведь им дана обманчивая мечта, ослепляющая глупцов. Но для тех, чьи мечты, как и мои, лишены иллюзий…
Болезненный промежуток
Если бы вы меня спросили, счастлив ли я, я ответил бы, что нет.
Это благородно – быть робким, застенчивым, знаменитому – не уметь действовать, великому – быть неприспособленным к жизни.
Только Скука, являясь неким отстранением, и Искусство, являясь презрением, золотят чем-то, похожим на удовлетворение, нашу…
Блуждающие огни преходящей славы, порождаемые нашей развращенностью, по крайней мере, освещают тьму нашего существования.
Лишь несчастье возвышает – и скука, испытываемая несчастливцами, – геральдический символ, подобный тем, что достается потомкам древних героев.
Во мне, как в колодце, собраны чьи-то движения, слова, теснящиеся на моих губах помимо моей мысли, порождения мечты, забытой мною окончательно.
Я – развалины зданий, тех, что никогда не были ничем иным, как развалинами, потому что кто-то, дойдя до середины постройки, утомился от одной мысли о том, что хочет построить.
Не будем забывать об отвращении к наслаждающимся, потому что они наслаждаются, о презрении к веселым, потому что сами не умеем быть веселыми, как они… Это презрение ложно, это отвращение слабо, это всего лишь грубая и грязная опора, которая нас поддерживает, над которой возвышается, надменный и единственный, темный силуэт нашей Скуки с непостижимой улыбкой и расплывчатым нимбом тайны.
Благословенны те, кто не полагается ни на кого в этой жизни.
Испытываю чисто физическую тошноту от обыкновенного человечества, впрочем, другого не дано. И причуду – иногда делать все для усиления ее, словно провоцировать рвоту, чтобы избавиться от тошноты.
Одна из моих излюбленных прогулок по утрам, когда пошлость наступающего дня страшит меня, точно тюрьма, – это медленный путь по улицам, еще до открытия магазинов и складов, во время которого я слушаю обрывки фраз, роняемых проходящими девушками, молодыми людьми или парочками – так, будто это подаяния, бросаемые в насмешку в невидимую открытую суму моего размышления.
Это всегда одна и та же последовательность одних и тех же фраз… «И тогда она сказала…» – и тон реплики свидетельствует о какой-то интриге. «Если бы не пошел он, пошел бы ты…» – и голос отвечающего возвышается в знак протеста, которого я уже не слышу. «Ты говорил, да, мой сеньор, ты говорил…» – и пронзительный голос портнихи утверждает: «Моя мать говорит, что не хочет…» «Я?» – и удивление юноши, несущего завтрак, завернутый в промасленную бумагу, меня не убеждает и вряд ли может убедить блондинку в несвежей одежде. «Возможно, это была…» – и смех трех из четырех девушек режет мне ухо своей непристойностью. «И тогда я встал прямо перед этим типом, и на его лице – на его лице, да, о, Жозе…» – и бедняга лжет, ведь шеф конторы – я понял по репликам, что тот, о ком шла речь, был шефом неизвестной мне конторы, – не оценил жеста гладиатора, вооруженного соломинкой на арене, заставленной письменными столами. «И тогда я пошел курить в уборную…» – смеется мальчишка с темными пятнами на брюках в области ягодиц.
Другие, одинокие прохожие или пары, не разговаривают или разговаривают очень тихо, но все голоса мне ясны своей прозрачностью, интуитивной и рваной. Не отваживаюсь сказать – не отваживаюсь сказать это себе самому в письменной форме, хотя я бы сразу это вырезал, если бы написал, – что́ именно вижу я в случайных взглядах, в их невольном низменном направлении, в их грязных пересечениях. Не отваживаюсь потому, что, если от этого меня тошнит, пусть уж тошнит меня одного.
«Этот тип такой толстый, что не видит ступенек лестницы». Поднимаю голову: парнишка, по крайней мере, дает описание. Когда эти люди описывают кого-то, это лучше, чем когда они чувствуют, ведь кто описывает, забывает про себя. Моя дурнота проходит. Вижу «этого типа». Вижу его с фотографической точностью. Благословен ветерок, овевающий мне лоб, – «этот тип» из-за толщины не видел, куда наступать на лестнице – возможно, это лестница, по которой человечество восходит через падения, нащупывая путь и толпясь в умеренном лицемерии ее наклона по эту сторону передней.
Интрига, сплетни, высокомерие, говорящее о том, чего не осмелилось сделать, удовлетворение каждого ничтожного червяка, украшенного бессознательным сознанием собственной души, грязное проявление сексуальности, насмешки, словно чесотка обезьян, страшное непонимание своего ничтожества… Все это производит на меня впечатление некоего животного, отвратительного и низкого, созданного из неразборчивых снов, из мокрой скорлупы желаний, из обглоданных остатков чувств…
Вся жизнь человеческой души – это движение в полумраке. Мы живем в сумерках сознания, никогда не будучи уверенными, что знаем, кто мы или кем мы себя воображаем. В лучших из нас живет тщеславие, мы кичимся чем-то и делаем ошибку, последствий которой не ведаем. Мы являемся чем-то, проходящим в течение одного спектакля; иногда нам смутно представляется нечто, возможно, всего лишь декорации. Весь мир – неясный, точно голоса в ночи.
Эти страницы, на которых я все регистрирую с четкостью, сохраняющейся на них, вот сейчас я их перечел и спрашиваю сам себя. Что это и зачем это? Кем я являюсь, когда чувствую? Что в себе убиваю, когда существую?
Как тот, кто с огромной высоты пытается различить жизни в долине, я себя самого рассматриваю с высоты и все же вижу пейзаж смутный и запутанный.
В эти часы бездны, разверзшейся в душе, малейшая подробность меня давит, как прощальное письмо. Чувствую себя постоянно на грани пробуждения, страдаю оттого, что я спрятан под оболочкой от самого себя в удушье выводов. Охотно закричал бы, если бы мой голос мог достичь какого-то предела. Меня постоянно томит сон, перемещающийся от одних чувств и ощущений к другим, как расположение облаков на небе, из тех, что раскрашивают в различные цвета солнца и зелени наполовину затененную траву далеко простирающихся полей.
Я как тот, кто ищет «на авось», не зная, где спрятано то, что, может быть, не существует вовсе. Играем в прятки ни с кем. Есть где-то прозрачная увертка, божество, текучее и только слышимое.
Читаю заново эти страницы, напоминающие жалкие часы, немного отдыха или иллюзий, великие надежды, уводящие к пейзажу, печали, будто комнаты, куда не войти, некие голоса, большую усталость, евангелие для письма.
У каждого есть свое тщеславие, и тщеславие каждого – это забвение того, что есть и другие с подобной душой. Мое тщеславие заключается в некоторых страницах, отрывках, неких сомнениях…
Перечитываю? Я солгал. Не осмеливаюсь перечесть. Зачем мне перечитывать? То, что там есть, – это другое. Я уже ничего не понимаю…
Пожимать плечами
Обыкновенно мы придаем нашим представлениям о неизвестном облик наших понятий об известном: если называем смерть сном, то потому, что внешне она похожа на сон; если называем смерть новой жизнью, то потому, что она отлична от жизни. Из того, что плохо понимаем в действительности, строим свои верования и надежды и питаемся корками, которые зовем пирогами, как дети бедняков, в играх представляющие себя богачами.
Но такова ведь вся жизнь; такова, по крайней мере, та система личной жизни, что принято называть цивилизацией. Цивилизация состоит в том, чтобы давать чему-то название, ему не принадлежащее, и потом мечтать о результате. И действительно, выдуманное название и настоящая мечта создают новую действительность. Объект и впрямь становится другим, потому что мы его превратили в другой. Мы сами изготовляем действительность. Материя-прима остается прежней, но форма, которую ей придало искусство, существенно отдаляет ее от ее прежнего состояния. Сосновый стол – это сосновая древесина, но это также и стол. Мы садимся за стол, а не за древесину. Любовь есть проявление сексуального инстинкта, и пусть мы любим в результате сексуального инстинкта, но предполагаем иное чувство. И предположение это является уже в самом деле, другим чувством.
Не знаю, впечатление ли, сотканное из света или неясного шума, или же воспоминание об аромате или музыке, звучащей откуда-то извне, навевает на меня прямо посреди улицы этот бред, что я записываю теперь, сидя в кофейне. Не ведаю, куда уводили меня мои мысли или куда я хотел бы их увести. Сегодня упал легкий туман, влажный и теплый, печальный без угроз, однообразный без оснований. Во мне – какое-то неизвестное, болезненное чувство; мне нужен какой-то довод, но я понятия не имею, что он должен доказать; мои нервы расслаблены. Во мне – какая-то подсознательная грусть. И я пишу эти строки, бессвязные и корявые, стремясь не сказать это или что бы то ни было, но лишь дать работу своему невниманию. Медленно, нечеткими линиями заполняю тупым карандашом – потому что недостаточно чувствителен, чтобы его очинить – белый лист из-под бутербродов, купленных в кофейне, ведь мне сойдет любой, был бы только чистым. И вот я доволен. Наклоняюсь. Вечер спадает, без дождя, унылый в своем сумеречном свете… И я прекращаю писать, потому что прекращаю писать.
Зачастую в плену колдовской поверхностности я чувствую себя человеком. И тогда дружу с радостью и существую ясно. Всплываю наверх. И мне приятно получать заработную плату и возвращаться домой. Я чувствую время, не видя его, мне нравится все природное. Если размышляю, не думаю. В такие периоды я обожаю сады.
Нечто непонятно-жалкое заложено в самой сущности городских садов – такое, что я хорошо ощущаю, когда не ощущаю самого себя. Сад – этот синопсис цивилизации – есть лишь изображение Природы. Там есть растения, но при этом аллеи остаются аллеями. Растут деревья, но под ними стоят скамейки. Планировка ориентирована по четырем концам города, в части, примыкающей к площади, скамейки бо́льших размеров, и их избыток контрастирует с небольшим количеством людей.
Меня раздражает не правильное расположение цветов на клумбах, а такое откровенное предназначение цветов – для публики. Если бы клумбы были в закрытых парках, если бы деревья росли в укромных уголках, если бы на скамейках никого не было, я бы утешался бесполезным созерцанием садов. Но городские сады, умеренно, но тем не менее посещаемые, представляются мне клетками, в которых деревья и цветы только и имеют пространство, чтобы его не иметь, место, чтобы с него не сходить, и собственную красоту – без присущей ей жизни.
Но бывают дни, когда мне кажется, что я – владелец этого пейзажа, вхожу в него, как статист в какой-то трагикомедии. В эти дни я заблуждаюсь, но, по крайней мере, бываю, в определенном смысле, счастливее. Отвлекаясь от действительности, считаю, что у меня есть настоящий дом, очаг, куда можно возвращаться. Забывая о себе, становлюсь нормальным; экономный ради неизвестной цели, чищу щеткой другой костюм и читаю газету целиком.
Но иллюзия не остается надолго – и оттого, что не остается, и оттого, что приходит ночь. И окраска цветов, и тень от деревьев, расположение аллей и клумб все изменяется и прячется. И над ошибкой, и над тем, что я ощущал себя человеком, вдруг открывается – словно дневной свет был занавесом в театре – великий сценарий звездного неба. И тогда я забываюсь в бесформенном партере и ожидаю первых актеров с беспокойством ребенка, попавшего в цирк.
Жду, освобожденный и потерянный.
Ощущаю. Остужаю свою лихорадку. Это я.
Усталость от всех иллюзий и от всего, что есть в иллюзиях: их утрата, бесполезность обладания ими, предусталость от этого обладания, ведь имеешь их только затем, чтобы утратить, боль от того, что они были, рассудочный стыд от того, что питал их, зная, что конец будет именно таким.
Осознание бессознательности жизни – самое большое страдание, навязанное разуму. Бывает разум бессознательный – сияние духа, потоки понимания, таинства и философии, столь же непроизвольные, как рефлексы, как внутренняя секреция.
Сильный дождь, сильнее, еще сильнее… Кажется, что-то обрушится сейчас в непроглядной тьме снаружи…
Вся беспорядочная громада города сегодня кажется мне равниной, дождливой равниной. Куда ни посмотришь, вдали все цве́та дождя, тускло-черного цвета.
У меня возникают странные ощущения, какие-то холодные. Сейчас мне кажется, что пейзаж состоит из густого тумана и что дома – это тоже туман, их скрывающий.
Что-то, предвещающее невроз, ощущение того, чем я буду, когда холод и дождь уже не будут леденить мне тело и душу. Что-то, словно воспоминание о моей будущей смерти, вызывает озноб, идущий изнутри. Во мгле интуиции ощущаю себя, мертвую материю, падающую под дождем, стонущую под ветром. И холод будущего бесчувствия грызет мне сердце сейчас.
Даже если бы во мне не было других добродетелей, во мне есть, по крайней мере, вечная новизна чувства освобождения.
Сегодня, спускаясь по улице Нова-ду-Алмада, я неожиданно обратил внимание на спину мужчины, спускавшегося передо мною. Это была обычная спина, которая могла принадлежать любому мужчине, спина случайного прохожего в пиджаке от скромного костюма. Левой рукой он прижимал к себе старую папку, а в правой руке держал изогнутую ручку зонтика, которым постукивал о землю в такт собственным шагам.
Внезапно на меня накатило что-то, похожее на нежность к этому человеку. Ощутил в нем самом нежность, которая чувствуется в обычной человеческой заурядности, в банальной повседневности главы семьи, идущего на работу, в его домашнем очаге, одновременно смиренном и веселом, в маленьких радостях и печалях, из которых неизбежно складывается его жизнь без анализа и раздумий, в животной природе этой одетой в пиджак спины.
Отвожу глаза от спины идущего передо мною и перевожу их на других прохожих, и меня охватывает та же абсурдная и холодная нежность, подаренная мне живущим неосознанной жизнью человеком, за которым я иду. Все это – то же самое, что и он; все эти девушки, говорящие об ателье, все эти молодые служащие, сплетничающие о своей конторе, полногрудые служанки, что возвращаются с тяжелыми покупками, эти посыльные – все это одна и та же бессознательность, отличающаяся только лицами и фигурами, как марионетки, которых дергает за веревочки рука кого-то невидимого. Они проходят со всеми своими жестами и выражениями, которые должны быть признаками сознания, но сознания-то у них нет, потому что нет осознания того, что такое иметь сознание. Одни умны, другие глупы, но все они глупы одинаково. Одни старые, другие молодые, но все одного и того же возраста. Одни – мужчины, другие – женщины, но все одного и того же пола, которого нет в природе.
Я снова устремил взгляд на спину мужчины – окно, через которое увидел все свои размышления.
Ощущение было в точности такое, какое бывает при виде спящего. Все, что спит, снова становится ребенком. Возможно, потому, что во сне нельзя причинять зло или отдавать себе отчет в своей жизни, самый закоренелый преступник, самый отъявленный эгоист оказываются посвященными, святыми в результате естественного колдовства, когда они спят. Не чувствую никакой разницы между убийством спящего и убийством ребенка.
Сейчас спина этого человека спит. Весь он, идущий передо мною, спит. Идет бессознательно. Живет бессознательно. Он спит, затем что мы все спим. Вся жизнь – это один сон. Никто не знает, что он делает, никто не знает, чего он хочет, никто не знает, что он знает. Спим свою жизнь, вечные дети Судьбы. Вот почему я испытываю, если думаю об этом ощущении, какую-то нежность, бесформенную и огромную, ко всему инфантильному человечеству, ко всей сонной социальной жизни, ко всем, ко всему.
Это истинная человечность, без выводов и целей, – чувство, захватывающее меня сейчас. Страдаю от нежности так, будто я некое божество, видящее это. Вижу их всех через призму какого-то сострадания, я, единственно сознающий среди них, бедные люди, бедняги, бедное человечество. Что все это делает здесь?
Все движения и намерения жизни, начиная с работы человеческих легких и до постройки городов и создания империй, – я считаю их все своего рода дремотой, чем-то вроде мечтаний или сновидений, возникающих непроизвольно в период между одной реальностью и другой, между одним и другим днем Абсолюта. И, словно кто-то, абстрактно родной, я склоняюсь ночью над плохими детьми, как над хорошими, общими во сне, в котором они – мои. Умиляюсь широтой взглядов, идущей от бесконечности.
То, что знаю, вызывает во мне глубокое чувство, каким я живу, – мое резкое отличие от других: большинство думает чувствами, а я чувствую разумом.
Для обычного человека чувствовать – означает жить, а думать – уметь жить. Для меня думать – это жить, а чувствовать – это не более чем пища для мысли.
Интересно, что моя недостаточная способность воодушевляться, естественно, усиливается скорее теми, кто мне противоположен по темпераменту, чем теми, что близки мне по духу. Никем не восхищаюсь в литературе более, чем классиками, которым себя не уподобляю вовсе. Если бы я должен был выбирать, читать мне Шатобриана или Виейру, я бы выбрал последнего, не раздумывая.
Чем более отличается от меня кто-то, тем более реальным он мне кажется, потому что менее зависит от моей субъективности. Именно поэтому, предмет моего исследования, прилежного и постоянного, – то самое заурядное человечество, которое я отвергаю и от которого себя отделяю. Люблю его, оттого что его ненавижу. Мне нравится его видеть, оттого что мне противно чувствовать его. Природа, восхитительная для глаз, доставляет немало неудобств для жизни.
Амьель[6] говорил, что определенный пейзаж есть соответствующее состояние души, но эта фраза – вялое счастье слабого мечтателя. Поскольку пейзаж и есть пейзаж, он перестает быть определенным состоянием души. Объективировать – значит творить, и никто не говорит, что написанная поэма – это состояние размышления над созданием этой поэмы. Видеть, возможно, означает мечтать, но раз мы называем это «видеть», а не «мечтать», значит, мы различаем понятия «мечтать» и «видеть».
Впрочем, к чему ведут эти словесные психологические спекуляции? Независимо от меня растет трава, на растущую траву падает дождь, и солнце золотит пространство, покрытое травой, уже выросшей или той, что вырастет; высятся древнейшие горы, и ветер пролетает так же, как и прежде, когда его слушал Гомер, хотя бы и не существовавший. Правильнее было бы сказать, что определенное состояние души есть определенный пейзаж; тогда бы эта фраза не заключала в себе ложь теории, но только истину метафоры.
Эти случайные слова были мне подсказаны видом огромного города в свете всеобъемлющего солнца с высоты смотровой площадки сада Сан-Педру-де-Алка́нтара. Каждый раз, когда я вот так созерцаю свободное пространство и отделяю себя от роста 170 сантиметров и веса 61 килограмм, характеризующих мое физическое тело, я улыбаюсь метафизически при мысли о мечтающих, что мечта есть мечта, и люблю истину внешнего абсолюта благородной способностью осознания.
Тежу в глубине – синее озеро, и горы на другом берегу принадлежат какой-то плоской Швейцарии. Выходит маленький кораблик – черное грузовое суденышко – со стороны Колодца Епископа, направляется в гавань, мне невидимую. Да хранят меня все боги до того часа, когда угаснет эта часть моего сознания, представление ясное и солнечное о внешней действительности, инстинкт моей незначительности, удовольствие быть маленьким и иметь возможность мыслить себя счастливым!
Когда мы достигаем высокой пустыни горных вершин, у нас возникает ощущение преимущества, привилегии. Мы становимся выше, чем вершины гор. Видимый мир оказывается у подошв наших ног. Благодаря такой позиции мы становимся его королями. Внизу все: жизнь – склон, постепенно понижающийся, равнина, лежащая перед восхождением и вершиной, которой мы являемся.
Все в нас – случайность и лукавство, и этот рост, якобы нам присущий там, отнюдь нам не присущ; мы не становимся выше на вершине. Нас возвышает именно то, что мы попираем; и мы высоки лишь по той причине, по какой стали выше.
Легче дышится, когда ты богат; становишься свободнее, если ты знаменит; принадлежать к знати – это само по себе возвышение. Все – приспособление, механизм, но приспособление – даже не наше. Мы сами поднимаемся к нему, или нас поднимают до него, или рождаемся в доме в горах.
Великим тем не менее будет тот, кто считает, что расстояние от долины до неба или от вершины горы до неба, составляет разницу, но не отличие. Если бы наводнение распространялось, лучше было бы нам находиться в горах. Но если бы божество насылало молнии, будто Юпитер, или ветры, будто Эол, укрыться лучше было бы в низине и защититься от них, пресмыкаясь.
Воистину, знающий – тот, чье тело дает возможность восхождения на горы, а разум запрещает. Он владеет всеми горами, созерцая их, всеми долинами, находясь на них. Солнце, золотящее вершины, золотит их для него сильнее, чем для того, кто страдает наверху; и высокий дворец среди лесов красивее для того, кто смотрит на него из долины, чем для томящегося в залах, служащих для него тюрьмой.
Этими размышлениями я утешаюсь, коль скоро не могу утешаться своей жизнью. И символ сливается для меня с действительностью, когда, путник душой и телом, на этих улочках, спускающихся к Тежу, вижу, как сияют ясные городские высоты, точно чужая слава, от переменчивых лучей одного солнца, которое уже погасло на западе.
Гроза
Там, где были застывшие облака, синь небес загрязнялась прозрачной белизной.
Посыльный в глубине конторы обвязывает в этот момент веревку вокруг вечного свертка… «Вот тебе и на! Помню только про одну», – комментирует он.
Холодная тишина. Звуки улицы будто обрезаны ножом. Чувствуется длительно, будто всеобщее недомогание, какое-то космическое прекращение дыхания. Вся Вселенная замерла. Мгновения, мгновения, мгновения. Мгла обуглилась от тишины.
Внезапно живая сталь…
Каким человеческим был металлический звон трамваев! Какой веселый пейзаж – простой дождь на улице, восставшей из пропасти!
О Лиссабон, моя родина!
Для того чтобы почувствовать всю радость и опасность скорости, не нужны ни быстрые автомобили, ни скорые поезда. Мне достаточно для этого одного трамвая и поразительной способности к абстрагированию, которую я в себе развиваю.
Из идущего трамвая я умею, благодаря мгновенному подсознательному анализу, отделить идею средства передвижения от идеи скорости, выделить их изо всех других предметов так, чтобы они сделались различными «реальными предметами». Затем я могу почувствовать себя едущим не внутри трамвая, но внутри его Чистой Скорости. И, прогрессируя в этом, могу, если возжажду безумия колоссальной скорости, могу довести эту идею до Чистого Понятия о Скорости и, к своему удовольствию, повышать скорость или уменьшать ее, выводя за пределы всех существующих скоростей.
Подвергаться настоящему риску, не заставляя себя испытывать страх, но не из опасения почувствовать чрезмерный ужас, а потому, что расстраиваюсь из-за чудесной обостренности моих ощущений, – это меня беспокоит и обезличивает.
Никогда не рискую добровольно. Опасности вызывают во мне страх и скуку.
Закат – это разумное явление.
Порой размышляю с удовольствием, углубляясь в самоанализ, о возможности создания в будущем особой географии нашего сознания. На мой взгляд, будущий историк свои собственные ощущения сможет превратить в специальную науку, необходимую для определения его позиции по отношению к осознанию собственной души. Ну а сейчас мы ведем поиски в самом начале в сфере этого искусства – еще искусства, химии ощущений в их пока алхимическом состоянии. Ученый из послезавтра будет обладать особой щепетильностью в отношении своей собственной внутренней жизни. Он превратит себя самого в точный инструмент ее анализа. Не вижу существенной трудности в деле изобретения точного инструмента для самопсихоанализа, подобного холодному оружию и пушкам – но в применении к разуму. Я имею в виду именно оружие – пушки и кинжалы, – но духовное. Возможно, именно так этот инструмент и должен быть сконструирован. Вероятно, надо будет разрабатывать также идею точного инструмента, видя мысленно эту идею материализованной, для проведения строгого анализа внутренней сферы. И, естественно, будет необходимо превратить также и дух в особый вид материи, совершенно реальный, как и особый вид пространства, в котором он существует. Это все зависит от предельного обострения наших внутренних ощущений, так что они, достигающие возможных пределов, без сомнения, обнаруживают или создают в нас реальное пространство, как то пространство, в котором существуют материальные предметы и которое, с другой стороны, само не имеет предметной реальности.
Не знаю даже, не будет ли это внутреннее пространство всего лишь новым измерением другого. Возможно, будущие научные исследования приведут к открытию, что все существует как различные измерения одного и того же пространства, не являющегося поэтому ни материальным, ни духовным. В одном измерении мы живем в телесной оболочке, в другом как души. И вполне может быть, что существуют еще иные измерения, где мы живем как другие реальные составляющие нас самих. Мне иногда нравится добираться с помощью бесполезного размышления до тех границ, куда эти исследования могут завести.
Может быть, откроется, что называемое нами Богом и так явно присутствующее на ином плане – вне логики и пространственно-временной действительности – есть наш способ существования, одно из наших ощущений при существовании в другом измерении. Это не представляется мне невозможным. Наши сны тоже, возможно, являются или еще одним измерением, в котором мы живем, или каким-то пересечением двух измерений; как физическое тело имеет высоту, ширину и длину, наши сны, очень может быть, живут в идеальном, во мне и в пространстве. В пространстве благодаря своему визуальному воспроизведению; в идеальном, благодаря своему представлению в другом, нематериальном виде; во мне благодаря своему интимному определению в качестве нашего. Само по себе Я каждого из нас, возможно, какое-то божественное измерение. Все это сложно и в свое время, без сомнения, будет определено. Сегодняшние мечтатели являются, вполне вероятно, великими предвестниками окончательной науки будущего. Конечно, я не верю в какую-то окончательную науку будущего. Но это не имеет никакого отношения к данному случаю.
Иногда я создаю такие метафизические идеи с вниманием, скрупулезным и почтительным, как тот, кто поистине работает и творит науку. Я уже сказал: быть может, она действительно создается. Главное – я не слишком горжусь этим, склонный думать, что гордость вредна для пунктуального беспристрастия, необходимого науке.
Много раз для того, чтобы развлечься, ибо ничто так не развлекает, как науки или им подобные вещи, используемые легкомысленно, я нацеливаю себя на тщательнейшее изучение собственной психики через ее оценку другими. Эта легкомысленная тактика иногда вызывает во мне печаль, а порой отзывается болью.
Обычно я стараюсь изучить общее впечатление, которое произвожу на других, делая выводы. Вообще, я – создание, кому симпатизируют, кому симпатизируют даже с неосознанным и заинтересованным уважением. Но я не возбуждаю в людях сильных симпатий. Никто никогда не будет моим близким другом. Поэтому столько людей могут меня уважать.
Бывают ощущения, подобные снам, они окутывают, подобно туману, все пространство духа, не позволяют думать, не позволяют действовать, не позволяют существовать ясно. Словно мы не полностью во власти сна, но в нас сохраняется какая-то его часть и присутствует оцепенение солнца, согревающее застойную поверхность чувств. Это опьянение от того, чтобы не быть ничем, и желание – ведро, которое опорожнили с порога дома, вылив воду в сад.
Смотрит на себя, но себя не видит. Длинная улица, вся в движении человекообразных червей, – это своеобразная вывеска, только лежащая, где буквы были бы мебелью и не продуцировали бы ощущений. Дома – это только дома. Теряется возможность проявить какое-то чувство по поводу увиденного, но ничто не мешает хорошо видеть то, что есть.
Продавец тары колотит в дверь, и удары его молотка звучат с какой-то непосредственной странностью. Звучат, четко отделенные друг от друга, каждый удар сопровождается эхом, но никакой пользы от этого нет. Шум повозок напоминает грозовой день. Голоса рождаются из воздуха, а не из человеческих гортаней. В своей глубине эта река очень устала.
То, что чувствуется, – не скука. То, что чувствуется, – не боль. Даже не усталость – то, что чувствуется. Это какое-то желание быть во сне другой личностью, забыв об увеличении оклада. Не чувствуется ничего, небытие, какой-то автоматизм здесь, внизу, какие-то ноги, которые должны нас носить и ступать по земле, ступни, чувствуемые внутри ботинок. Может быть, чувствуется не это. Какое-то сжатие изнутри головы, вокруг глаз, и – будто пальцы – в ушах.
Это похоже на лихорадку души. И с литературным изображением болезни рождается желание, чтобы жизнь была бы выздоровлением, без движения; и идея выздоровления воскрешает в памяти сады в пригородах, но в глубине, там, где родные края, далеко от улиц и от колес. Да, не чувствуется ничего. Случается проходить сознательно, во сне, только от невозможности дать телу другое направление, мимо двери, куда надлежало войти. Проходит все. А где твой бубен, о неподвижный медведь?
Легкий, словно зарождающийся, запах моря, принесенный бризом, парил над Тежу и распространялся загрязнением вплоть до улицы Байша. Все это вызывало тошноту в холодном оцепенении тепловатого моря. Жизнь я ощущал желудком, и обоняние превратилось для меня во что-то такое, существующее позади глаз. Высокие, нигде не останавливающиеся редкие облака, завитки серого, обрушивающиеся в ложно-белое. Предательское небо дышало угрозой, как неслышная гроза, созданная только из воздуха.
Застой ощущался даже в полете чаек; они представлялись чем-то легче воздуха, чем-то оставленным в нем каким-то существом. Ничто не вызывало удушья. Вечер спускался среди нашего непокоя; воздух свежел скачками.
Мои жалкие надежды, что у меня есть, выходы из жизни, что у меня должны быть! Они такие же, как этот час и этот воздух, туманы без тумана, порванные наброски ложного страдания. Хочу кричать, чтобы покончить с пейзажем и с размышлением. Но запах моря остается в моем намерении, и отлив обнаружил и оставил во мне эту топкую черноту, ту, что там, снаружи, я не вижу ее, но чувствую по запаху.
Такая непоследовательность в желании быть самодостаточным. Такой сознательный сарказм предполагаемых ощущений! Такие козни души с ощущениями, козни размышления с воздухом и рекой, для того чтобы сказать, что жизнь делает мне больно через обоняние и через сознание, чтобы не уметь сказать, как в простой и такой полной фразе из книги Иова: «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих»![7]
Болезненный промежуток
Все меня утомляет, даже то, что меня не утомляет. Моя радость столь же мучительна, как и боль.
Стать бы ребенком, пускающим бумажные кораблики в усадебном пруду со старинным балдахином из переплетенных виноградных лоз, кидающим шахматные клеточки света и зеленой тени на замутненное зеркало неглубокой воды.
Между мною и жизнью – тонкое стекло. Для того, чтобы четче видеть и понимать жизнь, мне нельзя его касаться.
Размышлять о моей грусти? Зачем, если размышление – это усилие, тот, кто печален, не может напрягаться.
Я даже не отказываюсь от тех банальных жестов жизни, от коих я так хотел отречься. Отрекаться – это усилие, и моя душа не может позволить мне напрягаться.
Сколько раз я огорчался, что я – не моряк с того судна, не кучер того экипажа! не любой заурядный предполагаемый Другой, чья жизнь, не будучи моей, превосходно проникает в меня так, что я ее хочу, и проникает в меня, делая меня самого ею!
Я не боялся жизни, будто какой-то Вещи. Понятие о жизни, как обо Всем, не давила непомерным грузом на плечи моего размышления.
Мои мечты – это глупое убежище, будто зонтик против молнии.
Я – такой вялый, такой жалкий, так неловко двигаюсь и действую.
Как бы я ни прятался, тропинки моих мечтаний неизбежно ведут к полянам печали.
Но, хотя я мечтаю часто, бывают периоды, когда мечты от меня бегут. Тогда окружающее предстает передо мной во всей четкости. Рассеивается туман, которым я себя окружаю. И все видимые углы ранят плоть моей души. Всякая очевидная жестокость причиняет мне боль, оттого что я узнаю эту жестокость в себе. Все видимые грузы давят на мою душу.
Я живу так, словно меня бьют моей жизнью.
Слышен шум повозок на улице, звуки четкие, медленные, под стать, как мне кажется, моей сонливости. Сейчас время обеда, но я остался в конторе. День теплый, легкие облачка. В шуме слышится – причиной тому может быть моя сонливость – то же самое, что ощущается в этом дне.
Вечерний бриз овевает мой лоб мимолетной нежной лаской и проясняет мое сознание. Знаю только, что скука, от которой я страдаю, на мгновение приспособилась ко мне, как платье, которое перестало задевать рану.
О, эта восприимчивость, когда для пусть и кратковременного покоя довольно легкого движения воздуха! Но такова человеческая чувствительность, и вряд ли неожиданное богатство или нечаянно подаренная улыбка значат для кого-то больше, чем для меня в этот момент значило краткое дуновение бриза.
Я могу думать о сне. Могу мечтать о мечтах. Вижу яснее всеобщую объективность. Использую с бо́льшим комфортом внешнее чувство жизни. И все это только потому, что я ощутил всей кожей оживляющее прикосновение порыва ветерка.
Все, что мы любим или теряем, – вещи, живые существа, смыслы – касается нашей кожи и так достигает нашей души, и это не является, в Боге, чем-то большим, чем бриз, ничего мне не принесший, кроме чаемого облегчения, благоприятного мгновения и возможности с блеском все потерять.
Вихри, водовороты в текучей пустоте жизни! На большой площади в центре города разноцветная людская река течет, отклоняется в сторону, образует лужи, притоки и ручьи. Мой взгляд скользит, и я строю внутри себя это водянистое изображение, что лучше любого другого, и, думая, что идет дождь, приспосабливаюсь к этому неясному движениям.
Записывая эту последнюю фразу, которая для меня говорит именно то, что она определяет, я подумал, что при публикации моей книги было бы правильно поставить в конце ее после строки «Опечатки» строку «Не опечатки» и добавить: фраза «к этому неясному движениям» на такой-то странице должна звучать именно так, – с прилагательным в единственном числе и существительным во множественном. Но как это связано с тем, о чем я думал? Никак, и поэтому я перестаю думать об этом.
Вокруг площади ворчат и звенят трамваи, похожие на спичечные коробки, большие и желтые, в которые кто-то наклонно воткнул сгоревшую спичку; убегая, свистят провода. Возле статуи голуби кажутся движущимися черными крошками, разбросанными ветром. Расхаживают мелкими шажками, жирные, на коротких ножках.
Если смотреть вблизи, все люди однообразно различны. Виейра говорил, что брат Луиш де Соуса писал «о заурядном – необычайно». Эти люди – «единично – однообразны», в противоположность стилю «Жизни архиепископа».[8] Это вызывает во мне жалость, но я остаюсь тем не менее равнодушным. Я приходил сюда без особой причины, как делал все в этой жизни.
С востока кажется, что город поднимается навстречу отвесно, неподвижно штурмуя Замок. Бледное солнце окружает смутным ореолом эту неожиданную громаду домов, скрывающую его. Небо синего цвета, увлажненного белесым. Вчерашний дождь, возможно, повторится сегодня, но будет слабее. Ветер, похоже, восточный, ведь именно здесь внезапно пахнуло спелостью и зеленью от близкого рынка. На восточной стороне площади больше чужестранцев, чем на противоположной. Как заглушенные коврами залпы, волнистые двери опускаются вверх; не знаю отчего, но именно эту фразу навевает мне тот звук. Может быть, потому, что этот звук более присущ спуску, хоть сейчас они и поднимаются. Все объяснилось.
Вдруг обнаруживаю, что я – один в мире. Вижу все это с высоты некой мысленной крыши. Я – один в мире. Видеть – это быть отдаленным. Видеть ясно – это остановиться. Анализировать – это быть чужим. Люди проходят, не задевая меня. Вокруг меня – только воздух. Чувствую себя в такой изоляции, что кажется мне, что даже между мной и моим платьем тоже существует расстояние. Я – ребенок с еле-еле горящим канделябром, пересекающий в ночной рубашонке огромный пустынный дом. Живут тени, окружающие меня, – только тени, порождения неподвижной мебели и света, сопровождающего меня. Они меня окружают, здесь, на солнце, но они – люди. И они – тени, тени…
Я размышлял сегодня, отдыхая от ощущений, мыслил в форме пустословия, как обычно. Все было так, как я пишу? Подобно многим, я имел извращенное желание – выработать систему и норму. Ясно, что я прежде написал о норме и о системе; вот в этом я не отличаюсь от других.
Вечером, погрузившись в самоанализ, обнаруживаю, что в основе системы моего стиля письма лежат два принципа, и сразу же, в духе настоящих классиков, выдаю эти два принципа за суть всего стиля: говорить о том, что чувствуется точно так же, как это чувствуется, – ясно, если это ясное; неясно, если это неясное; запутанно, если это запутанное – ;[9] понимать, что грамматика – только инструмент, а не закон.
Давайте предположим, что я вижу стоящую перед нами девушку с мужскими чертами. Обычное человеческое существо скажет о ней: «Та девушка похожа на парня». Другое обычное человеческое существо, но подошедшее ближе к сознанию, что говорить – это сказать, скажет о ней: «Та девушка – это парень». А третий, тоже сознающий обязательность определенных оборотов речи, но любящий краткость – сладострастие мышления – скажет о ней: «Тот парень». Я скажу: «Та парень», нарушая самые элементарные правила грамматики, требующие согласования в роде и числе между существительным и прилагательным. И будет сказано хорошо; я буду говорить об абсолюте, фотографически, без вульгарности, невзирая на нормы, без повседневности. Не буду говорить: будет сказано.
Грамматика, определяя употребление слов, производит разделения законные и ложные. Разделяет, например, переходные и непереходные глаголы; однако человек, умеющий говорить, во многих случаях вынужден превращать непереходный глагол в переходный, чтобы фотографически точно описать свои ощущения, а не, как большинство людей-животных, видеть неясно. Если я захочу сказать, что существую, скажу: «Я существую». Если захочу сказать, что существую как отдельная душа, скажу: «Существую я». Но если я захочу сказать, что существую как существо, собою управляющее и себя формирующее, выполняющее божественную функцию творить себя самого, как я буду использовать глагол «существовать», если не перевести его в переходный? И тогда триумфально, наперекор грамматике, божественно, я скажу: «Я существую себя». Мной будет высказана суть некой философии в этих кратких словах. Не лучше ли сказать так, чем фактически ничего не сказать на протяжении сорока фраз? Чего еще можно требовать от философии и от слова?
Подчиняется грамматике кто не умеет мыслить над тем, что чувствует. Пользуется ею кто умеет руководить своими выражениями. Рассказывали о Сигизмунде,[10] владыке Рима, что во время публичного выступления он допустил грамматическую ошибку и так ответил человеку, указавшему ему на нее: «Я – повелитель Рима, я выше грамматики». И история говорит, что он остался в ней как Сигизмунд, «что выше грамматики». Удивительный символ! Каждый человек, умеющий сказать то, что говорит, есть, в некотором роде, повелитель Рима. Титул императорский и основание для титула – тоже царственное.
Обращая иной раз внимание на многочисленные литературные труды или хотя бы на законченные вещи, обширные и полные, написанные людьми или мне известными, или теми, о ком я слышал, чувствую в себе неясную зависть, презрительное восхищение, бессвязную смесь перепутанных чувств.
Создание любой вещи целой, полной, плохая она или хорошая – и, если она никогда не бывает целиком хорошей, то в большинстве случаев и не целиком плохая, – да, создание чего-то полного, законченного, пожалуй, вызывает у меня в большей степени зависть, нежели любое другое чувство. Это как ребенок: он несовершенен, как и все человеческие существа, но он – наш, потому что он – наше дитя.
И я, кому дух самокритичности позволяет видеть лишь дефекты, ошибки, я, не отваживающийся писать ничего, кроме фрагментов, кусков, отрывков из несуществующего, я сам, в том немногом, что я пишу, несовершенен также. Большего стоило бы, конечно, или цельное произведение – ведь даже если оно плохое, это все же произведение, – или отсутствие слов, полное безмолвие души, признающей свою неспособность к действию.
Я думаю, не будет ли все в жизни вырождением всего. Живое существо не будет каким-то приближением, но – вечером или пригородом…
Так же как Христианство не было ничем, кроме пророческого вырождения униженного неоплатонизма, превращения эллинизма в иудаизм, к коему причастны римляне, так наша эпоха… – это многообразное отклонение от всех больших намерений, совпадающих или противоречащих друг другу, чей крах определил появление той суммы отрицаний, в которых мы утверждаемся.
Проживаем библиофилию для неграмотных, антракт с оркестром.
Но что у меня есть на этом пятом этаже со всеми этими социологиями? Все это «есть мне мечта», как вавилонские царевны, и посвящать себя гуманности – пустое, пустое – какая-то археология настоящего.
Я спрячусь в туман, как чужой всему, человеческий остров, освобожденный от мечты о море, корабль с бесполезным существом на поверхности всего сущего.
Метафизика мне всегда кажется длительной формой существования потенциального безумия. Если бы мы знали истину, смотрели бы на нее; все остальное – это блуждания вокруг да около. Достаточно нам, если подумать, непознаваемости вселенной; желать познать ее – это быть меньше чем людьми, ведь быть человеком – это знать, что не познается.
Принесли мне веру, как закрытый пакет на чужом подносе. Хотели, чтобы я его принял, не открывая. Принесли мне науку, как нож на блюде, чтобы я разрезал им листы книги с чистыми страницами. Принесли мне сомнение, как пыль внутри какой-то коробки; но зачем принесли мне коробку, если там нет ничего, кроме пыли?
За неумением большего пишу; и использую огромные пределы Истин, согласно требованиям эмоций. Если эмоция чиста и неизбежна, говорю, естественно, о богах и, таким образом, включаю ее в представление о многообразном мире. Если эмоция глубока, говорю, естественно, о Боге и, таким образом, ее вставляю в сознание о едином. Если эмоция – это мысль, говорю, естественно, о Судьбе и, таким образом, позволяю ей протекать в собственном ложе, как некой реке.
Порою собственный ритм фразы потребует Бога, а не богов; в других случаях будут настоятельно необходимы два слога в слове «боги», и я меняю их вербально на вселенную; в иных случаях будет иметь вес, наоборот, необходимость точной рифмы, смещение ритма, неожиданный всплеск эмоций, и соответственно я выбираю политеизм или монотеизм. Боги есть некая функция стиля.
Где находится Бог, даже если не существует? Я хочу молиться и плакать, каяться в грехах, которых не совершал, наслаждаться прощением, как лаской, пусть и не материнской.
Подол, чтобы в него уткнуться и плакать, но подол громадный, бесформенный, просторный, как летняя ночь, и при этом близкий, горячий, женственный, рядом с горящим очагом – любым… Иметь возможность выплакать немыслимые вещи, какие-то неудачи, отсутствие чего-то, о чем я не знаю, ласки чего-то несуществующего, огромные сомнения, страшащиеся какого-то неизвестного будущего…
Новое детство, снова старая няня, маленькая постелька, где я засну среди сказок, что убаюкивают, едва их услышишь, с ослабевающим вниманием, среди опасностей, грозящих золотокудрым юношам… И все это – очень большое, очень вечное, определенное раз и навсегда единой фигурой Бога, там, в глубине, сонной и грустной, последней реальности Вещей…
Родная грудь, или колыбель, или горячая рука, обнимающая меня за шею… Какой-то голос, тихо напевающий, и, кажется, он хочет заставить меня плакать… Треск поленьев в очаге… Тепло зимой… Вялое заблуждение моего сознания… И затем, беззвучно, спокойная мечта в безмерном пространстве, как луна, плывущая среди звезд…
Когда я откладываю в сторону мои искусства и убираю в угол с ласковой осторожностью, с желанием расцеловать их, мои игрушки, слова, образы, фразы – становлюсь таким маленьким и безобидным, таким одиноким в этой огромной комнате, и таким грустным, таким непостижимо грустным!..
В конце концов, кем же я являюсь, когда не играю? Бедным сиротой, покинутым на улицах Ощущений, дрожащим от холода на углах Реальности, вынужденным спать на ступенях Печали и есть хлеб, что мне дала Фантазия. О моем отце я знаю немного – только имя; говорили мне, что его звали Богом, но это имя не наводит меня ни на какую мысль. Иногда, ночью, когда я чувствую себя одиноким, я зову его и плачу, и сам выдумываю его образ, который мог бы любить… Но потом вспоминаю, что не знаю его, что, возможно, он совсем не таков, возможно, никогда не существовал этот отец моей души…
Когда окончится все это, эти улицы, на которых я влачу свою нищету, и эти ступени, где я съеживаюсь от холода и чувствую под своими лохмотьями руки ночи? Если бы однажды Бог пришел искать меня и унес бы меня в свой дом и дал бы мне тепло и свою любовь… Порой я думаю об этом и плачу от радости думать, что я могу об этом думать… Но ветер ползет по улице снаружи, и листья падают там, где он гуляет…Поднимаю глаза и вижу звезды, в которых нет никакого смысла… И из всего этого остаюсь только я, бедный, покинутый ребенок, кого никакая Любовь не захочет взять в приемные сыновья, никакая Дружба – сделать своим товарищем по играм.
Мне слишком холодно. Я так устал в своей заброшенности. О Ветер, иди искать мою Мать. Унеси меня в Ночь, в дом, которого я не знал… Возврати мне, о огромное Безмолвие, мою няню, и мою колыбель, и мою колыбельную песню…
Распознать в реальности определенную форму иллюзии, а в иллюзии – одну из форм реальности, все это одинаково необходимо и одинаково бесполезно. Созерцательная жизнь, чтобы существовать, должна воспринимать объективные несчастные случаи как предпосылки непостижимого завершения и учитывать возможности мечты, внимание к которым делает нас созерцателями.
Любая вещь, сообразно тому, чем она себя считает, является чудом или препятствием, всем или ничем, путем или беспокойством. Обдумывать ее каждый раз по-новому – это, обновляя, множить ее. Именно поэтому созерцательный дух, никогда не покидавший своей деревни, имеет в своем распоряжении всю вселенную. В келье или в пустыне живет бесконечность. Дремлет космически в камне.
Есть тем не менее обстоятельства размышления – и все размышляющие к ним приходят, – в которых все израсходовано, все старо, все уже увидено, пусть даже еще доступно взгляду. Потому что, чем более мы размышляем о чем бы то ни было и своими размышлениями изменяем его, оно никогда не превращается в нечто лишенное субстанции для размышления. Тогда нас настигает тревога от жизни, от узнавания, не дающего знания, от обдумывания с помощью чувств или размышления, путем осязания или ощущения – изнутри исследуемого объекта, словно мы вода, а он – губка. Тогда мы снова погружаемся в ночь, и усталость от эмоций углубляется тем, что они становятся эмоциями мышления, глубокими изначально. Но это ночь без отдыха, без лунного света, без звезд, ночь, будто вывернутая наизнанку – бесконечность, сделавшаяся внутренней и тесной, день, ставший черной подкладкой какой-то неизвестной одежды.
Гораздо лучше, да, гораздо лучше всегда быть человеческим ничтожеством, любящим и не знающим ничего, пьяницей, отвратительным, но не ведающим об этом. Не ведать, как жизнь! чувствовать, как забвение! Как эпизоды, закрученные зелено-белой кильватерной струей идущих судов, как холодный плевок под высоким рулем, выполняющим функцию носа между глазами кают!
Быстрый взгляд с поля, поверх окрестностей, освобождает меня более полно, чем целое путешествие освободило бы другого. Каждая точка зрения – это вершина перевернутой пирамиды, чье основание неопределимо.
Было время, когда меня раздражали вещи, сегодня вызывающие улыбку. И одна из таких вещей, я почти каждый день о ней вспоминаю, это настойчивость, с которой люди повседневности, деятельные и энергичные, насмехались над поэтами и художниками. Причем не всегда с чувством превосходства, как полагают газетчики, а зачастую с нежностью. Но всегда со снисходительностью взрослого к ребенку.
Это раздражало меня раньше, потому что я предполагал, как все наивные, а я и был тогда наивным, что эта насмешка над вниманием к мечте и к речи диктуется ощущением превосходства. Нет, это всего лишь треск от столкновения с отличным от большинства. И если прежде я считал эту насмешку обидой, ведь мне казалось, что там присутствует гордыня превосходства, сегодня я считаю ее бессознательным сомнением; как взрослые люди часто распознают в детях дух превосходства над взрослыми, так и в нас: другие распознают, в нас тех, кто мечтает и говорит о своих мечтах, нечто отличное от себя и вызывающее недоверие своей чуждостью. Мне представляется, что довольно часто более разумные из них смутно различают наше превосходство; и тогда их высокомерная усмешка скрывает то, что они его заметили.
Но наше превосходство состоит не в том, в чем видят его многие мечтатели. Мечтатель вовсе не оттого превосходит человека деятельного, что мечта выше реальности. Превосходство мечтателя состоит в том, что мечтать – гораздо практичнее, чем просто жить, и в том, что мечтатель извлекает из жизни удовольствие, гораздо более полное и разнообразное, чем человек деятельный. В лучших и более непосредственных словах мечтатель таков же, как и человек деятельный.
Жизнь, по существу, – психическое состояние, и все, что мы делаем или о чем мыслим, значимо для нас в зависимости от нашей собственной оценки. Какая мне разница, что бумажные деньги моей души никогда не будут обменены на золото, если и нет никакого золота у притворной алхимии жизни? После нас придет потоп, но только после нас всех. Лучшие и более счастливые – те, кто, осознав фикцию всего существующего, создают роман прежде, чем он успевает создать их и, как Макиавелли, надевают одежды придворных, чтобы тайно писать прекрасные вещи…
(наши детские игры с бумажными катушками и пр.)
Я никогда ничего не делал, только мечтал. Это было – только это и было – смыслом моей жизни. Никогда не имел серьезного беспокойства ни о чем другом, кроме моей внутренней жизни. Самые большие страдания в моей жизни смягчаются, когда, открыв окно на улицу моей мечты, я забываюсь, наблюдая за движением.
Никогда я не стремился стать никем, кроме как мечтателем. Я никогда не прислушивался к тем, кто мне говорил о жизни. Стремился всегда к тому, чего не было там, где я был, и к тому, что, невозможно вообще. Все, что не является моим, как бы низко оно ни было, для меня всегда было овеяно поэзией. Я никогда не любил ничего, за исключением чего-то несуществующего. Никогда не желал ничего, кроме того, чего и вообразить себе не мог. Ничего не просил от жизни, кроме того, чтобы она просто проходила мимо, а я не ощущал бы ее движения. От любви я требовал только одного: навсегда оставаться далекой мечтой. В моих собственных воображаемых пейзажах меня неизменно привлекало далекое, и акведуки, исчезавшие, едва приблизившись ко мне, обладали сладостью мечты в сравнении с другими деталями пейзажа – сладостью, заставлявшей меня полюбить их.
Моя мания творить поддельный мир мне по-прежнему сопутствует и покинет меня только с моей смертью. Я не выстраиваю сегодня в своей детской повозок из крученых ниток или шахматных пешек – например, какого-то епископа или коня, случайно попавшихся мне на глаза, – но до сих пор сожалею об этом… А выстраиваю в воображении, словно расположившись с уютом у камина, фигуры, постоянно обитающие в моем внутреннем мире. Целая вселенная друзей существует во мне, друзья с собственными судьбами, реальными, определенными и несовершенными.
Одни преодолевают препятствия, другие ведут богемный образ жизни, яркий и жалкий. Третьи – бродячие торговцы (участь бродячего торговца всегда была предметом одного из моих самых горячих стремлений, невыполнимых, к сожалению!). Четвертые живут в деревнях и маленьких городках, там, на границах некой моей собственной Португалии; приезжают в город, где порою я их встречаю и узнаю, взволнованно раскрывая им объятия… И, когда я мечтаю так, расхаживая по моей комнате, говоря вслух, жестикулируя… когда мечтаю так и вижу себя встречающим их, я исполняюсь радостью, сам себя осуществляю, перепрыгиваю через себя, глаза мои блестят, я открываю объятия, я счастлив, и счастье мое огромно, действительно, несравненно.
Ах, нет тоски более болезненной, чем тоска по вещам несуществовавшим! Что я чувствую, когда думаю о реальном прошлом, когда оплакиваю труп моего ушедшего детства… даже это не достигает уровня той болезненной горячности и дрожи, с какими я плачу над жалкими фигурами из моих мечтаний, теми самыми вторичными фигурами, которых увидел случайно, в своей псевдожизни, поворачивая за один из углов моей галлюцинации, проходя через ворота на одну из улиц, по которой поднялся, идя вдоль этой мечты.
Бешенство оттого, что тоска никогда не может оживить и снова воздвигнуть что-то – это такая жалоба на Бога, сотворившего невозможность; мне больно, когда я думаю, что мои друзья из мечты, с которыми я прошел через столько обстоятельств предполагаемой жизни, с которыми провел столько часов в интеллектуальных беседах в воображаемых кофейнях, не принадлежали на самом деле ни к какой реальности, независимой от моей фантазии! О, мертвое прошлое, которое я несу с собой, которое никогда не существовало отдельно от меня! Цветы из сада вокруг маленького придуманного мною домика в полях! Огороды, фруктовые сады, сосновый бор из усадьбы, расположенной только в моих мечтах! Мои воображаемые пребывания на даче, мои путешествия по полю, которого никогда не было! Деревья у края дороги, тропинки, камни, проходящие крестьяне… все это, никогда не переходившее границ мечты, вырезано в моей памяти и причиняет боль, так что я, часами, мечтавший о них, потом провожу часы, вспоминая о своих мечтах, и это – настоящая тоска, прошлое, какое я оплакиваю, жизнь-в-реальности, какую я проживал, уже мертвая, торжественная в своей усыпальнице.
Не все пейзажи и судьбы суть целиком плоды моего воображения. Некоторые картины, лишенные особой художественной выразительности, некоторые гравюры, висевшие на стенах, в которых я проводил многие часы, переходили в действительность внутри меня. Там ощущение было другим, острее и печальнее. Меня жгла невозможность оставаться там, с ними, реальными они были или нет. Это был не я, – по крайней мере, та лучше других очерченная фигура у леса в лунном свете, изображенная на маленькой гравюре, в комнате, где я спал, уже не будучи ребенком! Я не мог думать, что был там спрятан, в прибрежном лесу, в том вечном лунном свете (хотя и едва намеченном на гравюре), при виде мужчины, проходящего на лодке внизу, под склоненной ивой! Здесь мне больно оттого, что я не могу полностью уйти туда, в эти мечты. Черты моей тоски были другими. Проявления моего отчаяния тоже. Невозможность, мучившая меня, была беспокойством иного порядка. Ах, не имеет ли все это единого значения в Боге, единой реализации в соответствии с духом моих желаний в каком-то вертикальном времени, объединенном в одну сущность с направлением моей тоски и моей мечты! Не иметь, хотя бы только для меня одного, рая, созданного из всего этого! Не иметь возможности встретить друзей, о которых мечтал, пройти по улицам, которые сам создал, просыпаться среди криков петухов и кур, под утренние звуки дома, домика в полях, в котором я себя воображал… и все это, более совершенно устроенное Богом, организованное в совершенном для существования порядке, отлитое в нужную мне форму, ведь мои собственные мечты не могут достичь такого совершенства за отсутствием достаточных для сохранения этих реальностей размеров внутреннего пространства…
Поднимаю голову над листом, на котором пишу… Еще рано. Только-только миновал полдень, и сегодня воскресенье. Зло жизни, болезнь быть существом сознающим входит в мое тело и приводит меня в замешательство. Нет островов для неудобных, для невстречаемых другими, для уединенных в мечтании! Надо жить и хоть как-нибудь действовать; надо касаться людей, хотя бы потому, что они существуют, другие люди, они реальны в этой жизни! Надо присутствовать здесь и писать это, ведь для моей души это необходимо, и даже не иметь возможности только мечтать об этом, выражать это без слов, бессознательно воссоздавая себя в музыке и моделировании, и оттого, что я чувствую, как выражаю себя, на мои глаза навернулись бы слезы, и я струился бы, как заколдованная река, медленными поворотами меня самого, каждый раз ближе к бессознательному и Дальнему, не чувствуя ничего, кроме присутствия Бога…
Во мне интенсивность ощущений всегда была меньше, чем интенсивность их ощущения. Страдал я больше от сознания, что я страдаю, чем от самого страдания.
Жизнь моих эмоций изменилась в своих истоках, повернув к средоточию мышления, и там я свободнее проживал эмоциональное знание жизни.
И как мышление, когда дает пристанище эмоции, становится требовательнее ее, уклад сознания, при котором мне случалось переживать то, что я чувствовал, делал меня более обыденным, более ощущающим, более ласкающим в своей манере чувствовать.
Размышляя, я создавал из себя эхо и пропасть. Множил себя, углубляя себя. Самый незначительный эпизод – изменение освещения, вращающееся падение сухого листа, лепесток, пожелтевший и опадающий, голос за стеной и шаги говорящего вместе с шагами того, кто должен его слушать, полуоткрытые ворота старой усадьбы, внутренний двор, открывающий в проеме арки дома, слитые в лунном свете, – все эти вещи, не имеющие ко мне отношения, захватывают мое чувственное мышление, связывая его узами резонанса и ностальгии. В каждом из этих ощущений я – другой, я болезненно обновляю себя в каждом неопределенном впечатлении.
Живу впечатлениями, не относящимися ко мне, растратчик отречений, другой в самой манере быть собою.
Жить – это быть другим. Невозможно чувствовать, если сегодня чувствуется, как чувствовалось вчера: чувствовать сегодня то же, что чувствовал вчера, – это не означает чувствовать, но вспоминать сегодня, что чувствовалось вчера, быть сегодня живым трупом того, кто вчера был потерянной жизнью.
Стирать все со сцены одного дня, переходя к другому, быть новым с каждым новым рассветом, с постоянной девственностью эмоций – этим и только этим стоит обладать или быть этим, для того, чтобы быть тем или иметь то, чем мы так несовершенно являемся.
Этот рассвет – первый рассвет мира. Никогда этот цвет розы, желтеющей до горячего белого цвета, не запечатлевался так на фасадах домов, что смотрят застекленными очами, в лицо тишины, приходящей с растущим светом. Никогда не было этого часа, ни этого света, ни этого моего существа. Завтра, что было, будет другим, и что я вижу, будет видеться заново созданными глазами, полными новыми видениями.
Высокие горы города! Большие композиции, которые крутые склоны поддерживают и возносят, скольжение зданий, нагроможденных разнообразно, которые свет сплетает из теней и пожаров – вы являетесь сегодня, являетесь мною, потому что я вас вижу, вы – то, чем не будете завтра, и я люблю вас, будто смотрю на вас с борта судна, проходящего мимо другого судна, и сам являюсь этим кораблем, и есть пути, не знающие ностальгии.
Я остаюсь неизвестно сколько часов, сколько непрерывных бессвязных моментов – в том же путешествии, там же, где был ночью, на пустынном побережье моря. Все мысли, какими жили и живут люди, все чувства, какие люди переживали и которые угасали в них, проходят через мою память, как сумрачный итог истории, в этом моем раздумье, проходящем по берегу моря.
Страдаю внутри себя, сам с собою, стремлениями всех эпох, и со мною прогуливаются по шепчущему побережью тревоги и непокой всех времен. То, что люди хотели и не сделали, то, что убили, чем были их души, чего никто не высказал, – из всего этого образовалась некая чувствительная душа, обладая ею, и прогуливался я ночью по побережью моря. И то, чего чуждались любовники в своих партнерах, что жена скрывала от мужа, что мать думала о сыне, которого у нее не было, то, что обретало форму только в улыбке или в какой-то возможности, во времени, что не было этим, или в чувстве, какого не хватало, – все это в моей прогулке по побережью было со мной и вернулось со мной, и волны извивались шумным аккомпанементом, заставлявшим меня видеть его во сне.
Мы – те, кем мы не являемся, и жизнь коротка и печальна. Звук, производимый волнами ночью, – это звук самой ночи; и сколько людей слышали его в собственной душе, как постоянную надежду, растворяющуюся в темноте с глухим звуком убегающей пены! Какими слезами плакали достигавшие своего, сколько слез пролили добившиеся! И все это секрет ночи и доверия бездне возвратил мне во время прогулки по побережью. Сколько нас! Сколько нас обманывается! Какие приливы звучат в нас в ночи, где мы пребываем, на побережьях, которые мы ощущаем во время разливов чувств!
То, что потерялось, то, что должно было быть желанным, то, что было достигнуто и удовлетворено по ошибке, что мы любили и потеряли; потеряв, увидели и полюбили, оттого что потеряли то, чего прежде не любили; то, что мы считали размышлениями о чем-то, а это было чувством; что было воспоминанием, а мы верили, что это было чувство; и все море, приходящее туда, шумное и свежее, из бездонной глубины всей ночи, что кипит чутко на побережье, в ночном течении моей прогулки по морскому побережью…
Кто знает хотя бы, о чем думает или чего желает? Кто знает, кем он является для себя самого? О скольких несуществующих и неосуществимых вещах напоминает музыка! Сколько никогда не бывшего нам напоминает ночь, и мы плачем! Как будто голос покоя взрывается завитком волны и слышится громкий плевок со стороны невидимого вдали берега.
Как умру, если чувствую все это? Как чувствую, если вот так брожу – бестелесный и все же человек – с остановившимся сердцем, как это побережье и как все море всего той ночью, в которой мы живем!
Вижу пейзажи моей мечты с той же ясностью, что и реальные. Склоняюсь над моими мечтами, как бы склонившись над любым другим предметом. Видя, как проходит жизнь, погружаюсь в мечтания.
О ком-то сказали, что для него фигуры из снов имеют ту же выразительность и четкость, что и фигуры из жизни. Если бы подобное сказали обо мне, я бы это опроверг. Фигуры из снов для меня не являются такими же, как в жизни. Они параллельны. Каждая жизнь – та, что из наших сновидений, и та, что действительно существует, – реальна, подобно другим, но и по-своему, отличаясь от других. Это как предметы близкие и дальние. Фигуры из сновидений – ближе ко мне, но…
Настоящий мудрец – тот, кто минимально подвержен влиянию внешних событий. Для этого надо покрывать себя броней, окружать реальностями, более близкими тебе, чем факты, только через них факты, изменяясь, согласуются с этими реальностями, достигают тебя.
Проснулся сегодня очень рано в каком-то непонятном порыве и медленно поднялся с постели с чувством удушья от необъяснимой скуки. Ни одно сновидение не вызвало этого чувства; ни одна реальность не вместила бы его. Это была скука, абсолютная и полная, но на чем-то все же основанная. В сумрачной глубине моей души, невидимые, неизвестные силы завязывали сражение, в котором мое существо выступало соло, и я весь дрожал от неизвестного натиска. Физическая дурнота внутренней жизни родилась с моим пробуждением. Какой-то ужас оттого, что я должен жить, поднялся со мной с постели. Я казался себе пустым, и у меня было какое-то отстраненное впечатление, что не существует решения ни одной проблемы.
Сильная тревога заставляла меня дрожать. Я боялся сойти с ума, не от безумия, а именно от этого. Все мое тело было одним безмолвным воплем. Мое сердце билось, будто в рыданиях.
Шагами, широкими и неестественными, я мерил босиком небольшую комнату и по диагонали – смежную с ней, в углу которой есть дверь, выходящая в коридор. Движениями, бестолковыми и лишними, я касался расчесок на комоде, переставлял стул, и даже ударил кулаком по железному столбику английской кровати. Зажег сигару, но курил ее, не осознавая того, и только когда увидел, что пепел упал на подушку, – как, если я не наклонялся над ней? – понял, что был невменяемым или кем-то в этом роде и что мое сознание перемежалось провалами в бездну.
Первый предвестник утра – немного холодного света, показавшего на горизонте что-то смутное, бело-голубое, чей-то поцелуй признательности. Потому что этот свет, этот настоящий день освобождал меня, освобождал не знаю, от чего, давал мне руку для неведомой старости, ласкал несуществовавшее детство, защищал нищий отдых моей чрезмерной чувствительности.
Ах, какое это утро, разбудившее меня для тупости жизни и для ее большой нежности! Я почти плачу, видя, как проясняется передо мною, подо мною, узенькая старая улочка и когда ставни бакалейной лавочки на углу уже обнаруживают свой грязно-коричневый цвет в лучах понемногу разливающегося света, мое сердце чувствует облегчение от волшебных сказок реальности и начинает понимать, что безопаснее вообще не чувствовать.
Какое утро – эта печаль! И какие тени уходят? И какие таинства происходили? Ничего: шум первого трамвая, как спичка, что осветит потемки души, и громкие шаги первого прохожего – конкретная реальность, говорящая мне дружески, что все было не так.
Бывают минуты, когда утомляет все, даже то, что дарило отдохновение прежде. То, что утомляет, – потому что утомляет; то, что дарило отдохновение – потому что утомляет сама идея его достижения. Это изнеможение души от тоски и боли; думаю, оно знакомо любому, за исключением того, кто умеет избегать тоски и боли и кто так уклончив сам с собою, что ускользает от собственной скуки. Таким образом, коль существа, защищенные от мира броней, самоустраняются от всего этого, неудивительно, что при определенном уровне самосознания, их должен огорчать внезапно возникающий образ этой брони и жизнь должна им представляться тоской наизнанку, потерянной болью.
Сейчас я проживаю один из таких моментов и пишу эти строки как человек, желающий, по меньшей мере, знать, что он живет. Весь день, вплоть до этой минуты, я работал, словно в полусне, разбирался в борьбе со сном со счетами, писал в состоянии оцепенения. Весь день груз жизни, давил на меня – сном в глазах, стуком в висках, тяжестью в желудке – тошнотой и упадком духа.
Жить мне представляется метафизической ошибкой материи, небрежностью бездействия. Не смотрю на день, чтобы увидеть, что в нем есть, чтобы отвлечься от самого себя, и когда я пишу это, я, тем самым, заполняю словами пустую чашу нехотения самого себя. Не смотрю на день и не знаю, отвернувшись от него, солнечно или пасмурно и что происходит на улице, грустной, пустынной, где затихает шум, производимый людьми. Не знаю ничего и чувствую боль в груди. Я оставил работу и не хочу уходить отсюда. Смотрю на грязно-белую промокательную бумагу, что расплывается, закрепленная по углам бюро. Внимательно рассматриваю каракули от впитавшихся чернил. Много раз моя роспись – наоборот и наизнанку. Некоторые цифры – тут и там – так же. Какие-то рисунки, ничего не изображающие, сделанные в результате моей рассеянности. Смотрю на все это как житель промокательных бумаг, со вниманием зеваки, ждущего новостей, с мозгом, почти бездействующим, – за исключением центров, отвечающих за зрение.
В глубине моей души больше сна, чем я могу вместить. И я ничего не хочу, ничего не предпочитаю, нет ничего, от чего бы я убежал.
Я живу всегда в настоящем. Будущее – я его не знаю. Прошлое – у меня его уже нет. Меня давит первое как возможность всего, второе как действительность несуществующего. У меня нет ни надежды, ни ностальгии по ушедшему. Зная, чем была моя жизнь вплоть до сегодняшнего дня – столько раз она шла вразрез с тем, чего я желал от нее, – я могу лишь предполагать, что завтра случится то, чего я не предполагаю, чего не хочу, что приходит ко мне извне, пусть даже по моей собственной воле? В моем прошлом нет ничего, что я желал бы повторить. Я никогда не был никем, кроме как собственным следом и собственным подобием. Мое прошлое – это все, чем я не смог стать. Не ощущение уходящих моментов возбуждает мою ностальгию: все, что чувствуется, требует соответствующего момента; прошлое – это когда переворачиваешь страницу, и история продолжается, но текст отсутствует.
Короткая, темная тень от городского деревца, слабый звук воды, печально падающей в водоем, зелень подстриженной травы – общественный сад в полусумерках – все это в данный момент является моей вселенной, потому что составляет содержание моих сознательных ощущений. Больше ничего не хочу от жизни, кроме как чувствовать ее, теряющуюся в этих неожиданных вечерах, в голосах чужих играющих детей, в этих садах, огороженных меланхолией улиц, их окружающих, и густолиственных там, за высокими ветвями деревьев, тянущихся к древнему небу с появляющимися звездами.
Если бы наша жизнь была одним вечным ожиданием у окна, если бы мы оставались вот так, как остановившийся дым, всегда в одном и том же длящемся моменте скорбных сумерек под круглящимися горами! Если бы мы так оставались навсегда вдали от всего! Если бы, по крайней мере по эту сторону невозможности, мы могли бы вот так сохранять спокойствие, не совершая никаких действий, чтобы наши бледные губы не грешили бы лишними словами!
Посмотри, как смеркается!.. Покой, окончательный покой всего наполняет меня бешенством оттого, что вливает горечь во вкус жизни. Моя душа болит… Медленный след дыма поднимается вверх и растворяется вдали… Тревожная тоска заставляет меня не думать больше о тебе…
Так ненужно все! и мы, и мир, и мистерия того и другого.
Жизнь для нас – это то, что мы в ней постигаем. Для крестьянина, для которого его поле явлется всем, это поле – империя. Для Цезаря, которому империя была мала, эта империя – всего лишь поле. Бедняк владеет целой империей; великий владеет лишь полем. В действительности мы не владеем ничем другим, кроме наших собственных ощущений; на них, а не на том, что видим и слышим, мы должны основывать действительность нашей жизни.
Но это уже другой разговор.
Я много мечтаю. Я устал от мечтаний, однако не устаю мечтать. От мечты никто не устает, потому что мечтать – это забывать, а забвение не тяготит, оно – сон без сновидений, в котором мы пребываем, проснувшись. В сновидениях может произойти все. Потом я тоже пробуждаюсь, но какая разница? Сколькими Цезарями я уже был! И, прославленные, какие они несчастные! Цезарь, спасенный от смерти благодаря благородству одного пирата повелел распять этого пирата, как только сумел его захватить. Наполеон, написавший завещание на Святой Елене, оставил наследство злодею, пытавшемуся убить Веллингтона. О величие, подобное величию души моей косой соседки! О великие мужи от поварихи из другого мира! Сколькими Цезарями я был и все же еще мечтаю быть.
Сколькими Цезарями я был, но – нереальными. Был императором, пока мечтал, и поэтому никогда не был никем. Мои войска были разбиты, но поражение стало смешным, и никто не погиб. Я не потерял знамен. Мои мечты не простирались до самого прибытия армии, там, где эти знамена должны были появиться перед моими глазами, мой сон прервался на углу улицы. Сколькими Цезарями я был именно здесь, на улице Золотильщиков. И Цезари, коими я был, еще живут в моем воображении; но Цезари, что существовали мертвы, и улица Золотильщиков, то есть Реальность, не может их узнать.
Бросаю пустую коробку спичек в пропасть улицы, той, что за моим высоким окном без балкона. Поднимаюсь со стула и прислушиваюсь. Четко, будто что-то означая, пустая коробка из-под спичек падает на улицу со звуком, подчеркивающим ее пустынность. Больше нет ни единого звука, исключая звуки целого города. Да, целого города – такие непонятные и такие определенные.
Сколь малое в реальном мире может расположить к лучшим размышлениям. Поздний обед, опустевший коробок спичек, выброшенный мной самим на улицу, плохое расположение духа из-за того, что поел не вовремя, воскресенье, носящееся в воздухе предвестие скверного заката, и никого – в целом мире, и вся метафизика.
Но сколькими Цезарями я был!
Выращиваю ненависть к действиям, будто цветок в теплице. Хвалюсь сам перед собою своими разногласиями с жизнью.
Эстетика отречения
Примириться – это покориться, и побеждать – это примиряться, быть покоренным. Поэтому победа – всего лишь дерзость, грубость. Победители теряют в итоге уныние, недовольство настоящим, которые вели их в битву и дали им победу. Они удовлетворены, а удовлетворенным может быть только тот, кто примиряется, кто не имеет образа мыслей победителя. Побеждает тот, кто никогда не получает своего. Силен только тот, кто всегда недоволен своим положением. Лучшая багряница – это отречение. Божественная империя – та, чей Император отрекается от всей обычной жизни, от других людей, на кого забота о его первенстве не давит, подобно мешку с драгоценностями.
Порой, когда, оглушенный усталостью, я поднимаю голову от книг, где записываю чуждые мне счета и отсутствие моей собственной жизни, я чувствую чисто физическую тошноту. Жизнь меня не любит, как бесполезное лекарство. И именно поэтому я ощущаю в ясных видениях, как было бы легко отстраниться от этой скуки, если бы у меня было хоть немного сил – на самом деле захотеть отстраниться.
Мы живем действием, то есть своей волей. Нас, тех, кто не умеет желать, – будь мы гениями, будь нищими – объединяет бессилие. К чему мне считать себя гением, если я всего лишь помощник бухгалтера? Когда Сезариу Верде говорил врачу, что он не сеньор Верде – коммерческий служащий, а поэт Сезариу Верде, он выказывал бесполезную гордость с привкусом тщеславия. Кем он был всегда, бедняга, это сеньором Верде, коммерческим служащим. Поэт родился после его смерти, потому что лишь после смерти его поэзию начали ценить.
Действование – это проявление подлинного разума. Я буду тем, кем захочу. Но я должен захотеть того, что будет. Успех состоит в том, чтобы его иметь, а не в наличии условий для успеха. Условия дворца предполагают некоторую площадь, им занимаемую, но где был бы дворец, если бы его не построили там?
Моя гордость, высеченная на камне для слепых, и мое разочарование, растоптанное нищими…
«Хочу тебя только в мечтах», – пишут любимой женщине в стихах, которых ей не посылают, те, кто не отваживается ничего сказать ей. Эта фраза: «Хочу тебя только в мечтах» – строка из моего старого стихотворения. Вспоминаю об этом с улыбкой, не объясняя, чему я улыбаюсь.
Я принадлежу к тем, кому женщины говорят, что любят, но никогда не узнают, встречая вновь; к тем, кто даже узнанный остается неузнаваемым. Я страдаю от тонкости собственных ощущений, отмечаю это, не без некоторого презрения… У меня есть все качества, которыми восхищались в поэтах-романтиках и даже недостаток определенных качеств, действительно создающий поэта-романтика. Я встречаю себя описанным (частично) в различных романах, вижу в качестве главного действующего лица различных пьес; но самое существенное в моей жизни, как и в моей душе, – никогда не быть протагонистом.
Ничего не знаю о себе самом; не думаю даже о том, что ничего о себе не знаю. Я – будто кочевник в собственном представлении о себе. Пропали, несмотря на охрану, стада моего внутреннего богатства.
Единственная трагедия в том, что мы не можем понять себя, трагических. Я всегда четко видел свое сосуществование с миром. Никогда не чувствовал четко недостаток этого сосуществования; поэтому никогда не был нормальным.
Действовать – это отдыхать.
Все проблемы неразрешимы. Суть понятия «иметь проблему» – это не иметь ее решения. Искать какие-то сведения – значит не иметь этих сведений. Думать – это не уметь жить.
Я провожу порою часы на Дворцовой площади, на берегу реки, в пустых мечтаниях. Нетерпение постоянно хочет вырвать меня из этого покоя, а инертность постоянно меня удерживает в нем. Поэтому я размышляю в состоянии какой-то сонливости, немного напоминающей чувственность, как шепот ветра напоминает голоса, в вечной ненасытности моих неопределенных желаний, в бесконечной нестабильности моих невозможных томлений. Я страдаю, в основном, от того, что могу страдать. Мне не хватает чего-то, чего я не желаю, и страдаю от этого, хотя это не значит собственно, страдать.
Пристань, вечер, запах моря все они проникают в меня и проникают все вместе, образуя сложную композицию моей тоски. Флейты несуществующих пастухов не могут быть нежнее того чувства, что я испытываю, не слыша никаких флейт, но помня о них. Далекие идиллии, там, возле ручейков, как болит во мне подобный этому час…
Можно чувствовать жизнь как дурноту, поднимающуюся из желудка, существование собственной души – как стеснение мускулов. Отчаяние духа, когда оно ощущается остро, создает приливы в теле, и болит оно, а не дух.
Осознаю себя в один из тех дней, когда боль – оттого, что я осознаю, – такая, как говорит поэт:
Слабость, головокружение
и мучительное желание.[11]
(буря)
Остается тишина бледно-пасмурная. Характерный шум, близко, меж редких, но быстро проносящихся повозок, грохочет телега – эхо нелепое, механическое, какое может быть только на близком расстоянии от небес.
Снова, без предупреждения, бьет ключом свет, притягательный, мерцающий. Короткий вдох – бьется сердце. В вышине разбивается стеклянный колпак, купол в огромных осколках. Новая простыня сильного дождя падает на землю.
Патрон Вашкеш. Его лицо было бледно-зеленым и растерянным. Я обратил на него внимание, ощущая стеснение в груди и сочувствие, оттого что знал: я буду выглядеть так же.
Когда я ночью вижу много снов, то выхожу на улицу с открытыми глазами, но все еще находясь в этих снах и черпая в них поддержку. И поражаюсь моему автоматизму, благодаря которому другие меня не узнают. Потому, что я пересекаю современную жизнь, не оставляя руки моей астральной госпожи, и мои шаги на улице согласны и созвучны с мрачными замыслами сонного воображения. И на улице я иду уверенно; не шатаюсь; правильно отвечаю; существую.
Но если выдается момент, когда мне не надо заботиться о направлении своего движения, чтобы избегать повозок и не мешать пешеходам, когда мне не надо ни с кем разговаривать и не надо входить в ближайшую дверь, я плыву вновь по волнам мечты, как бумажный кораблик, согнутый по краям, и снова возвращаюсь к тусклой иллюзии, убаюкивающей мое смутное сознание утра, рождающегося в шуме повозок зеленщиков.
И на протяжении всей жизни мечта является для нас большим кинотеатром. Спускаюсь по нереальной улице Байша, и действительность жизней, которых нет, нежно оборачивает мне голову белым полотном придуманных воспоминаний. Я – мореплаватель в незнании самого себя. Я побеждал везде, где никогда не был. И это новый бриз – эта дремота, с которой могу ходить, клонясь вперед при моей ходьбе вдоль невозможного.
У каждого – свое опьянение. Для меня это – существование. Пьяный оттого, что я чувствую, я брожу и иду уверенно. В определенные часы я возвращаюсь в контору, как любой другой. В другие часы иду к реке – созерцать реку, как любой другой. Я – такой же. И за всем этим – мое небо, я украдкой усыпаю себя звездами и наслаждаюсь своей бесконечностью.
Все современные мужчины, чье нравственное и интеллектуальное развитие не таково, как у пигмея или грубияна, любят – когда любят – романтической любовью. Романтическая любовь – конечный продукт веков, идущих после веков христианских; и, как по сути, так и по характеру своего развития может быть объяснена тому, кто ее не понимает, путем сравнения ее с платьем или костюмом, в которые душа или воображение облекают случайно появляющиеся творения.
Но любое одеяние не вечно и со временем истлевает; тогда-то вместо созданного нами идеала мы видим реальное человеческое тело.
Таким образом, романтическая любовь – это путь разочарования. Оно не наступит лишь в том случае, если с самого начала постоянно изменять идеал, создавать в мастерских души все новые и новые одеяния, постоянно обновляя объект творения.
Мы не любим никого. Любим только идею, воплотившуюся в ком-то. Это наш замысел – в общем, это мы сами – те, кого мы любим.
Это справедливо для всей гаммы любви. В любви сексуальной мы ищем удовольствие, полученное от чужого тела. В любви, отличной от сексуальной, – удовольствие от той или иной нашей идеи. Онанист гнусен, но, если быть верным истине, онанист – совершенное логическое выражение любящего. Он – единственный, кто не притворяется и не заблуждается.
Отношения между двумя душами посредством вещей, таких неопределенных и различных, как общие слова и предпринимаемые действия, есть материя необычной сложности. В том самом действии, в каком мы себя узнаем, мы не узнаем себя. Оба говорят «люблю тебя» или думают это и чувствуют это взаимно, но каждый хочет выразить другую, отличную мысль, другую, отличную жизнь, так что абстрактной сумме впечатлений, создаваемых активностью души, придается иной цвет или иной аромат.
Сегодня я – светлый, будто вовсе не существую. Мои мысли четки, будто скелет, лишенный лоскутьев плоти, воплощающих иллюзии. И эти рассуждения, создаваемые и оставляемые мною, не рождаются от чего-то – от чего-то, что находилось бы хотя бы на дне моего сознания. Может быть, это разочарование уличного продавца в своей девушке; может быть, это любая фраза, прочтенная в историях любви, которые газеты перепечатывают из зарубежных изданий, может быть, даже смутная тошнота, что я ношу в себе, не объясняя себе ее физического происхождения…
Неверно сказал толкователь Вергилия. Это идет от понимания, то, что особенно нас утомляет. Жить – это не думать.
Два, три дня сходства в самом начале любви…
Все это заслуживает внимания эстета – теми ощущениями, которые у него вызывает. Делать успехи – скорее означало бы вступать в область, где начинается зависть, страдание, возбуждение. В этом преддверье эмоций есть вся нежность любви без ее глубины – легкое удовольствие, смутный аромат наслаждений, и если при этом теряется величие, заключенное в трагедии любви, следует заметить, что для эстета трагедия – объект наблюдения, но жизненное неудобство. Само культивирование воображения – вредно для жизни. Господствует тот, кто не находится среди заурядных.
Пожалуй, я был бы рад убедить себя самого, что эта теория – не то, что она есть на самом деле – не попытка заглушить голос разума, подсказывающего, что во мне нет ничего, кроме застенчивости и неподготовленности к жизни.
Эстетика искусства
Жизнь препятствует выражению жизни. Если бы у меня была большая любовь, я никогда не смог бы о ней рассказать.
Я сам не знаю, я ли это, – тот, кого выставляю перед вами на этих скользящих страницах; действительно ли он существует или представляет собой только понятие, эстетическое и ложное, что я сконструировал из себя самого. Да, это так. Я проживаю себя эстетически в другом. Я изваял мою жизнь, будто статую из материи, чуждой моему существу. Иногда я себя не узнаю, поместив себя вне себя самого, и так, чисто артистически, применил собственное сознание для самоисследования. Кто я – за этой нереальностью? Не знаю. Должен быть кем-то. И если не стремлюсь жить, действовать, чувствовать, то для того – верю, что это так, – чтобы не нарушать уже существующие черты моей предполагаемой личности. Хочу быть таким, каким хотел быть, но не стал. Если бы я жил, я бы себя разрушил. Хочу быть произведением искусства или хотя бы произведением души, если уж не могу быть произведением тела. Поэтому я изваял себя из тишины и отчуждения и поместил в теплицу, укрытие от свежего воздуха и приветливых лучей, где бы моя искусственность, цветок абсурда, расцветала в отдаленной красоте.
Думаю иногда, как было бы прекрасно, объединяя мои мечты, создать себе постоянную жизнь, что протекала бы, сопровождаемая воображаемым общением с воспитанными людьми, и жить так, страдая и наслаждаясь этой придуманной жизнью. Там были бы у меня и несчастья, и большие радости там выпадали бы мне. И ничто из этого не было бы реальным. Но во всем была бы логика, надменная, своя; все бы шло согласно ритму сладострастной лживости, происходя в каком-то затерянном городе, созданном из моей души, на берегу спокойного залива, очень глубоко внутри меня, очень глубоко… И все это – четко, неизбежно, как и во внешней жизни, но как далекая красота Солнца.
Так организовать нашу жизнь, чтобы она была для других мистерией, чтобы и тот, знающий нас лучше, не знал бы нас ближе, чем другие. Я так устроил свою жизнь, почти не думая об этом, но вложил в это столько инстинктивного мастерства, что превратил себя в индивидуальность, далеко не во всем ясную для себя самого.
Писать – это забывать. Литература – это наиболее благодарный способ не знать жизни. Музыка убаюкивает, искусства визуальные воодушевляют, живые искусства (как танец и театр) развлекают. Первая, между тем, отдаляется от жизни, превращая ее в сон; вторые же от жизни не отдаляются – одни, потому что используют формулы зрелищные, следовательно, жизненные, другие – потому что живут самой человеческой жизнью.
Не то – в случае с литературой. Она подражает жизни. Роман – это история того, чего никогда не было, и драма – это роман без повествования. Та или иная поэма – это выражение идей или чувств языком, который никто не употребляет, ведь никто не говорит стихами.
Большинство людей страдают неумением сказать, что видят и о чем думают. Говорят, нет ничего более трудного, чем определить словами спираль: необходимо, говорят, проделывать в воздухе движение рукой, воспроизводящее нечто восходящее, закручивающееся в определенном порядке, благодаря чему абстрактная фигура пружины предстает перед глазами. Но коль скоро мы должны помнить, что говорить – это обновлять, мы без труда определим спираль или пружину: это круг, что поднимается, но никогда не может закончиться. Большинство людей, я уверен, не отваживаются определить ее так, потому что предполагает, что определить – это сказать то, что хотят услышать сказанным другие, а не то, что надо сказать для определения. Можно описать ее и лучше: спираль – это потенциальный круг, что раскрывается, восходя, но никогда не осуществляется. Но нет – определение еще абстрактно. Я буду искать конкретности, и все будет очевидно: спираль – это змея без змеи, обвивающаяся вертикально вокруг несуществующего предмета.
Вся литература состоит в усилии превратить жизнь в реальную. Как все знают, жизнь – совершенно нереальна в своей непосредственной реальности; поля, города, идеи – все это вещи абсолютно мнимые, порождения нашего сложного ощущения нас самих. Все впечатления непередаваемы, за исключением тех, какие мы превращаем в литературу. Дети – очень литературные, потому что они говорят, как чувствуют, а не как должен чувствовать тот, кто чувствует, оглядываясь на другого человека. Один ребенок – я слышал однажды – сказал не: «Чувствую желание плакать», как выразился бы тупоумный взрослый, а: «Чувствую желание слез». И эта фраза, абсолютно литературная, что была бы неестественной у известного поэта, сообщает решительно о горячем присутствии слез, разрывающих веки жидкой горечью. «Чувствую желание слез»! Тот маленький ребенок хорошо определил свою спираль.
Говорить! Уметь говорить! Уметь существовать в письменной речи и мысленном образе! Все это определяет ценность жизни; наибольшее – это мужчины и женщины, выдуманные любови и притворное высокомерие, выкрутасы пищеварения и забывчивости, люди, движущиеся, как черви, под поднятым абстрактным утесом синего бессмысленного неба.
Тяжело ли мне оттого, что никто не читает то, что я пишу? Я пишу, чтобы отвлечь себя от жизни, и публикую это, потому что игра подчиняется этому правилу. Если бы завтра пропали все мои рукописи, я бы огорчился, но уверен, что огорчение было бы не таким бурным и безумным, как если бы в писательстве заключалась вся моя жизнь. Ведь мать, потеряв сына, спустя месяцы уже смеется и становится прежней. Большая земля, скрывающая мертвых, скрыла бы, пусть с меньшей нежностью, и мои бумаги. Все – не важно, и я верю, что некто, видящий жизнь, но не обладающий большим терпением к этому разбуженному ребенку, безмерно желает покоя, когда дитя в конце концов укладывается в постель.
Я всегда относился скептически к прочтенным мной в «Дневнике» Амьеля ссылкам, напоминающим, что он опубликовал свои книги. Его фигура этим разрушается. Если бы не было этого, каким бы он был великим!
«Дневник» Амьеля всегда причинял мне боль, в которой я сам виноват.
Когда я дочитал до того места, где он говорит, что Шерер описал ему продукт духа как «сознание сознания», я чувствовал, что эти слова непосредственно адресованы моей душе.
Та язвительность, неопределенная и почти неощутимая, что слегка опьяняет радостью любое человеческое сердце перед болью других, перед чужим унынием, я прибегаю к ней, исследуя свою собственную боль, и в случаях, когда чувствую себя смешным или жалким, пользуюсь ею, словно это не я сам, а некто другой. Из-за странной и фантастической трансформации чувств я уже не чувствую этой радости, злой и очень человеческой, перед чужими болью и ничтожеством. При унижении других я ощущаю не боль, но какое-то эстетическое уныние и смутное раздражение. И отнюдь не из-за своей доброты, а потому, что если кто-то смешон и нелеп, смешон он не только в моих глазах, но и в чужих, и меня это раздражает. Мне больно, что какое-то животное, принадлежащее к человеческому виду, может смеяться над другим, не имея на это права. Если другие смеются надо мною, мне это безразлично, ведь у меня для внешнего мира есть бронированная защита – мое презрение.
Я возвел высочайшую ограду, выше любых стен, чтобы оградить сад моего существа, чтобы, видя превосходно других, с еще большим превосходством их изгонять и оставлять в качестве других.
Объектом пристального внимания во всей моей жизни всегда был выбор способов «не-действия».
Я не подчиняюсь ни государству, ни людям; противостою им бездеятельно. Государство может только желать от меня какого-то действия. Если я бездействую, оно ничего не может со мной поделать. В наше время уже не казнят, и оно может только причинить мне неудобства; если это случится, мне придется сильнее укрепить броней свой дух и погрузиться еще глубже в свои мечтания. Но этого не случилось. Государство никогда меня не беспокоило. Верю, что судьба умела меня охранить.
Как и каждый индивидуум с живым, пытливым разумом, я органически и фатально люблю стабильность. Ненавижу новую жизнь и неизвестные места.
Сама мысль о путешествии вызывает у меня дурноту.
Я уже видел все, чего еще никогда не видел.
Уже видел все, чего еще не видел.
Скука, постоянно новая, скука открывать под ложным различием между вещами и идеями бесконечное тождество всего, абсолютное подобие между мечетью, храмом и церковью, одинаковость хижины и замка, сходство телосложения разодетого короля и нагого дикаря, вечную согласованность жизни с собою самой, застой всего, что живет только в движении.
Пейзажи – это повторения. Во время обычной поездки на поезде я бесполезно и тоскливо разрываюсь между невниманием к пейзажу и невниманием к книге, которая занимала бы меня, будь я другим. От жизни у меня возникает смутная дурнота, а движение только подчеркивает ее.
Скуки нет только в несуществующих пейзажах, в книгах, которые я никогда не прочту. Жизнь для меня – это дремота, не достигающая мозга. Его я храню свободным, чтобы иметь возможность быть печальным.
Ах, путешествие тех, кто не существует! Для тех, кто не является никем, жизнь должна течь, будто река. Но тем, кто думает и чувствует, тем, бодрствующим, страшные паланкины поездов, автомобилей, судов не позволяют ни заснуть, ни проснуться.
Из любой поездки, даже самой короткой, я возвращаюсь, как после сна, полного сновидений, – в смятении онемения, со скомканными ощущениями, пьяный от увиденного.
Для того чтобы отдохнуть, мне не хватает здоровья души. Для движения мне не хватает чего-то, что находится между душой и телом; мне как будто бы запрещены не сами движения, но желание их совершать.
Много раз у меня появлялось желание пересечь реку, эти десять минут от Дворцовой площади до Касильяш. И почти всегда меня охватывала застенчивость от такого количества людей, от меня самого и от моего намерения. Каждый раз я еду угнетенный, всегда радуясь только тому клочку земли, на который встаю, возвращаясь.
Когда ощущения так обострены, река Тежу – это Атлантика, бесконечность, а Касильяш – другой континент или даже другая вселенная.
(Глава о безразличии или о чем-то подобном)
Каждая душа, достойная себя самой, хочет прожить жизнь на Пределе. Довольствоваться тем, что ему дано, – это свойство раба. Просить больше – свойство детей. Захватывать больше – свойство безумцев, потому что все завоевания – это…
Вести жизнь на Пределе означает вести ее до предельных границ, но для этого есть три способа, и каждой возвышенной душе следует выбирать один из них. Можно вести жизнь на пределе, следуя путем Улисса через все возможные яркие ощущения, через все формы внешнего проявления энергии. Редки, однако, во все эпохи от сотворения мира те, кто может закрыть усталые глаза, полные суммой всех усталостей, те, кто овладел всем – всеми способами.
Редки могущие столько требовать от жизни и добиваться этого, ведь она им дает только тело и душу; умеющие не быть с нею ревнивцами, потому что могут получить всю ее любовь, полностью. Но такое желание в душе возвышенной и сильной, без сомнения, должно существовать. Когда эта душа все же понимает, что такая самореализация для нее невозможна, что у нее нет силы для завоевания всех частей Всего, перед нею открываются два других пути: один – полное отречение, формальное воздержание, совершенное пренебрежение ради сферы чувствительности тем, что не дает полного обладания в сфере активности и энергии. Лучше божественное не-делание, чем действие бесполезное, частичное, недостаточное, характерное для бесчисленного и бесполезного пустого большинства людей; и есть иной путь – путь совершенного равновесия, поиск Предела в Пропорциях Абсолюта, где жажда Предельного переходит от сферы желаний и эмоций к Разуму, направляя свои стремления не на то, чтобы жить всю свою жизнь, не на то, чтобы чувствовать всю свою жизнь, но чтобы распорядиться всей своей жизнью в соответствии с разумной Гармонией и Согласованностью.
Жажда понимать, которая для стольких благородных душ заменяет жажду действия, принадлежит к сфере чувствительности. Заменить разумом энергию, разорвать звено цепи между желанием и эмоцией, не интересуясь проявлениями материальной жизни, – вот что, будучи достигнутым, стоит более, чем жизнь, слишком сложная, чтобы ею обладать полностью, и слишком печальная, чтобы обладать частично.
Как говорили древние мореплаватели, плыть – нужно, но жить – не нужно. Мы – мореплаватели с болезненной чувствительностью, давайте же скажем, что чувствовать – нужно, но не нужно жить.
Моя жизнь в каком-то оцепенении. Это не то, что бывает обычно, когда дни проходят за днями, а мы не отвечаем на полученное срочное письмо. Это не то, чего не бывает, когда откладывается на неопределенное время что-то простое и полезное или полезное и одновременно приятное. В моем безрассудстве по отношению к себе больше утонченности. Моя душа парализована. Чувствуется во мне пауза – в желаниях, эмоциях, в мышлении, и эта пауза длится многие дни; только растительная жизнь души – слово, движение, привычка – демонстрирует мои жизненные проявления другим, а через них – мне самому.
В эти сумрачные периоды я не способен думать, чувствовать, желать. Не могу писать ничего, кроме цифр или черточек. Не чувствую: даже смерть кого-то, мною любимого, казалась бы мне, случившейся в иной реальности. Не могу: словно я сплю, и мои движения, мои слова, мои действия заключаются лишь в более прерывистом дыхании, инстинктивном изменении ритма любого организма.
И так проходят дни за днями, даже не могу сказать, сколько дней в моей жизни прошло иначе. Иногда уже в преддверии такой остановки я оказываюсь еще не так обнажен, как предполагаю, и еще есть неощутимые одежды, прикрывающие вечное отсутствие моей истинной души; случается, что мои мысли, чувства, желания бывают проявлениями застоя, перед более сокровенным мышлением, чувством более моим, перед желанием, потерянным где-то в лабиринте, каким я действительно являюсь.
Как бы там ни было, думаю, что это так. И ради бога или богов, если они есть, отказываюсь от того, кто я есть, в соответствии с тем, что приказывает судьба и диктует случай, верный забытому обязательству.
Я не возмущаюсь, потому что возмущение – для сильных; я не смиряюсь, потому что смирение – для благородных; не молчу, потому что молчание – для великих. А я не силен, не благороден, не велик. Я страдаю и мечтаю. Жалуюсь, потому что я слабый и потому что я – художник, развлекаю себя, украшая музыкально мои жалобы, и преображаю мои мечтания в соответствии с моими представлениями о красоте.
Сожалею только, что я – не ребенок, чтобы верить своим мечтам, не безумец, чтобы отстраниться душой ото всех тех, кто меня окружает […]
Принимать мечту за реальность, излишне жить мечтами – это шип придуманной розы моей жизни мечтателя: даже мечты меня не радуют, потому что я считаю их несовершенными.
Не для того, чтобы раскрасить это стекло цветастых мечтаний, я прячусь от шума чужой жизни, созерцая ее с другой стороны.
Счастливцы – творцы пессимистических теорий! Они не только уклоняются от создания чего-либо, но также и радуются объясненному ими, и включаются во всеобщую боль.
Я не жалуюсь на мир. Не протестую во имя вселенной. Я – не пессимист. Страдаю и жалуюсь, но не знаю, общим ли является это страдание, не знаю, является ли человеческим свойством – страдать. Какая мне разница знать, правильно это или нет?
Я страдаю, не знаю, заслуженно ли. (Преследуемая косуля.)
Я – не пессимист, я печален.
Я всегда отказывался от того, чтобы меня понимали. Быть понятным – бесчестить себя. Предпочитаю, чтобы меня принимали всерьез, как того, кем я не являюсь, не зная меня как человека, во всей чистоте и естественности.
Если бы в конторе меня чуждались, это возмутило бы меня. Хочу наслаждаться иронией того, что меня не чуждаются. Хочу носить власяницу – чтобы меня считали подобным всем им. Хочу крестной муки, состоящей в том, чтобы меня не выделяли из других. Есть муки более утонченные, чем испытанные святыми и отшельниками. Есть мучение разума, как телесные муки и муки желания. И от тех и от других можно испытывать наслаждение…
Юноша паковал свертки, поступавшие каждый день, в холодных сумерках просторной конторы. «Какой сильный гром», – сказал он никому, громко, тоном, каким жесточайший разбойник говорит: «Добрый день». Мое сердце снова начало биться. Апокалипсис закончился. Наступила пауза.
И, успокаивая меня, – свет сильный и ясный, пространство, звук грома – этот близкий грохот, уже удалявшийся, успокаивал нас самим своим присутствием. Господь удалялся. Я ощутил, что дышу полными легкими. Заметил, что в конторе душно. Обратил внимание, что в конторе есть люди, а юноши нет. Все молчали. В воздухе носилось что-то дрожащее и тревожное, для этого было веское, тяжелое основание: Морейра внезапно повернул вперед, чтобы проконтролировать служащих.
Часто думаю, что сталось бы со мною, если бы, защищенный от вихрей судьбы ширмой богатства, я не был приведен честной рукой моего дядюшки в одну из лиссабонских контор и возведен им на эту дешевую, доступную для доброго помощника бухгалтера вершину, где труд подобен сиесте, а оплата дает возможность продолжать жить.
Я хорошо знаю, что без такого небывшего прошлого я не мог бы писать эти страницы, во всяком случае, при лучших обстоятельствах дело не пошло бы дальше бесплодных мечтаний. Ведь банальность – это и разум, а реальность, особенно если она нелепа или сурова, – естественное дополнение нашей души.
Тому, что я – бухгалтер, я обязан во многом возможностью чувствовать и думать, будто я свободен от обязанностей и могу все отрицать.
Если бы мне надо было заполнить опросный лист, посвященный тому, какие литературные влияния сформировали мой дух, я бы открыл этот список именем Сезариу Верде, но вписал бы в него и имена патрона Вашкеша, счетовода Морейры, коммивояжера Виейры и Антониу, юноши из конторы. И надо всем поставил бы написанный большими буквами адрес-ключ ЛИССАБОН.
Я отдаю себе отчет в том, что, как Сезариу Верде, так и остальные служили для моего миросозерцания коэффициентами коррекции. Верю, что именно этими словами, точного смысла которых я, скорее всего, не улавливаю, инженеры определяют средство, позволяющее математике входить в жизнь. Если я прав, было точно так. Если нет – намерение сто́ит метафоры, пусть и ошибочной.
Обдумывая, впрочем, с максимально возможной ясностью, чем является моя жизнь, вижу ее как что-то красочное – шоколадную обертку или кольцо от сигары – подметенное легкой щеткой прислуги, сметенные со скатерти в совок для мусора крошки от корок действительности, рассказанной ею самой. Моя жизнь отличается от подобных ей одним преимуществом, которому тоже предстоит оказаться в мусорном ведре. И беседа богов продолжается над этой уборкой, равнодушная к бытовым мелочам.
Да, если бы я был богат, защищен, причесан, украшен, не было бы этой ассоциации с красивой оберткой меж крошек; я бы оставался на блюде судьбы – «нет, большое спасибо» – и хранился бы в буфете, понемногу старея. Так, выброшенный после того, как была выедена моя практическая сущность, я попаду, как прах тела Христова, в мусорное ведро, и даже не знаю, что и меж каких звезд последует за этим, но что-то следует всегда.
Не будучи обязанным что-то делать или думать о том, что делать, я оставлю на этой бумаге описание моего идеала —
Набросок
Чувствительность Малларме внутри стиля Виейры; мечтать, как Верлен в теле Горация; быть Гомером в лунном свете.
Чувствовать все всеми способами; уметь мыслить эмоциями и чувствовать разумом; желать многого, но только в воображении; страдать, кокетничая; видеть ясно, чтобы описать верно; узнавать самого себя, с помощью притворства и особых ухищрений, принимать различное подданство и со всеми документами; пользоваться всеми ощущениями, разоблачая их до божественной сути; но затем запаковывать снова и возвращать на витрину, как тот продавец – я вижу его отсюда – ставит на нее небольшие банки с ваксой новой марки.
Все эти идеалы, возможные и невозможные, оканчиваются сейчас. Реальность передо мною, это даже не продавец, это его рука (его самого я не вижу) – абсурдное щупальце одной души, имеющей свою семью и свою судьбу, с ужимками паука без паутины, – протянутая оттуда сюда. И одна из банок упала, как Судьба, предстоящая всем нам.
Чем более я созерцаю спектакль этого мира и приливы и отливы в изменениях всего существующего, тем глубже убеждаюсь в естественном вымысле всего существующего, в ложном обаянии торжественности всего реального. И в подобном созерцании (это рано или поздно случается со всеми мыслящими) разноцветный марш обычаев и вкусов, сложный путь развития и цивилизаций, грандиозное смешение империй и культур – все это предстает передо мной как некий миф и вымысел, видимый в мечтах среди теней и забвения. Но не знаю, должно ли божественное определение всех этих исчезнувших намерений, даже если они осуществились, доходить до статичного отречения Будды, который, понимая пустоту сущего, сказал: «Уже знаю все», или до основанного на опыте равнодушия императора Севера: «omnia fui, nihil expedit».[12]
…мир, мусорная яма инстинктивных сил, что в любом случае сияет на солнце всеми тонами палитры светлого и темного золота.
Для меня, по здравом размышлении, эпидемии, бури, войны – это продукты той же слепой силы, действующей в одном случае посредством не имеющих сознания микробов, в другом – посредством молний и бесчувственных вод, в третьем – посредством лишенных разума людей. Различие между землетрясением и резней для меня не больше, чем различие между убийством с помощью ножа и убийством с помощью кинжала. Монстру, живущему во всех вещах, кажется, безразлично, служит ли он добрым или злым целям – перемещению скалы в горах или зависти, или алчности в каком-то сердце. Скала упадет и убьет человека; алчность или зависть вооружат руку, и убьет человека рука. Таков мир, мусорная яма инстинктивных сил, которая тем не менее сияет на солнце всей палитрой золотых оттенков.
Мистики открыли: чтобы сопротивляться грубому равнодушию, составляющему видимую суть вещей, лучший способ – отречение. Отвергнуть мир, отвернуться от него, как от болота, у края которого мы бы могли встретиться. Отречься, как Будда, отвергая абсолютную реальность; отречься, как Христос, отвергая реальность условную; отречься…
Я просил у жизни лишь того, чтобы она ничего не требовала от меня. У двери в хижину, которой у меня не было, я сидел на солнышке, которое никогда не светило, и наслаждался будущим угасанием моей усталой действительности (с удовольствием сознавая, что ее еще нет). Я еще не умер, хотя этого уже достаточно для бедных жизнью, и есть еще надежда, что…
…доволен мечтой, только когда не мечтаю, доволен миром, только когда мечтаю вдали от него. Колеблющийся маятник, всегда двигаюсь, не чтобы достичь чего-то, но только чтобы вернуться, навсегда привязанный к двойной фатальности своего центра и своего бесполезного движения.
Я ищу себя и не могу себя найти. Принадлежу часам хризантем, чистых в удлинениях кувшинов. Бог творит из моей души нечто декоративное.
Не знаю, какие детали, чрезмерно торжественные, избранные, определяют очертания моего духа. Моя любовь к декоративному определяется, без сомнения, тем, что я чувствую в нем нечто родственное моей душе.
Вещи, наиболее простые, действительно наиболее простые, которые невозможно усложнить, становятся сложными, когда я живу ими. Порою меня пугает необходимость пожелать кому-то доброго дня. У меня пропадает голос так, будто для произнесения этих слов вслух нужна необычная храбрость. Это похоже на стыдливость, связанную с самим фактом существования, – по-другому это назвать нельзя!
Постоянный анализ наших ощущений создает новый способ чувствовать, он кажется искусственным для того, кто анализирует только разумом, а не собственными ощущениями.
Всю свою жизнь я был ничтожен метафизически, играя в серьезность. Я ничего не делал всерьез, даже и желая этого. Во мне и со мною развлекалась какая-то злобная судьба.
Иметь эмоции ситца, или шелка, или парчи! Иметь эмоции, какие можно описать таким образом! Иметь эмоции – описательные!
В моей душе поднимается какое-то сожаление, словно сожаление Бога обо всем сущем, слепое желание слез, чтобы наказать мечты во плоти мечтателей… И я ненавижу без ненависти всех поэтов, писавших стихи, всех идеалистов, желавших видеть свой идеал, всех тех, кто добивался желаемого.
Брожу бесцельно по спокойным улицам, хожу до тех пор, пока в согласии с душой не утомится тело, и моя боль достигает тех пределов, при которых начинаешь испытывать от нее удовольствие, переходя в материнское сочувствие к себе самому, сопровождаемое музыкой, неопределимое.
Спать! Заснуть! Успокоиться! Быть абстрактным сознанием, способным дышать спокойно, не нуждаясь в мире, в планетах, в душе, – мертвым морем эмоций, отражающим в себе отсутствие звезд!
О, бремя чувствования! О, бремя быть обязанным чувствовать!
…чрезмерная острота, не знаю, ощущений ли или только их выражения, или, точнее, разума, находящегося между первыми и вторым с целью выразить мнимую эмоцию, существующую лишь ради своего выражения. (Возможно, я лишь реактив для проявления того, кем я не являюсь.)
Есть ученость обладания знанием, собственно знанием, та, что зовется эрудицией, и есть ученость понимания, которая зовется культурой. Но есть еще и ученость чувствительности.
Ученость чувствительности не изменяется с опытом жизни. Жизненный опыт ничему не учит, как и история. Настоящий опыт состоит в сужении контактов с реальностью и в усовершенствовании анализа этих контактов. Таким образом, чувствительность расширяется и углубляется, потому что все существует в нас самих; достаточно, чтобы мы искали это и умели это искать.
Что значит путешествовать и для чего путешествовать? Любой закат – это закат; нет необходимости ехать в Константинополь, чтобы его увидеть. Ощущение освобождения, рождаемое путешествиями? Я могу испытать его во время поездки из Лиссабона в Бенфику, и испытать интенсивнее, чем некто, едущий из Лиссабона в Китай, ведь если освобождения нет во мне самом, то его нет – для меня – нигде. Любая дорога, – сказал Карлейль,[13] – даже эта дорога из Энтефула, ведет тебя до предела мира. Но дорога из Энтефула, если ее всю пройти, до самого конца, вернет нас снова в Энтефул; так, будто Энтефул, где мы уже были, и есть тот самый предел мира, нами разыскиваемый.
Кондильяк[14] начинает свою знаменитую книгу: «Как бы высоко мы не взлетали и как бы низко не опускались, мы никогда не выходим за границы своих ощущений». Никогда не вырываемся из себя. Никогда не достигаем другого, разве что делая себя другими с помощью собственного чувствительного воображения. Настоящие пейзажи – это те, что создаем мы сами, потому что так, будучи их творцами, мы видим их такими, какие они есть в действительности, какими они были созданы. Ни одно из семи чудес света не интересует меня настолько, чтобы мне по-настоящему захотелось его увидеть; восьмое чудо – то, что я изучаю, – мое.
Кто преодолел все моря, преодолел всего лишь собственную однообразность. Я уже пересек больше морей, чем все остальные люди. Я уже видел больше горных цепей и городов, чем их существует на Земле, и огромные реки из никаких миров протекали перед моим взором. Если бы я путешествовал, то встретил бы жалкую копию того, что уже увидел без всяких путешествий.
В странах, что посетили другие, они были неизвестными странниками. В странах, что посещаю я, во мне воплощаются не только скрытая радость путешествия инкогнито, но и торжество короля, правящего этими землями, и народ с его обычаями, и целая история этой и других наций. Те же самые пейзажи, те же самые дома, я их видел, потому что был ими, созданными Богом из субстанции моего воображения.
Отречение есть освобождение. Не хотеть – это власть.
Что может мне дать Китай, чего бы моя душа уже не получила? И если моя душа этого мне не может дать, как может мне это дать Китай, если только своей душой я могу его увидеть, когда туда попаду? Я бы мог поехать искать богатства Востока, но не богатства души, потому что богатства моей души – это я сам, а я нахожусь там, где нахожусь, – на Востоке ли, нет ли.
Я понимаю, что путешествует тот, кто не способен чувствовать. Поэтому так жалки всегда и книги, описывающие опыт, и книги путешествий, в которых заслуживает внимания лишь воображение тех, кто их пишет. И если тот, кто пишет их, обладает воображением, нас может очаровать как подробное, фотографическое описание выдуманных пейзажей, так и описание, неизбежно менее подробное, пейзажей, которые он в реальности видел. Все мы близоруки, но только не внутри. Лишь мечта видит ясно.
В глубине нашего земного опыта – всего две вещи: всемирное и личное. Описывать всемирное – значит описывать общее для всех душ человеческих и для всего человеческого опыта; – это необъятное небо с ночью и днем, происходящими от него и в нем; бег речек – в них, во всех, та же вода, родственная и свежая; моря, горы, дрожащие и протяженные, сохраняющие величие высоты в секрете своей непроницаемости; поля, времена года, дома, лица, движения; одежда и улыбки; любовь и войны; боги, временные и вечные; бесформенная Ночь, мать, породившая весь мир; Судьба, умственное чудовище, которое представляет собою все… Описывая это или любую другую всемирную вещь, я говорю душою, языком примитивным и божественным, на том адамовом наречии, что все понимают. Но какой язык, изломанный и хаотический, я бы выбрал, если бы должен был описать Элевадор-де-Санта-Жушта,[15] Реймский собор, шаровары зуавов, произношение португальцев из Траз-уж-Монтеш? Все эти вещи – всего лишь неровная поверхность; могут чувствоваться при ходьбе, но не чувствоваться сами по себе. То, что на Элевадоре-де-Санта-Жушта является всемирным, – это механика, облегчающая жизнь. То, что в Реймском соборе является истинным, – не собор и не Реймс, но религиозное величие зданий, освященных знанием глубины человеческой души. И – в шароварах зуавов – вечна разноцветная фантазия одежды, язык, создающий некую социальную упрощенность, приводящий к некоей новой обнаженности. То, что в местном произношении является всемирным, – это печать домашности, отметившая голоса тех, кто живет стихийно, это разнообразие живущих вместе существ, это многоцветное наследование манер, различие народов и обширное многообразие наций.
Мы – вечные прохожие, идущие мимо нас самих, для нас не существует пейзажей, кроме тех, какими сами мы являемся. Мы ничем не владеем, потому что не владеем и собою. У нас нет ничего, потому что сами мы – ничто. К какой вселенной мне простирать руки? Вселенная не моя – это я сам.
Уже давно не пишу. Проходят месяцы, а я не живу, я существую между конторой и физиологией, с каким-то внутренним онемением мыслей и чувств. Это, к сожалению, не дает покоя: в разложении есть брожение.
Уже давно не только не пишу, но даже не существую. Пожалуй, я едва мечтаю. Улицы для меня просто улицы. Работаю в конторе, сознавая только эту контору, но не могу сказать, что не отвлекаюсь: нахожусь позади, дремлю вместо того, чтобы размышлять, несмотря на это, я – всегда другой, позади работы.
Уже давно не существую. Я очень спокойный. Никто меня не отличит от того, кто я есть. Сейчас я почувствовал, что дышу так, будто для меня это какое-то новое упражнение или уже позабытое. Начинаю осознавать, что я осознаю. Возможно, завтра я буду пробужден для себя самого и продолжу путь моего собственного существования. Не знаю, буду ли я счастливее от этого или наоборот. Не знаю ничего. Поднимаю взгляд праздношатающегося и вижу, что на склоне Крепости закат горит в десятках окон, высоким отражением холодного огня. Вокруг этих очей упорного пламени весь склон нежен на склоне дня. Я могу, по крайней мере, почувствовать себя печальным и осознать, что с этой моей печалью сейчас встретились – замеченные слухом – внезапный звук идущего трамвая, голоса молодых прохожих, забытый шум живого города.
Уже давно я не являюсь собою.
Порою – и всегда внезапно – появляется во мне среди ощущений какая-то усталость от жизни, настолько страшная, что я не могу придумать, каким образом преодолеть ее. Для ее излечения самоубийство – сомнительное средство, смерть, даже если ведет к бессознательности, еще недостаточна. Это не усталость, стремящаяся к прекращению существования – возможному или невозможныму, – но что-то намного более страшное и глубокое, само прекращение существования, когда нет никакой возможности продолжать быть.
Мне кажется, я смутно различаю порой в запутанных спекуляциях индусов что-то от этого стремления, что-то негативное. Но то ли им не хватает остроты ощущений, чтобы так описать, что они думают, то ли не хватает проницательности разума, чтобы так прочувствовать, что они чувствуют. Фактически того, что я в них смутно различаю, я не вижу. Фактически я считаю, что сначала надо передать в словах мрачный абсурд этого неизлечимого ощущения.
И я лечу его, описывая его. Да, не существует отчаяния, если оно поистине глубоко, – поскольку это не чистое чувство, но в нем участвует и разум, – которое нельзя описать иронически. Если бы от литературы не было никакой другой пользы, довольно было бы и этой.
Страдания разума, к несчастью, причиняют меньшую боль, чем страдания чувств, а эти последние, к несчастью, меньшую, чем телесные. Говорю «к несчастью», потому что человеческое достоинство потребовало бы противоположного. Нет тоскливого ощущения таинства, которое причиняло бы боль, как любовь, ревность, ностальгия, душило бы, как сильный физический страх, преображало бы, как гнев или стремление. Ни одна из болей, разрушающих душу, не может быть столь реальной, как зубная боль, или боль от колик, или (надо полагать) боль при родах.
Мы созданы таким образом, что разум, облагораживающий определенные эмоции или ощущения и возвышающий их над другими, может их также подавить, если распространяет свой анализ на сравнение этих чувств и ощущений.
Пишу, будто спящий, и вся моя жизнь – это квитанция, в получении которой надо расписаться.
В курятнике, откуда он уйдет на смерть, петух поет гимны свободе оттого, что ему дали два насеста.
Пейзаж дождя
В каждой капле дождя плачет моя неудавшаяся жизнь. Что-то от моего непокоя есть в том, как капля за каплей, ливень за ливнем, печаль дня бесполезно низвергается на землю.
Такие бесконечные дожди. Моя душа промокла, слушая их звук. Бесконечно…Моя плоть – жидкая и водянистая вокруг моего ощущения от нее.
Беспокойный холод обхватил ледяными руками мое бедное сердце. Серые часы и… растягиваются, образуя равнину во времени; минуты ползут.
Какой дождь!
Водосточные желоба изрыгают небольшие потоки воды, всегда внезапно. До моего сознания доходит, что это трубы издают шум, нарушающий звук падения воды. Бьет в оконное стекло ленивый, подобный стонам, дождь…
Какая-то холодная рука сдавливает мне горло и не дает вдыхать жизнь.
Все во мне умирает, даже знание о том, что я могу мечтать. Мое физическое состояние никак нельзя назвать хорошим. Вся мягкость, на которую я опираюсь душой, ощетинилась шипами. Все взгляды, куда ни посмотри, так мрачны, ведь их бьет этот свет скудеющего дня, желающего скончаться без боли.
Наихудшее в мечтах – то, что мечтают все. О чем-то думает в сумерках мальчик-посыльный, дремлющий перед лампой в перерыве между перевозками. Я знаю, о чем он смутно думает: о том же, во что между метаниями погружаюсь я сам, охваченный летней скукой жаркой конторы.
Испытываю большую жалость к тем, кто мечтает о возможном, законном и близком, чем к тем, кто грезит о далеком и странном. Те, кто мечтает с упоением, – или безумцы и верят в то, о чем мечтают, и счастливы, или простые мечтатели, для которых грезы – музыка души, убаюкивающая их и не говорящая ничего. Но мечтать о возможном – значит иметь и реальную возможность настоящего разочарования. Не может меня всерьез угнетать то, что я никогда не стану римским императором, но мне может быть больно от невозможности заговорить со швеей, что каждый день возвращаясь домой около девяти часов, поворачивает за угол направо. Мечта, обещающая нам невозможное, уже этим лишает нас его, но мечта, обещающая нам возможное, вмешивается своей жизнью в нашу и навязывает нашей жизни свое решение. Первая живет – исключительная и независимая; вторая – послушна случайностям, с нами происходящим.
Поэтому я люблю несуществующие пейзажи и огромные пустынные пространства равнин, где я никогда не побываю. Прошлые исторические эпохи – это истинное чудо, ведь сейчас я не могу вообразить, что это произошло со мною. Я сплю, когда мечтаю о том, чего нет; я просыпаюсь, когда мечтаю о том, что может быть.
Я наклоняюсь с балкона конторы, безлюдной в этот полдень, над улицей, где моя рассеянность чувствует движения людей, не видя их, в промежутке размышления. Дремлю, опершись на ограду, причиняющую мне боль, и ниоткуда ко мне приходит великое обещание. Подробности неподвижной улицы со многими прохожими выделяются для меня с каким-то отстранением разума: ящики, нагроможденные на телегу, мешки у двери склада и в витрине бакалейной лавки на углу отблеск бутылок того вина из Порту, которое, воображаю я в мечтах, никто не может купить. Мой дух обособляется наполовину от материи. Исследую с помощью воображения. Люди, проходящие по улице, все те же, что проходили там недавно, это всегда колеблющийся облик кого-то, пятна движения, голоса неопределенности, что-то проходящее и никогда не происходящее.
Обозначение сознанием чувств, до того, как с этими же чувствами… Возможность чего-то другого… И внезапно звучат за мною в конторе шаги – метафизически неожиданные – молодого человека. Я чувствую, что мог бы его убить за то, что он прервал мои размышления, которых не было. Я смотрю на него, повернувшись, в молчании, полном ненависти, слышу заранее, подавляя в себе желание его убить, его голос, что-то мне говорящий. Он улыбается из глубины комнаты и громко желает мне доброго дня. Ненавижу его, как вселенную. Мои глаза отяжелила выдумка.
После дождливых дней небо снова несет в себе синеву, ранее скрытую на огромных просторах высоты. Улицы, где дремлют лужи, как стоячая вода на полях, контрастируют с ясной радостью, остывающей в вышине, и это делает милыми эти грязные улицы и весенним зимнее небо. Воскресенье, и мне нечего делать. Не хочется мечтать в такой чудесный день. Я наслаждаюсь им со всей искренностью чувств, которым предался мой разум. Прогуливаюсь, как освободившийся продавец. Чувствую себя старым лишь затем, чтобы иметь удовольствие почувствовать, как молодею.
На огромной воскресной площади есть торжественный памятник другой разновидности дня. В Святом Доминике выходят от обедни и готовятся к началу другой службы. Вижу тех, кто выходит, и тех, кто еще не вошел, ожидая кого-то, невидимого тем, выходящим.
Все это не имеет значения. Это, как все обыкновенно в жизни, сон о таинствах и замках, оттуда я смотрю, как прибывший вестник, на равнину моего размышления.
Когда-то, еще ребенком, я шел на эту самую обедню или, может быть, на другую, но, должно быть, все же на эту. Надевал, с сознанием значимости момента, свой единственный хороший костюм и наслаждался всем – даже тем, чем наслаждаться не имело смысла. Это был выход в общество, и костюм был чистый и новый. Чего еще может желать тот, кто должен умереть, и не знает об этом, идя за ручку с мамой?
Когда-то я наслаждался всем этим, но, возможно, только сейчас осознал, насколько я этим наслаждался. Я входил в церковь, на службу, как входят в великое таинство, и выходил из нее, будто на поляну. И так было – на самом деле и еще есть – на самом деле. Только существо, которое не верит и которое повзрослело, душа, вспоминающая и плачущая, они – вымысел и путаница, беспорядок и холодная мостовая.
Да, то, каким я сейчас являюсь снаружи, – невыносимо, если бы я не мог вспоминать, каким я был. И эта чуждая мне толпа, продолжающая еще выходить с обедни, и скапливающиеся около церкви люди, собирающиеся на другую службу, – будущая толпа – все это, будто руки, тянущиеся через медленную реку под открытыми окнами моего дома на берегу.
Память, воскресенья, обедни, удовольствие от этого, чудо времени, оставшегося, потому что прошло, и никогда не забываемого, ведь оно было моим… Абсурдная диагональ нормальных ощущений, внезапный шум экипажа с площади, это гремят колеса в шумной тишине автомобилей, и каким-то образом, как материальный парадокс времени, он существует сегодня, именно здесь, между тем, кто я есть, и тем, что потерял, в том промежутке меня самого, того, кого зову собой…
Чем выше поднимается человек, тем большим он должен пожертвовать. На вершине нет больше места, кроме как для одинокого человека. Чем он совершеннее, тем более цельный; и чем более цельный – тем менее другой.
К этим заключениям я пришел после того, как прочел в журнале историю великой и сложной жизни одного известного человека. Этот американский миллионер был всем. Имел столько, сколько желал, – деньги, любовь, дружбу, преданность, путешествия, коллекции. Это не означает, что деньги могут сделать все, но огромная притягательная сила, даваемая большим количеством денег, действительно может почти все.
Отложив журнал на кофейный столик, я подумал, что почти то же самое на своем уровне мог бы сказать коммивояжер, которого я более или менее знаю и который каждый день обедает, как и сейчас, за угловым столиком в глубине комнаты. Все, что было у того миллионера, было и у этого человека; в меньшей степени, это понятно, но в соответствии с его положением. Двое людей добились одного и того же, даже нет различия в их известности, потому что различие в окружении также обосновывает идентичность. Нет никого в мире, кто бы не знал имени этого американского миллионера; но и нет никого на лиссабонской площади, кто бы не знал имени того человека, что сейчас там обедает.
Эти два человека в конце концов добились всего, до чего только может дотянуться рука. Они отличались лишь длиной этой руки; во всем остальном были одинаковы. Я никогда не умел завидовать этому типу людей. Всегда считал, что доблесть – достичь того, до чего нельзя дотянуться, жить там, где не находишься, быть живее после смерти, чем при жизни, – в получении, наконец, чего-то невозможного, абсурдного, в преодолении, точно препятствия, самой реальности мира.
Если мне скажут, что продолжаться после того, как окончишь свои дни, удовольствие сомнительное, отвечу, во-первых, что мне неизвестно, существует ли оно, во-вторых, что я не знаю ничего о жизни после смерти; ответил бы еще, что удовольствие от будущей славы – это удовольствие сегодняшнего дня, а будущей является только слава. И есть удовольствие гордости, ему нет равных среди удовольствий, которые может дать материальное обладание. Пусть иллюзорное, оно полнее, чем удовольствие от наслаждения только тем, что находится здесь, рядом с нами. Американский миллионер не может верить в то, что потомство оценит его стихи, ввиду того что он не сочинил ни одного стихотворения; коммивояжер не может предполагать, что будущее могло бы наслаждаться его картинами, коль скоро он не написал ни одной.
Я же, будучи никем в этой преходящей жизни, могу наслаждаться видением будущего и читать эту страницу, ведь я действительно ее пишу; могу гордиться, как гордятся сыном, своей будущей славой: я хотя бы знаю, чем могу прославиться. И когда я об этом думаю, поднимаюсь из-за стола с ощущением какого-то внутреннего величия, будто моя невидимая фигура поднимается над Детройтом, Мичиганом и над всем Лиссабоном.
Замечаю, однако, что не с этих рассуждений начались мои размышления. Сперва я обдумывал, что же – немногое – должно быть у человека, вынужденного выживать. Но не все ли равно, каково рассуждение – все они одинаковы. Слава – это не медаль, но монета: с одной стороны – Лицо, с другой – обозначение стоимости. Для больших ценностей не существует монет: их вес выражен бумагой, а она стоит недорого.
Такой метафизической психологией и утешаются ничтожные личности вроде меня.
У некоторых есть одна большая мечта, им не хватает в жизни того, о чем они мечтают. Другие вовсе не имеют мечты, и этого им тоже не хватает.
Усилие во имя какой бы то ни было цели, совершаясь, меняется, становится другим усилием, служит иным целям, служит порой совершенно противоположным изначальному. Только заурядная цель имеет смысл, потому что лишь она может быть полностью реализована. Если я хочу направить усилия на достижение богатства, эта цель, в определенной степени может быть достигнута; цель заурядна, как все корыстные цели, личные или нет, достижима и поддается контролю. Но если мое намерение – послужить родине, или внести вклад в человеческую культуру, или улучшить человеческий род? Я не смогу быть уверен ни в процессе достижения, ни в контроле за достижением этих целей…
Совершенный язычник был совершенством человека, который существует; совершенный христианин – это совершенство человека, которого нет; совершенный буддист – это совершенство небытия человека.
Природа – это различие между душою и Богом.
Все, что человек выставляет напоказ или выражает, это одна-единственная пометка, оставленная от уничтоженного текста. Из нее мы более или менее извлекаем смысл, который был заложен в самом тексте; но сомнению и различным толкованиям всегда остается место.
Многие пытаются определить человека и определяют его, в основном исходя из его принадлежности к животному миру. Поэтому определения человека часто начинаются так: «человек – это животное…» и далее прилагательное или причастие, или: «человек – это животное, которое…» и сообщается, каковы его свойства. «Человек – это больное животное», – сказал Руссо, и в известной степени он прав. «Человек – животное, использующее железные инструменты», – сказал Карлейль, и это отчасти правда. Но и эти определения, и другие, им подобные, всегда несовершенны и односторонни. И причины тут весьма простые: не легко отличить человека от животного, для этого нет надежного критерия. Внутренне жизнь человека столь же бессознательна, как и жизнь животного. Одни и те же глубокие законы управляют извне инстинктами животных и, также извне, разумом человека, который является, пожалуй, всего лишь инстинктом в стадии образования, таким же бессознательным, как любой инстинкт, но менее совершенным, поскольку еще не сформирован.
«Все идет от необоснованности», – говорит Греческая антология.[16] И, все действительно идет от необоснованности. За исключением математики, которая не должна ничего видеть, кроме бездушных чисел и бессодержательных формул, и в силу этого может быть абсолютно логичной, наука является не чем иным, как детской игрой в сумерках, желанием ловить тени птиц и задерживать тени трав на ветру.
Странно и интересно, что сложно отыскать слова, которые бы описывали истинное отличие человека от животных, и при этом легко отыскать способ отличить человека выдающегося от заурядного.
Я не забыл фразу Геккеля, биолога, которого читал на заре развития моего разума, когда интересуешься научно-популярной литературой и аргументами против религии. Фраза примерно такая: высший человек (кажется, был назван Кант или Гёте) гораздо дальше отстоит от человека заурядного, чем человек заурядный от обезьяны. Я не забыл этой фразы, потому что в ней – правда. Между мною, так мало значащим среди людей думающих, и крестьянином из Луреша будет, без сомнения, бо́льшая дистанция, чем между тем же крестьянином и, не говорю уж об обезьяне, котом или собакой. Ни один из нас, от кота до меня, не может на самом деле управлять жизнью, ему навязанной, или данной ему судьбой; все мы одинаково происходим неизвестно от чего, тени чужих движений, воплощенные результаты, ощущаемые последствия. Но между мною и крестьянином есть различие, связанное с присущим мне умением абстрактно мыслить и бескорыстно чувствовать; тогда как его мышление отличается от мышления кота разве что степенью развития.
Человек высший в отличие от низшего и от животных – братьев последнего – обладает иронией. Ирония – первый признак сознательности. И ирония проходит две стадии: стадию, обозначенную Сократом: «Я знаю, что ничего не знаю», и обозначенную Санчесом,[17] сказавшим: «Не знаю, ничего ли я не знаю». Первого этапа, когда мы сомневаемся в себе догматически, достигает каждый высший человек. Второго, когда сомневаемся и в нас самих, и в нашем сомнении, – немногие.
Знать себя – значит ошибаться, и оракул, сказавший: «Познай самого себя», предложил задачу большую, чем испытания Геркулеса, и загадку, более сложную, чем загадка Сфинкса. Не узнавать себя сознательно – вот это и есть путь. И не узнавать себя сознательно – этим активно занимается ирония. Не знаю большего или более присущего человеку, что было бы действительно великим, чем терпеливый и выразительный анализ способов не-познания себя, сознательный досмотр бессознательности наших сознаний, метафизика независимых теней, поэзия сумерек разочарования.
Но всегда что-то нас вводит в заблуждение, всегда любой анализ нас оглупляет, всегда истина, хотя бы и ложная, ждет нас дальше, за углом. И это то, что утомляет более, чем жизнь, когда жизнь утомляет, и чем знание и размышление о ней, которые никогда не перестанут утомлять.
Я поднимаюсь со стула, где я, оставаясь рассеянно за столом, проводил время, рассказывая самому себе об этих беспорядочных впечатлениях. Поднимаюсь, поднимаю свое тело, находясь в нем самом, и иду к окну, возвышающемуся над крышами, откуда могу видеть город, отходящий ко сну в медленно наступающей тишине. Луна, большая, чистейшего белого цвета, печально освещает различия располагающихся террасами домов. И лунный свет, кажется, холодно освещает все таинство мира. Кажется, показывает все, и это все – тени, смешанные с бликами света, ложные промежутки, какие-то абсурдные неровности, бессвязность увиденного. Ни ветерка, и кажется, что от этого таинство огромнее. Мое абстрактное мышление доводит меня до дурноты. Никогда не напишу ни одной страницы, что могла бы меня раскрыть или раскрыть что-то другое. Очень легкое облако парит смутно над луной, как убежище. Не знаю, как и эти крыши. Ошибся, как и вся природа.
Инстинктивное постоянство жизни посредством видимости разума – это для меня одно из размышлений, наиболее интимных и постоянных. Воображаемая маска сознания служит лишь, чтобы отличить ту бессознательность, которая не притворяется.
От рождения до смерти человек живет как раб своего собственного внешнего вида, – как животные. Каждая жизнь не живет, но прозябает в большей степени и с большей сложностью. Руководствуется нормами, не зная, существуют ли они, не зная, что ими руководствуется; его мысли, его чувства, его действия бессознательны, и не потому, что в них не хватает сознания, но потому, что в них нет двух сознаний.
Догадываешься, что введен в обман, – так, и не более, чувствует большинство людей.
Блуждаю мысленно по перипетиям жизней обычных людей. Вижу, что они являются рабами собственного темперамента, внешних и чуждых обстоятельств.
Сколько раз я слышу, как они говорят одни и те же слова, символизирующие весь абсурд, все ничтожество, все невежество их существа. Это слова, которыми говорят о любом материальном удовольствии: «То, что люди берут от этой жизни»… Берут где? Берут куда? Берут зачем? Было бы неправильно выводить их из заблуждения подобными вопросами… Так говорит материалист, потому что любой человек, говорящий так, – это, пусть даже подсознательно, материалист. Что же он хочет взять от жизни и каким способом? Куда он берет свиные отбивные, и красное вино, и случайную подружку? Под какие небеса, в которые не верит? На какую землю, где нас сопровождает одно лишь гниение, которым втайне была вся его жизнь? Не знаю фразы ни более трагичной, ни более полно разоблачающей человечность. Так говорили бы растения, если бы могли понять, что наслаждаются солнцем. Так могли бы сказать о своих удовольствиях черви или существа низшие, чем человек по способности самовыражения. И кто знает, я, пишущий эти строки, в глубине души предполагающий, что они сохранятся, не считаю ли и я, что память о моем авторстве – это именно то, что я «беру от этой жизни». И, точно бесполезный труп обыденного, в землю ляжет, разделяя это общее забвение, такой же бесполезный труп моих писаний, созданных для отклика. Свиные отбивные, вино, чья-то подружка? Зачем я все это высмеиваю?
Братья по неведению, разные способы существования одной и той же крови, различные формы одного и того же наследства – кто из нас сможет предать другого? Можно предать жену, но не мать, не отца, не брата.
Медлительный в лунном свете медлительной ночи, ветер волнует предметы, заставляя тени двигаться. Возможно, это всего лишь одежда, развешанная этажом выше, но тень, сама по себе, не знает сорочек и колышется неощутимо в немом согласии со всем.
Я оставил открытыми оконные ставни, чтобы проснуться рано, но до сих пор – а ночь уже такая старая, что не слышно ни звука, – я не смог ни погрузиться в сон, ни пробудиться окончательно. Лунный свет – за тенями в моей комнате, но он не уходит через окно. Существует, как день из полого серебра, и крыши дома напротив, видного мне с постели, жидкие, черненой белизны. Словно поздравления с вышины глухому, этот печальный покой в резком свете луны.
И, не видя, не думая, с глазами, уже смеженными отсутствующим сном, думаю, какими точными словами можно было бы описать лунный свет. Древние говорили, что лунный свет белый или что он из серебра. Но ведь белизна лунного света соткана из множества цветов. Если бы я поднялся с постели и заглянул за холодные стекла, лунный свет показался бы мне белым с серым, синеватым с желтым оттенком; над изломанными линиями крыш, в неуравновешенности их темноты, он то золотит покорные черно-белые здания, то заполняет одним цветом без цвета коричневатую красноту высоких черепиц. В глубине улицы – влекущая бездна, не имеющая иного цвета, кроме синего, – возможно, из-за серого цвета камней. В глубине горизонта эта синева будет темной, отличаясь от черной синевы неба в глубине. Там, где лунный свет бьет в окна, он черно-желтый.
Отсюда, с кровати, если открыть глаза, полные так и не пришедшего сна, все выглядит как снег, в котором колеблются волокна однообразного перламутра. И если я чувствую то, что чувствую, – это скука, превращенная в белую тень, темнеющая, когда зажмуриваешь глаза.
Я всегда удивляюсь, когда заканчиваю что-то. Удивляюсь и – пустею. Мой инстинкт совершенства не должен был бы позволять мне что-либо завершать; должен был бы препятствовать мне даже начинать что-либо. Но я отвлекаюсь и снова делаю. То, чего я добиваюсь, – это какой-то результат во мне самом, вследствие не волевых усилий, а ослабления воли. Начинаю, потому что мне недостает силы думать; заканчиваю, потому что у меня недостает души, чтобы просто прервать. Эта книга – мое малодушие.
Нередко я прерываю размышления ради какого-то пейзажа, так или иначе включающегося в схему, действительную или предполагаемую, моих впечатлений, ведь этот пейзаж – дверь, за которой я избегаю знания о моем творческом бессилии. Мне необходимо в ходе бесед с самим собою, создающих слова этой книги, внезапно заговорить с другим человеком, и я обращаюсь к свету, парящему, как сейчас, над крышами домов, что кажутся мокрыми от света, падающего сбоку; обращаюсь к мягко волнующимся высоким деревьям на склоне, что кажется близким в своей возможности немого обвала; к плакатам, наклеенным на дома у обрыва, с окнами в роли букв, где мертвое солнце золотит влажную камедь.
Зачем я пишу, раз не пишу лучше? Но что было бы со мной, если бы я не писал того, что я могу написать, действуя, таким образом, во вред себе самому?
Я – плебей по своим стремлениям, так как пытаюсь их реализовать; не отваживаюсь на молчание, подобно боящемуся темной комнаты. Я такой же, как те, что ценят награду выше, чем усилие, и наслаждаются славой в меховой шубе.
Для меня писание сопряжено со стыдом; я стыжусь себя, но не могу прекратить писать. Писание – это наркотик, я питаю к нему отвращение, но употребляю его, это порок, который я презираю и с которым я живу. Есть необходимые яды, и бывают они неуловимыми, составленными из частичек души, травы, собранные в тайниках на руинах мечтаний, черные маки, найденные у гробниц намерений, длинные листья сладострастных деревьев, колышущих ветвями на берегах ужасных рек души.
Писать для меня это – терять себя, но теряют себя все, потому что все – потеря. Однако я теряю себя без радости, не так, как река в устье, но как водоем, образованный на побережье высоким приливом, чья мелкая вода никогда более не вернется в море.
Поднимаюсь со стула с чудовищным усилием, но кажется, будто я несу с собою стул и что он стал тяжелее, потому что это кафедра субъективизма.
Кто я для меня самого? Только одно из моих ощущений.
Мое сердце пустеет, независимо от моего желания, как дырявое ведро. Думать? Чувствовать? Как все утомляет, если это что-то определенное!
Пишу порой, словно от скуки, чтобы не говорить. Мечта, в которую естественно погружается тот, кто не думает, мне позволяет потеряться в ней в письме, ведь я умею мечтать в прозе. И много искренних чувств, много вполне естественных эмоций я вырываю, пытаясь не чувствовать.
Бывают моменты, когда пустота от ощущения себя живущим достигает плотности чего-то достоверного. У великих людей действия, которых можно назвать святыми, ведь они действуют, ведомые целым чувством, а не его частью, это чувство, будто жизнь не является ничем, ведет к бесконечности. Ночь и звезды их украшают, умащивают их молчание и одиночество. У великих людей бездействия, к каким я себя смиренно причисляю, то же чувство ведет к бесконечно малому; их ощущения растягиваются, как резина, позволяя видеть поры их слабой непрерывности.
И одни, и другие в эти моменты любят сны, как обычный человек, которого нельзя назвать ни человеком действия, ни человеком не-действия, это чистое отражение общего существования человеческого рода. Сон – это слияние с Богом, это Нирвана, как бы мы это ни определяли; сон – медленный анализ ощущений, используется ли он как скрупулезное исследование души, или он – сон, подобный музыке желаний, медленная анаграмма однообразия.
Пишу, задерживаясь на словах, как перед витринами, где ничего не вижу, получувства, недовыражения – то, что мне остается, как цвет набивки, которого я не вижу, гармония, выставленная напоказ, составленная из неизвестных мне объектов. Пишу, убаюкивая себя, точно безумная мать мертвого сына.
Я обнаружил себя в этом мире в один из дней, не знаю, в который, а до того – с тех пор, очевидно, как родился, – жил, того не ощущая. Если я спрашивал, где я был, все меня обманывали, и все противоречили друг другу. Если просил, чтобы мне рассказали, что я делал, все лгали мне, и каждый мне рассказывал свое. Если, не зная, останавливался в пути, все удивлялись, что я не следую в пункт, местонахождения которого никто не знает, или не возвращаюсь обратно, – я же, пробудившись на перекрестке, не ведал, откуда пришел. Я видел, что нахожусь на сцене, не зная роли, а другие бойко играют свои, хотя тоже их не знают. Я видел, что был одет пажом, но мне не дали моей королевы, обвиняя меня в ее отсутствии. Видел в своих руках послание, которое принес, а они говорили, что это чистая бумага, и смеялись надо мною. И я даже не знаю, смеялись ли они потому, что все бумаги – чистые или потому, что все послания отгадываются.
Под конец я сел на камень на перекрестке, точно у очага, которого у меня не было. И начал наедине с собой мастерить бумажные кораблики из того обмана, которым меня окружили. Никто не хотел ни поверить мне, ни назвать меня лжецом, и не было водоема, где бы я подтвердил свою правоту.
Слова бесплодные, потерянные, свободные метафоры, смутной тоской увлекаемые к теням… Следы лучших часов, прожитых не знаю где, в каких-то аллеях… Погашенный светильник, чье золото сияет в сумерках памятью умершего света… Слова, отданные не ветру, но земле, которым было позволено выпасть из бессильных пальцев, как сухим листьям, что упали бы на них с дерева, невидимого и бессмертного… Тоска о водоемах в чужих усадьбах… Нежность к тому, что никогда не случилось…
Жить! Жить! И надеяться, что в саду Прозерпины будет славно спать.
Какая неизвестная королева сохраняет возле своих водоемов память о моей разбитой жизни? Я был пажом скудных тополевых аллей в птичьи часы моего голубого покоя. Далекие корабли дополняли море, омывающее мои террасы, и на южных облаках я потерял свою душу, как весло, которое уронили.
Я создал в себе государство с политикой, партиями и революциями, и я являюсь всем этим, я – Бог в реальном пантеизме этого народа, который тоже я, суть и действие их тел, их душ, земли, что они топчут, всех их действий. Быть всем, ими и не ими. Ах я несчастный! Это всего лишь одно из моих мечтаний, какие я не могу реализовать. Если бы я реализовал его, может быть, я бы умер, не знаю почему, но нельзя жить после этого огромного святотатства, узурпации божественной власти быть всем.
Наслаждение, которое я мог бы получить, создавая «иезуитизм ощущений»!
Есть метафоры, более живые, чем люди, идущие по улице. Есть рисунки в уголках книг, живущие реальнее, чем многие мужчины и многие женщины. Есть литературные фразы, имеющие абсолютно человеческую индивидуальность. Шаги моих абзацев вызывают у меня холодок страха, такими человеческими я их слышу, такими выделяющимися, рельефными – при отражении звука от стен моей комнаты, ночью, в тени… Я написал фразы, звук которых – прочтены они вслух или шепотом – невозможно скрыть: это звук того, что получило абсолютную внешность и душу.
Для чего я демонстрирую время от времени противоречивые и несовместимые процессы: мечтания и овладения процессом мечтания? Зачем? Возможно, я настолько привык воспринимать лживое как истинное, то, о чем мечтал как виденное воочию, что даже потерял человеческую способность, полагаю мнимую, различать правду и ложь.
Мне достаточно четко увидеть глазами, или услышать ушами, или ощутить любым другим органом чувств, чтобы я почувствовал, что то или иное – реально. Может быть даже, я бы мог чувствовать две несовместимые вещи одновременно. Неважно.
Есть создания, что способны долгие часы страдать от невозможности быть какой-то фигурой на картине или какой-то мастью в колоде карт. Есть души, над которыми тяготеет, подобно проклятию, невозможность быть людьми Средневековья. И мне случалось так страдать прежде. Сегодня этого со мною уже не случится. Я усовершенствовался так, чтобы отстраняться от этого. Но мне больно, к примеру, что я не могу представить себя в мечтах двумя королями в разных королевствах, относящимися к вселенным с различными типами пространства и времени. Неумение достичь этого ранит меня на самом деле. Это мне напоминает чувство голода.
Возможность мечтать о немыслимом, представляя его зрительно, – это один из великих триумфов, какого даже я, так сильно в этом преуспевший, добиваюсь только в редких случаях. Да, мечтать, скажем, что я являюсь одновременно мужчиной и женщиной, совершающими прогулку у берега реки. У меня получается быть в одно и то же время двумя объектами, одинаково интегрироваться в них: сознательным кораблем в южном море и печатной страницей в античной книге. Каким абсурдом все это кажется! Но абсурдно все, и мечта – даже менее абсурдна.
Разве любовь каждой женщины мира может быть не только сном о любви для того, кто в мечтах, подобно Плутону, похищал Прозерпину?
Я любил, подобно Шелли, Антигону – преждевременно: вся преходящая любовь не имела для меня другого удовольствия, кроме памяти о том, что я потерял.
Дважды в юности, представляющейся такой далекой и потому кажущейся прочитанной откровенной повестью, я получил удовольствие от унижения любить. С высоты сегодняшнего возраста оглядываясь назад, на то прошлое, которое уже не умею определить ни как далекое, ни как близкое, верю, это хорошо, что опыт разочарования я пережил так рано.
Ничего не было, за исключением того, что произошло со мной. Говоря о внешней стороне этого интимного вопроса, бесчисленное множество мужчин прошли через такие же мучения. Но…
Я слишком рано получил с помощью как чувствительности, так и разума представления о том, что жизнь воображения – именно та, что выпадает людям моего темперамента. Игры моего воображения могут (задним числом) утомлять, но не ранят и не унижают. Для несуществующих любовников не существует и притворной улыбки, обмана нежности, коварства ласк. Никогда нас не смогут ни оставить, ни каким-то образом отречься от нас.
Все великие печали нашей души являются вселенскими катаклизмами. Когда они нас настигают, вокруг нас вращается Солнце, и расстраивается порядок звезд. Для каждой чувствующей души наступает день, когда Судьба в ней оказывается настоящим Апокалипсисом горя – когда небеса и все миры опрокидываются над ее скорбью.
Чувствовать себя высшим, наиболее достойным и видеть, что Судьба поступает с тобою, как с худшим, самым низким из людей, – кто может похвастаться, что он останется человеком в такой ситуации?
Если бы я однажды смог добиться такой непринужденности выражения, будто все искусство сконцентрировалось во мне, я писал бы тогда в апофеозе сна. Я не знаю большего удовольствия во всей моей жизни, чем возможность спать. Полное окончание жизни и души, полное отстранение от всего, что является живыми существами и людьми, ночь без памяти и без иллюзий, отсутствие как прошлого, так и будущего […]
Весь день, во всей безутешности легких и равнодушных облаков, был занят сообщениями о революции. Эти сообщения, верные или ложные, наполняют меня каким-то особым унынием, смешанным с презрением и с физической тошнотой. Моему разуму больно оттого, что кто-то полагает, будто можно изменить что-либо путем возмущения. Насилие, как бы там ни было, всегда являлось для меня самой мерзкой формой человеческой тупости. Все революционеры – глупцы, все реформаторы – в меньшей степени, потому что беспокойства от них меньше.
Революционер или реформатор – ошибка одна и та же. Неспособный властвовать над собственным отношением к жизни, или над своим собственным существом, чтобы их реформировать, человек поддается желанию изменить других, изменить внешний мир. Каждый революционер, каждый реформатор – это беглец. Бороться – значит не быть способным побороть самого себя. Реформировать – не иметь души, чтобы быть человеком.
Человек с тонкой чувствительностью и ясным умом, взволнованный злом и несправедливостью мира, ищет способ их уничтожить – в первую очередь там, где они наиболее ярко проявляются, вблизи себя; и он найдет их в своем собственном существе. Он будет увлечен этим делом в течение всей своей жизни.
Все для нас входит в наше представление о мире; изменить наше представление о мире – значит изменить мир, ведь для нас никогда не будет мира, кроме того самого, что существует для нас. Та внутренняя справедливость, ради которой мы пишем какую-то страницу, текучую и прекрасную, то истинное преобразование, ради которого мы оживляем свою мертвую чувствительность, все это – правда, наша правда, единственная правда. Большее, что есть в мире, – это пейзаж, рама, обрамляющая наши ощущения, переплетение того, о чем мы думаем. Да, это он, будь то многокрасочный пейзаж из предметов и живых существ – полей, домов, объявлений и одежды, будь то унылый пейзаж однообразных душ, поднимающийся на мгновение на поверхность в старых словах и избитых жестах, опускающийся снова на глубину фундаментальной глупости в проявлении человеческих чувств.
Революция? Изменения? Чего я очень хочу, всей искренностью моей души – чтобы ушли эти вялые облака, намыливающие серость неба; чего я хочу – видеть, как синева начинает проявляться среди них, истина достоверная и ясная, потому что она – ничто и ничего не хочет.
Ничто меня не огорчает так, как общепринятые слова о морали. Уже слово «долг» мне противно как некий проныра. Но есть еще «гражданский долг», «солидарная ответственность», «гуманизм» и другие того же происхождения, что внушают мне отвращение, как мусор, который выбрасывают из окон. Меня обижает сама вероятность того, что эти выражения могут иметь отношение ко мне, что я могу с ними столкнуться, как с определенной ценностью, как с определенным чувством.
Недавно я видел в витрине магазина игрушки, заставившие меня вспомнить, чем являются эти выражения. Видел на игрушечных тарелках игрушечные лакомства для кукольного стола. Этому существующему человеку, чувственному, эгоистическому, амбициозному, дружащему с одними, потому что имеет дар речи, враждующему с другими, потому что имеет дар жизни, что предложат этому человеку, с какими игрушками забавляться, с какими словами, пустыми по звуку и тону?
Правление основано на двух вещах: обуздании и обмане. Однако эти понятия не обуздывают и не обманывают, и в этом их зло. Опьяняют, когда их много, и это – другое.
Кого я ненавижу, так это реформаторов. Реформатор – это человек, видящий поверхностное зло мира и вызывающийся исцелить его, ухудшая положение со злом фундаментальным. Медик пытается сделать больное тело здоровым; но в социальной жизни мы не знаем, что́ есть больное или здоровое.
Не могу считать человечество ничем иным, как только одной из последних школ в истории живописи Природы. Я, как правило, не отличаю человека от дерева; и, естественно, предпочитаю то, что более интересно для моих мыслящих глаз. Если дерево меня интересует больше, то срубленное дерево меня огорчает более, чем умерший человек. Закаты ранят меня сильнее, чем смерть ребенка. Я – во всем, что не чувствует, для того, чтобы чувствовать.
Я чувствую себя виноватым в том, что записываю эти промежуточные размышления в час, когда границы вечера поднимает, окрашиваясь, легкий бриз. Нет, не окрашиваясь, ведь это не он окрашивается, а воздух, в котором он колеблется; но раз мне кажется, что окрашивается именно он, я так и говорю, ведь решимость говорить о том, что мне кажется, и свидетельствует, что это я.
Все неприятное, что происходит с нами в жизни, – смешные роли, что нам приходится играть, дурные поступки, ошибки, прегрешения против добродетелей – должно быть расценено как обычные случайности, неспособные коснуться струн души. Нам следует принимать их как зубную боль или мозоли, вещи, досаждающие лишь нашему телу.
Научившись такому восприятию, близкому к восприятию мистиков, мы оказываемся защищенными не только от мира, но и от нас самих, ведь мы побеждаем в себе внешнее, чуждое и, тем самым, враждебное.
Настоящий храбрец, сказал Гораций, неустрашим, даже если весь мир вокруг него рушится. Изображение абсурдно, настоящее – его смысл. Хотя бы вокруг нас рушилось то, чем мы притворялись, сосуществуя с другими, мы должны оставаться бесстрашными – не потому, чтобы были настоящими, но потому что это мы, и, будучи собой, ни о чем не должны сожалеть из того внешнего, что разрушается.
Жизнь должна быть для лучших из нас мечтой, которая отвергает сопоставления.
Прямой опыт – увертка или убежище лишенных воображения. Читая о риске, ожидающем охотника на тигров, подвергаю себя всем рискам, каким стоит подвергаться, исключая тот, какому подвергать себя не стоило.
Люди действия – невольные рабы людей понимания. Вещи не имеют значения, кроме как в их собственном толковании. Поэтому одни создают вещи, чтобы другие, превращая их в смыслы, давали бы им жизнь. Рассказывать – значит создавать, поэтому жить – это только «быть кем-то проживаемым».
Бездействие утешает во всем. Не действовать – дарует нам все. Воображать – все, поскольку нет стремления к действию. Никто не может быть королем мира, кроме как в мечтах. И каждый из нас, если действительно себя знает, хочет быть королем мира.
Не быть, размышляя, – это престол. Не хотеть, желая, – это корона. Мы имеем то, от чего отрекаемся, потому что это мы храним в мечтах, неприкосновенным, освещенным солнцем, которого нет, или луной, которой не может быть.
Все, что не есть моя душа, – это для меня, как бы я ни сопротивлялся, не более чем сценарий и декорации. Человек, хотя бы я и сознавал, что он – живое существо, как и я, всегда имеет для меня совершенно меньшее значение, чем дерево, если дерево красивее его. Поэтому человеческие движения – великие коллективные трагедии – всегда представлялись мне цветными фризами, лишенными души. Меня совсем не огорчила трагедия, случившаяся в Китае. Это далекая декорация, пусть там и лилась кровь.
Вспоминаю с грустной иронией демонстрацию рабочих, проведенную, вероятно, совершенно искренне (хотя мне всегда нелегко признавать искренними коллективные действия, ввиду того что лишь индивид наедине с собой – чувствующее существо). Это была сплоченная и свободная группа оживленных глупцов, что прошла, выкрикивая различные лозунги перед моим равнодушием к чужому. И я вдруг почувствовал тошноту. Те, кто страдает по-настоящему, не составляют плебс, не сбиваются в группы. Кто страдает, страдает один.
Какое мерзкое сборище! Какое отсутствие человечности и настоящей боли! Они были реальны и поэтому немыслимы. Никто не списал бы с них сцену для романа, сценарий для пьесы. Они прошли, как плывет мусор по реке, по реке жизни. Я их видел в тошнотворном и божественном сне.
Если я внимательно раздумываю над жизнью, которой живут люди, то не нахожу в ней ничего отличного от жизни животных. И те и другие посвящены полностью вещам и миру; те и другие развлекаются – с перерывами; те и другие проходят день за днем обычный путь любой органики; те и другие не выходят за рамки собственного мышления, за грань собственной жизни. Кот перекатывается на солнышке и дремлет там. Человек катится по жизни со всеми своими сложностями и дремлет там. Ни один, ни другой не освобождается от рокового обязательства быть тем, кто он есть. Ни один не пытается поднять тяжесть существования. Величайшие люди любят славу, но любят ее не как собственное бессмертие, а лишь как бессмертие абстрактное, в котором, скорее всего, не участвуют.
Подобные размышления заставляют порой меня восхищаться той разновидностью индивидов, к которой я испытываю инстинктивное отвращение. Обращаюсь к мистикам и аскетам – к монахам всех Тибетов, к Симеонам Столпникам со всех столпов. Эти, пусть и нелепым способом, действительно пытались освободиться от закона, общего для человека и животного. Эти, пусть и смехотворно, на самом деле пытались отрицать закон жизни – нежиться на солнце и ожидать смерти, не думая о ней. Они стремятся даже в неподвижности на столпе; стремятся, ищут даже в темноте кельи; хотят того, чего не знают, хотя бы в мученичестве, им данном, и в печали, им предписанной.
Мы, все остальные, ведущие животную жизнь с ее сложностями, пересекаем сцену, как статисты, наслаждаясь бездумной торжественностью своего прохода. Собаки и люди, коты и герои, блохи и гении – мы играем в существование, не думая о нем (ведь и лучшие мыслят только о размышлениях) под великим покоем звездного неба. Другие – мистики страшных времен и жертвенности – чувствуют, по крайней мере всем телом, повседневно, присутствие таинства. Они свободны, потому что отвергают видимое солнце; они полны, потому что освободились от пустоты мира.
Говоря о них, я сам становлюсь почти мистиком, но неспособен стать чем-то большим, чем эти слова, написанные по случайной склонности. Я всегда буду принадлежать улице Золотильщиков, как и все человечество. Буду всегда – в стихах или прозе – служащим за письменным столом. Буду всегда, в мистическом или в не мистическом, ограниченный и покорный, рабом своих ощущений и часа, когда их испытываю. Буду всегда, под огромным синим балдахином немого неба, – пажом, участвующим в непонятном обряде; жизнь дала мне одежды, чтобы я мог исполнить этот обряд, и я делаю, не зная зачем, жесты и шаги, принимаю соответствующую осанку и манеры, до тех пор пока праздник закончится или закончится моя роль в нем, и я смогу пойти на праздничный ужин в больших палатках в глубине сада.
Я нахожусь сейчас внутри одного из таких дней, где меня давит, будто вход в карцер, однообразие всего. Да нет, не однообразие всего, только однообразие меня самого. Каждое лицо, даже увиденное вчера, сегодня – другое, так как сегодня – не вчера. Каждый день – это день, какого никогда не было в мире. Только в нашей душе есть одинаковость – одинаковость ощущаемая, хотя и ложная, – из-за которой все уподобляется и упрощается. Мир – это выделяющиеся вещи и различные грани; но для близоруких это туман, унылый и постоянный.
У меня одно желание – бежать. Бежать от того, что знаю, бежать от того, что мое, бежать от того, что люблю. Хочу уехать – не к несуществующим Индиям или к большим островам на краю всего сущего, но в любое место – деревню или пустыню, – лишь бы оно содержало в себе небытие этого места. Хочу не видеть более эти лица, эти обычаи и эти дни. Хочу отдохнуть, свободный, от моего органического притворства. Хочу почувствовать сон, пришедший как жизнь, а не как отдых. Хижина на морском побережье, пещера, даже морщинистая терраса горной цепи могли бы дать мне это. К несчастью, мое желание мне этого дать не может.
Рабство – это закон жизни, и иного закона нет, поэтому он должен быть исполнен без возмущения и попыток побега. Одни рождаются рабами, другие становятся рабами, третьим рабство дается. Предательская любовь, которую каждый из нас себе может позволить, – это истинный сигнал бремени нашего рабства. Я сам, только мечтавший о хижине или пещере, где был бы свободен от всеобщего однообразия, – что есть во мне, даже решись я уехать в эту хижину или пещеру? Наверное, я понимаю, что раз однообразие – во мне, я всегда буду нести его с собою? Я сам, задыхающийся там, где нахожусь, и потому, что я там нахожусь, где бы я мог дышать свободнее, если болезнь – в моих легких, а не в воздухе, меня окружающем? Я сам, тоскующий по чистому солнцу и вольным полям, по морю и всему огромному горизонту, уверен ли я, что мне не опротивеет моя постель или еда, или то, что мне не придется спускаться на восемь пролетов лестницы до выхода на улицу, входить в табачную лавку на углу или обмениваться приветствиями с праздным парикмахером?
Все, нас окружающее, превращается в часть нас самих, если проникает в наши ощущения – тела и жизни, и тенета огромного Паука неуловимо связывают нас с тем, что вблизи, привязывая к невесомому ложу медленной смерти, раскачивающемуся на ветру. Все является нами, и мы составляем все; но какое это имеет значение, если все – ничто? Луч солнца, облако, о движении которого говорит внезапная тень, поднимающийся бриз, тишина, следующая за стихающим ветром, то или иное лицо, какие-то голоса, случайный смех посреди женского разговора, и потом ночь, в которой появляются бессмысленные преломляющиеся иероглифы звезд.
И я, робко ненавидящий жизнь, зачарованно боюсь смерти. Страшусь этого «ничто», которое может быть чем-то другим, и страшусь его, представляя одновременно как «ничто» и как любую другую вещь, как будто в этом мы могли бы объединить и нуль, и что-то ужасное, как будто в гробу мне перекроют вечное дыхание какой-то телесной души, как будто там будет уничтожено мое бессмертное. Сама идея ада, что могла быть изобретена лишь сатанинской душою, происходит, как мне кажется, от подобной путаницы – смешения двух различных страхов, противоречащих друг другу и друг друга обостряющих.
Перечитываю написанное внимательно, медленно, отрывок за отрывком. И полагаю, что все это равно нулю, и лучше бы мне никогда этого не писать. То, чего мы достигаем, будь то империи или фразы, представляет собой, будучи достигнутым, худшую часть реальных вещей, присущую им как вещам преходящим. Но это не то, что я чувствую и отчего мне больно, когда я перечитываю свои записи. Мне больно оттого, что не имело смысла их делать и что время, потерянное на это, никак не окупилось, кроме как в иллюзии, сейчас уже разрушенной, от огорчения, что я это сделал.
Все, что мы разыскиваем, мы разыскиваем с определенным намерением, но мы или не достигаем своей цели, и тогда мы – бедняки, или считаем, что достигли, тогда мы – богатые безумцы.
Отчего мне больно, так это оттого, что лучшее – плохо, и что другое, если бы оно было таким, как я мечтаю, было бы сделано лучше. Все, что мы делаем, – в искусстве или в жизни – несовершенная копия задуманного. Отрицается не только совершенство внешнее, но и совершенство внутреннее; ошибка не только в правиле, которое было, но и в правиле, которое мы считали возможным. Мы пустые не только внутри, но и снаружи, парии предвосхищения и обещания.
С какой энергией одинокой души я писал страницу за страницей, живя слог за слогом в этой мнимой магии, не магии написанного, но в магии того, что предполагал написать! Завороженный ироническим колдовством, я считал себя поэтом в своей прозе в моменты ее рождения, служившие воображаемой наградой за действительные потери! И сегодня, перечитывая, вижу мои игрушки разорванными, с торчащей в прорехах соломой, будто из них вытряхнули то, чего в них не было…
После того как последние дожди ушли к югу и остался только ветер, что их вымел, возвратилась к городским кучам радость ясного солнца, и на веревках, натянутых на жерди у высоких окон разноцветных зданий, запрыгала развешанная белая одежда.
Я тоже был доволен, что существую, и вышел из дома для великой цели – вовремя прийти в контору. Но в этот день принуждение жизни участвовало в том, другом, добром принуждении, которое заставляло солнце приходить в часы, предписанные календарем согласно широте и долготе участков Земли. Я чувствовал себя счастливым, потому что не мог чувствовать себя несчастным. Я бодро спустился по улице, полный уверенности в себе, ведь, в конце концов, я знаю контору, знаю ее работников, все они мне понятны. Неудивительно, если бы я почувствовал себя свободным, неизвестно от чего. Под ярким солнцем бананы в корзинах на тротуарах Серебряной улицы были ослепительно желтыми.
Я радуюсь в конечном счете таким мелочам: тому, что дождь прекратился, что сияет солнце, что на ярко-желтых бананах черные пятнышки, что беседуют между собой продавцы бананов, радуюсь тротуарам Серебряной улицы, реке Тежу – сине-зелено-золотой в глубине, всему этому укромному месту, такому домашнему в системе всей Вселенной.
Придет день, когда я не увижу этого больше, эти бананы у края тротуара, и голоса плутоватых торговок, и сегодняшние газеты, которые мальчик разложил – на другом тротуаре, переживут меня. Я хорошо знаю, что бананы будут другими, и что торговки тоже будут другие, и что на газетах будет стоять отнюдь не сегодняшнее число. Но они не живут, и поэтому продолжаются, пусть и другие; а я живу, и оттого прехожу, хотя бы и тот же самый.
Я мог бы сделать этот час более торжественным, купив бананы, ведь, как мне кажется, именно в них, словно в волшебном прожекторе, отразилось все солнце этого дня. Но я стыжусь – ритуально, символически – покупать что-то на улице. Мне могут плохо упаковать бананы, продать не так, как до́лжно продавать, потому что я не умею их покупать, как до́лжно покупать. Могут не разобрать, что я сказал, спрашивая цену. Гораздо лучше писать, чем отваживаться жить, хотя бы это «жить» означало всего лишь покупать бананы на солнце, – пока солнце сияет, и есть бананы на продажу.
Позднее, может быть… Да, позднее… Кто-то другой, возможно… Не знаю…
Только одно меня удивляет более, чем тупость, с которой большинство людей проживают свои жизни: наличие в этой тупости разума.
Однообразие обычных жизней, что очевидно, – страшно. Обедаю в этом заурядном кабаке и смотрю туда, за прилавок, на фигуру повара, и сюда, на пожилого слугу возле меня, который, полагаю, уже лет тридцать прислуживает в этом доме. Каковы жизни этих людей? Уже сорок лет фигура того мужчины живет почти целыми днями на кухне; есть у него передышки; на сон он отводит относительно короткое время; иногда выезжает на природу, откуда возвращается без колебаний и сожалений; медленно собирает медленные деньги, которые не собирается расходовать; в случае болезни уйдет из своей кухни окончательно, переехав на участок земли, купленный им в Галисии; он живет в Лиссабоне уже сорок лет, но никогда не был ни на площади, ни в каком-либо театре, только однажды побывал в Колизее – все это кривляния на внутренних развалинах его жизни. Он женился, я не знаю, как и зачем, имеет четырех сыновей и одну дочь, и его улыбка, когда он наклоняется в мою сторону оттуда, из-за прилавка, выражает большое, торжественное, удовлетворенное счастье. И он не притворяется, ему нет смысла притворяться. Раз он чувствует счастье, значит, оно действительно у него есть.
А старый слуга только что поставивший передо мной, должно быть, свою миллионную чашку кофе! У него такая же жизнь, как у повара, разница только в четырех-пяти метрах, отделяющих кухню от зальчика со столами. К тому же он имеет всего двух сыновей, чаще, чем повар, ездил в Галисию, больше мест посетил в Лиссабоне и знает Порту, где прожил четыре года. И он тоже счастлив.
Всматриваюсь с испугом и удивлением в панораму их жизней, и чувствую ужас, сожаление, возмущение от того, что они, не испытывающие ни ужаса, ни сожаления, ни возмущения, они те самые, кто имеет на это право, те самые, кто проживает свои жизни. Это главная ошибка литературного воображения: предполагать, что другие – это мы, и считать, что они должны чувствовать, как мы. Но, к счастью человечества, каждый человек есть то, что он есть, лишь гению дано быть еще и кем-то другим.
Все данное связано в конечном счете с обстоятельствами, в каких оно дано. Небольшое происшествие на улице развлекает повара этой харчевни более, чем меня обдумывание самой оригинальной идеи, чтение лучшей книги, самое приятное из моих бесполезных мечтаний. И если жизнь есть по своей сущности однообразие, следует признать, что он избегает однообразия успешнее меня. Истина не с ним, как и не со мною, потому что она – ни с кем; но счастье действительно с ним.
Мудрец – кто ведет монотонное существование, ведь тогда каждое маленькое происшествие оборачивается чудом. Охотник на львов не ощущает сладости приключения уже после третьего льва. Для моего повара сцена с пощечинами на улице приравнивается к скромному Апокалипсису. Кто никогда не покидал Лиссабона, путешествует в бесконечность в экипаже до Бенфики, а если однажды поедет в Синтру, чувствует себя так, будто побывал на Марсе. Путешественник, который исколесил всю Землю, не встречает за пять тысяч миль никакой новизны, но лишь новые вещи; новизна из вторых рук, старость вечно нового, а абстрактное понятие новизны осталось в море со второй похожей вещью.
Истинно мудрый может наслаждаться всем зрелищем мира, сидя на стуле, не умея читать, не разговаривая ни с кем и благодаря своим чувствам и душе не умея грустить.
Делать существование однообразным, чтобы оно не было таковым. Превратить повседневность в бесцветную, чтобы самая незначительная вещь казалась развлечением. В процессе ежедневной работы, тусклой, монотонной и бесполезной у меня возникают видения побега, воображаемые берега далеких островов, праздников в садах других эпох, другие пейзажи, другие чувства, другой я. Но, задумываясь между двумя конторскими записями, я понимаю, что если бы все это действительно было, ничего из этого не было бы моим. На деле патрон Вашкеш значит больше, чем Короли Мечты; на деле контора на улице Золотильщиков значимее широких аллей небывалых парков. Имея патрона Вашкеша, я могу наслаждаться мечтой о Королях Мечты; имея контору на улице Золотильщиков, могу наслаждаться созерцанием несуществующих пейзажей. Но если бы были в действительности Короли Мечты, что бы мне осталось для мечты? Если бы существовали небывалые пейзажи, что бы мне осталось от небывалого?
Однообразие, смутная одинаковость дней, отсутствие различия между сегодня и вчера – то, что у меня всегда остается, а душа всегда бодрствует, чтобы насладиться мошкой, развлекающей меня, случайно пролетая перед моими глазами, смехом, доносящимся с неизвестной улицы, необъятной свободой, когда приходит час закрывать контору, бесконечным отдыхом в одном только праздничном дне.
Я могу представить себе все, потому что я – ничто. Если бы я был чем-то, то не смог бы воображать. Помощник счетовода может вообразить себя римским императором; английский король не может этого сделать, потому что лишен возможности быть в мечтах другим королем, не тем, которым является. Его реальность не позволяет ему существовать.
Склон ведет к мельнице, но усилие не ведет ни к чему.
Был один из вечеров начала осени, когда небо – холодного, мертвого цвета, и на нем – облака, которые гасят свет одеялами медлительности.
Только две вещи мне дала Судьба: несколько книг по счетоводству и дар мечты.
После одной бессонной ночи все люди нас не любят. Видимо, пришедший сон приводит с собою что-то, делающее нас гуманными. Вокруг нас существует скрытое раздражение, кажется, в той же неорганической атмосфере, что нас окружает. Это мы в конечном счете лишаем себя поддержки, и это между нами и нами оскорбляется дипломатия глухой войны.
Сегодня я едва волочил по улице ноги и свою огромную усталость. Моя душа превратилась в спутанный моток ниток, и то, чем я являюсь и был, кто я есть, забыло свое имя. Не знаю, будет ли завтра, ничего не знаю, кроме того, что не спал, и путаница различных промежутков наложила печать молчания на мою внутреннюю речь.
Ах, большие парки других, сады, обычные для стольких, чудесные аллеи тех, кто никогда меня не узнает! Я парализован среди бессонницы, как тот, кто никогда не отваживался быть лишним, и то, о чем я размышляю, пробуждается внезапно, как мечта, под самый конец.
Я – какой-то опустелый дом, как монастырская келья меня самого. Я всегда нахожусь в комнате в стороне, или это они находятся в стороне, – и вокруг сильно шумят деревья. Брожу и встречаю; встречаю, потому что брожу. Мои младенческие дни, дни, на которые надеты детские передники!
И среди всего этого я иду по улице, я, увядающий от своего бродяжничества лист. Ветерок медленно тащит меня по земле, и я странствую точно конец сумерек среди происшествий пейзажа. У меня слипаются веки на ногах, которые еле волочатся по земле. Я хотел уснуть, потому что иду. Мой рот закрыт, будто губы склеились. Моя прогулка терпит крушение.
Да, я не спал, но от этого бо́льшая ясность, именно когда я не спал и не сплю. Действительно, это я – в этой случайной и символической вечности полудуши, в которой я себя обманываю. Тот или иной прохожий смотрит на меня так, будто знает меня и находит странным. Чувствую, что смотрю на них тоже, чувствительными глазными впадинами под защищающими их веками, и не хочу знать, существует ли мир.
Меня одолевает сон, огромный сон, весь сон!
Поколение, к коему я принадлежу, застало мир, не поддерживающий тех, кто имеет разум и в то же время сердце. Усилиями предыдущих поколений мир, в котором мы родились, был лишен безопасности, даваемой религиозной дисциплиной, опоры, обеспечиваемой нравственной дисциплиной, спокойствия, приносимого дисциплиной политической. Мы родились уже среди метафизической тоски, среди тоски нравственной, среди политического непокоя. Пьяные от внешних формул, от чистых процессов разума и науки, поколения, нам предшествующие, потрясли все фундаменты христианской веры, потому что их библейская критика, поднимаясь от критики текстов к мифологической критике, обратила Евангелия и предшествующую иерографию иудеев в беспорядочное нагромождение мифов, легенд и чистой литературы; и их научная критика последовательно заострила ошибки, грубую наивность примитивного «знания» Евангелий; и в то же время свобода дискуссии, выставившая на площадь все метафизические проблемы, увлекла за ними религиозные проблемы, там, где они пересекались с метафизикой. Опьянев от чего-то неопределенного, называемого «позитивизмом», эти поколения критиковали всю нравственность, исследуя, выворачивали наизнанку все правила, по которым следует жить, и от такого потрясения доктрин осталась только «уверенность в ни одной из них» и боль от того, что этой уверенности нет. Общество с разрушенной в самих его культурных основах дисциплиной, очевидно, могло существовать только как жертва этого отсутствия дисциплины в политике; и мы пробудились для мира, алчущего социальной новизны, и с радостью шли завоевывать свободу, не зная, в чем она заключалась, завоевывать прогресс, который так и не определили.
Но грубый критицизм наших отцов, завещав нам невозможность быть христианами, не завещал нам удовлетворения от этого; завещав неверие в установленные моральные формулы, не завещал нам равнодушия к морали и правилам гуманной жизни; оставил неопределенной проблему политики, не оставив наш дух равнодушным к тому, как будет решена эта проблема. Наши отцы разрушали с удовлетворением, потому что жили хотя бы на обломках ушедшей прочности. Они разрушали именно то, что давало силу обществу, рушили здание, не чувствуя, что оно раскалывается. Мы унаследовали разрушение и его результаты.
В сегодняшней жизни мир принадлежит только глупцам, бесчувственным и неуравновешенным. Право жить и торжествовать победу завоевывается сегодня почти всегда теми же путями и качествами, какими завоевывается отправка в психиатрическую лечебницу: неспособностью думать, аморальностью и перевозбуждением.
Мы – смерть. То, что мы считаем жизнью, это сон о реальной жизни и смерть того, кем мы на самом деле являемся. Мы рождаемся мертвыми, а не умираем. Наши миры перевернуты. Считая, что живем, мы мертвы; мы начнем жить, когда станем умирающими.
Связь между сном и жизнью, – та же самая, что существует между тем, что зовем жизнью, и тем, что зовем смертью. Мы существуем во сне, и эта жизнь – мечта, не в метафорическом или поэтическом смысле, но в прямом смысле слова.
Все то, что в нашей деятельности мы считаем высшим, все это – участие в смерти, все это – смерть. Что есть идеал, кроме признания, что жизнь не выполняет своих функций? Что есть искусство, кроме отрицания жизни? Статуя – это мертвое тело, вырезанное, чтобы закрепить смерть, из нетленной материи. Даже удовольствие, столь похожее на погружение в жизнь, есть, скорее, погружение в нас самих, разрушение связей между нами и жизнью, взволнованная тень смерти.
Сам процесс жизни есть умирание, потому что нет ни одного дня в нашей жизни, который мы не должны были бы вычесть из нее.
Мы насаждаем мечты, мы – тени, странствующие по невозможным лесам, где деревья – это дома, обычаи, идеи, идеалы и философии.
Никогда не встретиться с Богом, никогда не узнать даже, существует ли Бог! Бродить от мира к миру, от воплощения к воплощению, всегда с иллюзией, что ласкает, всегда в заблуждении, что нежит.
Истины – никогда, остановки – никогда! Единства с Богом – никогда! Никогда – в полном покое, но всегда – малая часть его, всегда жажда его!
Детский инстинкт человечества, что заставляет самого надменного из нас, если он не безумец, жаждать, чтобы благой Отец вел его через таинство и беспорядок мира. Каждый из нас – пылинка, что ветер жизни поднимает, а потом прибивает к земле. Мы должны на что-то опереться, вложить свою руку в другую руку; потому что час всегда неопределен, небо всегда далеко, и жизнь всегда чужая.
Самый мудрый из нас просто ближе других подошел к пустоте и неопределенности всего сущего.
Возможно, нас направляет иллюзия, но сознание – это то, что нас не направляет.
Если когда-либо надежно обеспеченная жизнь позволит мне писать и публиковать написанное, уверен, я затоскую по этой неопределенности жизни, в которой редко пишу и ничего не публикую. Затоскую не только потому, что эта грубая жизнь – прошлое, которого больше у меня не будет, но потому, что есть в каждой фазе жизни определенное, только ей присущее, качество и своеобразное удовольствие, и когда она сменяется другой, даже лучшей, прежнее своеобразное удовольствие меньше наполнено счастьем, это определенное качество хуже, они перестают существовать, и ощущается их нехватка.
Если однажды со мною случится так, что я бы смог понести на Голгофу радости крест моих усилий, я найду на ней Голгофу страданий и буду тосковать по времени, когда был легкомысленным, грубым и несовершенным. Я буду хуже в каком-то отношении.
Хочу спать. Этот день был тяжелым, полным абсурдной работы в почти пустой конторе. Два работника сейчас больны, других почему-то нет. Я один, не считая мальчишки-рассыльного. Тоскую из-за своего предположения, что однажды могу затосковать, да еще такой нелепой тоской.
Почти прошу богов, чтобы они хранили меня здесь, как в сундуке, защищая от огорчений, а также от счастья этой жизни.
В неясных тенях от уходящего света, прежде чем вечер перейдет в ночь, я люблю бродить бездумно среди того, во что превращается ночной город, и хожу, будто у меня нет другого лекарства. Мне нравится – более моему воображению, чем чувствам, – рассеянная печаль, что ношу с собой. Брожу и просматриваю внутренним взором рассыпанный набор текста, создавая из мелькающих образов некую идею, что никогда не будет сформулирована.
Есть такие, кто читает, лишь бросая взгляд, и закрывает книгу, еще не увидев всего. Так и я извлекаю из книги, что листаю в душе, смутную историю, воспоминания о каком-то другом бродяге, отрывки описаний сумерек и лунного света, аллеи парков и фигуры в шелках – проходящие, преходящие.
Я не отличаю скуки от золота. Следую одновременно по улице, по вечеру и по страницам воображаемой книги, и вот путь действительно пройден. Я отдыхаю, будто нахожусь на борту корабля – уже в открытом море.
Внезапные мертвые лампы своим светом вдвое удлиняют длинную и кривую улицу. Моя грусть возрастает точно от глухого удара. Вот книга закончилась. Я один в воздушной вязкости абстрактной улицы, внешняя нить чувств, как слюна слабоумной Судьбы, забрызгивает сознание моей души.
У ночного города иная жизнь. Иная душа у того, кто смотрит в ночь. Продолжаюсь как история, иносказательная и метафорическая, от воспринимающего ирреальность рассказчика. Чудесно рассказанная, она могла бы воплотиться, но не полностью в мире этого романа, в начале одной из глав: «В этот час можно было видеть одного человека, медленно следующего по улице…»
Что́ для меня жизнь?
Промежуток
Я изначально потерпел неудачу в жизни, потому что даже в мечтаниях она мне не казалась восхитительной. Меня настигла усталость от мечтаний… Я испытал ощущение внешнее и ложное, похожее на то, что чувствуешь, достигая границы бесконечного пути. Я вышел из себя, не знаю куда, и остался там, застывший и бесполезный. Я – что-то, что было. Я не нахожу себя там, где я себя ощущаю, а если ищу себя, не знаю, кто это тот, ищущий меня. Скука всего размягчает меня. Чувствую себя изгнанным из собственной души.
Я сопровождаю себя. Являюсь очевидцем себя самого. Мои ощущения проходят перед моим взглядом, не знаю каким, как что-то внешнее. Ненавижу меня во мне – во всем. Все вещи, вплоть до их корней в некоем таинстве, приобрели цвет моего отвращения.
Были уже увядшими цветы, врученные мне Часами. Мое единственно возможное действие – медленно обрывать их лепестки. В этом вся полнота старения!
Мое действие болезненно для меня, как героизм… Когда я представляю себе самый простой жест, он утомляет меня, будто я действительно его сделал.
Я не стремлюсь ни к чему. Жизнь причиняет мне боль. Мне плохо там, где я нахожусь и где я мог бы, по моим предположениям, находиться.
Мой идеал – не совершать никаких действий, кроме псевдодействия отступления, – подняться, чтобы упасть туда же, сиять на солнце бесцельно и звучать тонко, как водные струи, в ночной тишине, чтобы кто-то увидел реку в своих мечтах или снах и улыбнулся бы беспамятно.
С самого тусклого начала жаркого и обманчивого дня темные рваные облака обходили осажденный город. Со стороны гавани они следовали одно за другим, непрерывные и мутные, и предчувствие трагедии царило в оцепенении улиц под изменившимся солнцем.
Был полдень, и уже к обеденному перерыву гнетущее ожидание присутствовало в обесцвеченном воздухе. Лохмотья облаков, изодранных в клочья, чернели на первом плане. Небо со стороны Крепости было чистым, но какого-то неприятного синего цвета. Солнце светило, но наслаждаться им не хотелось.
В половине второго дня, когда я возвратился в контору, небо казалось чище, но только с одной стороны. Со стороны гавани оно было практически ясным. С севера, однако, облака медленно соединялись в одно – черное, неумолимое, оно выдвигалось вперед, с тупыми когтями черно-белого цвета на черных пальцах. Внутри еще немного проглядывало солнце, и шумы города, казалось, кутались в ожидании его. Чуть более светлым небо казалось на востоке, но жара сводила это на нет. Было душно в полумраке конторы. «Сюда идет большая гроза», – сказал Морейра и вернулся к Гроссбуху.
В три часа дня уже затмило весь солнечный свет. Требовалось – как это грустно летом – зажечь электрический свет сначала в глубине большого зала, где упаковывали посылки, потом на середине его, так как уже трудно стало писать без ошибок сопровождения к посылкам и отмечать на них номера квитанций для железной дороги. Под конец, почти в четыре часа, даже нам, обладавшим привилегией сидеть у окон, невозможно было работать. Контора осветилась. Патрон Вашкеш захлопнул ставню от ветра в кабинете и, выходя, сказал: «Эй, Морейра, мне надо ехать в Бенфику, но я не поеду; устал от дождя». «И это там, с этой стороны», – ответил Морейра, живший возле Проспекта. Шумы улицы внезапно выделились, изменились немного, и звонки трамваев на улице зазвучали отчего-то немного грустно.
Прежде чем лето закончится и наступит осень, в горячем промежутке, когда воздух давит и цвета смягчаются, вечера обычно облекаются незаслуженной славой. Они похожи на те механизмы воображения, в которых тоска возникает ниоткуда, и продолжается, зыбкая, как след корабля, такой же непрерывной змеей.
В эти вечера меня наполняет, словно морским приливом, нечто худшее, чем скука, – чувство опустошения, чувство крушения всей души. Чувствую, что потерял всемогущего Бога, что Субстанция Всего умерла. И чувствительная вселенная для меня – труп того, что я любил, когда была жизнь; но все превращается в ничто в еще горячем свете последних разноцветных облаков.
Моя скука имеет признаки ужаса; моя тоска – это страх. Мой пот – не холодный, но холодно мое осознание этого пота. Не могу сказать, что я в плохом телесном состоянии, но плохое состояние души так велико, что проходит через поры тела, заполняя собой и его.
И так велика скука, так беспределен ужас быть живым, что я не понимаю, что могло бы быть утешением, противоядием, бальзамом или забвением для нее. Дремота страшит меня, как и все. Смерть страшит меня, как и все. Идти и остановиться – одно и то же, равно невозможное. Ждать и не верить – эквивалентны в холоде и пепле. Я – полка с пустыми флаконами.
Однако, что́ печаль о будущем, если я позволяю глазам воспринимать мертвую тоску озаренного дня, который заканчивается! Какое великое погребение надежд идет еще позолоченным молчанием равнодушных небес, какая свита пустоты и небытия растягивается в пунцовой синеве, бледнеющей на смутных равнинах белого пространства!
Не знаю, чего я хочу или чего не хочу. Я уже разучился хотеть, разучился понимать, как это – хотеть, забыл эмоции или мысли, по которым мы обычно узнаем, чего хотим – или хотим хотеть. Не знаю, кто я или что я. Как погребенный под рухнувшей стеной, лежу под опрокинутой пустотой целой вселенной.
И высокая луна и большинство этих мягких ночей, однообразных от тоски и непокоя! Зловещий покой небесной красоты, холодная ирония горячего воздуха, черная синева, туманная от лунного света и робкая от звезд.
Промежуток
Этот ужасный час, что или уменьшается до возможного, или растет до смертного.
Пусть утро никогда не засияет, пусть я и вся эта спальня, и ее обстановка, к которой и я принадлежу, все пусть одухотворится Ночью, станет абсолютным во Мраке, чтобы не осталось от меня ни тени, которая бы запятнала моей памятью то – чем бы оно ни было, – что останется здесь.
Главная трагедия моей жизни – это, как и все трагедии, какая-то ирония Судьбы. Отвергаю реальную жизнь как наказание; отвергаю мечту как низкое освобождение. Но живу самой низкой и самой повседневной из реальных жизней; и живу самым интенсивным и самым постоянным из мечтаний. Я, как раб, захмелевший в сиесту, – два бедствия в одном теле.
Да, вижу четко, с ясностью, с какой вспышки разума выхватывают из темноты жизни ближайшие объекты, ее составляющие, все, что есть в ней низкого, безнравственного, брошенного и искусственного на этой улице Золотильщиков, которая для меня – вся жизнь: эта контора, низкая, до самой сущности ее людей, эта комната, снимаемая помесячно, ничем не примечательная кроме того, что здесь живет мертвый, эта бакалея на углу, с хозяином которой я знаком, как обычно люди знакомы друг с другом, эти юноши у двери старой таверны, эта утомительная бесполезность всех этих одинаковых дней, это прилипчивое повторение тех же персонажей, как драма, сюжет которой, если бы он существовал, был бы вывернут наизнанку…
Но вижу также, что избежать этого означало бы или властвовать над этим, или отвергнуть это, и я не властвую над этим, потому что его не превосхожу в реальности, и не отвергаю его, потому что, о чем бы ни мечтал, остаюсь всегда там, где нахожусь.
И мечта – это для меня постыдное бегство, малодушие иметь в качестве жизни тот мусор души, какой другие видят только во сне, в фигуре смерти, приходящей, когда, уподобившись спелым овощам, они спокойно храпят!
Нельзя иметь ни единого благородного жеста, импульса, какой бы ни остался только внутри, у закрытой двери, ни единого бесполезного желания, какое бы ни было действительно бесполезным!
Цезарь определил суть честолюбия, сказав: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме!» Я не являюсь ничем ни в одной деревне, и ни в одном Риме. По крайней мере, бакалейщик на углу уважаем от улицы Успения до улицы Победы. Он – Цезарь всего квартала, и женщины заслуженно его любят. Я выше его? В чем, если ничто не допускает ни превосходства, ни подчиненности, ни сравнения?
И так я еле тащусь делать то, что не хочу делать, и мечтать о том, чего не смогу иметь, моя жизнь… абсурдна, точно остановившиеся часы на площади.
Обыкновенный человек, как бы ни была трудна его жизнь, наделен, по крайней мере, счастьем не думать. Переживать жизнь, как кот или собака, – так делают обычные люди, и так и надо проживать свою жизнь, чтобы располагать удовольствием кота или собаки.
Думать – это разрушать. Сам процесс мышления говорит об этом даже самому мышлению, потому что думать – это разлагать. Если бы люди умели осмыслить процесс таинства жизни, если бы умели почувствовать тысячу сложностей, которые подсматривает душа в каждой подробности действия, они никогда бы не действовали, даже не жили бы. Они заканчивали бы жизнь самоубийством от страха, как те, кто кончает с собой, чтобы их не гильотинировали на следующий день.
Дождливый день
Воздух – какого-то квазижелтого цвета, будто бледно-желтый, на который смотрят сквозь грязно-белый. Едва желтый на сероватом фоне. Бледность серого включает желтый в свою печаль.
Любое смещение обычных часов всегда приносит духу какую-то холодную новизну, удовольствие с легкой примесью уныния. Тот, кто привык покидать контору в шесть часов, выйдя случайно в пять, скоро ощутит внутреннюю радость и что-то, близкое к сожалению оттого, что не знает, куда себя девать.
Вчера у меня было дело в другой части города, я вышел из конторы в четыре часа, в пять уже решил свою задачу. Мне непривычно находиться на улице в такой час, и поэтому я чувствовал себя точно в другом городе. Мягкие тона света на фасадах домов были отмечены какой-то бесполезной нежностью, и вечные прохожие шли мимо меня в соседнем городе, сошедшие на берег вчера ночью моряки одной эскадры.
Контора была еще открыта. Я возвратился туда, к естественному удивлению работников, видевших, как я уходил. Неужели вернулись? Да, вернулся. Я находился там, ничего не чувствуя, одинокий среди тех, кто за мной наблюдал, но в моей душе их не было… Это был, в определенной степени, дом, место, где себя не чувствуют.
Думаю иногда, с грустным удовлетворением, что если когда-либо в будущем, к которому я уже не буду иметь отношения, эти фразы, что я пишу, заслужат похвалу, я приобрету, наконец людей, кто бы меня «понимал», моих, настоящую семью, чтобы родиться в ней и быть любимым. Но еще до того, как родиться в ней, я буду давно уже мертвым. Я буду понятым только в изображении, когда эта привязанность, любовь уже не сможет компенсировать умершему ту нелюбовь, что окружала его при жизни.
Быть может, однажды станет понятным, что я, как никто другой, выполнил свой врожденный долг толкователя части столетия; и когда это поймут, напишут, что в мою эпоху я не был понят, что я, к несчастью, жил среди неприятия и холода и как жаль, что так со мной произошло. И тот, кто это напишет, не будет понимать, как и те, что меня окружают, моего аналога из этого будущего времени. Потому что люди всегда учатся на опыте своих прадедов, давно умерших. Только от мертвых мы умеем учиться настоящим основаниям жизни.
Вечером, когда я это пишу, дождливый день перестал быть дождливым. Какая-то радость воздуха чересчур свежо ласкает кожу. День заканчивается не в серости, но в бледной синеве. Расплывчатая синева отражается даже на камнях улиц. Больно жить, но это – как бы издалека. Чувствовать – не имеет значения. Освещается то одна, то другая витрина. За одним из высоких окон люди наблюдают за окончанием работы. Нищий, что слегка задевает меня, проходя, удивился бы, если бы он меня знал.
В синем, менее бледном и менее синем, чем тот, что отражается в домах, постепенно вечереет в этот неопределенный час.
Легко опускается конец некоего дня, за который те, кто верит и блуждает, зацепляются в своей обычной работе, и в их настоящей боли проступает бессознательное счастье. Падает легкая волна угасающего света, меланхолия бесполезного вечера, зыбкость без тумана входит в мое сердце. Падает легкая, нежная, колеблющаяся бледность, светлая и голубая, водяного вечера – легкая, нежная, грустная – на землю, обыкновенную и холодную. Падает легкий невидимый пепел, печальное однообразие, скука без оцепенения.
Три следующих друг за другом дня, жаркие, беспокойные, затихшие в ожидании грозы, принесли легкий холодок, ласкающий поверхности предметов, потому что гроза ходила стороной. Так иногда душа, страдавшая от тяжести жизни, неожиданно чувствует необъяснимое облегчение.
Я понимаю, что мы сами – атмосферы, над которыми парят угрозы бури, в другом месте реализованные…
Пустая безмерность вещей, огромное забвение, что царит на небе и на земле…
Моя жизнь постепенно теряет силы, все, чем я хотел быть, терпит крушение, а я присутствую при этом инкогнито. Могу сказать, с той правдивостью, что не нуждается в приукрашивании, что нет ни одной вещи, желанной мне или мечтаемой, которая не разрушалась бы под окнами, превращаясь в пыль, словно упавший из окна верхнего этажа цветочный горшок. Кажется даже, что Судьба всегда сначала заставляет меня любить или хотеть того, что она мне уготовила, чтобы на следующий день я увидел, что у меня этого не было или не могло быть.
Иронический самонаблюдатель, я, однако, никогда не унывал от пребывания в жизни. И поскольку я знаю сегодня, предвосхищая каждую смутную надежду, что ее постигнет разочарование, то страдаю от особого удовольствия – уже сейчас разочаровываться в надежде, так горечь со сладостью делает сладость сладостью, вопреки горечи. Я – сумрачный стратег, что, проиграв все битвы, накануне каждого нового сражения набрасывает подробный план своего отступления, получая от этого удовольствие.
Желая что-либо, я, словно преследуемый злым роком, заранее знаю, что получу то, чего получить невозможно. Если я обращаю внимание на какую-нибудь девушку и на мгновение представляю себе, как все было бы, будь она моею, в шаге от моей мечты она неизменно встречает мужчину, и я вижу, что это ее муж или любовник. Для романтика это стало бы трагедией; чудак воспринял бы это как комедию: для меня, романтика в душе, одно смешивается с другим, и я удивляюсь себе и переворачиваю страницу, продолжая иронизировать.
Одни говорят, что без надежды жизнь невозможна, другие – что с надеждой она пуста. Для меня, коль скоро я не жду и не отчаиваюсь, она – простая внешняя картина, где присутствую и я, как спектакль без завязки, поставленный только для развлечения, – бессвязный балет, движение листьев под ветром, облака, цвета́ которых меняются от солнечного освещения, старое расположение улиц, случайное, в неподходящих местах города.
Я сам являюсь, в значительной части, той самой прозой, какую пишу. Развертываю себя в строки и параграфы, расставляю в себе знаки пунктуации, и в вольном размещении изображений вижу себя, как дети, королем из газетной бумаги или, таким же образом, как придаю ритм серии слов, украшаю себя, точно безумец, сухими цветами, которые еще живут в собственных мечтах. И над этим всем остаюсь спокойным, словно кукла, набитая опилками, что, вдруг обретя самосознание, стала время от времени встряхивать головой, чтобы бубенчик на кончике шляпы (части, дополняющей саму голову) что-то вызванивал – звенящая жизнь мертвого, наименьшее уведомление о Судьбе.
Сколько раз, однако, среди этой спокойной неудовлетворенности во мне поднимается понемногу это чувство пустоты и скуки от подобных мыслей! Сколько раз, словно слушая разговор, звуки которого то обрываются, то вновь звучат, чувствую главную горечь этой жизни – жизни, где ничего не случается, кроме как в сознании! Сколько раз, пробужденный от меня самого, различаю из той ссылки, какой сам являюсь, насколько лучше быть никем, незаметнейшим из всех людей, счастливцем, чувствующим, по крайней мере, реальную горечь, довольным, что он чувствует усталость вместо скуки, страдает вместо того, чтобы предполагать, что страдает, убивает себя, да, вместо того чтобы умирать в себе!
Я превратил себя в литературный персонаж, в прочитанную жизнь. То, что я чувствую (сам того не желая) – чувство, нужное для описания того, что чувствуется. То, что я думаю, сразу превращается в слова, смешанные с образами, его уничтожающими. Реконструировав себя, я себя разрушил. Я столько думал о себе, что превратился в собственные размышления. Зондировал себя и уронил зонд; живу, гадая, глубок я или нет, только взгляд мне показывает ясно в черноте высокого колодца мое собственное лицо, созерцающее меня, пока я его созерцаю.
Я – одна из игральных карт, древней и неизвестной масти, единственной сохранившейся из потерянной колоды. Не имею смысла, не знаю моего значения, мне не с чем себя сравнить, чтобы себя найти, не знаю, для чего я бы мог послужить, чтобы себя понять. И так, в последовательных образах, в каких я себя описываю – правдиво, но не без лукавства, – я остаюсь, скорее, образом, чем самим собой, выговаривая себя до не-существования, описывая душой, словно чернилами. Но реакция заканчивается, и я снова от себя отрекаюсь. Возвращаюсь в себя, в то, чем являюсь, пусть это и ничто. И сухие слезы без плача подступают к моим напряженным глазам, небывшая тоска стискивает пересохшее горло. Но здесь не знаю, ни что́ я оплакивал бы, если бы плакал, ни по какой причине я бы это не оплакивал. Вымысел сопровождает меня, как тень. И все, чего я хочу, – это спать.
Есть такие создания, что по-настоящему страдают от невозможности жить рядом с мистером Пиквиком и пожать руку мистеру Уордлу. Я – один из них. Я плачу настоящими слезами над этим романом из-за того, что не жил в том времени, с теми людьми, настоящими людьми.
Бедствия в романах всегда красивы, потому что в них не проливается настоящая кровь, не разлагаются мертвые, и само разложение не бывает разложением.
Даже нелепый мистер Пиквик, не нелеп уже потому, что он существует в романе. Кто знает, не является ли роман более совершенной реальностью и жизнью, что Бог создает нашими руками, а мы – кто знает – не существуем ли только для того, чтобы творить? Кажется, что существование цивилизаций нужно лишь затем, чтобы создавать искусство и литературу. Почему не будут эти не человеческие персонажи по-настоящему реальными? Мой разум испытывает боль от мысли, что так могло бы случиться…
Чувства, что более всего ранят, эмоции, что более всего огорчают, это те, что называют абсурдными, – тоска о невозможных вещах именно потому, что они невозможны, ностальгия по тому, чего никогда не было, желание того, что могло бы быть, боль оттого, что ты не иной, неудовлетворенность миром. Все эти душевные полутона создают в нас какую-то болезненную картину, какой-то вечный заход солнца – каковым мы и являемся. Самоощущение – это безлюдное темное поле, печальное от тростника у реки без лодок, ясно чернеющей меж отдаленных берегов.
Не знаю, не есть ли эти чувства тихое безумие от уныния, не есть ли смутные воспоминания о каком-то ином мире, где мы будто бы были, – воспоминания, перекрещивающиеся и смешанные, как сновидения, абсурдные по видимости, но не по своему источнику. Не знаю, существовали ли они, эти другие существа, кем бы мы когда-то были, чье бо́льшее совершенство мы чувствуем сегодня, в тени которых существуем, каким-то незавершенным способом, – потерявшие прочность, мы, с трудом представляющие каждый себя всего в двух измерениях, в каких живем.
Знаю, что эти размышления, несвободные от эмоций, причиняют боль, подобную душевной ярости.
Остается от всех этих чувств недовольство жизнью и всеми ее проявлениями, усталость, предваряющая желания во всех их проявлениях, безымянное недовольство всеми чувствами. В эти часы острой боли невозможно, даже в мечтах, быть любимым, быть героем, быть счастливым. Все это – пусто, даже в своем замысле. Все это сказано на непонятном языке, это простые звуки, не имеющие связи, которые невозможно понять. Жизнь – полая, душа – полая, мир – полый. Все боги умирают смертью, которая более, чем смерть. Все – пустота, более, чем вакуум. Все – хаос из никаких вещей.
Когда я думаю об этом и пытаюсь понять, утолит ли реальность мою жажду, вижу невыразительные дома, невыразительные лица, невыразительные жесты. Камни, тела, идеи – это все мертво. Все движения – остановки, одна и та же остановка – все они. Ничто не говорит мне ничего. Ничто мне неизвестно, не потому, что я нахожу его странным, но потому что я не знаю, что это. Мир заблудился. И в глубине моей души – как единственная реальность этого момента – сильная и невидимая боль, печаль, словно звук чьего-то рыданья в сумрачной комнате.
Я ощущаю время как огромную боль. Это всегда преувеличенное потрясение от какой-то потери. Бедная комната, которую я снимаю, где я провел месяцы, стол в провинциальном отеле, где я провел шесть дней, печальный зал ожидания на железнодорожной станции, где я потратил два часа в ожидании поезда, – когда я думаю, что никогда больше их не увижу, не буду иметь, меня охватывает метафизическая боль. В моей душе открывается бездна, и холодное дуновение из уст Бога касается моего мертвенно-бледного лица.
Время! Прошлое! Там где-то один голос, одна песня, один случайный запах поднял в моей душе занавес, скрывающий мои воспоминания… То, что было и никогда больше не будет! То, что было у меня и никогда не вернется! Мертвые! Мертвые, что любили меня в моем детстве. Когда я воскрешаю их в памяти, вся моя душа холодеет, и я чувствую себя изгнанным из сердец, одиноким в ночи меня самого, оплакивающим, как нищий, закрытую тишину всех дверей.
Проза отпуска
Небольшой пляж, образованный крошечной бухтой, отрезанный от мира двумя мысками, был во время этого трехдневного отпуска моим уединением от меня самого. Я спускался на пляж по лестнице, начинавшейся деревянным пролетом и посередине превращавшейся в ступеньки, вырубленные в горной породе с перилами ржавого железа. И всегда, когда я спускался по старой лестнице, и особенно по ступеням из камня, я выходил из моего собственного существования, встречая себя самого.
Оккультисты или некоторые из них говорят, что есть моменты души, когда она вспоминает эмоциональной или другой частью памяти, некий эпизод, или аспект, или тень предыдущего воплощения. И тогда, словно возвращаясь ко времени, более ей близкому, она переживает каким-то образом свое детство и свое освобождение.
Я бы сказал, что спускаясь по той лестнице, сейчас редко используемой, и медленно входя на пляж, маленький и всегда пустой, я близко встречался с той возможной монадой, которой я являюсь. Определенные возможности и черты моей повседневной жизни, представленные в моем неизменном существе желаниями, отвращениями, беспокойствами, скрывались от меня, будто прячась от стражи, гасли среди теней так, что нельзя было понять, каковы они, и я достигал такого внутреннего состояния, при котором мне становилось сложно вспомнить себя вчерашнего или признать своим существо, что живет во мне каждый день. Мои постоянные переживания, мои привычки, мои беседы с другими, мое место в социальной структуре мира – все это мне казалось давно прочитанными и вялыми страницами какой-то напечатанной биографии, подробностями из какого-то романа в тех его главах, что читаем, думая о другом, и нить повествования ослабевает до того, что змеится по полу.
Тогда, на пляже, где слышались звуки только волн или высоко пролетавшего ветра, я отдавался новому виду мечтаний – неоформившихся и нежных, чудес, чистых, как небо и воды, и звучащих, как раковины, вынесенные приливом из глубины какой-то большой истины; трепеща из наклонной синевы вдали, зеленея вблизи с прозрачностью других тонов, грязно-зеленых, после того, как разбилась, шурша тысячью разматывающихся щупалец на загорелом песке, память не болела во мне. Забытое состояние, счастливое по той или другой причине, тело ностальгии с душой из пены, отдых, смерть, все или ничего, окружающее, как огромное море, остров потерпевших кораблекрушение, который есть жизнь.
И я дремал наяву, отрешаясь от того, что ощущал в себе самом сумерки, шум воды меж деревьями, спокойствие огромных рек, прохладу грустных вечеров, томление на белой груди сна о детстве, о невинном созерцании.
Я по-своему, равнодушно, наслаждаюсь отсутствием семьи, друзей, это сродни гордости с оттенком невыраженной чувственной тревоги, что мы ощущаем в изгнании. Это происходит потому, что внимание, согласно моей духовной установке, не должно развиваться в ущерб чему-то другому, и даже на мечту надо смотреть свысока, сознавая ее зависимость от нашего произвола. Излишнее почтение к собственным мечтам означало бы завышенную оценку того, что уже отделилось от нас самих и существует в действительности, потеряв тем самым право на нашу чуткость к нему.
Пошлость – это дом. Повседневность нежна по-матерински. После вторжения в большую поэзию, подъема на высоты вдохновения, на вершины трансцендентального и оккультного, где познаешь истинные ценности жизни, – возвращаешься в гостиницу, населенную счастливыми глупцами, пьешь с ними, будучи тоже глупцом, как нас создал Бог, довольным данной нам вселенной.
Меня не волнует чужое мнение о человеке, которого я нахожу безумцем или тупицей, во многом превосходящим зачастую обыкновенного человека. Эпилептики во время приступа приобретают необыкновенную силу; параноики рассуждают, как не способны рассуждать многие нормальные люди; религиозные маньяки объединяют толпы верующих, как не дано большинству демагогов. И все это ничего не доказывает, кроме того, что безумие и есть безумие. Предпочитаю поражение, если со мной останется красота цветов, чем победу среди пустыни душевной слепоты, наедине со своей обособленной ничтожностью.
Порой сама пустая мечта оставляет во мне ужас перед внутренней жизнью, чисто физическую тошноту от мистицизма и созерцаний. Тогда я скорее убегаю из дома, где мог бы мечтать, в контору и вижу лицо Морейры, словно бы я прибыл, наконец, в вожделенную гавань. Все прекрасно понимая, предпочитаю Морейру астральному миру; реальность – истине; предпочитаю жизнь и путь к тому самому Богу, что ее создал. Такой он мне ее дал, такой я и буду ее проживать. Мечтаю, не придавая мечтам иной ценности кроме той, что они были моим внутренним театром, не давая вину, от которого отнюдь не отказываюсь, название хлеба насущного.
Еще до рассвета туман окутывал легкой мантией, все более золотящейся от солнца, ряды домов, исчезнувшие пространства, неровности земли и построек. Однако по мере приближения к полудню густой мягкий туман, расплетаясь, неощутимо исчезал. К десяти часам утра только хрупкое, едва синеющее небо изобличало, что туман был.
Очертания города возникали заново из-под маски, их укрывавшей. Будто бы открылось какое-то окно, день, уже лучистый, осветился. Шумы изменились. Голубой тон достиг камней улиц и безличной ауры прохожих. Солнце было горячим, но еще влажным. В него невидимо просачивался туман, уже не существовавший.
Пробуждение города, в тумане или нет, всегда умиляло меня больше, чем сияние утренней зари над полями. Восход в поле меня радует; восход в городе радует и огорчает и поэтому делает больше, чем только радовать. Да, потому что ожидание большего, чем то, что он мне несет, содержит, как и все ожидания, потаенную и тоскливую горечь оттого, что это не реальность. Утро в поле существует; утро в городе подает надежды. Одно заставляет жить, другое – думать. И я всегда буду чувствовать, как очень дурные люди, что лучше думать, чем жить.
Еще до первых прохладных дней закончившегося лета появились нежные вечерние краски на просторном небе, некие штрихи холодного ветра, возвещающие осень. Еще не желтели и не опадали листья, не появилась еще смутная тоска, что сопровождает наше ощущение смерти природы, потому что это тоже и наша смерть. Была лишь какая-то усталость, смутный сон. Ах, это были вечера такого печального равнодушия, что прежде, чем начаться в природе, осень началась в нас.
Каждая приходящая осень ближе к нашей последней осени, и то же самое верно в отношении лета; но осень помнит об окончании всего, а лето легко об этом забывает. Это не только осень, но еще и желтизна в воздухе от падающих листьев или влажная грусть времени, что вот-вот перейдет в зиму. Но есть следы прежней грусти, боль, снарядившаяся в путь, в чувстве, с которым мы глядим на разноцветное рассеивание вещей, слушаем изменившийся голос ветра, погружаемся в покой, более старый, чем нынешний.
Да, мы все прейдем, пройдем все. Ничего не останется от тех, что пользовались чувствами и перчатками, говорили о смерти и о местной политике. Как один и тот же луч освещает лики святых и гамаши прохожих, тот же самый уходящий свет покинет в темноте ничто, оставшееся от тех, кто был святым и тех, кто носил гамаши. В обширном водовороте, подобном крутящимся сухим листьям, в каком лениво покоится весь мир, все равно, королевства ли или платья портних и косички белокурых девочек – все они в том же смертном вращении, что и те, кто символизировал империи. Все есть ничто, и в преддверии Невидимого, чьи открытые врата показывают только – напротив – врата запертые, пляшет, служанкой этого ветра все ничтожное и великое, образовывавшее для нас и в нас систему смыслов вселенной. Все – тень и взлетающая пыль, нет ни голоса, кроме того звука, который производит поднимаемое и влекомое ветром; ни тишины, кроме той, что оставляет ветер. Однажды, в конце познания вещей, откроются врата в глубину, и все, чем мы были – мусор звезд и душ человеческих, – будет выметено вон из дома, чтобы то, что есть, вновь началось.
Мое сердце болит, будто чужеродное тело. Мой мозг видит во сне все, что я чувствую. Да, это начало осени, озаряющее воздух и мою душу тем светом без улыбки, что украшает мертвенно-желтым беспорядочные округлости закатных облаков. Да, это начало осени, и ясное понимание в прозрачный час неназванной недостаточности всего. Осень, да, осень, то, что есть или что будет, и преждевременная усталость, досрочное разочарование во всех мечтах. Чего я могу ожидать и откуда? Я нахожусь между листьями и пылинками вестибюля, на орбите, где ни одна вещь не имеет смысла, производя звук жизни на вымытых каменных плитах, которые косые солнечные лучи золотят из неведомого предела.
Все, что я думал, все, о чем мечтал, все, что сделал или не сдела, – все это уйдет в осень, как сгоревшие спички, что устилают полы, или бумаги, скомканные в шарики, или великие империи, религии, философии, с которыми играли, создавая их, сонные дети бездны. Все, чем была моя душа, – от впитанного мною отчего дома, от богов, что были у меня, и до патрона, что зовется Вашкешом, – все уйдет в осень, все – осенью, в равнодушной нежности осени. Все – осенью, да, все – осенью…
Неизвестно, с нами ли то, что оканчивается днем, что завершается в бесполезной печали, или то, чем мы являемся, в сумерках становится иллюзией и нет ничего, кроме огромной тишины, в которой нет диких уток, падающих на озера, где тростник поднимается в изнуряющем его напряжении. Ничего не ведают ни детские воспоминания, ни ветер – поздняя ласка будущих небес, – медленно открывающий звездную неопределенность. Обещанный светильник качается в храме, куда уже никто не ходит, застаиваются водоемы на солнце в пустынных усадьбах, неизвестно имя, вырезанное когда-то на стволе, и привилегии неведомых были подобны клочкам бумаги на дорогах, продуваемых сильным ветром, задержавшимся благодаря случайным препятствиям, их остановившим. Другие склонятся из того же окна, что и прежние; спят те, что забыли о мрачной тени, полные тоски о солнце, которого не было; и я сам, дерзающий без действий, закончу без угрызений совести между промокшими стеблями тростника, покрытый речной тиной и вялой усталостью, на склоне дня, в несуществующих пределах. И через все это, как шипение обнаженной тоски, я почувствую свою душу за мечтой – вопль, глубокий и чистый, бесполезный в сумерках мира.
Облака…Сегодня я понимаю небо, потому что бывают дни, когда я не смотрю на него, но при этом чувствую, живя в городе, а не на природе, включающей его в себя. Облака…Это они сегодня – главная реальность, и они волнуют меня, словно покрывало неба было одной из великих опасностей в моей судьбе. Облака… Проходят от входа в гавань до Крепости, с запада на восток, в беспорядке, рассеянном и свободном, одни белые, это те, что идут, разорванные, в авангарде неизвестного; другие – наполовину черные, те, медленные, что вскоре будут выметены уже слышным ветром; и еще – темные от грязно-белого, те, что желают остаться, подобные теням на улицах между линиями, ограничивающими ряды домов.
Облака…Существую, не зная об этом, и умру, не желая этого. Я – интервал между тем, кем я являюсь, и кем не являюсь, между тем, о чем мечтаю, и тем, что сделала из меня жизнь, наполовину воображаемая, наполовину плотская, и между вещами, которые ничто по своей сути, я также являюсь ничем. Облака… Какой непокой мною чувствуется, какое уныние мною мыслится, какая ненужность мною желается! Облака… Они всегда проходят, одни – очень большие (так кажется, потому что дома́ не позволяют видеть их истинный размер); другие – неопределенных размеров: это могут быть два, соединенные в одно, или одно, разделяющееся на два, движущиеся без какого-то направления в вышине, вопреки утомленному небу; третьи – еще маленькие, словно игрушки чего-то могущественного, мячики для какой-то бессмысленной игры, они идут только с одной стороны, холодные, в полном одиночестве.
Облака… Спрашиваю себя и себя не понимаю. Я ничего не сделал полезного и не сделаю ничего, заслуживающего оправдания. Трачу ту часть жизни, что еще не потерял, смутно истолковывая никакой предмет, создавая стихи в прозе из непередаваемых ощущений, и делаю в результате этого неизвестную вселенную моей. Я устал от себя, объективно и субъективно. Я устал от всего и от всего во всем. Облака… Они – все, этот беспорядок в вышине, только они сегодня реальны между отсутствующей землей и несуществующим небом; неописуемые лохмотья скуки, которую я им навязываю; туман, конденсировавшийся в бесцветные угрозы; грязный хлопок-сырец из больницы без стен. Облака… Вы, как и я, – бесцельное странствие меж землей и небом под влиянием некоего невидимого толчка, идете, громыхая или не громыхая, радуя – белоснежные или омрачая – черные, фикции расстояния и исчезновения, далекие от шума земли и не имеющие тишины небес. Облака… Они продолжают его, всегда продолжают свое движение, всегда будут продолжать в прерывистой путанице матовых клубков, в рассеянном удалении воображаемого развеянного неба.
Плавное окончание дня в изнуренном пурпуре. Никто мне не скажет, кто я, никто не узнает, кем я был. Я спустился с неизвестной горы в долину, о которой, вероятно, ничего не узнаю, и мои шаги этим медленным вечером были следами, оставленными на прогалинах в лесу. Все, кого я любил, забыли меня в этой тени. Никто не знал о последней лодке. На почте не было известий о письме, которого никто, вероятно, и не напишет.
Между тем все было лживо. Не рассказывали истории, которые когда-то могли бы рассказать другие, и неизвестно наверняка, откуда уехал в былые времена, в ожидании ложного отправления, сын будущей неясности и неопределенности прихода. Мое имя – между теми, кто опаздывает, и это имя – тень, как и все.
Лес
Но, увы, даже и спальня не была конкретной – это была старая спальня моего потерянного детства! Как туман, удалилась, пересекла материально белые стены моей настоящей комнаты, и она возникла, четкая и уменьшенная из тени, как жизнь и день, как шаги ломового извозчика и глухой звук кнута, опускаемого на круп сонного животного.
Сколько вещей, которые мы считаем известными или правильными, на самом деле лишь свидетельство наших мечтаний, сомнамбулизм нашего непонимания! Знает ли кто-то, что известно или правильно? Сколько вещей, которые мы считаем прекрасными, всего-навсего атрибут эпохи, принадлежность места и времени! Для скольких вещей, которые мы считаем своими, мы служим совершенными зеркалами или прозрачными оболочками!
Чем более я размышляю о способности к самообману, тем скорее исчезаю меж усталыми пальцами, тонкий песок разрушенной уверенности. И весь мир появляется передо мной в моменты, когда размышление превращается для меня в чувство, и при этом разум мой омрачается, как туман, сотканный из тени, как сумерки из углов и граней; вымысел – лишь как интермеццо, задержка рассвета. Все это для меня превращается в некий абсолют, мертвый изначально, в какой-то застой деталей. И даже чувства, с которыми я преобразую размышление, чтобы забыть о нем, – это разновидность сна, что-то далекое, мнимое, промежуток, различие, случайность теней и путаницы.
В такие моменты, когда я готов понять отшельников, – будь у меня власть понять тех, кто совершает усилия во имя абсолютных целей или руководствуясь какими-то убеждениями, – я готов был бы создать, если бы мог, эстетику безутешности.
Я встретил сегодня на улице по очереди двух моих друзей, которые были в ссоре друг с другом. Каждый из них мне рассказал о причинах их ссоры. Каждый из них говорил правду. Каждый из них привел свои доводы. Оба были правы. Оба были полностью правы. Нельзя сказать, что один видел одно, а другой – другое, или что один видел одну сторону вещей, а другой – противоположную. Нет: оба видели вещи точно так, как они происходили, оба их оценивали с помощью одного и того же критерия, но каждый видел отличные от другого вещи, и каждый при этом был прав.
Такая двойственность истины меня поразила.
Так же как хотим мы это знать или не хотим, но у всех у нас есть своя метафизика, так же точно хотим мы этого или нет, но у всех у нас есть своя мораль. У меня мораль очень простая – не делать никому ни зла, ни добра. Не делать никому зла, потому что не только признаю за другими то же право, которое есть у меня (чтобы меня не беспокоили), но и считаю, что в этом мире достаточно естественного, неизбежного зла. Все мы живем в одном мире, на борту корабля, вышедшего из неизвестного порта и идущего в другой, неведомый нам; мы должны относиться друг к другу, во время путешествия, вежливо. Не делать добра потому, что я не знаю ни того, что такое добро, ни того, делаю ли я добро, когда считаю, что я его делаю. Знаю ли я, какое зло творю, если подаю милостыню? Знаю ли я, какое зло творю, если воспитываю или обучаю? Воздерживаюсь от ответа, полный сомнения. И считаю еще, что помогать или разъяснять – это в определенной степени причинять зло, вмешиваясь в чужую жизнь. Доброта – это каприз темперамента: мы не имеем права делать других жертвами наших капризов, хотя бы из человечности или нежности. Благодеяния обязывают, поэтому я питаю к ним холодное отвращение.
Если я не делаю добра, руководствуясь своими убеждениями, я также не требую, чтобы его делали мне. Если я заболеваю, более всего меня огорчает, что я вынуждаю кого-то ухаживать за мной: мне отвратительно причинять другим беспокойство. Я никогда не посещаю захворавших друзей. Но всякий раз, когда заболевал я, меня навещали, и я страдал от этого, как от докуки, от обиды, несправедливого насилия над моим сокровенным внутренним миром. Я не люблю, чтобы мне дарили или одалживали что бы то ни было; тем самым меня обязывают что-то давать взамен – тем же людям или другим, неважно кому.
Я – существо общественное в весьма негативном смысле. Я – воплощенная безобидность, но не более того, и я не могу быть ничем большим. Ко всему, что существует, я проявляю нежность, ласку, идущую от ума, – не от сердца. Не верю ни во что, не питаю никакой надежды, никакого милосердия. Испытываю отвращение, до тошноты и обморока, к откровенным, какой бы ни была их откровенность, и к мистикам, каков бы ни был их мистицизм, или – и лучше сказать – к откровенности всех откровенных и к мистицизму всех мистиков. Эта тошнота становится почти физической, если мистики являются активными, если они стремятся убедить чужой разум, или подвигнуть чужую волю, или найти истину, или преобразовать мир.
Полагаю, что я счастлив оттого, что уже нет моих родителей. Таким образом, я избавлен от обязанности, что неизбежно тяготила бы меня, кого-то любить. У меня нет и ностальгии, кроме литературной. Вспоминаю мое детство со слезами, но это слезы творческие, в них уже рождается моя проза. Вспоминаю о нем как о чем-то внешнем, и вспоминаю через внешние вещи. Вовсе не покой провинциальных вечеров, в которых я жил, умиляет меня в моем детстве, но приготовления обеденного стола к вечернему чаю, но очертания домашней утвари, но лица и жесты людей. У меня ностальгия по картинам. Поэтому меня так же умиляет мое собственное детство, как и детство других: и то и другие – в прошлом, о котором я ничего не знаю; это чисто визуальные явления, которые я созерцаю с литературным вниманием. Да, я умиляюсь, но не потому, что вспоминаю, а потому, что вижу.
Я никогда никого не любил. Наибольшее, что я люблю, – это мои ощущения – состояния сознательного видения, впечатления бодрствующего слушания, запахи как способы, с помощью которых внешний мир говорит со мною о прошлом (так легко вспоминать благодаря запахам), – именно запахи дарят мне реальность, дарят эмоции, пусть это запах простого хлеба, испеченного в крошечной пекарне в тот далекий вечер, когда я шел с похорон моего дяди, нежно меня любившего, с ощущением смутной нежности от облегчения, не знаю сам какого.
Вот моя мораль, или моя метафизика, или я. Посторонний для всего – даже для моей собственной души, – я не принадлежу ничему, не желаю ничего, не являюсь ничем – абстрактный центр безличных ощущений, упавшее зеркало, сознательно повернутое к разнообразию мира. Вот почему я не знаю, счастлив я или несчастлив; это для меня неважно.
Сотрудничать, быть связанным, действовать заодно с другими – это побуждение метафизически болезненное. Душу, данную индивиду, нельзя заимствовать для отношений с другими. Божественный факт существования нельзя уступать сатанинскому факту сосуществования.
Действуя вместе с другими, я теряю, по крайней мере, одно: возможность действовать одному.
Когда отдаю себя чему-то, хотя бы и казалось, что я расширяюсь, я себя ограничиваю. Жить вместе – значит умирать. Для меня только мое самосознание реально; остальные – лишь нечеткие явления для этого сознания, и было бы болезненным предоставить им реальность, слишком правдоподобную.
Ребенок, желающий обязательно исполнить свой каприз, наиболее близок к Богу, потому что хочет существовать.
Наша жизнь – жизнь взрослых – превращается в постоянную подачу милостыни другим. Все мы живем милостыней, поданной другими. Мы растрачиваем свои личности в оргиях сосуществования.
Каждое сказанное слово нас предает. Единственное терпимое сообщение – слово написанное, потому что это не камень моста меж душами, но луч света меж звездами.
Объяснять – значит не верить. Вся философия – это дипломатия при одной из форм вечности… как дипломатия, вещь лживая в самой своей сущности, существующая не сама по себе, но вся и абсолютно – ради какой-то цели.
Единственная достойная судьба для публикующегося писателя – это не иметь известности, какой он заслуживал бы. Но поистине достойная судьба – это судьба писателя, который не публикуется. Я не говорю, что он не должен писать, потому что иначе он не был бы писателем. Он писал бы по зову своей природы, но по духовному складу своему не предлагал бы никому то, что написал.
Писать – значит рассматривать мечты как нечто реальное, значит создавать внешний мир ради явного вознаграждения […] нашего творческого нрава. Публиковать – значит отдать этот внешний мир другим; но для чего, если внешний мир, общий для нас и для них, это реальный, материальный мир, мир видимый и ощутимый? Что́ есть в других от той вселенной, что есть во мне?
Эстетика уныния
Публиковаться – это обобществлять себя самого. Какая гнусная необходимость! Но она тем не менее отдалена от действия – издатель зарабатывает, типограф печатает. Достоинство, по крайней мере, в отсутствии связи.
Одна из самых больших забот человека, достигшего сознательного возраста, это приспосабливаться, действуя и думая, к изображению и подобию своего идеала. Хотя ни один идеал не воплощается так, как идеал инерции, по всей логике нашей душевной аристократичности, перед громкостью и… современных внешностей, Инертное, Неактивное должно быть нашим идеалом. Пустое? Возможно. Но это будет беспокоить, как зло, только тех, для кого пустота – нечто привлекательное.
Энтузиазм – это грубость.
Выражение энтузиазма – это, кроме всего прочего, насилие над правами нашей неискренности.
Мы не знаем, когда искренни. Возможно, никогда не бываем ими. И даже если бы мы были искренни сегодня, завтра мы смогли бы стать иными.
У меня самого нет убеждений. У меня всегда есть впечатления. Я никогда не смог бы ненавидеть землю, в которой увидел бы один возмутительный закат.
Выражать впечатления – более означает убеждать нас самих, что у нас они есть, чем иметь их на самом деле.
Все во мне рассеивается. Все моя жизнь, мои воспоминания, мое воображение и все, в него входящее, моя личность, все во мне рассеивается. Постоянно чувствую, что был другим, что чувствовал что-то другое, что думал что-то другое. То, при чем я присутствую, это некий спектакль с чужим либретто. И то, при чем я присутствую, – это я сам.
Натыкаюсь иногда в обычном беспорядке своих ящиков на бумаги, написанные мной десять лет назад, пятнадцать лет назад, может быть, еще раньше. И многие из них меня удивляют; я не узнаю себя в них. Был тот, кто их написал, и был я. Чувствую, что их писал я, но в другой жизни, от которой я пробудился сейчас, словно от какого-то чужого сна.
Часто мне попадаются мои юношеские записи – отрывки, написанные в шестнадцать лет, отрывки, написанные в двадцать. И некоторые обладают такой силой выразительности, какой я у себя не помню. Некоторые фразы в вещах, написанных в самом начале моего взросления, кажутся мне продуктом меня теперешнего, наученного годами и опытом. Понимаю в таких случаях, что я – тот же, что и был. И, ощущая мой сегодняшний значительный прогресс по сравнению с тем, чем я был, спрашиваю себя, в чем же заключается этот прогресс, если тогда я был тот же, что и сейчас.
В этом есть тайна, что умаляет мое достоинство и угнетает меня.
Еще я иногда страдаю от поразительного впечатления, будто кратко описано мое прошлое. Отлично помню, что мое сомнение, по крайней мере, относительное – по поводу языка, – началось всего немного лет назад. Я нашел в одном из ящиков стола свою старую рукопись, которая это усилила. Не могу понять с полной достоверностью моего прошлого. Как я мог продвинуться вперед в том, что уже знал? Как я узнал в себе сегодня то, что не узнавал в себе вчера? И все путается во мне в каком-то лабиринте, где я блуждаю сам в себе.
Я фантазирую, мысля, и мне ясно: то, что я пишу, я уже написал когда-то.
Боже мой, боже мой, кого я сопровождаю? Сколько их во мне? Кто я сам? Что это – тот промежуток между мною и мною?
Я снова нашел один свой отрывок, на французском, написанный пятнадцать лет назад. Я никогда не был во Франции, никогда не общался тесно с французами, следовательно, никогда не практиковался в этом языке. Сейчас я читаю по-французски столько же, сколько и прежде читал. Я сейчас старше, мое мышление приобрело бо́льшую зрелость, я вправе был ожидать прогресса. А тот мой ранний отрывок обнаруживает такое уверенное владение французским, каким я сейчас не обладаю; стиль плавный, свободный, сегодня я не смог бы так писать на этом языке; целые абзацы, законченные фразы, формы и способы выражения подчеркивают владение этим языком, которое у меня пропало, так что я и не помнил, что оно было. Как это можно объяснить? Кого я заменил в самом себе?
Я хорошо знаю, что легко построить теорию текучести жидкостей вещей и душ, понять, что мы являемся внутренним течением жизни, вообразить, что то, чем мы являемся, – это большое множество, что мы проходим мимо нас, что нас много…Но здесь нечто другое, что не является настоящим течением личности между ее собственными берегами: есть другой абсолют, чужое существо, что было моим. Если бы я потерял с возрастом воображение, эмоции, склад ума, определенный способ чувствовать – все это, пусть и заставило бы сожалеть, не удивило бы меня. Но кого я сопровождаю, когда читаю свои же записи с удивлением, будто чужие? На каком берегу нахожусь, если вижу себя в глубине?
Я опять нахожу написанные мной отрывки, которых не помню. Меня это не удивляет, но я также не помню, чтобы я вообще мог написать такое, – и это меня пугает. Некоторые фразы принадлежат другому менталитету. Словно смотрю на старый портрет: другая фигура, незнакомые черты, – но это я, несомненно я.
У меня есть мнения противоречивые, убеждения взаимоисключающие… Я так никогда не думаю, не говорю, не действую… Думает, говорит и действует за меня всегда какая-то мечта, что-то мое, во что я воплощаюсь в эту минуту. Я говорю, и говорит другой я. От моего остается только бездеятельность, пустота, некомпетентность перед всем, что является жизнью. Не знаю ни движений, ни действий, ничего реального […]
Я не научился существовать.
То, чего я хочу от себя, тотчас оказывается внутри меня.
Мне бы хотелось, чтобы чтение этой книги оставило в вас впечатление, что вы проходите через какой-то сладострастный кошмар.
То, что прежде было моральным, сегодня для нас – эстетическое… То, что было общественным, сегодня – индивидуальное…
Для чего смотреть на сумерки, если во мне тысячи разнообразных сумерек, и некоторые из них мной не являются, а если попытаться разглядеть за ними себя, являюсь ли я ими внутри себя?
Закат рассеивается в свободных облаках, разбросанных по всему небу. Отблески всех цветов, нежные отблески заполняют разнообразие высоких небес, колеблются, отсутствующие, на высотах печали. Поверх вздымающихся крыш наполовину цвет, наполовину тень, последние медленные лучи солнца, умирая, обнаруживают образцы цвета, не присущие ни им самим, ни тем предметам, на которые они налагаются. Необъятный покой – выше уровня шумного города, который тоже успокаивается. Все дышит, дальше цвета и звука, глубокими, немыми вдохами.
На пестрых домиках, что невидимы для солнца, цвета приобретают тона с примесью серого цвета. В разнообразии этих цветов – какой-то холод. Дремлет слабая тревога на мнимых холмах улиц. Дремлет и покой. И потихоньку, на самых низких облаках, отблески переходят в тень; только на том маленьком облачке, что парит белым орлом надо всем, солнце сохраняет свое смеющееся золото.
Я сам забыл все, чего ищу в жизни, чтобы потом искать. Я подобен тому, кто что-то искал бы рассеянно, уже забыв во сне, среди поисков, что же он ищет. Становится очевидным, что искомая вещь – это движения видимых рук, что ищут, копаясь, перемещая, определяя, и существуют, белые, с длинными пальцами.
Все, что у меня было, подобно этому высокому небу, разнообразному и одинаковому, лохмотьям небытия, которых касается далекий луч света, обрывкам ложной жизни, позолоченной издали смертью, с ее грустной улыбкой совершенной истины. Все, что у меня было, – да, было то, что неизвестно, где искать, сеньор – владетель вечерних болот, пустынный князь города с пустыми гробницами.
Все, чем я являюсь, или чем был, или думаю, что являюсь или был, все это теряет внезапно – в этих моих мыслях и в неожиданном исчезновении света от высокого облака – свою потаенность, свою истину, удачу, может быть, какую имело бы в чем-то, что тайно имеет жизнь. Все это, как солнце, которого не хватает, есть… все, что мне остается, и над высокими крышами, разнообразно, свет позволяет скользить своим падающим рукам, и уходит из виду в этом единении крыш тень всеобщей сущности.
Изменчивая дрожащая капля светлеет, маленькая, далеко от первой звезды.
Все проявления чувствительности, какими бы приятными они ни были, всегда – прерывание какого-то состояния, что состоит я не знаю, в чем, что является сокровенной жизнью самой этой чувствительности. Не только большие заботы, что отвлекают нас от самих себя, но даже небольшая досада расстраивает то спокойствие, которым все мы, не сознавая того, дышим.
Живем почти всегда вне нас, и сама жизнь есть постоянное рассеивание. Тем не менее, это то, к чему мы стремимся, как к центру, вокруг которого совершаем, словно планеты, эллипсы, бессмысленные и далекие.
Болезненный промежуток
Мечтать, зачем?
Что я сделал с собой? Ничего.
…одухотворяться Ночью, если…
Статуя Внутреннего Мира без очертаний, Внешняя Мечта без того, кто мечтает.
Я всегда был ироничным мечтателем, не верящим во внутренние обещания. Наслаждался всегда, как другой, как иностранец, поражениями моих мечтаний, будучи случайным спутником того, чем, как думал, являлся. Никогда не давал веры тому, во что верил. Я наполнял руки песком, называя его золотом, и разнимал руки, давая ему ускользнуть. Слово было единственной истиной. Сказанным словом все делалось; остальное – песок, который был всегда.
Если бы я не мог об этом мечтать, это проживать в постоянном отчуждении, я смог бы по доброй воле назвать себя реалистом, ведь это такой индивид, для которого внешний мир – некий независимый народ. Но я предпочитаю не давать себе никакого имени, я существо, кем в известной степени являюсь, имеющее достаточно хитрости, чтобы не уметь себя предвидеть.
У меня есть одна разновидность долга – мечтать всегда, потому что я не являюсь никем иным и не хочу быть никем иным, чем зрителем себя самого, обязанным смотреть лучший спектакль из всех, для меня возможных. Так я конструирую себя из золота и шелков в воображаемых залах, на выдуманной сцене, в античной пьесе, – мечта, созданная между играми белых лучей и невидимыми звуками музыки.
Храню внутреннее, как память о поцелуе признательности, воспоминание о детстве, об одном театре, в котором декорация, голубоватая и лунная, изображала террасу одного невозможного дворца. Вокруг дворца был – также нарисованный – просторный парк, и я всей душой наслаждался жизнью там, будто в реальном мире. Музыка, звучавшая нежно в этих мысленных обстоятельствах моего жизненного опыта, переносила в лихорадочную действительность этот данный мне сюжет.
Декорация была полностью голубоватой и лунной. Я не помню, кто появлялся на сцене, но пьеса, что я накладываю на встающий в памяти вид, сегодня слагается из стихов Верлена и Пессаньи;[18] она не была той, что я забыл, проходящей на живой сцене, по сю сторону той действительности из голубой музыки. Она была моей и текучей, огромный лунный маскарад, музыкальная пауза, завершенная в серебре и сини.
Потом пришла жизнь. В эту ночь меня взяли ужинать ко «Льву». С ностальгией вспоминаю о бифштексах – бифштексах, каких, думаю, сегодня никто не делает или я не ем. Во мне смешалось все – детство, прожитое где-то, вкусные кушанья ночи, лунная декорация, будущий Верлен и настоящий я – в одной диффузной диагонали, в ложном пространстве между тем, кем я был и кем являюсь.
Как в те дни, когда собирается гроза, шумы улицы громко разговаривают своим отдаленным голосом.
Улица жмурилась от сильного и бледного света, и грязная темнота трепетала от востока до запада мира, точно гром, образованный отголосками разрушения… Суровая печаль грубого дождя ухудшала черный воздух своей уродливой силой. Холодный, тепловатый, горячий одновременно воздух во всех своих слоях был обманчивым. И вдруг какой-то клин металлического блеска пробил брешь в покое человеческих тел, и щебень звука с ледяным испугом бил во все стороны, разрушаясь в суровой тишине. Звук дождя стихал, будто голос, менее важный. Шум улиц стихал тоскливо. Новый свет, быстрый и желтоватый, вытеснял глухую тьму, сжатый кулак дрожащего звука внезапно начал отдаваться эхом издалека; как некое сердитое прощание, гроза начиналась, еще не будучи здесь.
…шепотом, стелющимся и завершенным, без света в возрастающем свете, дрожь грозы успокаивалась на далеких площадях – кружилась в Алмаде…
Внезапный свет – великолепный – расщепился. Медлил внутри рассудков и мышлений. Все остановилось. Сердца замерли на мгновение. Чувства обострились. Молчание низверглось, будто воцарилась смерть. Звук усиливавшегося дождя успокаивал все, точно слезы. Это свинец.
Кинжал молнии, нерешительный, вращался, подобно тени, в широкой комнате. И звук приходил, неминуемый большой глоток грохотал, перемещаясь в глубину. Дождь громко рыдал, как плакальщицы в перерывах между надгробными речами. Слабые звуки выделялись здесь, внутри, тревожные.
…тот эпизод воображения, называемого нами действительностью.
Уже два дня идет дождь, падает с холодного серого неба настоящий дождь, такого цвета, что печалит душу. Два дня… Я во власти грустных чувств и размышляю об этом у окна под звук капающей воды и падающего дождя. Сердце мое угнетено, и воспоминания оборачиваются печалью.
Я не сплю и не имею никаких причин спать сейчас, но во мне нарастает большое желание уснуть. Давно, когда я был ребенком и был счастливым, я жил в доме с внутренним двориком, где голосил зеленый попугай с разноцветными пятнами. Никогда, в дождливые дни, ему не было грустно говорить, и он взывал, не сомневаясь в помощи, будто какое-то постоянное чувство, что парило среди грусти, как ненужный граммофон.
Я думал об этом попугае, потому что мне грустно, а далекое детство его помнит? Нет, я думал о нем действительно, потому что из дома напротив сейчас доносятся крики какого-то попугая.
Все приводит меня в замешательство. Полагая, что вспоминаю, я думаю о другом; если вижу, не знаю, а когда отвлекаюсь, вижу четко.
Поворачиваюсь спиной к серому окну с холодными для касающихся их рук стеклами. И несу с собой, каким-то внезапным колдовством сумерек, старый дом, во внутреннем дворике которого кричал попугай; и мои глаза усыпляют во мне всю безвозвратность пребывания живым.
Да, это закат. Дохожу до устья Таможенной улицы, спокойного и рассеянного, и, когда появляется Дворцовая площадь, четко вижу ее, уже не освещенную солнцем на западе. Это небо зеленовато-голубого, переходящего в серо-белый цвета, где с левой стороны над горами на другом берегу присело на корточки нагромождение тумана, каштановое, точно умершее розовое. Большой покой, которого нет, холодно рассеивается в осеннем воздухе. Страдаю оттого, что у меня нет этого смутного удовольствия предполагать, что он существует. Но в действительности нет ни покоя, ни его недостатка: только небо, небо всех цветов, блекнущих постепенно, – бело-голубой, зеленый, еще подсиненный, бледно-серый между зеленым и синим, неопределенные тона, далекие от цветов облаков и не являющиеся ими, желтовато оттененные завершенным красным. И все это – одно видение, гаснущее в тот же момент, когда и возникло, промежуток меж небытием и небытием, крылатое, высоко идущее, тональности неба и печали, пространное и бесконечное.
Чувствую и забываю. Какие-то сожаления, свойственные всегда и всем людям, овладевают мною, как опьянение свежим воздухом. Во мне – экстаз видения, личный и обманный.
В стороне гавани, где солнце, заходя, каждый раз все более умирает, свет гаснет в белом – мертвенно-бледном, что подкрашивается сине-зеленым, холодным. В воздухе какое-то оцепенение, при котором ничего не возможно. Молчит высокая красота неба.
В этот час, когда я переполнен чувствами, я хотел иметь всю хитрость, чтобы сказать, прихоть, свободную волею судеб от определенного стиля. Но нет, только высокое небо – это все, далекое, уходящее, и мои чувства, а их столько, объединенных и смутных, все они не более чем отблеск этого исчезнувшего неба в каком-то моем внутреннем водоеме – водоеме, заточенном между неподвижными обрывистыми скалами, молчаливом, как взгляд мертвого, в котором высота любуется собой, забытая.
Столько раз, столько раз мне было тяжело, как сейчас, чувствовать, что чувствую, – чувствовать, точно тоску, только оттого, что я – существо чувствующее; тревогу оттого, что я здесь, сожаление о другом, неизвестном, закат всех чувств.
Ах, кто может спасти меня от существования? Не смерти я хочу и не жизни: есть нечто другое, что сияет в глубине тоски, как бриллиант в яме, в которую невозможно спуститься. И весь гнет, и вся боль этой вселенной, реальной и невозможной, этого неба – знамени неизвестного войска, этих тонов, бледнеющих в несуществующем воздухе, откуда воображаемый полумесяц всплывает в остановившейся электрической белизне, выделяясь на далеком и бесчувственном.
Это все отсутствие настоящего Бога, он всего лишь пустой труп высоких небес и закрытой души. Бесконечная тюрьма, потому что ты – бесконечность и нельзя убежать от себя!
Я предпочитаю прозу стихам по двум причинам, из которых первая, личная, заключается в том, что у меня нет выбора, так как я не умею слагать стихи. Вторая, между тем, общая для всех, и я верю, что она не является тенью или маской первой. Поэтому жаль, что говорю о ней кратко, ведь она касается самой сути всего самого ценного в искусстве.
Считаю стихотворение чем-то промежуточным, каким-то переходом музыки в прозу. Как и музыка, стихотворение ограничено ритмическими законами, которые, даже если это не жесткие рамки классического стиха, существуют, однако, как осмотрительность, принуждение, автоматическое приспособление к подавлению и наказанию. Проза дает нам говорить свободно. Мы можем включать в нее музыкальные ритмы и тем не менее думать. Мы можем включать в нее поэтические ритмы и тем не менее выходить за их рамки. Случайный ритм стиха не мешает прозе; случайный ритм прозы заставляет спотыкаться стих.
В прозе объединяется все искусство – отчасти потому, что в слове помещается весь мир, отчасти потому, что в свободном слове помещается вся возможность говорить о нем и думать. В прозе мы даем все путем перемещения. Цвет и форму так, как их не может дать живопись, преподносящая их прямо, в них самих, без их тайного измерения; ритм так, как его не может дать музыка, преподносящая его прямо, в нем самом, без определенной плотности и без той вторичной плотности, каковой является идея; структуру, что архитектор должен создавать из предметов определенных, данных, внешних, – мы воздвигаем в ритмах, в неопределенностях, в течениях и текучестях. Это относится и к действительности, которую скульптор ваяет в мире без ауры и перехода одного вещества в другое; к поэзии, наконец, в которой поэт как посвященный в какой-то тайный орден – это раб, хотя и добровольный, определенной степени, определенного ритуала.
В мире, совершенно цивилизованном, я полагаю, не существовало искусства, что не было бы прозой. Оставим закаты самим закатам, заботясь только в искусстве о том, чтобы осознать их словесно, таким образом, переводя их в музыку, понятную в цвете. Не будем ваять скульптуру тел, но сохраним сами тела, видимые и доступные для прикосновения, их движущуюся выразительность, их нежную печаль. Будем строить дома, только чтобы жить в них, в конце концов, это и есть то, ради чего они существуют. Пусть поэзия остается, чтобы в будущем с ее помощью дети приближались к прозе; потому что поэзия, вне сомнения, это что-то от детства, от мнемоники, от помощи и от начала.
Даже искусства младшие, или те, что мы можем так называть, отражаются шепотом в прозе. Есть проза, что танцует, что поет, что декламируется сама по себе. Есть словесные ритмы – танцы, в которых идея обнажается извилисто, с чувственностью полупрозрачной и совершенной. И есть также в прозе тонкости потрясений, в которых большая любовь, Глагол превращается ритмически в свою телесную субстанцию – неосязаемое таинство вселенной.
Все проникает во все. Чтение классиков, не говорящих о закатах, для меня – вихрь многих закатов во всем их многоцветии. Существует связь между синтаксической грамотностью, которая позволяет отличить ценность «лишь», «но» и «однако», и способностью понимать, когда синева неба на самом деле зеленая, и когда желтое пятно проявляется на зеленой синеве неба.
В глубине то же самое – способность различать и утончать.
Без синтаксиса нет долговременного чувства. Бессмертие – это функция грамматического.
Искусство – это избегание действия или жизни. Искусство – это духовное выражение чувства, отличное от жизни, то есть избирательное выражение чувства. Тем, чего у нас нет, или на что мы не отваживаемся, или чего не можем достичь, мы можем обладать в мечте, именно в этой мечте мы создаем искусство. В других случаях чувство – такой сильный фактор, что даже если оно обращено в действие, то действия, в которое оно превратилось, ему недостаточно; из чувства, которого в избытке, что осталось невыраженным в жизни, создается произведение искусства. Таким образом, есть два типа художников: выражающие то, чего нет, и выражающие то, чем владеют в избытке.
Создать произведение и увидеть его несовершенным после окончания работы – это одна из трагедий души. Особенно она велика, когда становится ясным, что это произведение – лучшее, что только возможно создать. Но, начиная писать любое произведение, знать заранее, что оно несовершенно и неудачно, – это самое сильное мучение и унижение духа. Не только из-за стихов, какие пишу, я чувствую неудовлетворенность, но знаю, что стихи, только еще задуманные мною, также меня не удовлетворят. Знаю это как философски, так и чувственно, в смутном видении, темном и словно пронзенном шпагой.
Зачем же я тогда пишу? Потому что проповедник, каковым я являюсь после отречения, еще не научился играть эту роль в совершенстве. Не научился отказываться от тяги к стихам и прозе. Я должен писать, будто отбывая наказание, к которому присужден. Самое большое наказание – знать, что мои рукописи ничтожны, неудачны и неопределенны.
Будучи ребенком, я уже писал стихи. Очень плохие, но считал их совершенными. Никогда больше не довелось мне получать такое удовольствие, пусть ложное, от создания совершенного творения. То, что я пишу сегодня, намного лучше. Действительно лучше, насколько мы вообще способны писать лучше. Но это отстоит бесконечно далеко от того, что – я чувствую это – мог бы или должен – писать. Плачу о моих плохих детских стихах, словно об умершем ребенке, о потерянном сыне, о последней утраченной надежде.
Чем больше успехов мы делаем в жизни, тем более убеждаемся в двух противоречащих друг другу истинах. Первая – в том что перед реальностью жизни бледнеют все вымыслы литературы и искусства. Без сомнения, они приносят удовольствие более благородное, чем удовольствия жизни; однако они как мечты, в которых мы ощущаем чувства, в жизни нами не испытываемые, и обретаем формы, в жизни нами не встречаемые; все же это мечты, сны, что при пробуждении не оставляют по себе ни той памяти, ни той ностальгии, с какими мы жили бы потом второй жизнью.
Вторая – в том, что, будучи главным желанием благородной души, исследование жизни в ее полноте и целостности, узнавание в совершенстве всех вещей, местностей, всех живых чувств – все это является невозможным, и жизнь только субъективно может быть прожита полностью, только отрицаемая может быть прожита в своей главной субстанции.
Эти две истины являются неполными одна без другой. Мудрец воздержится от желания их соединить и воздержится также от того, чтобы отвергнуть одну или другую. Однако надо следовать одной, а значит, предавать другую; или отвергнуть обе, поднимаясь над самим собою в состоянии нирваны.
Счастлив, кто не требует от жизни большего, чем она добровольно ему дает, ведомый инстинктом котов, ищущих солнце, когда оно светит, и тепла, если солнца нет. Счастлив, кто отрекается от своей личности ради воображения и радуется, созерцая чужие жизни, переживая не все впечатления, но лишь спектакль из всех чужих впечатлений. Счастлив, наконец, тот, кто отрекается от всего, и у кого благодаря этому полному отречению ничего нельзя отнять или уменьшить.
Крестьянин, читатель, аскет – все они счастливы в жизни, ведь они отреклись от собственной личности – один, потому что живет инстинктом, другой, потому что живет воображением, дарующим забвение, и третий, потому что не живет и, не умирая, дремлет.
Ничто меня не удовлетворяет, ничто меня не утешает, все – было оно или нет – меня насыщает. Не хочу иметь душу и не хочу отрекаться от нее. Я желаю того, чего не желаю, и отрекаюсь от того, чего у меня нет. Не могу ни быть ничем, ни быть всем: я – мост для перехода от того, чего не имею, к тому, чего не хочу.
…торжественная грусть, что есть во всех великих вещах – на вершинах так же, как и в великих жизнях, в глубоких ночах, как и в вечных поэмах.
Мы можем умереть, если всего лишь любили. Умерли, если мы развлекались.
Только один раз я действительно был любим. Но все и всегда относились ко мне с симпатией. Даже случайному человеку нелегко было быть грубым, резким или даже холодным со мной. Некоторые симпатии я бы мог, если бы желал, превратить в любовь или страсть. Но у меня никогда не было терпения или духовной сосредоточенности для того, чтобы совершить необходимое усилие.
Вначале, наблюдая это в себе, я считал – настолько мы себя не понимаем, – что это объясняется моей застенчивостью. Но потом я обнаружил, что это не так; это была некая скука от чувств, отличная от скуки от жизни, некое нетерпение, мешавшее мне связывать себя любым постоянным чувством, особенно если бы оно требовало от меня продолжительного усилия. Зачем? – думало во мне то, что не думает. У меня достает утонченности, хватает психологического такта, чтобы объяснить «почему», но не по «какой причине». Слабость моего желания начиналась как слабость желания иметь желание. Так случалось со мною в чувствах, как случается со мною в разуме, и в самом желании, и во всем, что есть жизнь.
Но в тот раз, когда лукавство благоприятного случая заставило меня считать, что я любил, и я убедился, что действительно любим, я был ошеломлен и сконфужен так, будто меня покинула большая удача. Затем, ведь ни один человек не может избежать этого, я слегка возгордился; это чувство, однако, которое могло бы показаться наиболее естественным, прошло быстро. На смену ему пришло другое, трудно определимое, в котором выделялись ощущения скуки, унижения и усталости.
Скуки – будто бы Судьба поставила бы мне какую-то задачу в неведомые вечера. Скуки – будто новая обязанность какой-то ужасной взаимности была бы мне дана в насмешку в качестве привилегии и я должен был докучать ею себе, благодаря за нее Судьбу. Скуки – будто мне не было довольно бессознательного однообразия жизни и теперь я хотел добавить к нему обязательное однообразие преходящего чувства.
И унижения, да, унижения. Я запоздал с пониманием, к чему вело чувство, кажущееся так мало обоснованным. Любовь и взаимность в любви должны были появиться в моей жизни. Я должен был возгордиться тем, что кто-то обратил внимание на мое существование, на меня как на существо любимое. Но уже в тот короткий миг настоящего тщеславия или, быть может, удивления я почувствовал унижение. Почувствовал, что я получил какую-то награду, предназначенную другому, тому, кто бы ее заслуживал естественно.
Усталость, особенно усталость – усталость, превосходящая скуку. Я понял тогда одну фразу из Шатобриана, которой прежде не мог разгадать по недостатку собственного опыта. Шатобриан говорит, воображая себя Рене: «Любовь к нему его утомляла». Я узнал с удивлением, что эта фраза описывала опыт, аналогичный моему, и ее правоту, поэтому я не имел права отрицать.
Усталость быть любимым, быть поистине любимым! Усталость оттого, что мы являемся объектом чужих чувств! Превратить того, кто хотел видеть себя свободным, всегда свободным, в мальчика на побегушках у необходимости соответствовать, не отдаляться, для того, чтобы не предполагалось, что он – владыка эмоций и отказывается от наибольшего, что может дать душа человеческая. Усталость от превращения нас в опыт, во что-то, зависимое от связи с чувством другого! Усталость от того, во всяком случае, что ты необходимо должен чувствовать, что ты необходимо должен любить, хотя бы и без взаимности!
Этот эпизод исчез из моей жизни так же, как появился. Сегодня ничего от него не осталось, ни в моем разуме, ни в моих чувствах. Он не принес мне никакого опыта, какого я не смог бы получить, делая выводы из законов человеческой жизни. Я имею их инстинктивное знание, потому что я – человек. Не дал мне ни удовольствия, о котором я вспоминал бы с грустью, ни тягостного ощущения, о котором я вспоминал бы тоже с грустью. У меня такое впечатление, что это было что-то, о чем я когда-то читал, случай, произошедший с другим, рассказ, половина которого отсутствовала, да мне это было бы и неважно, до того места, докуда я дочитал, ведь все было ясно, и уже понятно, что в отсутствующей части не могло быть особого смысла.
Осталась у меня всего только благодарность к человеку, что меня любил. Но это абстрактная благодарность, более идущая от разума, нежели от какого-то чувства. Меня огорчает, что кто-то мог быть несчастным из-за меня; только это и – ничто другое – и огорчает меня.
Было бы неестественным, если бы жизнь мне принесла другую встречу с естественными чувствами. Почти хочу, чтобы это произошло, чтобы увидеть, что я буду чувствовать во второй раз, после тщательного анализа первого опыта. Возможно, что буду чувствовать меньше; возможно также, что больше. Если Судьба даст это, пусть дает. Мне интересны чувства. Мне совершенно не интересны факты, никакие.
Не ограничиваться ничем – ни одним человеком, ни одной любовью, ни одной идеей, иметь ту независимость, что состоит в неверии в истину, даже в том случае, если бы была определенная выгода в постижении этой истины, – таково состояние, в котором, мне кажется, должна протекать, в себе самой, сокровенная интеллектуальная жизнь тех, кто не живет без мыслей. Принадлежать – это пошлость. Убеждение, идеал, женщина или профессия – все это темница и оковы. Быть – это оставаться свободным. Само честолюбие, если чувствовать гордость от того, что оно есть, – это бремя; мы не гордились бы, если бы поняли, что это – бечева, на которой нас тащат. Нет даже связям с самими собой! Свободные от себя, как и от других, созерцатели без экстаза, мыслители, не делающие выводов, давайте проживем свободными от Бога тот небольшой промежуток, который предоставляет нам рассеянность палачей. Завтра нам предстоит гильотина. Если мы избежим ее завтра, взойдем на нее послезавтра. Будем же проводить на солнце часы досуга, пока мы живы, добровольные невежды, не желающие ничего знать о целях и продолжениях. Солнце будет золотить наши лбы без морщин, и бриз будет свежим для тех, кто больше не надеется.
Швыряю ручку на конторку, и она катится по покатой поверхности рабочего стола, но я ее не схватываю. Я почувствовал все внезапно. И моя радость проявилась в этом действии, полном ярости, которой я не чувствую.
В детстве мне дарили плетеные тележки. Я страстно любил их – помню очень хорошо, – потому что сострадал им, ненастоящим…
Когда однажды мне досталось несколько шахматных фигур (другие были потеряны), какая была радость! Я скоро дал названия фигурам и включил их в мир моей мечты.
Роли их определились четко. Они имели различные жизни. Один из них, сильный и спортивный, жил в коробке, на моем комоде, мимо которого проходил вечером, когда я, а позже и он возвращались из колледжа трамваем из спичечных коробок, соединенных проволокой. Он всегда выскакивал из движущегося вагона. О, мое мертвое детство! О, труп, вечно живой в моей груди! Когда я вспоминаю об этих своих игрушках, подступившие слезы согревают мои глаза, и ностальгия, острая и бесполезная, грызет меня, подобно угрызениям совести. Все это прошло, осталось неподвижным и видимым в моем прошлом, в моих постоянных мыслях о моей тогдашней спальне, вокруг моей особы – ребенка, ведущего по воздуху от комода к туалетному столу и от него к постели игрушечный трамвай, везущий домой моих смешных учеников из дерева.
Одних я наделял пороками – пристрастием к табаку, воровством, – но по природе я не сексуален и не приписывал им иных шалостей, кроме одной – целовать девушек и подстерегать, когда они откроют ноги. Я заставлял их курить свернутую бумагу за большой коробкой, стоявшей на большом чемодане. Иногда там появлялся некий мэтр. И, вживаясь в своих персонажей, я делал игрушечную сигару и ставил курильщика на углу, поджидать мэтра и провожать в неминуемую дорогу… Иногда они были далеко один от другого, и я не мог одновременно управлять ими. Я был вынужден заставлять их идти поочередно. Меня это огорчало, как сегодня огорчает невозможность придать выражение какой-то жизни… Ах, но зачем же я вспоминаю все это? Зачем я не остался навсегда ребенком? Зачем не умер я там, в один из этих моментов, пленник коварства моих учеников и прибытия, будто бы – неожиданного, моих мэтров? Сегодня я не могу делать этого… Сегодня у меня есть только реальность, с которой я не могу играть… Бедный ребенок, изгнанный в его зрелость! Зачем же я должен был вырасти?
Сегодня, когда вспоминаю это, ко мне приходит сожаление о чем-то большем. Умерло во мне большее, нежели только мое прошлое.
Пейзаж дождя
Всю ночь спускался с неба щебет дождя. Всю ночь в полусне я слышал его настойчивое холодное однообразие. То один росчерк ветра в вышине хлестал кнутом, и вода становилась волнистой от боли и пробегала быстрыми руками по стеклу; то глухой звук заставлял уснуть мертвое пространство снаружи. Моя душа была той же всегда, среди простыней, как среди людей, болезненно сознавая этот мир. Медлил день, как медлит счастье, и в тот час казалось, что медлит он бесконечно.
А если день и счастье никогда не придут? Если ожидать, можно даже не разочароваться достигнутым.
Случайный звук запоздалого автомобиля, резко подскакивающего на камнях, возрастал из глубины улицы, потрескивал стеклами, стихал в глубине мостовой, в глубине моего смутного сна, который всем этим нарушался. Стучала порою дверь на лестницу. Иногда слышался плеск воды под ногами, шорох мокрого платья. Выделялся высокий голос, когда шагов становилось много. Потом тишина возвращалась, шаги стихали, и несметный дождь продолжался.
На мрачных стенах, видимых, если открыть глаза, из моей спальни, плавали обрывки мечтаний, смутный свет, черные полосы, что-то небывшее, что поднималось и опускалось. Предметы, большие, чем днем, пятнали расплывчато абсурд тьмы. Дверь была обозначена чем-то, ни белее, ни чернее ночи, но отличным от нее. Что же касалось окна, я только слышал его.
Новый, жидкий, неопределенный, дождь звучал. Моменты медлили в его звуке. Одиночество моей души расширялось, растекалось, вовлекая то, что я чувствовал, чего я хотел, о чем хотел мечтать. Смутные объекты – участники, в тени, в моей бессоннице занимали свое место, вплетая свою боль в мое отчаяние.
Треугольная мечта
Свет возрождался из желтизны, преувеличенно медленный, из желтизны, грязной от мертвенной бледности. Возрастали промежутки между предметами, и звуки тоже расширяли промежутки по-новому, разъединяясь. Только послышавшись, внезапно умолкали, будто подрезанные. Жара, по-видимому возраставшая, казалось, превратилась в холод. Через небольшую щель в дверях, что прилегали к окну, виделось единственное дерево, застывшее в ожидании. Его зелень была иной. Тишина входила в него через цвет. В воздухе закрывались лепестки. И в самой композиции пространства какая-то взаимосвязь, не похожая на замыслы, существовала, меняя и разбивая тон звуков, света и цветов, словно бы они изнашивали протяженность.
В тех пошлых мечтаниях, что зовутся стыдом, текущим из пропасти души, и в которых никто не отважится признаться, и от которых нас давит бессонница, как грязный призрак, вязкость и гнойный волдырь подавленной чувствительности, – что́ в них… нелепо, что́ в них ужасно и не сказано, это может распознать наша душа!
Человеческая душа – это карикатурный паноптикум. Если бы одна душа могла бы обнаружиться истинно, не было бы стыда более глубокого, по сравнению со всеми известными видами стыда, это был бы, как правильно говорят, колодец, но колодец мрачный, полный смутных отзвуков, обитаемый гнусными жизнями, вязкостями без жизни, слизняками без существования, соплями субъективности.
Чтобы составить каталог чудовищ, следует лишь точно описать словами те вещи, что ночь несет сонным душам, страдающим от бессонницы. Эти вещи обладают всей бессвязностью сна без оправдания, состоящего в том, что это сон. Парят как летучие мыши над пассивностью души или как вампиры, которые пьют кровь покорности.
Это злые духи падения и бесполезной растраты, тени, наполняющие долину, следы, оставленные судьбой. Порой это черви, вызывающие отвращение у самой души, что их творит и лелеет; в другом случае – это призраки умерших, мрачно ходящие дозором вокруг пустоты; в третьем случае еще появляются змеи, из абсурдных пещер потерянных чувств.
Балласт лжи, они годятся только для того, чтобы мы ни на что не годились. Это сомнения бездны, оставленные в душе, волочащиеся складками, сонными и холодными. Длятся дымы, проходят следы, и нет большего, чем их существование, в стерильной субстанции, имевшей их сознание. Один или другой – будто тайная пьеса о фейерверке: искрится какое-то время среди мечтаний, и остальное – это бессознательность сознания, с помощью которой это видим.
Распутанная тесьма, душа не существует в себе самой. Великие пространства и красоты – для завтрашнего дня, а мы уже живем. Потерпела неудачу прерванная беседа. Кто сказал, что жизнь должна была быть такой?
Теряю себя, если себя встречаю, сомневаюсь, если полагаю, не имею, если получаю. Будто прогуливаясь, сплю, но остаюсь бодрствующим. Будто во сне, просыпаюсь и сам себе не принадлежу. Жизнь, сама по себе, – великая бессонница, и есть сияющее пробуждение во всем, что думаем и что делаем.
Я был бы счастлив, если бы мог спать. Говорю это о нынешнем моменте, потому что не сплю. Ночь – огромное бремя, помимо того что я задыхаюсь под немым одеялом, которое воображаю. У меня несварение души.
В конце концов обязательно придет день, но будет поздно, как всегда. Все спит, и все счастливо, только не я. Отдыхаю немного, не осмеливаясь уснуть. И огромные головы чудовищ, не существуя, появляются, неясные, из глубины того, кем я являюсь. Это драконы бездны, с пламенными языками – вне всякой логики, с глазами, лишенными жизни, пристально разглядывающими мою мертвую жизнь, не видящую их.
Нет, бога ради, нет! Пусть закончатся для меня бессознательность и жизнь. К счастью, из холодного окна, из дверей, которые раскрываются внутрь, грустный луч бледного света начинает убирать тень на горизонте. К счастью, то, что восходит, – это день. Успокаиваюсь, устав пребывать в непокое. Поет петух – какой абсурд! – посреди города. Мертвенно-бледный день начинается в моем смутном сне. На этот раз я усну. Шум тележных колес. Мои веки спят, но не я. Все, в конце концов, есть Судьба.
Майор в отставке – это мой идеал. Так жаль, что я не могу быть вечно всего лишь майором в отставке.
Жажда быть совершенным оставила во мне бесполезную печаль.
Трагическая пустота жизни.
Мое любопытство – сродни дроздам.
Коварная тоска закатов, робкое оснащение утренних зорь.
Давайте посидим здесь. Отсюда видится больше неба. Есть утешение и огромное расширение в этой звездной вышине. Меньшую боль причиняет жизнь, когда видишь ее; чувствуем возле своего лица, горячего от жизни, мановение легкого веера.
Человеческая душа – это жертва боли, такая неизбежная, она страдает от боли, причиненной мучительной неожиданностью, хотя и должна была бы ее ожидать. Тот человек, что всю жизнь говорил о непостоянстве и об изменчивости женщин как о чем-то естественном и типичном, испытает потрясение, столкнувшись с предательством в любви – как будто бы всегда руководствовался догмой или ожиданием верности от женщины. И другой, считающий все пустым и бессодержательным, сделает внезапно горькое открытие, что все, написанное им, – ничто, что бесплодны его попытки наставлять, что ложно его кажущееся общение при помощи чувства.
И это не оттого, что люди, с которыми эти и другие подобные несчастья происходят, были не вполне искренни в том, что говорили или что писали, в тех беседах или книгах, в каких эти несчастья были заложены заранее. Искренность рассудочных утверждений – ничто перед естественностью спонтанных эмоций. Все мы одинаковы в способности ошибаться и страдать. Не испытывает боли только тот, кто не чувствует; и самые высокие, самые благородные, самые предусмотрительные – те, кто страдает от предвиденного и пренебрегаемого. Вот это и зовется Жизнью.
Обычная жизнь всегда казалась мне самым неудобным видом самоубийства. Действие всегда означало для меня жестокий приговор несправедливо осужденной мечте. Влиять на внешний мир, изменять что-то, перемещать, влиять на людей – все это представлялось мне какой-то субстанцией, более туманной, чем субстанция моих мечтаний. Ничтожество, присущее всем формам действия, было с самого детства одной из любимых мною единиц измерения моего равнодушия, вплоть до равнодушия к самому себе.
Действовать – это оказывать сопротивление самому себе. Оказывать влияние – это выходить из дома.
Я всегда размышлял над тем, каким абсурдом является – там, где существующая реальность представляет собою лишь серию ощущений, – наличие таких запущенно-простых вещей, как торговля, промышленность, социальные и семейные отношения, – прискорбно невразумительных перед внутренней установкой души, хранящей идею истины.
Мое воздержание от общения с внешним миром порождает, среди прочего, одно любопытное психическое явление.
Воздерживаясь полностью от действия, проявляя равнодушие к Вещам, я достигаю видения внешнего мира, когда рассматриваю его совершенно объективно. Не имея интереса или цели изменить его, я его не меняю.
И так достигаю…
Если бы даже я хотел сотворить…
Единственное истинное искусство – это искусство построения. Но современная среда делает невозможным появление качеств, необходимых для построения – в нашем духе.
Поэтому развилась наука. Единственная вещь, в которой есть построение, – это машина; единственные аргументы, в которых есть логика, – аргументы математические.
Возможность создавать нуждается в точке опоры, в костылях реальности.
Искусство – это такая наука…
Ритмически страдает.
Не могу читать, потому что моя критика, чересчур горячая, обнаруживает только дефекты, несовершенства, возможности улучшения. Не могу мечтать, потому что чувствую мечту так живо, что сравниваю ее с реальностью, и так вскоре чувствую, что она нереальна; и так ее ценность исчезает. Не могу заниматься невинным наблюдением за вещами и людьми, потому что жажда углубить это наблюдение неизбежна, и, поскольку мой интерес не может без нее существовать, он или умирает на ее руках, или иссякает […]
Не могу заниматься умозрительными метафизическими построениями, потому что знаю прекрасно, что все системы являются доказуемыми и умозрительно возможными; и для того, чтобы любить интеллектуальное искусство построения систем, мне недостает возможности забыть, что цель метафизических спекуляций – поиск истины.
Без счастливого прошлого, память о котором делает существо счастливым, без единой вещи в настоящем, которая бы меня радовала или интересовала, без мечты или предположения о будущем, отличном от этого настоящего, или о другом прошлом, – я покоюсь в моей жизни, сознающий призрак из некоего рая, где никогда не был, труп, порожденный моими надеждами на то, что могло бы быть.
Счастливы те, кто остается цельным в своем страдании! Те, кого тоска гнетет, не внося в душу раздора, кто верит, хотя бы в неверие и может сидеть на солнце, не размышляя при этом.
Отрывки одной автобиографии
Вначале занимали меня метафизические спекуляции, потом научные идеи. В конце концов меня привлекли… социологические. Но ни в одной из этих стадий моего поиска истины я не встретил надежности и облегчения. Читал немного, – заинтересовавшись той или иной проблемой. Но и в том немногом, что я читал, столько противоречивых, одинаково обоснованных, одинаково вероятных, основанных на определенном подборе фактов теорий утомляло меня. Если бы я поднял от книг свои усталые глаза или если бы мои размышления увели бы в сторону внешнего мира мое взволнованное внимание, я бы видел только одно, опровергающее весь мой опыт чтения и размышлений, срывающее, один за другим, все лепестки идеи усилия: бесконечную сложность вещей, громадную сумму… многословную непостижимость самих немногих фактов, которые, если бы мы могли их постичь, были бы необходимы для развития науки.
Отвращение от того, что я ничего для себя не обнаружил, пришло ко мне постепенно. Я не нашел ни оснований, ни логики, только скептицизм, даже не искавший логики. О том, чтобы излечить себя от этого, я не думал – почему я должен был излечиваться от этого? И что тогда было бы здоровым существом? Разве я был уверен, что это состояние души должно было быть отнесено к болезни? Кто может подтвердить, что болезнь не была более желательной, или более логичной, или более… чем здоровье? Состояние здоровья предпочтительнее, для чего же я был больным, как не для того, чтобы им быть, и, если я им был, зачем же идти против Природы, которая для какой-то цели, если она ее имеет, захотела, чтобы я был болен?
Никогда не встречал убедительных аргументов, за исключением аргументов в пользу бездеятельности. День за днем, более и более проникало в меня сумрачное сознание моей бездеятельности отрекающегося. Искать способы бездеятельности, избегать любого усилия в жизни, любой социальной ответственности – я изваял на этом… задумчивую статую моего существования.
Я оставил чтение, оставил случайные капризы эстетического образа жизни. Из того немногого, что я читал, научился выделять только основы для мечтаний. Из того немногого, чему я был очевидцем, я старательно выбирал то, что было возможно в отражении отдаленном и ошибочном, продлевая его внутри себя. Стремился к тому, чтобы все мои размышления, все повседневные главы моего опыта предоставляли мне только ощущения. Я вскормил всей своей жизнью определенную эстетическую направленность. И ориентировал эту эстетику на чисто индивидуальное. Сделал ее только моей.
Затем я посвятил себя, в искомом течении моего внутреннего гедонизма, уклонению от социальной восприимчивости. Постепенно защищал себя броней от ощущения нелепости. Учил себя быть нечувствительным, как к призывам инстинктов, так и к требованиям […]
Сократил до минимума свои контакты с другими. Сделал все, что смог, чтобы потерять всю привязанность к жизни […] Постепенно задавил в себе само желание признания славы, словно уставший человек, сбрасывающий одежду, чтобы отдохнуть.
Занятия метафизикой, науками… породили беспокойство духа, слишком сильное для равновесия моей нервной системы. Я провел ужасные ночи, склоненный над томами мистиков и каббалистов, которые я никогда не имел терпения прочесть полностью, которые не отрывисто, дрожащий и… Ритмы и таинства «Ордена розы и креста», символика… каббалы и тамплиеров… – я страдал в те времена от гнета всего этого. И заполнили лихорадку моих дней ядовитые спекуляции с демоническим основанием метафизики – магия… алхимия – жил, извлекая ложный жизненный стимул из болезненного и пытливого ощущения – когда как бы вечно стоишь на пороге знания какого-то высшего таинства. Я потерял себя во вторичных возбуждающих системах метафизики, системах, полных смущающих аналогий, капканов для здравого ума, величественных таинственных видов, где отражения сверхъестественного пробуждали таинства в их очертаниях.
Я постарел из-за ощущений… Потерял силы, рождая мысли… И моя жизнь проходила, как метафизическая лихорадка, в постоянном обнаружении скрытых смыслов в предметах, в игре с огнем загадочных аналогий, когда я откладывал в сторону освещение целостности, обычный синтез для того, чтобы сбросить [?].
Сложная умственная недисциплинированность породила во мне равнодушие. Где я мог укрыться? Мне представляется, будто я не мог укрыться ни в одном месте. Я предался полностью, но не знаю чему.
Сконцентрировал и ограничил мои желания, чтобы совершенствовать их, чтобы достичь бесконечности. Я полагаю, что ее возможно достичь, необходимо иметь только один порт, только один, надежный, и можно отправляться из него в Бесконечность.
Сегодня я – аскет в своей собственной религии. Одна чашка кофе, одна сигарета, – и мои мечты отлично заменяют Вселенную и ее звезды, труд, любовь, даже красоту и славу. У меня почти нет потребности в стимулах. Опиум? – он в моей душе.
Каковы мои мечты? Не знаю. Я принудил себя достичь такой точки, где мне уже непонятно, о чем думаю, о чем мечтаю, какие вижу сны. Кажется мне, что мечтаю каждый раз о более далеком, что каждый раз больше мечтаю о расплывчатом, о неясном, о немечтаемом.
Я не строю теорий относительно жизни. Хороша ли она или плоха, я не знаю, не думаю. На мой взгляд, она груба и грустна, с прелестными мечтами, проходящими сквозь нее. Какое мне дело до того, какова она для других?
Жизни других служат мне, только чтобы я их проживал, каждую жизнь каждого, что, как мне кажется, их устраивает в моей мечте.
Моя привычка не верить ни во что, особенно в инстинктивное, и моя естественная тяга к неискренности поведения – две вещи, способствующие отрицанию препятствий, чтобы я делал это постоянно.
В сущности, происходит вот что: я превращаю других в свои мечты, удваивая себя за счет их мнений, чтобы, распространяя их на мои рассуждения и на мою интуицию, сделать их своими (я, не имея своего мнения, могу иметь их мнения, как и любые другие), чтобы их менять по моему вкусу и творить из других личностей что-то родственное моим мечтаниям.
Таким образом я ставлю мечту перед жизнью, что сама с собою, в словесном общении (другого не имею), продолжается, мечтая, и пребывает, через чужие мнения и чувства других, на текучей границе моей бесформенной индивидуальности.
Каждый другой – это канал или канавка, куда вода моего существа бежит по желанию других, отмечая блеском воды свое направление.
Иногда мне представляется, что я паразитирую на других, но в действительности это я их вынуждаю паразитировать на моих эмоциях. Привычка жизней под видимостью их индивидуальностей. Подражаю их шагам в глине своего духа и так, более, чем их самих, забираю эти их усилия внутрь моего сознания, приобретаю их походку и хожу их путями.
Вообще, по привычке, какую я имею, удваивать себя, производить в одно и то же время две различные умственные операции, я, приспосабливаясь чувствовать других, постоянно анализирую внутри себя состояние их душ, подвергая чисто объективному анализу то, кем они являются и о чем они думают. Так, среди грез, не останавливая процесса моего непрерывного мечтания, я не только проживаю утонченную сущность их чувств, порою мертвых, но понимаю и классифицирую логические взаимосвязи их различных духовных сил, которые можно обнаружить порой в простом состоянии их души.
И посреди этого вся их физиономия, их одежда, их жесты не ускользают от меня. Проживаю в одно и то же время мои мечты, душу разума, и тело и установки – их. В огромном объединенном рассеянии я проникаюсь ими, и я творю и являюсь сам, в каждый момент беседы, целой толпой существ, сознательных и бессознательных, анализируемых и анализирующих, что объединяются подобно открывшемуся вееру.
Думать, хотя бы и так, – это значит действовать. Только в абсолютном мечтании, в какое не вмешивается ничто активное, в каком, под конец, даже наше самоосознание увязает в тине, – только там, в равнодушном и влажном небытии, отречение от действия достигается надлежащим образом.
Не желать понять, не анализировать… Находиться в состоянии природы; смотреть на свои впечатления как на зеленеющее поле – мудрость в этом.
…священный инстинкт – не иметь теорий…
Уже не впервые, когда я медленно прохаживаюсь по вечерним улицам, моя душа, словно в результате порыва, мгновенного и ошеломляющего, ощущает самое странное присутствие организации вещей. Это не какие-то природные явления, то, что меня так затрагивает, что так властно порождает во мне такое ощущение: скорее, это расположение улиц, вывески, нарядные болтающие люди, различные службы, газеты, тайная связь во всем. Или даже сам факт, что существуют улицы, вывески, различные службы, люди, общество, все понимает все, и все выполняет и открывает пути.
Обращаю внимание на мужчину и вижу, что он так же бессознателен, как собака или кот; говорит посредством бессознательности другого порядка; приспосабливается к обществу посредством бессознательности другого порядка, абсолютно низшей, чем та, которую используют муравьи и пчелы в их общественной жизни. И поэтому, так же или более, чем из существования организмов, так же или более, чем из существования физических законов, жестких и разумных, мне раскрывается в несомненном свете разум, что создает и пропитывает мир.
Когда я испытываю подобные чувства, меня всегда поражает фраза, принадлежащая какому-то схоластику: Deus est anima brutorum.[19] Автор удивлялся той уверенности, с которой инстинкт управляет низшими животными, обнаруживая в этом разум или нечто большее, чем его набросок. Но все мы являемся низшими животными: говорить и думать – это всего лишь новые инстинкты, менее надежные по сравнению с другими, потому что новые. И, расширяя фразу схоластика, такую справедливую, я говорю: Бог есть душа всего.
Никогда не понимал, как тот, кто хоть однажды задумался над этим великим фактом существования вселенского часового механизма, может отрицать часового мастера, в котором не сомневался даже Вольтер. Понимаю, что ввиду определенных фактов, кажущихся не соответствующими некоему замыслу (хотя необходимо знать замысел, чтобы понять, соответствуют ли они ему), этому высшему разуму приписывается некоторый элемент несовершенства. Понимаю это, хотя этого и не принимаю. Я еще понимаю, что, учитывая зло, что есть в мире, невозможно принять бесконечную доброту творящего разума. Это я понимаю, хотя тоже не принимаю. Но не принимать существования этого разума или Бога – это, на мой взгляд, одна из тех глупостей, что столько раз представлялись мне дефектом разума тех людей, которые во всех других отношениях могут быть разумнейшими; таковы те, что ошибаются всегда в выводах, или те, кто не чувствует музыки, или живописи, или поэзии.
Я не принимаю изо всего этого ни критерия несовершенного часового мастера, ни критерия недоброжелательного часового мастера. Не принимаю критерия несовершенного часового мастера, потому что те подробности управления и прилаживания мира, что нам кажутся ошибочными или не имеющими под собою оснований, не могут быть определены в качестве таковых, раз мы не знаем замысла. Видим ясно один замысел во всем; видим определенные вещи, что кажутся нам неразумными, но по размышлении, если есть во всем здравый смысл, будет и в этих вещах тот же самый здравый смысл, что есть во всем. Итак, мы видим здравый смысл, а не замысел; как же можно говорить в таком случае, что определенные вещи находятся вне замысла, которого мы не знаем? Поэт, использующий изящные ритмы, может нарушить их с ритмическими целями, то есть с той именно целью, от которой он, казалось бы, отходит, и критик, строгий и прямолинейный, увидит здесь ошибки, так и Создатель может включать такое, что наш узкий разум считает аритмией в величественном течении его метафизического ритма.
Не принимаю и критерия недоброжелательного часового мастера. Я согласен, что это аргумент, на который сложно возразить, но это кажущаяся сложность. Можно сказать, что мы не знаем, что́ есть зло, поэтому не можем и утверждать, является ли что-то плохим или хорошим. В действительности, однако, любая боль, хотя бы и для нашего блага, есть сама по себе зло, и этого довольно, чтобы она оказалась злом в мире. Достаточно и одной зубной боли, чтобы разувериться в доброжелательности Создателя. Следовательно, существенный недостаток этого аргумента заключается в нашем полном незнании замысла Бога и того, какой могла бы быть Интеллектуальная Бесконечность. Одно – существование зла, но другое – основание для его существования. Различие, возможно, тонкое, так что может показаться софистикой, но в действительности оно есть. Существование зла не может отрицаться, но жестокость существования зла может не быть принята. Признаю, что проблема существует, но существует потому, что существует наше несовершенство.
Если есть что-то для нас в этой жизни, за что, кроме самой нашей жизни, мы должны были бы благодарить богов, то это дар незнания: невозможность самопознания и познания других людей. Душа человеческая – это пропасть, сумрачная и вязкая, колодец, что обыкновенно не используется на поверхности мира. Никто не любил бы самого себя, если бы действительно мог познать, ведь в результате этого, не имея тщеславия, а оно является кровью духовной жизни, души таких людей умерли бы от анемии. Никто не знает другого, и хорошо, что не знает, ведь иначе мог бы узнать, к примеру, в матери, жене или сыне своего ближайшего метафизического врага.
Мы постигаем себя, потому что себя не ведаем. Что сталось бы со столькими счастливыми супругами, если бы они могли видеть души один другого, если бы могли понять друг друга, как говорят романтики, не понимающие опасности, пусть и ничтожной, того, что они говорят. Все супруги мира – плохие супруги, потому что каждый бережет, укрывает в себе, в тех секретах, в каких душа отдана Дьяволу, неуловимый образ желанного мужчины – не того, что рядом; изменчивую фигуру прекрасной женщины – не реализовавшуюся в той, что рядом. Самые счастливые не ведают в самих себе этих своих неудовлетворенных склонностей; менее счастливые что-то чувствуют, но не понимают, и только тот или иной порыв к чему-то, чего они лишены, та или иная трудность во взаимоотношениях воскрешают в памяти, в случайной игре жестов и слов скрытого Демона, древнюю Еву, Кавалера или Сильфиду.
Жизнь, которой мы живем, есть текучее непонимание, веселая середина меж величием, которого нет, и счастьем, которого не может быть. Мы довольны, потому что, даже думая и чувствуя, мы способны не верить в существование души. На бале-маскараде, где мы живем, нам достаточно удовольствия от нарядов, оно на этом бале главное. Мы – слуги огней и ярких цветов, мы начинаем танец, как в реальности, и не существует для нас – за исключением тех случаев, если, уединяясь, мы не танцуем – знания о великом холоде, там, в вышине наружной ночи, о смертном теле под тряпками, что его переживут, обо всем, что в одиночестве мы считаем присущим нашему существу, в конце концов оно оказывается всего лишь пародией на истину, которую мы вообразили.
Все, что мы делаем или говорим, все, что думаем или чувствуем, скрыто под той же маской и тем же домино. Как бы ни различались наши одеяния, мы никогда не достигаем наготы, ведь нагота – это феномен души, а не просто сбрасывание покровов. Таким образом, одетые телом и душой в наши пестрые одежды, как птицы в перьях, проживаем, счастливые или несчастные, даже не зная, чем мы являемся, краткий миг, что дают нам боги, чтобы развлекаться нами, как дети игрушками.
Тот или другой из нас, освобожденный или проклятый, видит внезапно – но даже это видит редко, – что все, чем мы являемся, есть наше небытие, что мы обманываемся в том, что ясно, и не правы в том, что считаем правильным. И тот, кто на один короткий момент видит вселенную обнаженной, исповедует некую философию или религию; и философия выслушивается, и религия повторяется, и те, кто верит в философию, используют ее как невидимое платье, и те, кто верит в религию, используют ее как маску, о которой забывают.
И, не понимая ни самих себя, ни других, но беспечно полагая, что себя понимаем, мы проходим фигуры танца или повороты беседы, человеческие, пустые, принимаемые всерьез, под звуки великого звездного оркестра, под презрительными рассеянными взглядами организаторов спектакля.
Только они знают, что мы – узники иллюзии, которую для нас создали. Но каково основание этой иллюзии и почему существует эта или любая другая иллюзия, или почему они, тоже обманутые, дали нам то, что в своей иллюзии мы считали данным нам, – этого, несомненно, они и сами не знают.
У меня всегда вызывали отвращение, почти физическое, секретные вещи – интриги, дипломатия, тайные общества, оккультизм. Особенно мне докучали всегда эти две последние – претензия на исключительность, какую проявляют определенные люди, оттого что путем толкования сказанного Богами, или Учителями, или Демиургами они познают, – только они, избранные, – великие секреты, глубины мира.
Не могу поверить, что это так. Могу поверить, что кто-то может так считать. Почему бы все эти люди не могли быть сумасшедшими или обманутыми? Потому что они разные? Но бывают коллективные галлюцинации.
Особенно меня впечатляет во всех этих учителях и мудрецах невидимого то, что, рассказывая нам о своих таинствах, они пишут плохо. Меня оскорбляет представление, будто какой-то человек способен властвовать над Дьяволом и не способен – над португальским языком. Как отношения с демонами могут быть легче, чем отношения с грамматикой? Почему тот, кто путем длительных упражнений во внимании и волевых усилий добился, по его словам, умения видеть астральные явления, не может с гораздо меньшими усилиями научиться видеть синтаксис? Что в догмах и ритуалах Высокой Магии препятствует кому-то писать, уже не говорю с ясностью, потому что, возможно, что ее отсутствие диктуется оккультными законами, но, по крайней мере, с изяществом и плавностью, ведь даже для абсурда они могут применяться? Почему вся энергия души должна тратиться на изучение языка богов и почему бы не оставить ничтожную часть для изучения оттенков и ритма человеческой речи?
Не доверяю учителям, потому что они не должны быть ограниченными. Они для меня словно те странные поэты, неспособные писать, как другие. Допускаю, что они странные; но хотел бы получить доказательство, что это происходит из-за их превосходства над нормальными, а не из-за их неспособности.
Говорят, что есть великие математики, ошибавшиеся в простом сложении; но сравнение идет не с ошибками, а с незнанием. Допускаю, что один великий математик, складывая два и два, получает пять: это рассеянность, которая может овладеть каждым из нас. Но чего я не могу принять – это незнания, что значит складывать или как надо складывать. И как раз такое случается с учителями оккультизма в их огромном большинстве.
Мышление может быть возвышенным, но не утонченным, и настолько, насколько оно не имеет утонченности, оно потеряет свое действие на других. Сила без расторопности – все равно что простое тесто.
Прикосновение к стопам Христа не является оправданием орфографических ошибок.
Если какой-то человек пишет хорошо, только когда пьян, я скажу ему: напейся. И, если он мне ответит, что его печень от этого страдает, я спрошу: что́ такое твоя печень? Это какой-то мертвый орган, что живет только пока жив ты, а жизнь написанных поэм этим не ограничена.
Я люблю говорить. Скажу лучше: люблю болтать. Слова для меня – тела, к которым можно прикоснуться, видимые русалки, включенная чувственность. Может быть, потому, что чувственность реальная не имеет для меня никакого интереса – даже в умственном плане или как мечта – чувственное желание во мне перевоплотилось в то, что творит вербальные ритмы или слышит чужие ритмы. Сказанное хорошо заставляет меня дрожать. Страница из Фиалью,[20] страница из Шатобриана заставляют мою жизнь трепетать в венах, приводят в ярость, трепещущую и тихую, от непостижимой радости. Даже страница Виейры, с его холодным совершенством синтаксических построений, заставляет меня дрожать, точно ветвь под ветром, от пассивной горячки побуждений.
Как и всем великим любовникам, мне дорого наслаждение терять себя, когда радость отдавания испытывается полностью. И так много раз пишу, не желая писать, в каком-то внешнем мечтании, представляя, что слова ласкают меня, ребенка, лежащего на их груди. Есть фразы без смысла, вытекающие уже болезненными, в текучести ощущаемой воды, забывая о ручье, в котором волны смешиваются и смывают границы, всегда становясь другими, замещая сами себя. Так и идеи, изображения, дрожащие от проявления чувств, проходят мимо меня звучащими кортежами в изысканных шелках, где лунный свет идей мерцает, пятнистый и неясный.
Не плачу ни о чем из того, что жизнь мне приносит или уносит. Есть, однако, страницы прозы, заставляющие меня плакать. Помню так, будто вижу это, ночь, когда еще ребенком читал впервые славную быль Виейры о царе Соломоне. «Построил Соломон один дворец…» Я прочел до конца, дрожащий, смущенный; потом разразился счастливыми слезами, каких ни одно счастье действительное у меня не вырвет, каких ни одна печаль в жизни меня не заставит имитировать. То священное движение нашего ясного величественного языка, то выражение идей в неизбежных словах, поток воды, потому что есть склон, это вокальное чудо, в котором звуки – это идеальные цвета, – все это пьянит мои инстинкты, как политические страсти. И от этого я плачу; сегодня, вспоминая, я еще плачу. Но это – нет, не ностальгия по детству, о котором я не тоскую: это тоска по эмоции данного момента, боль оттого, что уже нельзя воспринять впервые эту великую симфоническую точность.
У меня нет чувств политических или социальных. Однако у меня есть, в некотором смысле, некое высокое патриотическое чувство. Моя родина – это португальский язык. Меня нисколько не огорчит, если Португалию наводнят враги или даже захватят ее, если только не потревожат меня самого. Но ненавижу, настоящей ненавистью, единственной ненавистью, которую чувствую, не человека, что плохо пишет по-португальски, не того, кто не знает синтаксиса, не того, кто пишет, упрощая орфографию, ненавижу, как самого человека, плохо написанную страницу, синтаксис с ошибками, ненавижу, как врагов, с которыми сражаюсь, упрощенную орфографию ненавижу, как плевок, от которого меня тошнит, независимо от того, кто плюнул.
Да, потому что орфография – тоже человек. Речь полностью видима и слышима. Она, госпожа и королева, одевает меня в себя, в свою настоящую королевскую мантию.
Искусство состоит в том, чтобы заставлять других чувствовать то, что чувствуем мы, в освобождении их от самих себя, предлагая им нашу личность для исключительного освобождения. То, что я чувствую той подлинной субстанцией, которой я чувствую, абсолютно не подлежит передаче; и чем глубже чувствую это, тем более оно непередаваемо. Для того чтобы я смог передать другому то, что я чувствую, я должен перевести мои чувства на его язык, говорить то, что я чувствовал бы, будучи им, чтобы он, читая это, чувствовал то же самое, что и я. И, поскольку этот другой является, по гипотезе искусства, не тем или иным человеком, но всеми людьми, то я в конечном счете должен принуждать и преобразовывать свои чувства, приближая их к типичным человеческим чувствам, хотя бы искажая настоящую природу того, что почувствовал.
Все, что является абстрактным, сложно понять, потому что сложно привлечь к нему внимание того, кто о нем читает. Я приведу простой пример, когда построенные мной абстракции конкретизировались. Представьте себе, что в результате усталости от вычислений или скуки от безделья на меня навалилась печаль от жизни, тоска от самого себя. Если я переведу эти эмоции фразами, достаточно близкими к ним, то чем более я к ним приближаюсь, тем более я усваиваю их себе и тем менее передаю их другим. И если не передавать их другим, правильнее и легче только чувствовать их, но не описывать.
Предполагается, однако, что я желаю передать ее другим, то есть превратить ее в искусство, ведь искусство и есть передача другим нашей внутренней идентичности с ними; без этого нет ни передачи, ни необходимости в ней. Я стремлюсь понять, каким будет общее человеческое чувство, какими были бы тон, тип, форма чувства, которое я испытываю сейчас, ввиду жестоких и совершенно частных причин, будучи усталым счетоводом или недовольным жителем Лиссабона. И убеждаюсь, что тип этого обыкновенного чувства, возникающего в обыкновенной душе, – это ностальгия, тоска по утраченному детству.
У меня есть ключ к моей теме. Пишу и плачу о моем утраченном детстве; задерживаюсь взволнованно на деталях, связанных с людьми и обстановкой старенького дома в провинции; воскрешаю счастье не иметь ни прав, ни обязанностей, быть свободным, не умея ни думать, ни чувствовать, – и это воспоминание, если его хорошо оформить как прозу и видения, пробудит в моем читателе в точности то же чувство, которое я испытал и которого никогда не испытывал по поводу моего детства.
Я солгал? Нет, понял. Ведь ложь – за исключением детской и стихийной, что рождается от желания мечтать, – является только представлением о реальном существовании других и о необходимости приводить в соответствие с этим существованием наше, которое невозможно привести с ним в соответствие. Ложь – просто идеальный язык души, потому что так, как мы пользуемся словами, которые есть звуки, произносимые в некой абсурдной манере, чтобы переводить на реальный язык наиболее сокровенные и тонкие движения эмоций и мысли, то, что слова не могут перевести, – так мы пользуемся и ложью, и вымыслом, чтобы понять один другого, чего во всей истине, собственной и непередаваемой, невозможно сделать.
Искусство лжет, поскольку является общественным. И есть только две большие формы искусства – одна, что обращается к самой глубине нашей души, и вторая, что обращается к вниманию нашей души. Первая – поэзия, роман – вторая. Первая начинает лгать собственным построением; вторая начинает лгать собственным намерением. Одна стремится открыть нам истину через строки, в разной степени регулярные, здесь ложь присуща самой речи; другая стремится открыть нам истину через реальность, которой, как мы все хорошо знаем, никогда не было.
Выдумывать – значит любить. Красивая улыбка или выразительный взгляд всегда заставляют меня задуматься, чей бы ни был взгляд, чья бы ни была улыбка, каков есть в глубине души, тот, чье лицо улыбается, чьи глаза глядят, – политический деятель, который нас хочет купить, или проститутка, желающая, чтобы мы ее купили. Но политический деятель, покупающий нас, любит, по крайней мере, покупать нас; и проститутка, которую бы мы покупали, любит, по крайней мере, продаваться нам. Не убегаем, сколько бы мы ни хотели этого, от всеобщего братства. Мы все любим, один другого и ложь – поцелуй, которым мы обмениваемся.
Во мне все привязанности поверхностны, но искренни. Я всегда актер, и всерьез. Всегда, когда любил, притворялся, что любил, и перед собой самим тоже притворяюсь в этом.
Сегодня ко мне внезапно пришло одно ощущение, абсурдное и беспристрастное. Я заметил, как бы при внутренней вспышке молнии, что я – никто. Никто, абсолютно никто. Пока блистала эта молния, там, где, по моему предположению, находился город, была пустынная равнина; и зловещий свет, показавший мне меня, не обнаружил неба над ней. У меня похитили возможность быть, похитили еще до становления мира. Если я должен был перевоплотиться, я перевоплотился – без меня, без того, чтобы это я перевоплотился.
Я – окрестности какого-то городка, которого нет, многословное толкование некой книги, которая не написана. Я – никто, никто. Не умею чувствовать, не умею думать, не умею хотеть. Я – персонаж романа, который пишется, проходящий напрасно и развеянный еще до своего существования, в мечтах того, кто не сумел меня завершить.
Думаю всегда, чувствую всегда; но мое мышление не содержит умозаключений, а мое чувство не содержит чувств. Я падаю, после того как был в силках там, наверху, во все бесконечное пространство, в падении без направления, пустом и многократно бесконечном. Моя душа – черный Мальстрем,[21] необъятное головокружение вокруг пустоты, движение бесконечного океана вокруг отверстия в небытии, и на водах, прекраснее всех колышущихся вод на всех изображениях, которые видел и слышал в мире, проходят дома, лица, книги, ящики, следы музыки, слоги речи – в одном кружении, мрачном и бесконечном.
И я, действительно я, являюсь центром, которого нет в нем, разве только для некой геометрии бездны; я – ничто, вокруг которого происходит это вращение, только для того, чтобы вращаться, не оттого, что этот центр существует, а потому, что каждая окружность его имеет. Я, настоящий я, – это колодец без стенок, но обладающий вязкостью стенок, центр всего, вокруг которого ничего нет.
И есть во мне – как если бы сам ад смеялся, но при этом не смеялось бы сообщество дьяволов, – каркающее безумие мертвой вселенной, вертящийся труп физического пространства, конец всех миров, черно колышущийся по ветру, бесформенный, анахронический, без Бога, который бы его создал, без него самого, вращающегося во тьме тьмы, невозможный, уникальный, все.
Возможность уметь думать! Возможность уметь чувствовать!
Моя мать умерла очень рано, и я не смог ее узнать…
Странно, что я, человек настолько подверженный скуке, никогда до сегодняшнего дня не размышлял, в чем именно она состоит. Я сегодня в этом промежуточном состоянии души, когда не хочется ни жизни, ни чего-то другого. И пользуюсь внезапным воспоминанием, что никогда не думал, чем скука могла бы быть для мечтаний, впечатлений, анализа.
Не знаю, впрочем, не есть ли скука всего лишь соответствие – наяву – дремоте бездельника, не есть ли она, воистину, вещь более благородная, чем это оцепенение. У меня скука – частый гость, но, насколько я могу наблюдать, она не подчиняется никаким правилам в своем появлении. Я могу провести без скуки целое, ничем не занятое воскресенье; она может накрыть меня облаком во время работы, требующей внимания. Не могу ее соотнести с определенным состоянием здоровья или с его ухудшением; не могу достичь ее понимания как продукта неких причин, что коренились бы во мне.
Говорить, что существует некая скрытая метафизическая тоска, великое разочарование, что есть глухая поэзия души, появляющаяся докучливо в окне, выходящем в жизнь, говорить это или нечто подобное – это приносит мне не более чем звук каких-то слов, будящих эхо в подземельях мышления.
Скука… Думать без того, что думается, уставая от размышлений; чувствовать без того, что чувствуется, тоскуя от этих ощущений; не хотеть без желания, с тошнотой оттого, что не хочешь, – все это есть в скуке. Как если бы над крепостным рвом души убрали подъемный мост и не осталось бы между крепостью и окрестными землями ничего, кроме возможности смотреть на эти земли из крепости, не имея возможности пройти к ним. Есть изоляция в нас – самоизоляция, при которой то, что разделяет, становится застойным – грязной водой, окружающей наше непонимание.
Скука… Страдать без страдания, хотеть без желания, думать без рассудка… Будто тобой владеет злой демон, будто тебя заколдовало ничто. Есть поверье, что колдуны или шарлатаны мастерят наши изображения и с помощью астральных штучек причиняют нам зло. Скука – у меня как злое отражение колдовства некоего демона или волшебницы, колдующих не только над моим изображением, но и над его тенью. Есть в тени моей души, во внешности всего внутреннего в ней, то, что приклеивается к бумагам или прокалывается булавками. Я как тот человек, что продал тень, или, скорее, как тень человека, что ее продал.
Скука… Я работаю. Исполняю то, что моралисты зовут моим социальным долгом. Исполняю этот долг без больших усилий. Но иногда, во время работы, во время отдыха, которого, согласно тем же моралистам, я заслуживаю и за который я должен быть благодарным, душа моя переполняется желчью инерции, и я чувствую себя усталым – не от работы или отдыха, но от себя самого.
Почему же от меня, если я не думал о себе? От какой другой вещи, если я не думал о ней? Всеобщая боль от жизни, что различается неожиданно в моей душе-медиуме? Для чего облагораживается не знающий сам себя? Есть ощущение пустоты, голод без желания есть, что сродни примитивному ощущению мозга, желудка, происходящему от чрезмерного курения или от плохого пищеварения.
Скука… Есть, наверное, в ее глубине неудовлетворенность самой сущности души оттого, что не дана ей вера, безутешность грустного ребенка, каким является каждый в своей глубине, оттого что ему не купили божественную игрушку. Есть, наверное, ощущение ненадёжности в том, кому нужна руководящая им рука, и кто не чувствует на черном пути своих глубоких ощущений ничего, кроме ночи – бесшумной – чтобы он не смог думать, дороги, на которой ничего нет – чтобы он не умел чувствовать…
Скука… У кого есть боги, тот не знает скуки. Скука – это отсутствие мифологии. Для того, у кого нет верований, невозможно даже сомнение. Да, скука такова: душа теряет способность обманываться, отсутствует в разуме лестница, по которой он, крепкий и здоровый, поднимается к истине.
Идея путешествий соблазняет меня, будто бы она способна соблазнить кого-то, кем я сам не являюсь. Вся необъятная видимость мира проходит через меня в движении разноцветной скуки; я делаю набросок желания, словно уже не желаю действовать, и изначальная усталость от возможных пейзажей удручает меня, как противный ветер удручает загнивший цветок сердца.
И как путешествия, так и чтение, и как чтение – все…Мечтаю о жизни ученого в общении с античными и современными авторами, хочу обновления своих эмоций чужими, наполняя себя размышлениями о противоречии между мыслителями и теми, кто почти не умеет думать, как большинство пишущих. Но даже сама идея чтения тускнеет, если беру со стола книгу; физический факт обязательности чтения убивает во мне чтение… Таким же образом чахнет во мне идея путешествия, когда я приближаюсь к месту, откуда мог бы пуститься в него. И я возвращаюсь к двум недействительным вещам, в которых я уверен, потому что сам являюсь недействительным – к моей повседневной жизни неизвестного прохожего и к моим мечтам, как бессонницам пробужденного.
И как чтение, так и все… Поскольку обо всем, что только угодно, можно мечтать, я, словно прерывая немое течение моих дней, поднимаю глаза и гляжу на свою собственную сильфиду, сирену, не умеющую петь.
Когда я впервые приехал в Лиссабон, с верхнего этажа дома, где мы жили, доносились повторяющиеся звуки пианино – это девочка, которую я никогда не видел, разучивала гаммы. Сегодня я по-прежнему слышу в глубине своей души надоедливые гаммы той девочки, уже замужней дамы или, быть может, мертвой и похороненной в каком-то белом месте, где зеленеют чернотой кипарисы.
Я был ребенком и больше не являюсь им; но звук в моем воспоминании тот же самый, что бывший в действительности, с теми же медленными ударами по клавишам, той же ритмической монотонностью. И мной овладевает рассеянная грусть, тревожная, моя.
Я не оплакиваю утрату моего детства; плачу оттого, что все утрачивается, а с ним и мое детство. Эта абстрактная утечка времени, не конкретная утечка моего времени, ранит мой рассудок повторяющимся невольным воспоминанием, гаммами, страшно безымянными и далекими. Это все таинство, в котором ничто не длится долго, что надоедает повторно вещами, которые не становятся музыкой, но они – сожаления, живущие в абсурдной глубине моего воспоминания.
Различаю небольшой зал, которого никогда не видел, где ученица, которой я не знал, проигрывает старательно, медленно те гаммы, всегда одинаковые. Вижу, продолжаю смотреть, восстанавливаю, глядя, весь дом, куда приходит, поднимаясь, вымысел о моем непонимающем созерцании.
Предполагаю, однако, что являюсь перенесенным, что ностальгия, мною чувствуемая, не моя, и не абстрактна, но перехвачена неким третьим, для кого эти эмоции, что во мне являются литературными, были бы – как говорил об этом Виейра – пересказанными дословно. Это в моем притворстве чувствования я раню себя и огорчаю, и сожаления, ощущение которых туманят мои глаза, воображаемые и чужие, и поэтому я их чувствую и думаю о них.
И всегда, с постоянством, приходящим из глубины мира, с настойчивостью метафизического разучивания, звучат, звучат, звучат ученические гаммы, исполняемые на позвоночнике моего воспоминания. Это древние улицы с другими людьми, те, что сегодня, – те же различные улицы; это мертвые люди, что говорят со мной, сквозь собственное отсутствие; это угрызения совести оттого, что сделал или не сделал, – звук ручейка в ночи, шумы там, внизу, в развалившемся доме.
Мне хочется кричать – это желание возникает внутри моей головы. Хочу остановиться, уничтожить, разбить эту невозможную граммофонную пластинку, что звучит внутри меня в чужом доме, неприкосновенный мучитель. Хочу приказать душе остановиться, чтобы она высадила меня как попутная повозка. Схожу с ума оттого, что должен слышать. И это я, это в моем чутком разуме, на моей коже, покрытой мурашками, на моих обнаженных нервах, звучат гаммы, – страшное пианино из моего воспоминания.
Это последняя смерть Капитана Немо. Скоро я умру тоже.
Это все мое прошедшее детство, не сумевшее длиться.
Обоняние – это странное зрение. Оно воскрешает сентиментальные пейзажи в неожиданных зарисовках подсознания. Я чувствовал это много раз. Прохожу по одной улице. Не вижу ничего или, скорее, разглядывая все, вижу, как и все люди видят. Знаю, что иду по одной улице и не знаю, что она существует, – с ее сторонами, застроенными домами для людей. Прохожу по одной улице. Из одной булочной исходит запах хлеба – какая тошнота от сладости в его запахе! – и мое детство поднимается из определенного отдаленного квартала, и другая булочная появляется передо мной из того заколдованного королевства, каким является все, умершее в нас. Прохожу по одной улице. Пахнет фруктами с наклонного прилавка тесного магазинчика; и моя короткая жизнь в полях (уже не знаю, когда и где это было) наконец обретает деревья и спокойствие для моего сердца, несомненно детского. Прохожу по одной улице. И в момент, когда я этого не ожидал, все во мне переворачивает запах ящиков из мастерской: о мой Сезариу, ты появляешься передо мной, и я наконец счастлив, потому что вернулся, с помощью воспоминания, к единственной реальности, которая является литературой.
Я прочел «Посмертные записки Пиквикского клуба», и одна из величайших трагедий моей жизни – то, что не могу вновь впервые прочесть эту книгу.
Искусство освобождает нас обманчиво от грязи нашего существования. В то время как мы переживаем несчастья и несправедливость, случившиеся с датским принцем Гамлетом, мы не чувствуем собственных – ничтожных, потому что они наши, и ничтожных, потому что они – ничтожества.
Любовь, сон, наркотики, дурманы – все это простейшие формы искусства или, скорее, вещи, производящие тот же эффект, что и оно. Но любовь, сон и наркотики – каждый из них производит свое разочарование. Любовь утомляет или разочаровывает. Ото сна пробуждаются и, когда спят, не живут. Цена наркотиков – разрушение того самого организма, для которого они служили стимулятором. Но в искусстве нет разочарования, потому что иллюзия предполагалась с самого начала. От искусства не пробуждаются, потому что мы не спим, общаясь с ним, даже если мечтаем. Искусство не облагается налогом или штрафом, который надо было бы платить за использование его.
За удовольствие, какое оно нам предлагает, в определенной степени не являясь нашим, мы не должны платить и не должны сожалеть о нем.
С помощью искусства постигается все, что нас услаждает, не будучи нашим, – след какого-то события, улыбка – для других, закат, поэма, объективная вселенная.
Обладать – значит терять. Чувствовать без обладания – сохранять, потому что это значит извлекать из чего-то его сущность.
Не любовь, но то, что вокруг нее, заслуживает внимания.
Подавление любви освещает ее явления с гораздо большей ясностью, чем даже опыт. Есть девственники, понимающие очень много. Действие возмещает, но смущает. Обладать – значит позволить собой обладать и поэтому губить себя. Только идея достигает, не искажая, знания действительности.
Христос – это одно из воплощений эмоции.
В пантеоне есть место для богов, исключающих друг друга, и все они имеют престол и власть. Каждый из них может быть всем, потому что здесь нет ограничений, даже логических, и мы наслаждаемся сосуществованием различных бесконечностей и различных вечностей.
История не принимает вещей определенных. Есть периоды порядка, когда все ничтожно, и периоды беспорядка, когда все возвышенно. Декадентство плодовито умственной зрелостью; эпохи силы – слабостью духа. Все смешивается и пересекается, и нет истины, кроме как в предположении ее.
Столько благородных идеалов втоптано в грязь, такая жажда захлебнулась в потоках грязной воды!
Для меня равно – боги или люди – в пространной путанице неясной судьбы. Неизвестные шаги в этой комнате, они минуют меня в последовательности сновидений и не являются для меня большим, чем для тех, кто верил в них. Негритянские божки с глазами, бессмысленными и изумленными, зооморфные боги дикарей, символы египтян, светлые божества греков, исполненные силы боги римлян, митра господина Солнца и эмоций, Иисус – Мессия последствий и милосердия, святые – новые боги из новых селений, все проходят траурным маршем (сельский праздник или погребение) заблуждений и иллюзии. Маршируют все, и позади всех маршируют пустые тени, мечты, бедные идеи без души и облика, Свобода, Гуманность, Счастье, Лучшее Будущее, Социальная Наука; они тащатся в одиночестве тьмы, как листья, увлекаемые шлейфом королевской мантии, украденной нищими.
Ах, это болезненное и грубое заблуждение – то отличие, которое революционеры устанавливают между буржуазией и народом, дворянами и народом, гувернанткой и губернатором. Различие есть между приспособленными и неприспособленными; все, что сверх этого, – литература, и плохая литература. Нищий, если он приспособлен, может утром быть королем, потеряв при этом свойство быть нищим. Перешел границу и потерял национальность.
Этим я утешаюсь, сидя в тесной конторе, чьи окна, плохо вымытые, выходят на улицу без радости. Это меня утешает, ведь в этом я братаюсь с творцами мирового сознания: путаником Уильямом Шекспиром, школьным учителем Джоном Мильтоном, бродягой Данте Алигьери… и даже тем Иисусом Христом, кто был ничем в мире, так, что в его существовании сомневается история. Другие представляли собой другой вид: государственный советник Иоганн Вольфганг фон Гёте, сенатор Виктор Гюго, вожди Ленин и Муссолини […]
Мы – в тени, между мальчиками на побегушках и мужскими парикмахерами, представляем собой человечество […]
С одной стороны, есть короли с их авторитетом, императоры с их славой, гении с их аурой, святые с их ореолом, вожди народов с их властью, проститутки, пророки и богатые… С другой – мы, мальчик на побегушках, путаник Уильям Шекспир, парикмахер с его анекдотами, учитель Джон Мильтон, ученик плотника, бродяга Данте Алигьери, те, кого смерть забывает или освящает, а жизнь забыла, не освятив.
Правление миром начинается в нас самих. Не являются искренними те, кто правит миром, но также и не являются они неискренними. Они – те, кто создает в себе действительную искренность способами искусственными и неосознанными; эта искренность составляет их силу, и это она распространяется на искренность Других. Уметь хорошо обманывать – это первое качество государственного или политического деятеля. Только для поэтов и для философов характерно практическое видение мира, потому что лишь им дано не иметь иллюзий. Видеть ясно – значит не действовать.
Все там – разбито, безымянно и никому не принадлежит. Я видел там большие движения нежности, что, мне казалось, раскрывают глубину бедных печальных душ; я обнаружил, что эти движения не длились долее того часа, в котором были слова, и имели основу – столько раз отмечал это с проницательностью молчаливых – в аналогии с чем-то там, произошедшим с благочестивым, потерянной с быстротой скольжения новых идей, в вине для ужина умиленного. Всегда была систематическая связь между гуманностью и плодовой водкой, и было много ненужных жестов, сопровождавших лишний стакан.
Все эти создания продавали душу какому-то дьяволу из адской черни, скопидому грязи и развращенности. Жили, отравленные тщеславием и бездельем, и умирали потихоньку, в объятиях слов, в скомканности оплеванных скорпионов.
Наименее обычным у всех этих людей было полное отсутствие значимости, в любом значении этого слова, – полностью. Одни были редакторами больших газет, и они сумели не существовать; другие, если верить справочникам, занимали места государственного значения, и они смогли не быть ничем в жизни; третьи были поэтами, даже посвященными, но та же самая мертвая пыль делала мертвенно-бледными их тупые лица, – и все было одной гробницей с неподвижными, набальзамированными телами, с рукой, заложенной за спину в позе жизни.
Храню от того недолгого времени, когда я себя изолировал от живого ума, одно воспоминание о хороших моментах искреннего остроумия, о многих моментах, однообразных и грустных, о некоторых очертаниях, вырезанных на пустоте, о жестах, пособниках случая, и, подводя итоги, скуку, до оскомины, некоторые остроумные анекдоты.
В них были включены люди, старшие по возрасту, некоторые из тех, кто рассказывал анекдоты «с бородой».
Никогда не чувствовал такой симпатии к «низшим» по шкале общественной славы, оклеветанным предшественниками, и не желавшим этой жалкой славы. Я понял причины их триумфа, потому что парии Великого торжествовали победу над ними, а не над человечеством.
Бедные дьяволы всегда голодны – жаждут обеда, или известности, или сладостей жизни. Кто их слышал и их не знает, считает, что слушал учителей Наполеона и советчиков Шекспира.
Есть такие, кто побеждает в любви, есть такие, кто побеждает в политике, есть такие, кто побеждает в искусстве. Первые имеют преимущество рассказа, поэтому могут свободно победить в любви, без того чтобы их поймали на обмане. И ясно, что, когда мы слушаем рассказы любого из этих индивидов об их сексуальном марафоне, смутное подозрение овладевает нами. Те, что добиваются любви знатных или очень известных дам, включают в список своих побед даже скромниц и глубоких старушек.
Другие – мастера спортивной борьбы – и убивают знаменитых европейских боксеров в ночь кутежа на углу улицы Шиаду. Иные – влиятельнее любого министра и внушают наименьшее отвращение.
Иные являются садистами, другие – педерастами, третьи с сожалением признаются, что по-скотски обращались с женщинами, гнали их хлыстом по дорогам жизни. В конце концов они задолжают за чашечку кофе.
Есть поэты, есть…
Не знаю лучшего избавления от этой толпы призраков, чем знание человеческой жизни, как та, например, что течет в конторе на улице Золотильщиков. С каким облегчением я возвращался из этого паноптикума марионеток к реальному Морейре, моему шефу, настоящему бухгалтеру и мудрецу, плохо одетому и неухоженному, но тому, кем никто другой не мог бы быть, тому, кто зовется человеком…
Большинство людей живут стихийно, жизнью вымышленной и чужой. «Большинство людей – это другие люди», – сказал Оскар Уайльд, и сказал хорошо. Одни тратят свою жизнь на поиски чего-то, чего они не желают; другие занимаются поиском того, что желают, но что им не пригодится; третьи, хотя, теряются […]
Но большинство счастливо и пользуется жизнью, не ценя ее. Обычно человек плачет мало, и, когда жалуется, – это его литература. Пессимизм не жизнеспособен, как и принципы демократизма. Те, кто оплакивает зло мира, изолированы: не оплакивают ничего, кроме их собственного. Некий Леопарди, некий Антеру не имели возлюбленного или любовника? Вселенная – это зло. Некоего Виньи – плохо или мало любили? Жизнь – это тюрьма. Некий Шатобриан мечтает о большем, чем это возможно? Жизнь человеческая – это скука. Некий Иов покрыт язвами? Земля покрыта язвами. Наступают на мозоли печального? Бедные ступни солнца и звезд!
Чуждые этому плачут недолго и по необходимости – когда у них умирает сын, которого вспоминают только в годовщины; теряя деньги, плачут, пока не добудут других или не привыкнут к потере – человечество продолжается, любя и переваривая пищу. Жизнеспособность восстанавливается и оживляется. Мертвые остаются в земле. Потери остаются потерянными.
Когда я вижу нежащегося кота, всегда вспоминаю о человеке на солнышке.
Он сегодня ушел, говорили, что окончательно, туда, где родился, его называли мальчиком на посылках, того самого человека, которого я привык считать частью этого человеческого дома и поэтому частью меня и мира, который является моим. Он сегодня ушел. В коридоре, неожиданно встретившись в ожидаемом прощании, я обнял его, он робко ответил на объятие, и я сумел удержать слезы, против моей воли рвавшиеся на воспаленные глаза.
Все, что есть наше, хотя бы только случайно увиденное нами или пересекшееся с нами в процессе общения, потому было нашим, что становится нами. Тот, кто сегодня отдаляется, потому что уезжает в галисийскую землю, которой я не знаю, не был для меня мальчиком из конторы; был важной частью, видимой и человечной, субстанции моей жизни. Я сегодня уменьшился. Я уже не прежний. Мальчик на посылках уехал.
Все, что проходит, там, где мы живем, проходит в нас. Все, что прекращается, из того, что мы видим, прекращается в нас. Все, что было, отнято у нас, когда оно уходит. Мальчик из конторы уехал.
Более медлительный, более взрослый, менее своевольный, стою перед высокой конторкой и продолжаю вчерашние записи. Но трагедия сегодняшнего дня прерывает раздумьями работу, так что приходится усилием воли овладеть собой и включиться в процесс письма, как и следует. Душа не лежит к работе, я могу только быть собственным рабом. Мальчик из конторы уехал.
Да, завтра, или в другой день, или когда угодно, может прозвучать для меня колокол; и я тоже буду тем, кого здесь больше нет, старинным копировальным аппаратом, который уберут в шкаф под лестницей. Да, завтра или когда Судьба прикажет, настанет конец тому, что притворялось мной. Я поеду на землю, где родился? Не знаю, куда я поеду. Сегодня трагедия видима своей потерей, чувствительна тем, что не достойна чувствоваться. Боже мой, боже мой, мальчик из конторы уехал.
Слышится некий отголосок звука из темной ямы, поглотившей все. Затем – глухой вой, сопровождаемый колебанием вывесок на улице. Его сменяет рев пространства, все содрогается, и страх от этого сродни тишине.
Больше нет ничего, кроме ветра, – и я замечаю, словно во сне, что двери содрогаются и оконные стекла сопротивляются натиску извне.
Я не сплю. Я существую между сном и явью. Мое сознание заполняют призраки. Меня давит сон, а не тяжесть подсознания… Я ничего не знаю. Ветер… Просыпаюсь и снова засыпаю, я еще не спал. Передо мной мир высокого звука, и я беспокоюсь о том, что там, за пределами моего самопознания. Пользуюсь осмотрительно возможностью спать. В итоге сплю, но не знаю, сплю ли я. Есть всегда в том, что я считаю сном, звук всеобщего конца, ветер в сумерках и, если прислушаться, звук легких и сердца.
И вот бледная смерть растворяет звезды в утреннем небе, и желтый, едва тронутый оранжевым лучом из-под низких туч бриз становится менее свежим, вот теперь я наконец медленно поднимаю с постели, где мечтал о вселенной, свое изнуренное отчего-то тело.
Глаза зудят, силясь оставаться открытыми, и я подхожу к окну. Свет над тесными крышами отличается от общего бледно-желтого тона. Я смотрю на все это несколько отупевший от бессонницы. Вознесшиеся к небу очертания высоких домов делают желтизну воздушной, сводят ее к нулю. В глубине, на западе горизонт уже был бело-зеленый.
Я знал, неизвестно откуда, что день будет для меня тяжелым. Я знал, что все, что я сделаю сегодня, будет сделано под влиянием – не сна, которого у меня не было, но моей бессонницы. Я знал, что буду жить, как сомнамбула, не только потому, что не спал, но потому что не мог спать.
Есть дни, наполненные философией, что наводят нас на толкование жизни, что становятся критическими заметками на полях в книге нашей общей судьбы. Этот день как раз из таких. Нелепо, но мне кажется, что это мои отяжелевшие глаза и мой жалкий разум пишут строки комментария, бесполезного и глубокого.
Свобода – это возможность изоляции. Ты волен, если можешь удалиться от людей, и ни потребность в деньгах, ни стадное чувство, ни любовь, ни слава, ни любопытство не заставят тебя искать человеческого общества. Если жить одному для тебя представляется невозможным, ты родился рабом. Можешь иметь все величие духа, все сокровища души; ты – благородный раб или разумный слуга: ты не свободен. И трагедия родиться таким – не твоя, но она – от Судьбы и только для нее самой. Но горе тебе, если гнет жизни, она сама тебя принуждает стать рабом. Горе тебе, если, рожденный свободным, самодостаточным, ты обрекаешься нуждой жить вместе с людьми. Тогда это воистину твоя трагедия, это то, что несешь с собою.
Родиться свободным – наибольшее величие человека, что возносит униженного отшельника над королями и самими богами, которым хватает силы, но не презрения к ней.
Смерть – это освобождение, потому что умереть – значит не нуждаться в других. Бедный раб видится освобожденным насильно от своих удовольствий, от своих печалей, от своей жизни, желанной и постоянной. Видится свободным король – от своей власти, которую не хочет оставлять. Женщины, что разбрасывались любовью, видятся свободными от вожделенных побед. Победители видятся свободными от побед, предназначенных им жизнью.
Поэтому смерть облагораживает, обряжая для неведомого празднества жалкое, нелепое тело. На этом празднестве есть свободный, пусть и не желавший этой свободы. Дело в том, что там нет раба, пусть и тоскующего о своей неволе. Как король, что может быть смешным как человек, но высшим из-за своего титула, так может быть уродлив мертвый, но он – высший, потому что смерть его освободила.
Закрываю, усталый, ставни моих окон; отгораживаюсь от мира и сразу обретаю свободу. Завтра я снова стану рабом; однако сейчас, не нуждаясь ни в ком, опасаясь лишь того, что какой-нибудь голос или чье-то присутствие потревожит меня, я счастлив моей маленькой свободой.
На стуле, о который я облокачиваюсь, я забываю о жизни, что гнетет меня. У меня болит только то, что всегда болело.
Не будем касаться жизни, даже кончиками пальцев.
Не будем любить, даже мысленно.
Пусть ни один женский поцелуй не станет нашим ощущением.
Мэтры болезненности, давайте совершенствоваться в разочаровании. Любопытные к жизни, давайте подсматривать у всех заборов, заранее зная, что ничего нового или красивого мы не увидим.
Ткачи безнадежности, давайте ткать только саваны, белые – для тех иллюзий, которых у нас не было, черные – для тех дней умирания, пепельные саваны для движений и поступков, о которых только мечтали, королевские пурпурные саваны – для наших бесполезных ощущений.
В дубовых рощах и долинах и по берегам… болот, охотятся зверобои на волка, и на косулю… и на дикую утку тоже. Давайте ненавидеть их, не потому что охотятся, но потому что наслаждаются (и мы не наслаждаемся).
Пусть будет наше лицо освещено лишь бледной улыбкой, как у того, кто сейчас заплачет, пусть взгляд будет тусклым, как у того, кто не хочет видеть презрение, разлитое по всем чертам, как у того, кто презирает жизнь и живет ею лишь затем, чтобы было что презирать.
И пусть живет наше презрение к тем, кто работает и борется, и ненависть к тем, кто ждет и надеется.
Я почти убежден, что никогда не бодрствую. Я не знаю, сплю ли я, когда живу, живу ли я, когда сплю, или не пересекаются ли во мне сон и жизнь, формируя мое сознательное существо.
Порою, в момент активности, когда я, несомненно, так же понятен самому себе, как и все другие, приходит ко мне странное ощущение сомнения; я не знаю, существую ли, допускаю, что я лишь сновидение других, представляю себе, почти материально, что я персонаж какого-то романа, плывущий по волнам жанра в реальности, созданной из большого повествования.
Часто я замечаю, что определенные персонажи романа приобретают для нас выпуклость, которой никогда не достигают наши знакомые и друзья, те, кто говорит с нами и слышит нас в жизни видимой и реальной. И это заставляет меня мучиться одним вопросом: а не является ли все в этом общем итоге мира полунеясной серией снов и романов, словно коробочки одна в другой.
Если я думаю, мне все представляется нелепым; если чувствую – странным; если желаю, то чего-то в себе самом. Действуя, замечаю, что это не я. Если мечтаю, кажется, что мне это описывают. Если чувствую, кажется, что меня изображают. Если желаю, кажется, что меня помещают в повозку, как товар, и что я следую туда, куда не хотел.
Какой беспорядок во всем! Насколько видеть – лучше, чем думать, и читать – лучше, чем писать! То, что я вижу, возможно, меня обманывает, однако я не считаю это своим. То, что я читаю, меня, возможно, и угнетает, но меня не расстраивает, что это написано. Все, о чем мы думаем сознательно, как существа духовные, приносит нам боль. Даже если день великолепнейший, я не могу прекратить думать так… Думать или чувствовать или есть что-то третье между сценариями, отложенными в сторону? Скука от сумерек и от беспорядка, закрытые веера, усталость оттого, что обязан был жить…
Мы проходили еще юношами под высокими деревьями под смутный шепот леса. Поляны, внезапно и случайно возникающие по пути, лунный свет превращал в озера, и берега, запутанные ветками, были ночью более, чем сама ночь. Бродячий легкий ветерок больших лесов вздыхал между деревьями. Мы говорили о вещах невозможных; и наши голоса были частью ночи, лунного света и леса. Мы слушали их, словно чужие.
Было тревожно в неизвестном лесу без дорог. Там были тропинки, что мы нехотя знали, и наши шаги змеились на них между брызгами теней и смутной духовой музыкой лунного света, грубого и холодного. Мы говорили о невозможных вещах, и весь реальный пейзаж был тоже невозможным.
Мы обожаем совершенство, потому что оно недостижимо; оно вызывало бы у нас отвращение, если бы мы им обладали. Совершенное бесчеловечно, потому что человеческое несовершенно.
Глухая ненависть к раю – это желание, подобное желанию несчастного бедняка иметь поле на небе. Да, ни восторги, вызванные предметами отвлеченными, ни чудеса абсолюта не могут очаровать чувствующую душу, зато могут родные края и склоны гор, зеленые острова в синих морях, пути через рощи и вольные часы отдыха в старинных поместьях, хотя бы и не принадлежащих нам. Если не будет земли на небе, уж лучше, чтобы вовсе не было неба. Пусть все будет ничем и пусть окончится роман, не имевший завязки.
Чтобы добиться совершенства, нужен сверхчеловеческий холод; и нет поэтому человеческого сердца, которое бы любило собственное совершенство.
Мы поражаемся одержимости совершенством у великих художников, высоко чтим ее. Мы любим их приближение к совершенному, однако любим его, потому что это только приближение.
Если бы я написал «Короля Лира», угрызения совести терзали бы меня до конца жизни: эта вещь так велика, что ее недостатки, малейшие погрешности увеличиваются непомерно. Это не пятна на солнце; это разбитая греческая статуя. Все написанное по́лно ошибок, нарушений перспективы, невежества, признаков плохого вкуса и невнимания. Создать произведение искусства, достаточно масштабное, чтобы оказалось великим, и достаточно совершенное, чтобы оказалось прекрасным, не под силу никому, ведь никто не может быть ни столь гениальным, ни столь удачливым. То, что не может быть создано на едином дыхании, неизбежно страдает от перемен нашего душевного состояния.
Если я думаю об этом, мое воображение ввергает меня в уныние, внушает болезненную уверенность, что никогда я не смогу сделать ничего хорошего и полезного во имя Красоты. Чтобы добиться Совершенства, нужно быть Богом. Любое наше усилие длится определенное время; за это время наша душа переживает различные состояния, и каждое нарушает индивидуальность произведения. Когда мы пишем, мы уверены только в том, что пишем плохо; единственное произведение, великое и совершенное, – то, которое никогда и не мечтаешь создать.
Прислушайся ко мне снова, и я посочувствую тебе. Услышь все это и скажи мне потом, разве мечта не более ценна, чем жизнь? Труд никогда не дает результата. Усилие никогда не достигает цели. Только воздержание благородно и высоко, потому что оно есть постижение, и осуществленное творение – всегда смешная тень мечты об этом творении.
Иметь возможность писать на бумаге словами, которые потом можно было бы читать вслух и слушать, диалоги персонажей моих воображаемых драм! Эти драмы представляют собою совершенное действие без единого нарушения, это диалоги без недостатков. Но не вырисовываются во мне ни действие в своей протяженности, чтобы я мог планировать его осуществление; ни сами слова, субстанция этих интимных диалогов, чтобы, внимательно их прослушав, я мог «перевести» их в письменную речь.
Я любою некоторых поэтов-лириков, потому что они не были эпическими или драматическими поэтами, потому что они стремились к реализации единого момента чувства или мечты. Ни одна драма Шекспира не доставляет такого удовольствия, как одно лирическое стихотворение Гейне. Лирика Гейне совершенна, а все драмы всех Шекспиров всегда несовершенны. Уметь конструировать, воздвигать Целое, создавать нечто, подобное человеческому телу в совершенной соразмерности всех его членов и обладающее жизнью, жизнью единства и соответствия!
Ты, слушающий и плохо слышащий меня, ты не знаешь, чем является эта трагедия! Потерять отца и мать, не добиться ни славы, ни счастья, не иметь ни друзей, ни любви – все это можно вынести; нельзя вынести мечты о чем-то прекрасном, чего нельзя достичь ни действием, ни словами. Сознание совершенной работы, удовлетворение от завершенного творения – нежен сон под тенью этих деревьев спокойным летом.
Фразы, что я никогда не напишу, пейзажи, что я никогда не смогу описать, с какой ясностью я говорю о них моей бездеятельности и описываю их в моих размышлениях, когда, откинувшись на спинку стула, принадлежу к этой жизни лишь отчасти. Оттачиваю целые фразы, выстраиваю совершенные – от слова до слова – сюжеты драм, чувствую движение, ритмическое и словесное, великих поэм во всех их элементах, и восторг, словно невидимый верный слуга следует за мною в сумерках. Но если бы я сделал один шаг от стула, сидя на котором переживаю эти ощущения, к столу, где мог бы записать их, слова разбежались бы, драмы умерли от насущной связности, объединявшей ритмический шепот, не осталось бы ничего, кроме смутной тоски, – закатный луч над далекими горами, ветер, поднимающий листья у пустынного порога, какое-то родство, никогда не раскрывающееся, чужая оргия, женщина, оглянувшаяся назад и не существовавшая.
Прожекты, их у меня множество. «Илиада», которую я сочинил, имела в своей структуре логику, органическое сцепление эпизодов, то, чего не смог достичь Гомер. Совершенство моих стихов, если бы удалось облечь их в слова, обнаружило бы бедность точности Вергилия и вялость силы Мильтона. Аллегорические сатиры, созданные мною, превзошли бы все вещи Свифта символической точностью верно соединенных подробностей. И сколькими Горациями я был!
И всякий раз, когда я поднимался со стула, где в действительности все эти вещи не были полностью вымышленными, я переживал двойную трагедию: знать, что они – ничто, и знать, что не все они – пустые мечтания, что-то осталось от их существования в моих мыслях.
Я был гением, но более – в мечтах, и менее – в жизни. Вот какова моя трагедия. Я был атлетом, бежавшим первым и упавшим почти у финиша.
Если бы в искусстве была профессия «усовершенствователя», я бы нашел свою роль в этой жизни…
Иметь произведение, созданное другими, и работать только над усовершенствованием его… Так, возможно, была создана «Илиада»…
Только не иметь отваги для первоначального творения!
Как я завидую тем, кто пишет романы, кто их начинает, их продолжает и их заканчивает! Я могу сочинять их, главу за главой, порою вплоть до фраз диалогов и того, что стоит между ними, но я не сумел бы перенести на бумагу эти мечты об их написании […]
Все, что есть действие, будь то война или умозаключение, – ложно; и все, что есть отречение, – также фальшиво. Если бы я мог знать, как не действовать и не отрекаться от действия! Это была бы корона мечты моей славы, скипетр молчания моего величия.
Я не страдаю. Мое презрение ко всему так велико, что я презираю себя самого; как с пренебрежением отношусь к чужим страданиям, так же пренебрегаю своими и так подавляю своим презрением мое собственное страдание.
Ах, но так я страдаю еще больше… Потому что придавать значение собственному страданию значит освещать его сиянием гордости. Страдать сильно – это может внушить иллюзию, что ты Избранник Боли. Таким образом…
Болезненный промежуток
Как человека, поднявшего глаза от одного долгого… от одной книги, ослепляет обычный солнечный свет, так и мне, если я отвожу порой взгляд от самого себя, больно смотреть на ясность и независимость-от-меня жизни, на существование других, на ситуации и соотношение движений в пространстве. Я спотыкаюсь о реальные чувства других, антагонизм их и моей психики ставит меня в затруднительное положение, я скольжу и делаю глупости под звуки их странных слов, которые слышны во мне, посреди их движений, существующих на самом деле, их разнообразных и сложных способов быть другими людьми, а не вариантами моей личности.
Я нахожу себя тогда в этих безднах, куда порою себя низвергаю, беззащитный и пустой, кажущийся мертвым, но живой, бледная болезненная тень, которую первый же ветерок уронит на землю и первое прикосновение обратит в пыль.
Я спрашиваю тогда себя самого, к чему все усилия, что я приложил, чтобы изолировать и возвысить себя, если эта голгофа для Славы моего Распятия, будет иметь религиозное значение? И меня гнетет в этот момент чувство, что все мои усилия не стоили ничего и не будут стоить никогда.
Деньги, дети, сумасшедшие […]
Никогда не следует завидовать богатству, кроме как платонически; богатство – это свобода.
Деньги – это прекрасно, потому что это освобождение […]
Желать умереть в Пекине и не иметь возможности – это из тех вещей, что гнетут меня, как мысль о близком катаклизме.
Скупщики бесполезных вещей всегда мудрее, чем считается, – они покупают маленькие мечты. В таком приобретении они – дети. Все небольшие бесполезные предметы, притягивающие нас и заставляющие купить их, наполняют нас счастьем ребенка, отыскавшего ракушку на пляже, – образ, что более, чем любой другой, дает все возможное счастье. Отыскать раковины на пляже! Для ребенка не бывает двух одинаковых! Он засыпает с двумя самыми красивыми в руке, и когда их теряет или их у него забирают – горе! У него крадут кусок души! У него отбирают составляющие его мечты! – он плачет, как некий бог, у которого украли только что сотворенную вселенную.
Пристрастие к абсурду и парадоксу – это животная радость печальных. Нормального человека жизнеспособность заставляет говорить нелепости, а горячая кровь шлепать других по спине, неспособные же к энтузиазму и радости на свой манер совершают жизненные действия.
Абсурдно все. Этот отдает в залог жизнь, чтобы получить деньги, не имея ни сыновей, которые бы их унаследовали, ни надежды, что некие внешние силы обеспечат ему какое-то превосходство за эти деньги. Тот отдает в залог усилия, чтобы получить славу после смерти, и не верит в потустороннее существование, которое позволило бы ему сознавать эту славу. А этот третий теряет силы, разыскивая вещи, которые на самом деле ему не нравятся. Но впереди есть еще один, что…
Один читает, чтобы знать, – бесполезно. Другой наслаждается, чтобы жить, – бесполезно.
Еду на трамвае и, как обычно, внимательно наблюдаю своих попутчиков. Их вещи, голоса, фразы. Так я поступаю с платьем девушки, что сидит впереди меня: я разлагаю платье на штоф, из которого оно сшито, на труд, который был в него вложен, – ведь я вижу платье, а не штоф, – и легкая вышивка, украшающая вырез платья у шеи, разделяется для меня на крученую шелковую нитку, которой вышили этот рисунок, и на работу вышивальщицы. И немедленно, точно в книге о началах политической экономии, раскрываются передо мной фабрики и работы – фабрика, на которой делается ткань; фабрика, на которой выпускается крученая шелковая нитка, несколько более темного тона, украшающая вырез платья у шеи; и вижу секции фабрики, машины, операторов машин, портних, мои глаза, устремленные внутрь, проникают в конторы, вижу управляющих, ищущих покоя, наблюдаю в книгах бухгалтерию всего; вижу за этим домашние жизни тех, кто проводит свою общественную жизнь на этих фабриках и в этих конторах… Вся общественная жизнь проходит перед моими глазами только потому, что здесь, передо мной, на смуглой шейке темно-зеленая вышивка на светло-зеленом платье.
За этим предчувствую привязанности, выделения [именно так!] душ всех работавших, чтобы шею этой женщины, что сидит передо мной в трамвае, обвивала банальность шелковой темно-зеленой крученой нити, ненужность, сделанная для украшения более светлой зеленой ткани.
У меня начинается головокружение. Скамьи трамвая, плетеные из тонких и прочных прутьев, уносят меня в отдаленные районы, множатся во мне: производства, операторы, дома операторов, жизни, реальность, все.
Выхожу из трамвая, изнуренный и лунатический. Я прожил целую жизнь.
Путешествуя, я не знаю меры. Усталость от простой поездки на поезде до Кашкайша такова, будто за это короткое время я пересек четыре или пять стран.
Каждый большой дом, мимо которого проезжаю, каждое шале, каждый отдельный домик, выбеленный белым и тишиной, – в каждом из них я постигаю себя, живя сначала счастливым, потом скучающим, потом усталым; и чувствую, что, покидая этот дом, несу в себе мучительную ностальгию по времени, в какое там жил. Таким образом, все мои путешествия – это урожай, болезненный и счастливый, больших радостей, огромной скуки, постоянной мнимой тоски.
Потом, проходя перед домами, городками, шале, я проживаю в себе все жизни созданий, которые здесь есть. Живу всеми их домашними жизнями одновременно. Являюсь отцом, матерью, сыновьями, кузенами, прислугой или кузеном прислуги в одно и то же время, особое умение позволяет мне испытывать несколько различных ощущений сразу, жить – одновременно снаружи видя их и внутри чувствуя их – жизнями различных существ.
Я создал внутри себя различные личности. Создаю их постоянно. Каждая моя мечта немедленно воплощается в другого человека, и теперь мечтает уже он, а не я.
Чтобы создавать, я себя разрушил. Я так себя выразил внутри себя самого, что существую, теперь только внешне. Я – голая сцена, где различные актеры представляют разные пьесы.
Треугольный сон
Во сне я, лежа на шкафуте корабля, вздрогнул – это через мою душу Далекого Принца прошел озноб предчувствия…
Тишина, полная угрозами, наводнила, точно мертвенно-бледным туманом, видимую атмосферу небольшого зала.
Все это – точно чрезмерный, тревожащий блеск лунного света над поверхностью океана, что не волнуется уже, но подрагивает, превращаясь в кипарисы возле дворца Принца.
Кинжал первой молнии смутно взлетел по ту сторону… Лунный свет над открытым морем – цвета молнии, и все это – уже разрушенное и отдаленное прошлое, мой дворец никогда не жившего принца…
С угрюмым шумом, подобным шуму корабля, режущего волны, наступают мертвенно-бледные сумерки в зале, и он не умер, не заключен где-то, я не знаю, что случилось с ним – с принцем, – что неизвестное, ледяное стало теперь его судьбой?..
Единственный способ испытать новые ощущения – это создать себе новую душу. Напрасны твои усилия, если хочешь чувствовать другое, но не чувствуешь другим способом, и если чувствуешь другим способом, не изменяя душу. Потому что вещи таковы, какими мы их чувствуем – столько времени ты знаешь это, не зная на самом деле? – и единственный способ обладания чем-то новым, ощущения чего-то нового – это достичь новизны в ощущении этого.
Измени душу. Как? Узнай это сам.
С рождения и до смерти мы изменяем душу, медленно, как и тело. Эта перемена может стать быстрой, как при некоторых болезнях или в некоторых выздоровлениях быстро меняется наше тело.
Никогда не опускайтесь до сообщений, докладов, чтобы не создать у других впечатления, что мы имеем твердые взгляды, или что снисходим до публики, чтобы говорить с ней. Если она захочет, пусть нас читает.
Больше всего докладчик напоминает актера – существо, кого настоящий художник презирает, «мальчика на побегушках» у Искусства.
Я обнаружил, что постоянно думаю о двух вещах сразу и постоянно прислушиваюсь к двум вещам одновременно. И в этом, полагаю, мне будут подобны все. Бывают впечатления, настолько смутные, что, лишь вспомнив о них позднее, мы осознаем, что они у нас были; из этих впечатлений, думаю, сформирована одна часть – вероятно, внутренняя – двоящегося внимания всех людей. Для меня обе реальности, к которым я прислушиваюсь, имеют одинаковую выразительность. В этом состоит моя оригинальность. В этом, возможно, состоит моя трагедия, переходящая в комедию.
Скрупулезно записываю подробности деятельности никому не нужной фирмы; а в это самое время столь же скрупулезно фиксирую детали пейзажей какого-то несуществующего востока, которыми любуюсь с борта несуществующего корабля. Две вещи одинаково четки, одинаково видимы: лист, на котором пишу стихи коммерческой эпопеи от Вашкеш и K°, и шкафут, где различаю сквозь щели в перегородке стулья и ноги сидящих на них путешественников.
Мешает выступ табачной лавки; поэтому видны только ноги.
Подношу перо к чернильнице, и из двери табачной лавки – именно здесь, рядом с местом, где я мысленно нахожусь, – появляется фигура неизвестного. Поворачивается ко мне спиной и идет вперед, к другим. Манера ходьбы – медленная и не сообщает о нем почти ничего. Он англичанин. Начинаю следующую запись. Так, замечаю свою ошибку. Это дебет, а не кредит счета Маркеша (вижу его, толстого, вежливого шутника, и в следующий момент корабль исчезает).
Если меня сшибет детский велосипед, этот детский велосипед станет частью моей истории.
Мир принадлежит тем, кто не чувствует. Существенное условие для того, чтобы стать практическим человеком, – это отсутствие способности чувствовать. Важное качество в практике жизни – это то, что ведет к действию, воля. Следовательно, есть две вещи, препятствующие действию, – способность чувствовать и аналитическое мышление, являющееся, в конце концов, не чем иным, как мышлением чувствительности. Каждое действие является по своей природе проекцией личности на внешний мир, и из того, что внешний мир, в своей большой и важнейшей части, состоит из человеческих существ, следует, что проецирование своей личности заключается в существенной степени в том, что мы пересекаем чужие пути, препятствуем другим, раним и подавляем их, в соответствии с нашим способом действовать.
Для действия, конечно, необходимо, чтобы мы не могли легко себе представить чужие личности, их боли и радости. Кто симпатизирует, тот останавливается. Человек действия полагает, что внешний мир состоит исключительно из материи инертной, как некий камень, через который он перешагивает или который попросту отбрасывает; или инертной, как человеческое существо, неспособное ему сопротивляться, и поэтому он поступает с ним так же, как с камнем – или устраняя его со своего пути, или перешагивая через него.
Высшее воплощение практического человека – это стратег, так как он объединяет крайнюю концентрацию действия с его крайней важностью. Вся жизнь – это война, стало быть, битва – это синтез жизни. Следовательно, стратег – это человек, что играет жизнями, как игрок в шахматы – фигурами. Кем стал бы стратег, если бы задумывался о том, что каждая удача в его игре погружает во мрак тысячу домов и в боль тысячи сердец? Что сталось бы с миром, если бы мы были гуманными? Если бы человек действительно мог чувствовать, не было бы цивилизации. Искусство служит бегству к чувствительности, о которой действие вынуждено было забыть. Искусство – это Золушка, оставшаяся дома, потому что так должно было быть.
Человек действия, как правило, бодр и оптимистичен, потому что кто не чувствует, тот счастлив. Человека действия можно распознать по неизменно хорошему настроению. Кто работает, бывая не в настроении, лишь помощник действия; в жизни он может быть, например, счетоводом, как я. Кем он не может быть, это правителем, вещами он распоряжается или людьми. Условие правления – нечувствительность. Правит тот, кто радостен, ведь чтобы быть грустным, надо чувствовать.
Патрон Вашкеш сегодня совершил некую сделку, в результате чего разорились один больной и одно семейство. В процессе сделки этот больной существовал для него лишь как противная сторона в коммерческом споре. Только по завершении сделки вернулась к нему чувствительность. Только потом: это ясно, ведь вернись она раньше, сделка никогда бы не состоялась. «Мне жаль этого чудака, – сказал он мне. – Он остается в нищете». Затем, зажигая сигару, добавил: «Во всяком случае, если ему понадобится что-то от меня, – по-видимому, он имел в виду милостыню, – я не забуду, что обязан ему хорошей сделкой и десятками тысяч эскудо».
Патрон Вашкеш – не разбойник, он просто человек действия. Проигравший в этой игре может рассчитывать на милостыню от него в будущем, ведь патрон Вашкеш – благородный человек.
Такими же, как патрон Вашкеш, являются все люди действия – воротилы промышленности, индустрии и торговли, политики, военные, религиозные и социальные идеалисты, великие поэты и великие художники, прекрасные женщины, дети, которые делают, что хотят. Приказывает, кто не чувствует. Побеждает, кто думает только о том, что необходимо для победы. Остальные, некое человечество, вообще аморфное, чувствительное, наделенное воображением и слабое, – не более чем декорация, на фоне которой двигаются эти сценические фигуры, вплоть до того момента, как пьеса с марионетками заканчивается, не более чем пошлая глубина квадратов, на которых стоят шахматные фигуры, до того, как их откладывает Великий Игрок, что развлекается, играя против себя самого.
Вера есть инстинкт действия.
Я принадлежу к поколению, что унаследовало отрицание христианства и пришло к отрицанию всех других религий. Нашими родителями еще двигал импульс, который заставлял их, уйдя от христианства, искать других иллюзий. Одни были энтузиастами социального равенства, другие поклонялись красоте, иные верили в науку и в ее пользу, и были такие, что, не отказавшись от христианства, искали на востоках и западах другие религиозные формы, не опустошенные настоящей жизнью, которые бы поддерживали их сознание.
Все это мы потеряли, все эти утешения оставили нас сиротами. Каждая цивилизация следует внутренней линии той религии, что ее представляет: переходить к другим религиям – это значит потерять эту, а в конце концов потерять их все.
Мы потеряли эту и другие тоже.
Мы остались, предоставленные каждый себе самому, в отчаянии от ощущения себя живущими. Некое судно кажется предназначенным к плаванию; но его предназначение – не плавание, но лишь прибытие в какой-то порт. Мы обнаружили, что находимся в плавании, не имея представления о порте, где могли бы укрыться. Мы воспроизводим в искаженном виде авантюристическую формулу аргонавтов: плавание является необходимым, жизнь таковой не является.
Без иллюзий мы живем только мечтой, она – иллюзия тех, кто не может иметь иллюзий. Живя собою самими, мы уменьшаем себя, потому что человек совершенный – это человек, не знающий себя. Без веры мы не имеем надежды, а без надежды не имеем и самой жизни. Не имея идеи будущего, не имеем и идеи сегодняшнего дня, потому что сегодня для человека действия всего только пролог будущего. Энергия борьбы родилась мертвой вместе с нами, потому что мы родились без энтузиазма борьбы.
Некоторые из нас застыли, одерживая бессмысленную глупую победу над повседневностью, ничтожной и низкой, в поисках хлеба насущного, стремясь добывать его без ощутимого труда, без сознательного усилия, без благородства достижения.
Другие, лучшего происхождения, удерживаются от публичных вещей, ничего не требуя и ничего не желая и пытаясь донести до голгофы забвения крест простого существования. Невозможное усилие для того, у кого нет, как у Несущего Крест, божественного начала в сознании.
Иные, поглощенные работой, не связанной с душою, предались культу путаницы и известности, считая, что жили, если о них говорили, веря, что любили, когда сталкивались с внешней стороной любви. Жить – причиняло нам боль, потому что мы знали, что мы живые; умереть – не ужасало нас, потому что мы потеряли нормальное понятие о смерти.
Но другие, Раса Конца, духовного предела Глубокой Ночи, не имели достаточной отваги для отрицания и поисков убежища в себе самих. То, что они переживали, происходило в сопряженности с отказом, с неудовлетворенностью и с отчаянием. Но они проживали это изнутри, без движений, замкнувшись, по крайней мере, в образе жизни, в четырех стенах комнаты и четырех стенах неумения действовать.
Эстетика уныния
Поскольку мы не можем извлекать красоту из жизни, давайте будем, по крайней мере, извлекать красоту из невозможности извлечь красоту из жизни. Создадим из нашего краха победу, что-то положительное и возвышенное, демонстрирующее величие и духовное согласие.
Если жизнь не дала нам ничего, кроме тюремной камеры, давайте украсим ее, за неимением другого, тенями наших мечтаний, рисунками смешанных цветов, гравируя на ее стенах пренебрежение к недвижным преградам снаружи.
Подобно каждому мечтателю, я всегда чувствовал, что мое призвание – творить. Поскольку я никогда не умел делать усилия или осуществлять те или иные намерения, творить значило для меня всегда мечтать, хотеть или желать, а действовать – мечтать о действиях, какие я хотел бы осуществлять.
Удовольствие в том, чтобы превозносить нас самих…
Пейзаж дождя
Пахнет холодом, болью, невозможностью путей к идее обо всех идеалах.
* * *
Современные женщины используют такие приспособления в своем поведении и во всем облике, что от этого происходит горестное впечатление эфемерности и незаменимости…
Их… и отделки так их украшают и расцвечивают, что превращают их, скорее, в декоративные существа, чем в живущие – во плоти и крови. Бордюры, панно, картины не являются, для реального зрения, более, чем таким…
Сегодня, накидывая на плечи шаль, женщина сознает это как жест в гораздо большей степени, чем прежде. Раньше шаль была частью одежды; сегодня это деталь, вытекающая из интуиции чисто эстетического вкуса.
Так, в наши дни, проживаемые с таким явным превращением всего в искусство, все обрывает лепестки сознательного и дополняется… непостоянностью экстатического.
Перебежчики из незаконченных картин – все эти женские фигуры… Иногда на них бывает слишком много деталей… Определенные наброски имеют преувеличенную четкость. Они играют в нереальность чрезмерностью, с которой отделяются чистые линии от окружающей основы.
Моя душа – тайный оркестр; я не знаю, какие инструменты звенят и поют – скрипки и арфы, литавры и барабаны, – внутри меня. Только я различаю в этом симфонию.
Каждое усилие – преступление, потому что каждый жест – мертвая мечта.
* * *
Твои руки – это пойманные горлицы. Твои губы – немые горлицы (пусть мои глаза видят их воркующими).
Все твои жесты – это птицы. Ты – ласточка, когда склоняешься, кондор, когда глядишь на меня, орлица в своем экстазе равнодушной гордости. Ты вся – шумящая крыльями, как… озерцо, как я тебя вижу.
Ты – вся крылатая, вся…
* * *
Идет дождь, дождь, дождь…
Дождь идет постоянно, жалуясь…
Мое тело трепещет от холода, проникающего в душу… Это не холод, что идет от пространства, но холод оттого, что я вижу дождь…
* * *
Все удовольствие есть ошибка, потому что искать удовольствия – это то, что все делают в жизни, и единственная печальная ошибка – делать то, что делают все.
Иногда, когда этого не ожидаешь или не должен был бы ожидать этого, обыденное сдавливает удушьем мое горло, и я испытываю физическую тошноту от его зова. Непосредственная физическая тошнота, испытываемая в желудке и в голове, глупое чудо проснувшейся чувствительности… Каждый индивид, со мной заговоривший, каждый, пристально меня разглядывающий, поражает меня, будто оскорбление или непристойность. Я переполняюсь ужасом от всего. У меня кружится голова оттого, что чувствую себя чувствующим это.
И почти всегда случается, в эти моменты опустошения, почти желудочного, что есть один мужчина, одна женщина, один ребенок даже, что возникает передо мною в качестве реального представителя мучительной пошлости. Это не приходит только в моем ощущении, субъективном и надуманном, но что-то в объективной реальности приводит в согласие с внешним то, что я чувствую внутри, появляется в результате волшебства аналогии и заставляет вспомнить пример из правила, о котором думаю.
В иные дни каждый встретившийся мне человек, да, впрочем, все люди, с которыми я вынужден день ото дня общаться, приобретают значение символов и по отдельности или все вместе формируют надпись, пророческую или тайную, составленную из теней моей жизни. Контора превращается для меня в страницу со словами других людей; улица – в какую-то книгу; слова, переиначивающие обиходные, непривычные, – все это речи, для истолкования коих мне не хватает словаря, хотя, владей я ими, и это не помогло бы их полному пониманию. Говорят, что-то выражают, но говорят не о себе, не себя выражают; я сказал бы, – это слова, ничего не демонстрирующие, но позволяющие чему-то просвечивать. Но мое затуманенное зрение позволяет только смутно различать, что́ эти стекла, внезапно проявляющиеся на поверхности вещей, скрывают внутри, что́ охраняют и обнаруживают. Внимаю без понимания, как слепец, которому говорят о цветах.
Проходя иной раз по улице, я слышу обрывки разговоров, и почти все они – о другой женщине, о другом мужчине, о чьем-то любовнике или о чьей-то возлюбленной […]
От услышанного, от этих призраков человеческих речей, представляющих собой по сути все, чем полно большинство сознательных жизней, я ощущаю скуку до тошноты, тоску погружения в паутину, где я бьюсь среди реальных людей; я осужден быть их соседом, подобным им и по имуществу, и по месту жительства; я жду, борясь с тошнотой, чужого мусора, который набивается в дождь во двор склада, являющийся моей жизнью.
Меня раздражает счастье всех этих людей, не знающих, что они несчастливы. То, чем полна их жизнь, могло было бы затопить печалью одного по-настоящему чувствующего. Но, поскольку живут они жизнью растительной, страдания не затрагивают их, не касаются их души, и живут они такой жизнью, какую можно было бы сравнить только с жизнью человека, страдающего зубной болью, которому посчастливилось снискать, не ведая об этом, величайший дар богов – дар быть им подобным, стоящим, как они (хотя и по-своему), над радостью и над болью.
Поэтому, однако, я люблю их всех. Мои дорогие растения!
Я хотел бы изобрести шифр инерции для лучших представителей современных обществ.
Общество управлялось бы спонтанно само собой, если бы в нем не было людей с чувством и разумом. Давайте допустим, что это – единственное, что ему вредит. Примитивные людские общности примерно так обеспечивали себе счастливое существование.
К сожалению, удаление из общества лучших могло бы привести к их смерти, ведь они не умеют работать. И возможно, они бы умерли от скуки из-за отсутствия глупости среди себе подобных. Но я говорю с точки [зрения] исцеления и человеческого счастья.
Каждый лучший, если бы он проявил себя в обществе, был бы вытолкнут на специальный Остров лучших. Лучших кормило бы, как животных в зверинце, нормальное общество.
Давайте допустим: если бы не было разумных людей, которые бы указывали на различные человеческие недомогания, человечество и не знало бы о них. А чувствительные создания заставляют страдать других из симпатии к ним.
Пока, ввиду того что мы живем в обществе, единственная обязанность лучших – это свести к минимуму свое участие в жизни племени. Не читать газет или читать их, только чтобы знать, что́ из не очень важного и забавного происходит в мире. Никто не вообразит наслаждения, которое доставляют мне краткие новости дня из провинций. Простые имена открывают для меня двери в неясность.
Наивысшее благородство для высшего человека – не знать, кто возглавляет его страну и является ли она монархией или республикой.
Его позиция должна заключаться в том, чтобы никакие происшествия, события его не беспокоили. В противном случае ему придется интересоваться другими, чтобы позаботиться о себе самом.
Терять время – в этом есть эстетика. Она есть для тех, чьи чувства тонки, это сборник рецептов инерции для всех форм здравого ума. Эта стратегия борьбы с общественными приличиями, с импульсами инстинктов, с притязаниями чувств требует изучения, какого любой простой эстет не способен завершить. Для усовершенствованной тщательной этиологии надо следовать ироническому диагнозу раболепия перед нормальностью. Это значит культивировать также и ловкость в наставлении жизни; осторожность… должна защищать нас от восприятия чужих мнений, и вялое безразличие должно усыплять нашу душу, невзирая на удары, получаемые при сосуществовании с другими.
Эстетический квиетизм жизни, благодаря которому мы могли бы добиться, чтобы обиды и унижения, каким жизнь и живущие нас подвергают, оставались на периферии нашей чувствительности, внешней территории сознательной души.
В каком-то отношении все мы презренны. Каждый из нас несет в себе совершенное преступление или преступление, которое его душа запретила ему совершить.
Меня постоянно беспокоит то, что я с трудом понимаю, каким образом могут существовать другие люди, души, не являющиеся моей, сознания, чуждые моему сознанию, каковое представляется мне единственным. Я хорошо понимаю, что мужчина, стоящий передо мной и говорящий со мной словами, теми же, что и я, и сопровождающий беседу жестами, такими же, какими пользуюсь или мог бы пользоваться я, является в определенной степени моим подобием. То же самое, однако, происходит с гравюрами, когда я мечтаю над иллюстрированными журналами, с персонажами романов, которых вижу, с героями драм, что со сцены говорят со мною через актеров.
Никто, я предполагаю, на самом деле не принимает реального существования другой личности. Можно согласиться с тем, что другой человек мог бы жить, что он мог бы чувствовать и думать, как и он; но будет всегда присутствовать элемент различия. Есть такие деятели прошлого, такие наброски духа в книгах, что более реальны для нас, чем те воплощения равнодушия, что говорят с нами с балконов, смотрят на нас в трамваях или слегка задевают нас в безликой случайности улиц. Другие для нас более, чем вид знакомой улицы.
Мне ближе и роднее персонажи книг, определенные изображения на гравюрах, чем многие люди, кого мы называем реальными, кто принадлежит к этой метафизической бесполезности, называемой «плоть и кровь». И эти слова их характеризуют точно: они кажутся отрезанными частями, положенными на мраморную стойку мясной лавки, смерти, кровоточащие, как жизни, ляжки и отбивные котлеты Судьбы.
Мне не стыдно так чувствовать, потому что я уже видел, что все чувствуют так же. Что, кажется, должно презираться людьми в том безразличии, позволяющем людям убивать других, не чувствуя, что они убивают (как бывает с убийцами), или не думая о том, что совершают убийство (как бывает с солдатами), – это равнодушие к трудному для понимания факту, что другие – тоже души.
В определенные дни, в определенные часы, принесенные ко мне неизвестным бризом, открытые мне для того, чтобы открыть неизвестную дверь, я внезапно чувствую, что бакалейщик из угловой лавки – это духовное существо, что ученик плотника, поднимающий в этот момент мешок картофеля, – это действительно душа, способная страдать.
Когда вчера мне сказали, что служащий табачной лавки покончил с собой, мне показалось, что это неправда. Бедняга, он тоже существовал! Мы забывали об этом, мы все, все, кто его знал, равно как и те, кто его не знал. Завтра мы забудем о нем еще прочнее. Но что-то было в душе, что-то, из-за чего человек совершил самоубийство. Страсти? Тоска? Без сомнения… Но для меня, как и для всего человечества, есть только память о глупой усмешке над меланжевым пиджаком, грязным и тесным в плечах. Это все, что остается у меня от того, кто так чувствовал, что покончил с жизнью из-за чувств, – потому что, в конце концов, из-за чего-то другого самоубийства не совершаются… Я один раз подумал, покупая у него сигареты, что он должен скоро облысеть. На самом деле у него не было времени, чтобы облысеть. Это одно из воспоминаний о нем, оставшихся у меня. Какое другое воспоминание могло бы у меня остаться, если и это, в конце концов, не принадлежало ему, будучи только моим размышлением?
Внезапно мне представляется труп, гроб, в который его кладут, могила, абсолютно чужая, в которую его должны опустить. И я вижу неожиданно, что продавец из табачной лавки с его плохо сшитым пиджаком и всем остальным был, определенным образом, всем человечеством.
Это был только один момент. Сегодня, сейчас, ясно: как человек, каким и я являюсь, он умер. Больше ничего.
Да, другие не существуют… Это для меня застыл закат, медлительно крылатый, его цвета – туманные и грубые. Для меня под закатом трепещет большая река, течения которой я не вижу. Была создана для меня эта открытая площадь над рекой, чей прилив прибывает. Был похоронен сегодня в общей могиле продавец из табачной лавки? Нет, это для него рдеет сегодня закат. Но, если думать так, желаю я или нет, закат при этом прекращает быть – для меня…
…суда, проходящие в ночи, не приветствуются и не узнаются никем.
Обнаруживаю сегодня, что я ошибался; только порой удивляюсь, что не предвидел возможности ошибиться. Что бы это могло быть во мне, что предсказывало бы успех? У меня не было слепой силы победителей или уверенного зрения безумцев… Я был ясным и печальным, как холодный день.
Ясные вещи утешают, и вещи, что на солнце, утешают. Видеть проходящую жизнь на голубом дне – это многое компенсирует. Забываю неопределенно, забываю более, чем мог бы помнить. Мое сердце, прозрачное и воздушное, убеждается в достатке вещей, и мне довольно взгляда. Никогда я не был ничем другим, только бестелесным видением, лишенным всей души, кроме чего-то, подобного блуждающему потоку воздуха.
Во мне есть капля цыганского духа, духа тех, кто позволяет своей жизни течь, как ускользающей из рук струе. Но у меня не было внешнего проявления этого цыганского духа – легкой необдуманности внезапно возникающих и прекращающихся чувств. Я всегда был одиноким цыганом, а это – абсурд, или цыганом-мистиком, а это – вещь невозможная.
Некоторые часы-промежутки, что я проживал, часы в присутствии Природы, выгравированные на нежности одиночества, останутся со мной навсегда, как медали. В эти моменты я забывал все мои намерения, все желанные пути. Наслаждался тем, что я – ничто, со всей полнотой духовного спокойствия, упавшего в голубое лоно моих стремлений. Я никогда не наслаждался, пожалуй, таким незабываемым часом, свободным от духовного краха и уныния. Во все мои свободные часы какая-то боль дремала, смутно расцветала за заборами моего сознания, в других садах; но аромат и сам цвет тех печальных цветов интуитивно преодолевал заборы, и на той стороне от них, где цвели розы, никогда не переставала существовать, в смутном таинстве моего существа, эта боль, оттененная моей дремотной жизнью.
Это было во внутреннем море, куда впадала река моей жизни. Вокруг моего вымышленного фамильного замка все деревья были осенними. Этот вид вокруг – терновый венец моей души. Наиболее счастливые моменты моей жизни – это мечты, и грустные мечты, и я видел себя в их озерах, как слепой Нарцисс, что наслаждается прохладой близкой воды, чувствуя себя склоненным над ней, благодаря некоему изначальному ночному зрению, жившему в тайниках воображения.
Твои ожерелья из фальшивого жемчуга, они любили вместе со мной в мои лучшие часы. Из цветов мы предпочитали гвоздики, возможно потому, что они не были совершенны. Твои губы сдержанно праздновали иронию своей собственной улыбки. Хорошо ли ты понимала свою судьбу? Это было оттого, что тебе предстояло узнать, хотя ты и не поняла бы этого, какая тайна, записанная печалью твоих глаз, омрачала твои отрекающиеся губы. Наша родина находилась слишком далеко от этих роз. В каскадах наших садов вода была прозрачной от молчания. В небольших морщинистых впадинках камней, которые выбирала для себя вода, таились наши детские секреты, мечты, остановившиеся в росте, о свинцовых солдатиках, которых можно было положить на камни каскада и статично разыгрывать военные действия, и при этом в наших мечтах не было недостатка ни в чем, и для наших намерений не было слишком поздно.
Я знал, что ошибался. Я сладострастно наслаждаюсь своим крахом, как тот, кто переоценивает лихорадку, обрекающую его на заточение.
У меня был известный талант в дружбе, но я никогда не имел друзей, или потому, что они у меня отсутствовали, или потому, что дружба, которую я постиг, была ошибкой моих мечтаний. Я жил всегда одиноко, и тем более одиноко, чем более я обретал себя.
Летняя жара пошла на спад под матовым солнцем, начиналась осень, чтобы прийти немного грустной, пространной и неопределенной под небом, не желавшим улыбаться. Это была синева, порой светлая, а порой зеленоватая, сама субстанция глубокого цвета пропала; печать забвения лежала на облаках; не оцепенение, но какая-то скука разливалась во всем спокойном одиночестве, куда уходили облака.
Приход настоящей осени был предсказан холодом внутри нехолодного воздуха, оттенком цветов, еще не оттененным в сумеречной отстраненности пейзажей. Ничто еще не начинало умирать, но все, точно улыбка, которой еще не было, поворачивалось к жизни с тоскою.
Приходила наконец настоящая осень: воздух холодел от ветров; сухо звенели листья, хотя еще и не было сухих листьев; вся земля приобретала вид какого-то непонятного болота. Обесцвечивалась в усталости век, в равнодушии жестов последняя улыбка. И так, все, что чувствует, или предположительно чувствует, сжималось в груди своего собственного прощания. Звук вихря во дворе проплывал через наше осознание окружающего. Было приятно выздоравливать, чтобы по-настоящему чувствовать жизнь.
Но первые зимние дожди, приходящие еще глубокой осенью, отмывали эти полутона без почтения. Высокие ветра, треща в неподвижном, шумя привязанным, волоча подвижное, взмывали меж неритмичными вскриками дождя, отсутствующими словами безымянного протеста, грустные и почти яростные звуки отчаяния без души.
И под конец осень прекращалась в холоде и серости. Наступала зимняя осень, пыль, превращенная в грязь во всем, но зимний холод нес и хорошее – завершенное тяжелое лето, осень, под конец обратившаяся в зиму, близящаяся весна. И в высоком воздухе, где матовые тона уже не напоминали ни о жаре, ни о печали, все благоприятствовало ночи и бесконечным размышлениям.
Все это было для меня таким, прежде чем я стал об этом думать. Сегодня, если я пишу об этом, то потому, что помню о нем. Осень, что у меня есть, – это та, что я потерял.
Благоприятный случай – как деньги, которые, иначе говоря, не более, чем благоприятный случай. Для человека действующего благоприятный случай – составная воли, а воля меня не интересует. Для тех, кто, как я, не действует, благоприятный случай – пение отсутствующих сирен. Он должен быть презираем со сладострастием, должен быть размещен высоко, чтобы никто им не пользовался.
Иметь случай, чтобы… В этом поле будет размещена статуя отречения.
О, широкие поля под солнцем, наблюдатель, тот единственный, кем вы живы, созерцает вас из тени.
Опьянение великих слов и обширных фраз, что, как волны, вздымают дыхание своего ритма и растворяются с улыбкой в иронии змеящейся пены, в грустном великолепии полумрака.
Каждый жест, как бы прост он ни был, представляет собою осквернение духовного секрета. Каждый жест – это революционное действие; возможно, изгнание истинной… из наших намерений.
Действие – это какая-то болезнь мышления, раковая опухоль воображения. Действовать – это изгонять себя самого. Каждое действие неполно и несовершенно. Поэт, о котором я мечтаю, не делает ошибок до тех пор, пока я не пытаюсь его воплотить. Это запечатлено в мифе об Иисусе; Бог, превращаясь в человека, не может кончить иначе, как только мученичеством. Божественный мечтатель предназначил сыну божественное мученичество.
Рваные тени листвы, трепещущее пение птиц, простертые руки рек, колеблющих на солнце свой свежий блеск, зелень, маки и простота ощущений – чувствуя это, я чувствую ностальгию по нему, словно, чувствуя это, не чувствовал бы его.
Прошедшие часы, как экипаж в сумерках, возвращаются, скрипя, по теням моих размышлений. Если поднимаю глаза над моими думами, их ослепляет жизненный спектакль.
Чтобы реализовать какую-то мечту, необходимо забыть ее, отвлечься от нее. Поэтому реализовать – это не реализовать. Жизнь полна парадоксов, как розы – шипов.
Я хотел бы апофеоза новой бессвязности, которая была бы подобна негативной конституции новой анархии душ. Компиляция правил моих мечтаний, как казалось мне всегда, могла бы приносить пользу человечеству. Именно поэтому я и воздержался от такой попытки. Идея о том, что сделанное мною могло бы быть полезным, меня опечалила, иссушила.
У меня есть поместья в окрестностях Жизни. Я прохожу через отсутствующий Город моего Действия между деревьями и цветами моей мечты. До моего зеленого уединенного уголка эхо моих жестов не достигает. В дреме моей памяти проходят бесконечные процессии. Из кубков моего размышления я пью только улыбку вина славы; пью его закрытыми глазами, и Жизнь проходит, как дальний парусник.
Солнечные дни имеют для меня вкус того, чего у меня нет. Голубое небо и белые облака, деревья, флейта, которой нет, – незаконченные эклоги в трепете ветвей… Все это – немая арфа, которой я чуть касаюсь невесомостью своих пальцев.
Растительная академия тишины… твое имя, звучащее, как маки… водоемы… мое возвращение… безумный священник, сошедший с ума во время мессы… Эти воспоминания – из моих мечтаний… Не закрываю глаз, но ничего не вижу… Они не здесь, предметы, которые я вижу… Воды…
В смешении путаниц зелень деревьев – это часть моей крови. Жизнь ударяет меня в отдаленное сердце… Я не был предназначен для реальности, и жизнь хотела прийти ко мне.
Пытка судьбы! Кто знает, не умру ли я завтра! Кто знает, не случится ли со мной сегодня что-то страшное для моей души!.. Порою, когда я думаю об этих вещах, ужасает меня высшая тирания, заставляющая нас делать некие шаги, не зная, с чем столкнет меня моя неуверенность в себе.
…дождь падал, еще печальный, но уже нежнее, как от всеобщей усталости; не было молний, и только иногда вдалеке, гром сурово ворчал короткими раскатами, тоже усталый. Будто внезапно, дождь успокоился еще более. Один из служащих открыл окна, выходящие на улицу Золотильщиков. Свежий воздух со следами ушедшей жары проник в большой зал. Голос патрона Вашкеша звучал громко из кабинета, он говорил по телефону: «Ну, там еще занято?» И слышался сухой разговор и – в сторону – отрывистый комментарий, очевидно для телефонистки.
Уметь отбросить свои иллюзии абсолютно необходимо, чтобы уметь мечтать.
Так ты достигнешь высшей точки мечтательного воздержания, где значения смешиваются, чувства переполняются, идеи проникают друг в друга. Так же как цвета и звуки знают друг друга, так и ненависть знает любовь, энергия знает скуку, конкретные вещи – абстрактные, и абстрактные – конкретные. Рвутся связи, и в то самое время, как все связывалось, все и разделялось. Все сливается и путается.
Вымыслы интерлюдии, укрывающие разноцветием застой и вялость нашего внутреннего неверия.
Впрочем, я не мечтаю, я не живу. Я мечтаю реальной жизнью. Все корабли – это корабли из мечты, как только у нас появляется власть видеть их в мечтах. Убийственно для мечтателя – не жить, когда мечтаешь; наказание действующего – не мечтать, когда живешь. Я слил их в едином цвете счастья – красоту мечты и реальность жизни. Обладая мечтой, мы никогда не сможем так владеть ею, как владеем носовым платком в нашем кармане или, если угодно, как собственной плотью. Как бы ни жилась жизнь среди и рассеянного, и мятущегося действия, никогда не исчезнут… от контакта с другими, затруднения, хотя бы и минимальные, ощущение уходящего времени.
Убить мечту – это значит убить нас. Это – искалечить нашу душу. Мечта – единственное, что у нас есть действительно нашего, непостижимо и неприступно нашего.
Вселенная и Жизнь – реальность ли это, или иллюзия – это для всех, все могут видеть то, что я вижу, и владеть тем, чем я владею, – или, по крайней мере, оно может пониматься, когда его видят и им владеют, и это есть…
Но того, о чем я мечтаю, не видит никто, кроме меня, им никто не владеет, кроме меня. И если я вижу внешний мир иначе, нежели другие, это оттого, что из мечты своей я против воли вижу его, оттого, что мечтой моей полны мои глаза и уши.
Покой звуков – в ярком свете дня тоже от золота. Есть нежность в происходящем. Если бы мне сказали, что была война, я ответил бы, что войны не было. В такие дни ничто не может огорчать, не может быть ничего, кроме нежности.
Соедини руки, вложи их в мои и слушай меня, моя любовь.
Я хочу, говоря голосом нежным и убаюкивающим, как духовник, что дает советы, рассказать тебе, насколько жажда достижения далека от того, чего мы достигаем.
Я хочу молиться с тобой, – мой голос и твое внимание, литания отчаяния.
Нет такого творения, которое нельзя было бы улучшить. Читая стих за стихом огромную поэму, вижу, что в ней почти нет строк, не нуждающихся в улучшении, почти нет эпизодов, которые нельзя было бы сделать напряженнее, и никогда все в целом не бывает полностью и абсолютно совершенным.
Бедный художник, который обращает на это внимание! который однажды подумает об этом! Никогда больше не станет его труд радостным, а сон спокойным. Это юноша без юности, стареющий неудовлетворенным.
И зачем творить? То немногое, о чем говорят, лучше было бы оставить невыраженным.
Если бы я действительно мог проникнуть в красоту отречения, каким болезненно счастливым я бы стал!
Тебе не нравится то, что я говорю, когда я слышу, как говорю это. Когда я говорю вслух, я слышу себя иначе, чем мой внутренний слух, с помощью которого я слушаю собственные мысли. Если слушая себя, я нередко сам себя переспрашиваю, что же, собственно, я хотел сказать, насколько же трудно другим меня понять!
Сколько недопонятого препятствует взаимопониманию.
Тому, кто хочет быть понятым, не дано этой радости, она удел только сложных и непонятых; и другие, простые, те, кого понимают, – они никогда не испытывают желания быть понятыми.
Никто не достигает… Ничего не имеет значения.
Ты уже думала, о Другая, насколько невидимы все мы друг для друга? Ты уже размышляла о том, насколько мы себя не знаем? Видим себя и себя не видим. Слышим себя и слышим лишь собственный внутренний голос.
Слова других – это ошибки нашего слуха, кораблекрушения нашего понимания. С каким доверием мы внимаем смыслу, что сами вкладываем в чужие слова. Сладострастие, что другие вкладывают в свои слова, имеет для нас вкус смерти. Ощущаем сладострастие и жизнь в том, чему другие и не думали придавать глубокий смысл.
Говор ручьев, что ты переводишь, о чистая толковательница, голос деревьев, в чьем шепоте мы ищем смысл, – ах, моя неведомая любовь, все это мы сами и наши фантазии, все пепел, что проникает в нашу тюремную камеру!
Я надеюсь, что лживо не все, потому что ничто, о моя любовь, нас не излечивает от наслаждения ложью.
Последнее совершенство! Максимальная безнравственность! Бессмысленная ложь обладает всем очарованием безнравственного, его высшим очарованием – быть невинным. Безнравственность, порожденная невинностью, – кто превысит, о… ее максимальное совершенство? Безнравственность, что не стремится доставить нам наслаждение и не обладает достаточной злой силой, чтобы причинить нам боль, что лежит между удовольствием и болью, бесполезная и абсурдная, как примитивная игрушка, которой решил позабавиться взрослый!
Тебе не знакомо, о Восхитительная, удовольствие от покупки ненужных вещей? Известен вкус путей, какими не следовало бы идти? Какое человеческое действие окрашено в столь же прекрасный цвет, как действия ненастоящие – …что лгут по своей собственной природе и противоречат собственному намерению?
Величие растрачивать жизнь, что могла бы быть полезной, никогда не завершать ни одного произведения, пусть даже невольно оказавшегося прекрасным, останавливаться на половине пути, ведущего к победе!
Ах, моя любовь, слава произведений, что утрачены и никогда не найдутся; трактатов, от которых остались одни названия; сгоревших библиотек, разбитых статуй.
Потому что канонизированные Абсурдом художники, сжигавшие свои прекрасные творения, – те, кто намеренно создавал произведения несовершенными, те наивысшие поэты Молчания, кто творения во всем совершенные увенчивали тем, что их не создавали (будь они несовершенными, они были бы созданы).
Насколько прекраснее стала Джоконда с тех пор, как пропала! И если бы похититель сжег ее, он стал бы художником куда более великим, чем ее автор!
Почему искусство прекрасно? Потому что оно бесполезно. Почему некрасива жизнь? Потому что вся она – цели, и намерения, и усилия. Все ее дороги – чтобы идти от одного пункта к другому. Ах, если бы путь вел из одного места, откуда никто не уходит, в другое – куда никто не идет! Кто бы мог положить свою жизнь на прокладку дороги, ведущей из середины одного поля к середине другого.
Красота развалин? Они уже ничему не служат.
Сладость прошлого? Она – в воспоминании, потому что вспоминать о нем – это превращать его в настоящее, и оно им не является и не может им быть – абсурд, моя любовь, абсурд.
И я, кто говорит все это – зачем пишу я эту книгу? Потому что замечаю, что она несовершенна. Она была совершенством – в моих мечтах; ложась на бумагу, приобретает недостатки; вот затем я ее и пишу.
И особенно потому, что отстаиваю бесполезность, абсурд… – я пишу эту книгу, чтобы обмануть себя самого, чтобы предать свою собственную теорию.
И высшая слава всего этого, моя любовь, – думать, что, возможно, это неправда, да и сам я, пожалуй, в это не верю.
И когда ложь начинает доставлять нам удовольствие, давайте говорить правду, чтобы ее обмануть. И когда это станет вызывать у нас тоску, давайте остановимся, чтобы страдание нас не возвеличило или не полюбилось нам…
Болят у меня голова и вселенная. Физическая боль, более выраженная, чем душевная, ведет, отражаясь в душе, к подлинным трагедиям.
Я не приобщаюсь, не приобщался никогда, но допускаю, что однажды я приобщился к этой подложной идее, по которой мы, как души, суть порождения одной материальной субстанции, называемой мозгом, что существует с рождения внутри другого материального объекта, именуемого черепом. Я не могу разделять материалистические взгляды, в систему которых, уверен, входит эта идея, потому что не могу установить четкой связи – назову ее зрительной – между массой материи серого или любого другого цвета и этой вещью – мною, который видит небеса и думает о них и воображает небеса, которых не существуют. Но, пусть я никогда не опускался до предположения, будто одна вещь могла быть другой только оттого, что находится в том же месте (как эта стена и моя тень на ней) или что зависимость души от мозга больше, чем зависимость моих передвижений от транспортного средства, я верю, однако, что между нашим духом и духом нашего тела есть некая связь, порождающая дискуссии. И та, что обыкновенно возникает, приводит на ум ситуацию, когда человек более заурядный докучает менее заурядному.
Сегодня у меня болит голова, и, возможно, причина этой боли связана с желудком. И боль, поднявшаяся от желудка к голове, прерывает размышления, которые у меня есть, потому что есть мозг. Тот, кто закроет мне глаза, не ослепит меня, но помешает мне видеть. Так и сейчас головная боль не дает мне разглядеть ценности или благородство однообразного и бессмысленного спектакля окружающего мира. У меня болит голова, мне кажется, что это обида, нанесенная мне материей. И поскольку это меня возмущает, я начинаю плохо относиться ко всем людям, включая и тех, кто рядом, но меня не обижал.
Чего я сейчас желаю – это умереть, по крайней мере на время, только оттого, что, как я уже говорил, у меня болит голова. И в этот момент я вдруг представляю, с какой утонченностью говорил бы об этом один великий прозаик. Разворачивал бы, период за периодом, безымянную печаль мира; перед его взором возникали бы все существующие человеческие драмы, пульсирование его горячечных висков изливало бы на бумагу всю метафизику несчастья. Однако я не обладаю стилистической утонченностью. У меня болит голова, потому что у меня болит голова. У меня болит вселенная, потому что болит голова. Но вселенная, которая у меня болит, не настоящая, существующая, ведь она и не знает, что я существую. Болит та, моя, – от меня, та, в которой волосы, по которым я провел бы руками, страдали бы и причиняли страдания мне.
…Меня очень удивляет мое свойство тосковать. Не будучи по природе метафизиком, я прошел периоды острой тоски, тоски физической, из-за нерешенности проблем метафизических и религиозных…
Я скоро увидел, что для решения религиозной проблемы мне надо было решить эмоциональную проблему в границах разума.
Ни одна проблема не имеет решения. Ни один из нас не развязывает гордиева узла; все мы или отказываемся от этого, или разрубаем его. Мы решаем грубо проблемы разума, и делаем это или устав от размышлений, или боясь принимать решения, или из бессмысленной потребности встретить поддержку, или из стадного инстинкта возвращения к другим и к жизни.
Оттого, что мы никогда не знаем всех тонкостей того или иного вопроса, мы никогда и не можем его разрешить.
Чтобы постичь истину, нам недостает данных и интеллектуального потенциала для толкования этих данных.
Прошли месяцы с тех пор, как я брался за перо в последний раз. Я находился словно в каком-то сне истолкования, и в нем я пребывал другим. Ощущение перемещенного счастья часто приходило ко мне. Я не существовал, я был другим, я жил не думая.
Сегодня я внезапно вернулся к тому, кто я есть или кем себя воображаю. В этот момент, закончив одно нудное дело, я чувствовал себя очень усталым. Я уронил голову на руки, опираясь локтями на высокую конторку. И, закрыв глаза, заглянул в прошлое.
В обманном далеком сне я припомнил все минувшее и с чрезвычайной ясностью увидел одно старое поместье, где, посередине видения, возвышался пустой сарай.
Я сразу почувствовал бесполезность жизни. Видеть, чувствовать, помнить, забывать – все это у меня смешалось, в слабой боли в локтях, в неясном бормотании с улицы, в тихих звуках работы в конторе.
Когда, сняв руки со стола, я поднял их и бросил взгляд вверх, взгляд, в котором, наверное, сквозила усталость, полная ушедших миров, то первое, что я увидел, была муха (вот то неясное жужжание, какое доносилось не из конторы!), остановившаяся над чернильницей. Она переливалась зеленым и темно-синим и была блестящей до тошноты, но это не было некрасивым. И это – жизнь!
Кто знает, может быть, для каких-то высших сил, богов или демонов Истины, в чьей тени мы блуждаем, я – не более блестящей мушки, которая на минутку остановилась перед ними? Легкое замечание? Наблюдение уже готово? Философия без рассуждений? Возможно, но я не думал: чувствовал. Это было чувственно и полно глубокого и темного ужаса, который сделал сравнение смешным. Я был мушкой, когда сравнил себя с мушкой. Я чувствовал себя мушкой, когда допускал, что это чувствую. И чувствовал себя душой мушки, видел себя во сне мушкой, чувствовал себя запертой мушкой. И еще больший ужас в том, что в то же самое время я чувствовал себя собою. Нехотя я поднял глаза на потолок, не опускается ли на меня некая линейка, чтобы прихлопнуть меня, как я прихлопываю мух. К счастью, когда я опустил глаза, мушка беззвучно исчезла. Контора снова осталась без философии.
«Чувствовать – это утомительная работа». Эти слова, брошенные каким-то случайным сотрапезником, неизменно сияли на земле моей памяти. Их незатейливость придает фразе выразительность.
Не знаю, сколько человек способны рассматривать внимательно пустынную улицу, полную людей. Даже само это словосочетание, кажется, подразумевает что-то другое, и это в действительности так. Пустынная улица – это не та улица, где нет прохожих, но улица, где прохожие проходят по ней так, будто она пустынна. Нетрудно понять это, раз увидав: зебра невообразима для того, кто знает лишь осла.
Ощущения упорядочиваются внутри нас по определенным разрядам и типам их понимания. Есть способы понимания, включающие в себя способы быть понятыми.
Бывают дни, когда словно от подошв к голове во мне поднимается некая скука, некая печаль, некая тоска от жизни, что мне одному не кажется невыносимой, потому что я, фактически, ее выношу. Это какое-то удушение жизни во мне самом, какое-то желание быть другим человеком, проникающее во все поры кожи, короткая весть о конце.
Что я особенно чувствую – это усталость, и этот непокой – близнец усталости, когда для нее нет другой причины, кроме той, что она существует. У меня бывает тайный страх перед движениями, что делаю, духовная робость перед словами, что говорю. Все мне кажется преждевременно грубым.
Невыносимая скука от всех этих лиц, туповатых от разума или от его отсутствия, гротескных до тошноты, счастливых или несчастных, страшных потому, что существуют, разобщенный прилив из живых вещей, для меня – чужих…
Я всегда тревожился в те случайные часы освобождения, в которые мы сознаем себя как индивидов, являющихся другими для других, представляем, кем мы будем являться, физически и даже морально, для тех, кто за нами наблюдает и с нами говорит, постоянно или случайно.
Мы все привыкли считать себя, главным образом, психическими реальностями, а других – непосредственно реальностями физическими; вскользь задумываемся о себе как физических сущностях в глазах других; вскользь думаем о других как психических реальностях, но только в любви или в конфликте по-настоящему сознаем, что другие тоже обладают душой.
Я порой теряюсь из-за этого в пустом гадании о том, каким представителем людской породы я буду для тех, кто меня видит, каков мой голос, каким мой внешний облик запомнится другим, как я двигаюсь, как говорю, какова моя кажущаяся жизнь. Я никогда не мог увидеть себя со стороны. Нет такого зеркала, что показало бы нам это, потому что нет зеркала, что вытащило бы нас из нас самих. Для этого требовалась бы другая душа, устройство взгляда и мышления. Если бы я был киноактером или записывал бы на пластинки свой голос, я бы точно так же не знал, каков я со стороны, потому что, желаю я того или нет, записывается то, что записывается, а я всегда нахожусь там, внутри, за высокими стенами моего представления о себе.
Я не знаю, бывает ли так с другими, не будет ли состоять наука жизни именно в том, чтобы достигать отчуждения от себя самого, позволяющего участвовать в жизни в качестве постороннего для собственного сознания; или не будут ли другие, ушедшие в себя глубже, нежели я, жить внешне благодаря чуду, которое позволяет пчелам создавать общества, более организованные, чем любая нация, и муравьям общаться меж собою с помощью крохотных антенн.
География осознания реальности – это огромная сложность побережий, чрезвычайно пересеченная местность, изрезанная горами и озерами. И все это при долгом размышлении мне кажется своего рода картой, точно карта Страны Нежности[22] или карта из «Путешествий Гулливера», шуткой преувеличения, записанной в иронической или фантастической книге для развлечения высших существ.
Все сложно для того, кто думает, и, без сомнения, мышление своим сладострастием делает его сложнее. Но тот, кто думает, оправдывает свое отречение обширной программой понимания, выставленной, как резоны обманщика, со всеми чрезмерными подробностями, призванными распространить по земле начала лжи.
Все сложно, или сложен я сам. Но, некоторым образом, это неважно, потому что, некоторым образом, не важно ничего. Все это, все эти рассуждения, заблудившиеся на широкой улице, произрастают в садах изгнанных богов, как вьющиеся растения – далеко от стен. И я улыбаюсь в ночи, оканчивая эти бесконечные размышления, бессвязные, полные жизненной иронии, заставляющей их появляться из человеческой души, осиротевшей до рождения планет, согласно великим соображениям Судьбы.
На моей усталости колеблется что-то золотистое, как на водах, когда заходящее солнце их покидает. Вижу себя у выдуманного мною озера, и то, что я вижу в этом озере, – я сам. Не знаю, символ ли это, или я, каким себя воображаю. Но в чем я уверен так это в том, что вижу, будто в действительности, солнце за горной цепью, льющее свои заблудившиеся лучи в темное золото озера.
Главный вред размышлений – видеть в тот момент, когда думаешь. Те, кто мыслит рассудком, отвлекаются. Те, кто мыслят эмоциями, дремлют. Те, кто мыслит охотно, – мертвы. Я же мыслю воображением, и все – рассудок, боль, побуждения – становится во мне чем-то нейтральным и далеким, как это мертвое озеро меж скалами, где медлят последние лучи солнца.
Я остановился, и задрожали воды. Я размышлял, и солнце скрылось. Смыкаю веки, еще полные сна, и внутри меня лишь озерный край, где ночь начинает заступать место дня в темно-каштановом отражении в водах, откуда появляются водоросли.
Оттого, что я написал, я ничего не сказал. Мне представилось, будто все сущее пребывает в другом краю, там, за горами, где нас ждут еще несовершенные путешествия.
Я ушел, как солнце в моей грезе. Не остается то, о чем было сказано, или что было увидено, не остается ничего, кроме ночи, уже прошедшей, полной мертвого блеска озер, на равнине без диких уток, неживой, текучей, влажной и зловещей.
Не верю в пейзаж. Говорю об этом, не потому что мог бы поверить в то, что «пейзаж – это состояние души» по Амьелю, одно из лучших выражений его несносного внутреннего содержания. Говорю это, потому что не верю.
В глубине своей низкой души откладываю день за днем впечатления, формирующие оболочку моего представления о себе. Высказываю их праздными словами, которые меня покидают, как только я их записываю, и блуждают, независимые от меня, по склонам и лугам изображений, аллеям замыслов, тропинкам смятения. Это никак мне не служит, ибо ничто мне никаким образом не служит. Но уже не волнуюсь, когда пишу, как тот, кто, еще не вылечившись до конца, уже начинает легче дышать.
Есть такие, кто в рассеянности чертит линии, пишет бессмысленные имена на промокательной бумаге, закрепленной по краям. Эти страницы – каракули моего духовного бессознательного. Черчу их, чувствуя какую-то сонливость, точно кот на солнышке, и перечитываю порой со смутным запоздалым удивлением, словно вспоминая о чем-то, давно забытом.
Когда пишу, я наношу себе торжественный визит. У меня есть специальные залы, где я наслаждаюсь, анализируя то, чего не чувствую, и исследую себя, как некую картину в тени.
Я потерял, еще не родившись, свою древнюю крепость. Были проданы, до моего появления на свет, ковры моего старинного дворца. Мой фамильный замок, задолго до моего рождения, превратился в руины, и лишь иногда меня гложет тоска по беззубым развалинам заборов, чернеющих на фоне темно-голубого неба, в лунном свете, родившемся во мне самом.
Я возвеличиваю себя с помощью таинства. И с колен королевы, которой у меня нет, скатывается моя душа клубком ниток, оставшихся от вышивки. Катится под инкрустированное бюро и теряется, пораженная ужасом перед неизбежной могилой.
Я никогда не сплю: живу и мечтаю, или, скорее, мечтаю о жизни и обо сне, и это тоже жизнь. В моем сознании нет перерывов: чувствую то, что меня окружает, если еще не сплю или если сплю плохо; быстро начинаю видеть сны, как только действительно засыпаю. Таким образом, я – это постоянное развертывание изображений, связных или бессвязных, среди людей и света, если я бодрствую, блуждающих среди призраков и полумрака, если сплю. В действительности я не знаю, как отличить одно от другого, не отваживаюсь утверждать, что не сплю, бодрствуя, или что не бодрствую во сне.
Жизнь – это кем-то запутанный клубок. Если ее распутать и растянуть в длину или аккуратно смотать, в ней обнаружится смысл. Но в том виде, в каком она есть, – это бесконечная путаница.
Я чувствую это, я потом это запишу, потому что уже придумываю фразы, которые скажу полусонной ночью под шум дождя, делающего смутные мечты еще более туманными. Это загадки пустоты, мерцания бездны, на фоне бесполезных стенаний постоянного дождя. Надежда? Нет. С невидимого неба спускается с печальным шумом вода, а ветер ее поднимает. Я продолжаю спать.
Это было в тополевых аллеях парка, именно здесь произошла трагедия, следствием которой стала жизнь. Их было двое, прекрасные, они мечтали быть чем-то другим; любовь опаздывала к ним в скуке будущего, и тоска о несбывшемся уже пришла – лунный свет любви, которой у них не было. Так, в лесах, сиявших, потому что сквозь них прокрадывалась луна, они гуляли, держась за руки, без желаний и надежд, по пустынным покинутым аллеям. Они были совершенными детьми, так как не были ими в действительности. Из аллеи в аллею, силуэтами между деревьев, они проходили, будто декорации, вырезанные из бумаги к спектаклю ни о чем. И скрывались в стороне прудов, каждый раз все более единые и разделенные, и шум прерывающегося дождя был шумом струй в той стороне, куда они шли. Я – любовь, что у них была, и поэтому я умел слышать их в своей бессонной ночи и так же умел жить несчастливым.
Один день (Зигзаг)
Я не был обитательницей гарема! Как мне жаль себя оттого, что со мною этого не случилось!
В конце концов, от этого дня остается то же, что от вчерашнего, и останется от завтрашнего: ненасытная и безмерная жажда быть одновременно тем же и другим.
По ступеням мечтаний и моей усталости спустись из своей нереальности, спустись и приходи заменить мир.
Восхваление бесплодных
Если бы я однажды пришел выбрать себе жену среди женщин земли, молись за меня о том, чтобы она была бесплодной. И проси также, чтобы я никогда не пришел забирать эту мою предполагаемую жену.
Только бесплодие благородно и достойно. Лишь убить то, чего никогда не было, является редким, и возвышенным, и абсурдным.
Я не мечтаю тобою обладать. Зачем? Это значило бы перевести мою мечту на плебейский язык. Обладать телом – это быть банальным. Мечтать об обладании телом – возможно, еще хуже, если это возможно, ведь мечтать о банальном – высший ужас.
И поскольку мы хотим быть бесплодными, будем также и целомудренными, потому что ничто не может быть гнуснее и ниже, чем, отрекаясь от плодородного в Природе, подло сохранять из него часть, доставляющую нам удовольствие. Не бывает частичного благородства.
Будем же целомудренны, как отшельники, чисты, как тела, предстающие нам в мечтах, отрекшиеся от всего этого, как безумные монашенки…
Пусть наша любовь будет молитвой… Позволь мне причаститься образа твоего, чтобы я сделал из мечтаний о тебе четки, где моя скука превратится в «Отче Наш» и мои печали – в «Аве Мария»…
Останемся такими вечно, точно фигуры мужчины и женщины на витраже… Меж нами, тенями, чьи шаги звенят холодом, проходит человечество… Шепот молитв, секреты… будут проходить меж нами… Иногда воздух будет напитан… ладаном. В другой раз то здесь, то там фигура в епитрахили будет кропить святой водой… И мы – всегда те же витражи, то цвета́, когда в нас ударяют лучи солнца, то линии, когда упадает ночь…Столетия не будут касаться нашей стеклянной тишины… Там, снаружи, будут проходить цивилизации, вздыматься мятежи, вихрем крутиться праздники, проходить спокойная повседневная жизнь… И мы, о моя нереальная любовь, застынем в тех же бесполезных позах, том же мнимом существовании, и той же… пока, однажды, в конце существования империй, церковь не рухнет окончательно и все закончится…
Но мы, не зная об этом, еще останемся, не знаю как, не знаю, в каком пространстве, не знаю, в течение какого времени, вечные витражи, молитвенник наивного рисунка, написанного художником, уже долгое время спящим под надгробным камнем, где два ангела с простертыми руками замораживают в мраморе идею смерти.
Письмо, которое не пошлют
Освобождаю Вас от появления в моей мечте о Вас.
Ваша жизнь…
Это не моя любовь; это всего лишь Ваша жизнь.
Люблю Вас, как закат и лунный свет, желая, чтобы мгновение остановилось, но не желая, чтобы в нем что-то было моим, кроме ощущения самого этого мгновения.
Ничто не тяготит так, как чужая любовь, даже чужая ненависть, так как ненависть – чувство более прерывное, чем любовь; тот, кто ее испытывает, инстинктивно избегает доставляемых ею неприятных эмоций и старается ее подавлять. Но и ненависть, и любовь нас угнетают; обе овладевают нами, не оставляют нас одних.
Мой идеал мог бы существовать в романе, читая мои эмоции, испытывая мое презрение к ним. Тот, чья фантазия, возбуждается даже от легкого прикосновения цветка, чувства и приключения героя романа проживает как собственные. Нет чувства более великого, чем любовь к леди Макбет,[23] искренняя и прямая; что должен сделать тот, кто так любил? Только одно: дав отдых чувствам, не любить в этой жизни никого.
Я не знал, какое значение имеет это путешествие, что совершал между двумя ночами в компании со всей вселенной. Я знал, что могу читать для развлечения. Я считаю чтение наиболее простым способом скрасить любое путешествие; и порой, поднимая глаза от книги, где я живу по-настоящему, вижу, словно нечто совсем чужое, убегающие виды; поля, города, мужчины и женщины, их любовь и тоска – все это для меня лишь краткий миг отдыха от чрезмерного чтения.
Только то, о чем мы мечтаем, и есть то, чем мы собственно являемся. Я бы ревновал реализовавшуюся мечту, ибо сама эта реализация была бы предательством. «Я реализовал все, что хотел», – говорит слабый, и это ложь; правда в том, что он провидчески мечтал обо всем, что реализовала жизнь. Мы ничего не реализуем. Жизнь швыряет нас, точно камень, и мы говорим в воздух: «Здесь мною двигают».
Какой бы ни была эта интерлюдия – пантомима под прожектором солнца и блестящими драгоценностями звезд; не вредно, должно быть, знать, что это – всего-навсего интерлюдия; если то, что есть там, за дверями театра, – это жизнь, то мы будем жить; если это – смерть, мы умрем, но пьеса от этого не изменится.
Поэтому никогда я не чувствую себя таким близким к истине, таким посвященным, как в редкие посещения театра или цирка; там я вижу наконец совершенное изображение жизни. И актеры, и актрисы, и шуты, и фокусники – столь же важны и ничтожны, как солнце и луна, любовь и смерть, чума и голод, война и человечество. Все – театр. Ах, я хочу истины? Буду продолжать писать роман…
Самая низкая из всех потребностей – потребность в признании, потребность в исповеди. Это потребность души во внешнем воплощении.
Хорошо, признавайся; но признавайся в том, чего не чувствуешь. Хорошо, освободи твою душу от груза ее тайн, выговорив их; но еще лучше, чтобы тайн, о которых ты говоришь, никогда бы и не было у тебя. Обмани себя самого, прежде чем сказать эту правду. Выражать – это всегда ошибаться. Пойми: выражать – означает обманывать.
Я не знаю, что такое время. Не знаю, каково его истинное измерение, если оно имеет таковое. Я знаю, что измерять его с помощью часов неправильно: это разделяет время пространственно, снаружи. Измерять с помощью эмоций также неправильно: это разделяет не само время, но то, как мы его ощущаем. Измерять мечтами – ошибка: в них мы касаемся времени, то медленно, то стремительно, в зависимости от чего-то происходящего, чьей природы я не знаю.
Порой я считаю, что все – обман, и что время – не более чем рама для него. В моих воспоминаниях о собственном прошлом времена размещены по неким уровням и плоскостям, где я пятнадцатилетний могу быть моложе ребенка, окруженного игрушками.
Мое сознание путается, когда я думаю об этом. Я предчувствую во всем этом ошибку; однако не знаю, в чем именно она заключается. Так, присутствуя при каком-то виде мошенничества, понимаешь, что ты обманут, но не можешь сообразить, какова техника обмана.
Поэтому мне на ум приходят нелепые размышления, которые я не могу отбросить, как полную чепуху. Я задумываюсь, например: если человек в быстро движущемся трамвае размышляет медленно, быстро или медленно он двигается? Одинаковы скорости, с которыми падают самоубийца в море и человек, потерявший равновесие на площади? Синхронны ли действия, протекающие в одни и те же промежутки времени: выкуривание одной сигареты, написание этого отрывка и мрачные размышления?
Мы считаем, что из двух колес на одной оси одно всегда будет находиться впереди, хотя бы на доли миллиметра. Микроскоп сделал бы это расстояние почти невероятным, невозможным, если бы оно не было реальным. И почему нет микроскопа, исправляющего плохое зрение? Это бесполезные рассуждения? Да, я прекрасно это знаю. Это иллюзия рассуждений? Допускаю. Однако что это такое, что измеряет нас без мерки и убивает нас, не будучи живым существом? И в моменты, когда я сомневаюсь в существовании времени, я воспринимаю его как человека, и мне хочется спать.
Пасьянс
Старые провинциальные тетушки тех, у кого они есть, вечерами, пока прислуга дремлет под нарастающий звук закипающего чайника… коротают время, раскладывая пасьянс при свете керосиновой лампы. Кто-то во мне тоскует об этом бесполезном покое, кто-то, занимающий мое место. Приносят чай, и старая колода карт складывается аккуратно в углу стола. Огромный буфет чернеет в тени сумеречной столовой. Излучающее сон лицо прислуги, медлительно торопливой, заканчивающей работу. Вижу это все с тоской и ностальгией, ни с чем не связанными. И против воли задумываюсь, каково состояние духа у тех, кто раскладывает пасьянс.
Не в широких полях и не в обширных садах вижу я приход весны. Наблюдаю его в жалких деревцах на небольшой площади. Зелень там – как подарок, и она весела, точно настоящая печаль.
Я люблю эти пустынные площади, вкрапленные меж тихих улиц, и движения на этих площадях еще меньше, чем на улицах. Это бесполезные прогалины, замершие среди отдаленного шума. В них есть что-то сельское.
Прохожу через них, поднимаюсь по улочкам и впадающим в них переулкам, потом снова спускаюсь на площадь. С другой стороны она кажется иной, но тот же покой позолотит ее внезапной тоской закатного солнца
Все бесполезно, и я это чувствую именно так. Сколько же я жил, если меня забыли, будто знали обо мне лишь понаслышке. Сколько я ни просуществую, я не запомнюсь, как давно ушедший и забытый.
Закат, полный легкой печали, медлит, расплывчатый, вокруг меня. Все стынет, не потому, что стало холоднее, но потому, что я вошел в узенькую улочку, и площади уже не видно.
Прохладное утро поднималось над холмистой окраиной с ее редкими домами. Легкий туман пробуждения лохмотьями висел на сонных склонах (холодной была только необходимость возвращаться к жизни). И вся эта медленная свежесть утра напоминала о радости, которой оно никогда не обладало.
Повозка медленно спускалась к дороге, ведущей к аллеям. По мере приближения к скоплению домов ощущение потери пронизывало утро. Человеческая реальность постепенно проявлялась.
В эти ранние утренние часы, когда тень уже исчезла, но еще не ушло ее легкое бремя, дух желает прибытия в древнюю солнечную гавань. Если бы этот миг остановился, как случается в торжественно-прекрасном месте или в спокойном лунном свете над рекой, он не принес бы радости. Это произошло бы, если бы он приобрел иной оттенок, оттенок подлинности.
Утренний туман истончился. Солнце решительно вторгалось во все. Звуки жизни звенели в окрестностях.
В такой час, как этот, становится ясно, что человеческая действительность, которой посвящена наша жизнь, достигнута не будет.
Острое чувствование делает нас равнодушными ко всему, кроме отношения к недостижимому – к ощущениям души, недостаточно для них зрелой, к людской деятельности, соответствующей глубоким чувствам, к страстям.
Деревья, выстроившиеся вдоль проспектов, ни от чего подобного не зависели.
Час закончился в городе, как склон на другом берегу реки, когда лодка касается пристани. Она несла этот склон с собою, приклеенный к ее бортам; он отклеился, когда борт ударился о камни. Мужчина в закатанных до колен штанах закрепил канат в скобе, и его привычное движение было решающим и окончательным. Он дал нашей душе возможность извлекать радость из тоски сомнений. Уличные мальчишки на пристани смотрели на нас как на людей, у которых причаливание не вызывает неподходящих чувств.
Жара, как невидимая одежда, вызывала желание снять ее с себя.
Я ощущал тревогу, когда тишина затаила дыхание.
Неожиданно бесконечный железный день раскололся. С руками, безвольно лежащими на гладко выструганном столе, я чувствовал себя униженным. Какой-то бездушный свет входил в души, и звук с ближайшей горы обрушивался с высоты, разрывая с шумом шелка бездны. Мое сердце остановилось. Горло сжалось. В сознании осталось только пятно краски на бумаге.
После того как жара закончилась и легкий дождь усилился и стал слышен, в воздухе разлилось спокойствие, какого не было при жаре, новый покой, морщивший ветерком поверхность воды. Так ясна была радость этого нежного дождя, без грозы и мрака, что даже не имевшие зонта или плаща смеялись, пробегая по блестящей от дождя улице.
В перерыве между приступами апатии я подошел к открытому окну конторы – открыть его заставила жара, дождь не заставил закрыть – и наблюдал с вниманием напряженным и безразличным то, что описал с точностью, еще не увидев воочию. Да, там была радость двух пошляков, весело болтавших под мелким дождем, идя, скорее, быстрым, чем поспешным шагом, в промытой ясности дня, укрытого облаками.
Но внезапно и неожиданно в поле моего зрения появился из-за угла мужчина, старый и несчастный, бедняк, но не жалкий, он торопливо двигался под утихавшим дождем. Он, хотя явно не имел определенной цели, испытывал нетерпение. Я внимательно посмотрел на него, не с тем небрежным вниманием, которое обнаруживает только предметы, а с сосредоточенным, обнаруживающим символы. Это был ничей символ; поэтому он торопился. Это был символ того, кто не был никем; поэтому он страдал. Он не принадлежал к тем, кто чувствует, улыбаясь, беспокойную радость дождя, но он был частью самого дождя – чем-то бессознательным, воспринимающим действительность.
Но не это, однако, я хотел сказать. Между моими наблюдениями за прохожим, которого я, впрочем, вскоре потерял из виду, и в связи с этими наблюдениями я причастился какого-то таинства невнимания, какого-то чрезвычайного состояния души. И в глубине моей бессвязности я, не слушая, слышу голоса молодых упаковщиков, там, в глубине конторы, где начинается склад, и вижу, не видя на столе возле окна во внутренний двор, бечевки для почтовых посылок с двойными скользящими узлами вокруг бумажных свертков из коричневой плотной бумаги. Видит увидевший.
Правило – это принадлежность жизни, какой нам со всеми другими людьми следует научиться. Есть вещи, важные в жизни, которым мы можем научиться вместе с шарлатанами и бандитами, есть философия, которой нас учат тупицы, есть уроки непреклонности и закона, приходящие случайно и преподаваемые людьми случайными. Все находится во всем.
Иногда в моменты самых ясных размышлений, когда ранними вечерами я брожу, наблюдая, по улицам, каждый человек приносит мне какое-то известие, каждый дом дарит какую-то новость, каждый плакат содержит какое-то объявление для меня.
Моя молчаливая прогулка – это продолжающаяся беседа, и все мы – люди, дома, камни, афиши и небеса – являемся одной большой и дружественной толпой, расталкивающей друг друга словами в великом шествии Судьбы.
Вчера я видел и слышал великого человека. Не признанного великим, но действительно таковым являющегося. Его заслуги ценятся, насколько такое вообще возможно в этом мире; люди знают о его заслугах; и он знает, что известен. Таким образом, у него есть все условия, чтобы я мог назвать его великим человеком. И я так его и называю.
Его внешность обнаруживает в нем усталого коммерсанта. В чертах его лица – утомление, но оно может происходить как от чрезмерных размышлений, так и от скудной жизни. Его жесты обычны. Во взгляде – определенная живость, привилегия тех, кто не близорук. Голос несколько глуховат, будто излучение души искажено. И излучаемая душа рассуждает о политике партий, о девальвации эскудо, о ничтожестве его коллег по величию.
Если бы я не знал, кто он, я не узнал бы его на этом эстампе. Я хорошо понимаю, что великие люди не зависят от идеалистического представления простых душ: великий поэт должен-де обладать внешностью Аполлона и темпераментом Наполеона; или, если снизить уровень требований, он должен быть человеком изысканным, с выразительным лицом. Я хорошо знаю, что это – человеческие заблуждения и чепуха. Но и не ожидая всего, чего-то все-таки ждешь, – по меньшей мере, разумных речей и хотя бы отпечатка величия.
Все это – эти человеческие разочарования – заставляет нас задумываться, есть ли зерно истинного в обывательском взгляде на вдохновение. Кажется, эта внешность коммерсанта и эта душа человека образованного подтачиваются изнутри чем-то, что для них является внешним, и говорит в них некий голос, обличая сказанную ложь.
Все это спекуляции, случайные и бесполезные. Мне жаль, что я ими занимаюсь. Они не уменьшают ценности человека; они не увеличивают выразительности его лица. Но в действительности ничто не изменяет ничего, и то, что мы говорим или делаем, касается только горных вершин, в чьих долинах все объято дремой.
Никто не понимает другого. Мы являемся, как сказал поэт,[24] островами в море жизни; меж нами лежит море, что нас определяет и разделяет. Сколько бы усилий ни прилагала одна душа, чтобы узнать, что́ есть душа чужая, она узнает лишь то, что ей сказало бы одно слово – бесформенная тень на почве его понимания.
Я люблю проявления чувств, потому что не знаю ничего из того, что они выражают. Я, точно учитель Сен-Мартена,[25] довольствуюсь тем, что мне дано. Я вижу, и это уже много. Кто способен понимать?
Возможно, скептицизм по отношению к понятному заставляет меня одинаково расценивать дерево и лицо, афишу и улыбку (все является естественным, все искусственно, все одинаково). Все, что я вижу, для меня только видимое, будь то высокое, сине-бело-зеленое небо наступающим утром или неестественная гримаса на лице человека, переживающего в присутствии свидетелей смерть любимого.
Куклы, иллюстрации, страницы, существующие и возвращающиеся… Мое сердце не принадлежит им, мое внимание к ним подобно мошке на листе бумаги.
Знаю ли я, по крайнем мере: чувствую ли, думаю ли, существую ли? Ничего: только объективная схема цветов, форм, выражений, все, что я отражаю как мутное бесполезное зеркало.
При сопоставлении с людьми простыми и реальными, с судьбами естественными и своевременными эти фигуры из кофейни я могу определить, только сравнив их с домовыми из наших снов – фигуры, что приходят не из кошмара, но после пробуждения оставляющие у нас привкус тошноты, отвращения, неудовольствия.
Вижу гениев и настоящих победителей, таких же ничтожных, идущих под парусами во всеобщей ночи, не зная, что́ режет гордый нос их судна в океане пустословия.
Поиск истины – субъективной истины убеждения, объективной истины действительности, социальной истины денег или власти – неизменно несет с собой понимание, что ее не существует. Большая удача в жизни ускользает только от тех, кто «купил случайно».
Искусство имеет ценность, потому что вырывает нас из «здесь».
Законным является любое нарушение морального закона, совершенное в соответствии с высшим моральным законом. Непростительно украсть с голоду один хлебец. Простительно для художника украсть десять тысяч эскудо, чтобы гарантировать себе жизнь и спокойствие на пару лет, если его работа имеет какую-то просветительскую цель; если же ее содержание чисто эстетическое, это не служит оправданием.
Мы не можем любить, сынок. Любовь – наиболее плотская из иллюзий. Пойми, любить – это обладать. Чем обладает тот, кто любит? Телом? Для такого обладания следовало бы превратить его материю в нашу, съесть его, включить его в нас… Но и эта невозможность была бы временной потому, что наше собственное тело изменяется, потому, что мы не обладаем и им, но лишь ощущением нашего тела, и потому, что любимое тело, которым мы обладали однажды, превратилось бы в наше, перестав быть другим, и любовь исчезла бы с исчезновением другого существа…
Обладаем душой? Я слышу в тишине: мы не обладаем ею. И даже и сама наша душа – не наша. Как, впрочем, можно обладать душой? Между одной душой и другой – пропасть.
Чем мы обладаем? чем обладаем? Что нас приводит к любви? Красота? И мы обладаем ею, любя? Самое хищное и властное обладание каким-то телом – что оно берет от него? Не тело, не душу, даже не красоту. Обладание прекрасным телом – это обладание не красотой, а плотью, состоящей из клеток и жира; поцелуй касается не красоты уст, но влажной плоти смертных слизистых губ; даже совокупление – это всего лишь контакт, близкий контакт с помощью трения, но не настоящее проникновение одного тела в другое… Чем обладаем мы? чем обладаем?
Нашими ощущениями, быть может? Является ли любовь способом обладать самими собой в собственных ощущениях? Является ли она способом воплощать мечту о своем существовании, и когда исчезнет чувство, останется ли, по крайней мере, память о нем, то есть подлинное обладание?..
Давайте же оставим даже это заблуждение. Мы не обладаем и нашими ощущениями. Не с помощью памяти… Память, в конце концов, это ощущение прошлого. И каждое ощущение – это иллюзия…
– Послушай меня, послушай меня наконец. Послушай меня и не смотри через открытое окно ни на противоположный берег реки, ни на сумерки… ни на свистящий поезд, режущий далекую неопределенность… – Слушай меня молча…
Мы не обладаем нашими ощущениями… Мы не обладаем собой в них…
(Наклоненная урна, сумерки проливают на нас… масло, где часы, лепестки роз плавают медлительно.)
Бесполезные пейзажи, как те, что опоясывают чайные китайские чашки. Чашки всегда такие маленькие… Куда бы они продолжались и что бы там… из фарфора, пейзаж, который не выходит за пределы чайной чашки?
Некоторые души способны чувствовать глубокую боль при виде пейзажа на китайском веере, не имеющего трех измерений.
…и хризантемы страдают в своей усталой жизни в садах, сумеречных оттого, что вмещают их.
…японское сластолюбие – иметь хотя бы два измерения.
…существование, расцвеченное тусклыми прозрачностями японских фигурок на чашках.
…какой-то стол, накрытый для скромного чая, – простой предлог для бесед, полностью бесплодных, – всегда был для меня чем-то, имеющим индивидуальность и душу. Образуется как организм, целиком синтетический, что не является чистой суммой частей, его составляющих.
В эту железную эпоху варваров лишь намеренно преувеличенный культ наших способностей мечтать, анализировать и притягивать может служить защитой нашей личности от разрушения или отождествления с другими.
Реальное в наших ощущениях – это определенно то, что не наше. Общее в ощущениях – это то, что формируется действительностью. Поэтому наша индивидуальность присутствует в наших ощущениях только в их неверной части. Радость, какую я бы испытал, если бы увидел однажды ярко-красное солнце. Оно было бы таким моим, это солнце, только моим!
Никогда не позволяю моим чувствам знать, что́ я хочу заставить их чувствовать… Я играю со своими ощущениями, как скучающая принцесса со своими котами, сообразительными и жестокими…
Внезапно во мне захлопывается дверь, за ощущениями, которые уходят, чтобы реализоваться. Грубо возвращаю с их пути духовные объекты, чтобы они не менялись под влиянием этих объектов.
Небольшие фразы без смысла, что вставляются в беседы, нами воображаемые; абсурдные утверждения, составленные из праха других, которые уже сами по себе ничего не значат…
– В вашем взгляде есть что-то от музыки, играющей на борту какого-то судна в таинственном лоне одной реки с лесами на противоположном берегу…
– Не говорите, что это из-за лунной ночи. Ненавижу лунные ночи…Кто-то действительно имеет обыкновение играть на чем-то в лунные ночи…
– Это также возможно… И очень жалобно, верно… Но ваш взгляд действительно выражает тоску о чем-то… ему недостает чувства, которое он выражает… Обнаруживаю в лживости его выражения множество иллюзий, меня одолевающих…
– Поверьте, иногда я чувствую то, о чем говорю, и даже, несмотря на то, что я женщина, то, что говорю взглядом…
– Не жестоки ли вы к себе? Мы действительно чувствуем то, что нам кажется, что чувствуем? Эта наша беседа, к примеру, похожа на действительность? Нет. В каком-нибудь романе была бы недопустима.
– С большим основанием… Я не имею абсолютной уверенности, что сейчас разговариваю с вами, видите ли… Несмотря на то что я женщина, я сформировала в себе обязанность быть гравюрой из книги впечатлений одного сумасшедшего рисовальщика… Во мне есть детали, преувеличенно четкие… Хорошо знаю, что это создает впечатление реальности, чрезмерной и несколько неестественной… Полагаю, что единственно достойный современной женщины идеал – это быть гравюрой. Когда я была ребенком, я хотела быть королевой любой масти в старой колоде карт, что хранилась в моем доме… Считала эту потребность в геральдике сострадательной… Но пока мы дети, нам свойственны подобные моральные стремления… Только потом, в возрасте, когда все наши стремления аморальны, мы думаем об этом всерьез…
– Я, никогда не говоря с детьми, верю в присущий им инстинкт художника… Знаете, во время нашей беседы, именно сейчас, я хочу постичь сокровенный смысл вещей, о которых вы мне говорили… Меня можно простить?
– Не за все… Никогда не следует раскрывать чувства, которые притворно выражают другие. Они всегда слишком личные… Поверьте, что мне действительно больно делать вам эти признания, ведь, хотя все они лживы, но представляют настоящие лоскутья моей бедной души…В глубине, поверьте, самое горестное для нас – это то, что в действительности нас нет и наши самые большие трагедии связаны с нашим представлением о нас.
– Это так искренне… Зачем говорить об этом? Вы меня уязвили. Зачем лишать нашу беседу ее нереальности? …Ведь это почти возможная беседа за чайным столом между прекрасной женщиной и выдумщиком ощущений.
– Да, да… Теперь моя очередь просить прощения… Но, видите ли, я была невнимательна и действительно не заметила, что говорила об объективных вещах… Давайте изменим тему… Какой вечер!… Не сердитесь…Посмотрите, ведь эта моя фраза не имеет абсолютно никакого смысла…
– Не просите у меня прощения, не обращайте внимания на то, о чем мы говорим… Хорошая беседа должна быть монологом двоих… В ее конце мы должны сомневаться, на самом деле мы беседовали с кем-то или целиком выдумали всю беседу… Лучшие и самые личные беседы и особенно менее назидательные – это те, что романисты предлагают в своих повестях – между двумя персонажами… Например…
– Ради бога! Не надо приводить мне примеры… Это делается только в грамматиках; не знаю, помните ли вы, что даже учителя никогда их не читают.
– Читали вы когда-нибудь грамматику?
– Я – никогда. Я всегда испытывала глубокое отвращение к правилам речи… Единственное, что не вызывало у меня отторжения, это исключения и плеоназмы… Избегать правил и говорить бесполезные вещи – вот вкратце вся существенная современная установка… Разве это не так?..
– Безусловно… То, что отталкивает меня в грамматике (вы уже заметили восхитительную невозможность для нас говорить на эту тему?), то, что наиболее отталкивает меня, – это глаголы… Они – те слова, что придают смысл фразам… Фраза хороша тогда, когда ее можно толковать в различных смыслах… Глаголы!.. Один мой друг, покончивший с собою, – каждый раз, когда участвую в более или менее длительной беседе, довожу какого-то друга до самоубийства – намеревался посвятить всю свою жизнь разрушению глаголов…
– А почему он покончил с собой?
– Подождите, я еще не знаю… Он стремился открыть и закрепить способ не завершать фразы так, чтобы это было незаметно… Он обычно говорил мне, что искал микроб смысла… Он покончил с собой, потому что однажды заметил безмерную ответственность, которую взял на себя… Важность проблемы покончила с его мозгом… Револьвер в руках и…
– Ах, нет… Ни в коем случае… Вы не видите, что это не мог быть револьвер?.. Такой человек никогда не выстрелит себе в голову… Сеньор неважно понимает друзей, так как он их никогда не имел… Это большой недостаток?.. Моя лучшая подруга – одна прелестная юноша, что я выдумала…
– Между вами все хорошо?
– Настолько, насколько это возможно… Но эта девушка, не вообразите […]
Два создания за чайным столом наверняка не беседовали таким образом. Но оба были такими опрятными и хорошо одетыми, что хотелось, чтобы они беседовали именно так… Поэтому я и записал эту беседу, якобы состоявшуюся между ними… Их позы, сдержанные жесты, их детские взгляды и улыбки ясно говорили о том, на что я притворно намекаю… Когда каждый из них вступит в брак – имея столько общего, они просто не могли пожениться, – они, случайно увидев эти страницы, признали бы, я верю в это, то, чего никогда не говорили, и были бы мне благодарны за истолкование не только того, кем они являются, но и кем они никогда не хотели быть и не знали, что были…
Они, если бы прочли меня в будущем, поверили бы, что именно это они на самом деле говорили. В подразумеваемой беседе, когда они слышали один другого, недоставало стольких вещей, что… – отсутствовал аромат часа, благоухание чая, символическая веточка… когда она была у нее на груди… Обо всем этом, что составило часть их беседы, они позабыли сказать… Но все это там было, и то, что я делаю, – более чем литературный труд, труд историка. Восстанавливаю, дополняя… и это послужит мне оправданием в том, что я так неизменно и пристально слушал, то, чего они не говорили и не хотели сказать.
Апофеоз абсурда
Говорю всерьез и печально; предмет разговора не располагает к радости, потому что радости мечтаний противоречивы и огорчительны и оттого имеют таинственную и особую привлекательность.
Порой наблюдаю беспристрастно в себе самом вещи, восхитительные и нелепые, которых я никак не могу видеть, так как они нелогичны для зрения, – мосты, ведущие ниоткуда в никуда, дороги без начала и конца, перевернутые виды… – абсурд, нелогичность, противоречия, все, что нас отключает и отдаляет от реального и от его уродливой свиты – практических рассуждений и человеческих чувств и желаний, связанных с действиями полезными и выгодными. Абсурд спасает от гнета скуки то состояние души, что начинается, когда возникает сладкая ярость мечты.
И я овладеваю, сам не знаю, каким таинственным способом ясновидения этих нелепостей, – не умею объяснить, но я вижу поразительные вещи в видениях.
«Онелепим» жизнь – с востока до запада.
Мышление, как бы я ни желал препятствовать этому, превращается для меня, поздно или рано, в мечтание. Там, где я хотел привести аргументы или заставить гладко течь мои рассуждения, возникают фразы, вначале выразительные, диктуемые самим мышлением, затем вспомогательные под конец – тени этих вспомогательных фраз. Начинаю думать о существовании Бога и обнаруживаю, что говорю о далеких парках, о феодальных кортежах, о реках, текущих, полунемых, под окнами, из которых я выглядываю; обнаруживаю, что говорю о них, потому что, оказывается, вижу их, чувствую их, и есть краткий момент, когда моего лица касается ветерок, поднимающийся с поверхности воображаемой реки.
Мне нравится думать, потому что знаю, что недолгое время спустя я думать не буду. Это как пункт отправления, зачарованный размышлением, – железная холодная платформа, откуда отправляются на великий Юг. Порой я стремлюсь обдумать какую-то серьезную проблему, метафизическую или даже социальную, так как знаю, что хриплый голос мышления – это хвост павлина, который я распущу, если забуду, что мыслю, и что судьба человечества – это некая дверь несуществующей каменной стены, которую тем не менее я могу открыть и войти в сад, который меня очарует.
Благословенной будь та ирония судеб, что дает бедным жизнью мечту в качестве мышления, а бедным мечтой – или жизнь в качестве мышления, или мышление в качестве жизни.
Но даже мечтание в мыслительной цепи оборачивается для меня усталостью. И тогда отрываю взор от мечты, иду к окну и переношу свои мечтания на улицы и крыши. И есть в созерцании, рассеянном и глубоком, скоплений отдельных черепиц в черепичной кладке то, что мне поистине освобождает душу, и я не думаю, не мечтаю, не вижу, не нуждаюсь; тогда я действительно созерцаю абстракцию Природы, различие между человеком и Богом.
Жизнь – это экспериментальное путешествие, совершаемое против воли. Это некое странствие духа, но с участием материи, а поскольку странником является дух, жизнь протекает именно в нем. Есть души созерцательные, живущие напряженно, взволнованно, и те, чье существование ограничено только внешними проявлениями. Результат – все. То, что чувствуется, проживается. От мечты устают так же, как от физического труда. Никто не живет так напряженно, как тот, кто много думает.
Стоящий в углу зала танцует со всеми танцовщиками. Видит все и, тем самым, все проживает. Прикосновение к телу значит столько же, сколько мечта и даже простое воспоминание о нем. Видя танцующих, я танцую сам. Говорю, как английский поэт,[26] разглядевший вдали трех отдыхающих жниц: «Четвертый – жнет, и это я».
Сейчас я говорю об огромной усталости, внезапно опустившейся на меня сегодня, хотя, кажется, совершенно без причины. Я полон не только усталости, но и горечи, и горечь эта тоже непонятна мне. У меня – такая тоска, что подступают слезы, не те, которыми плачут, но которые сдерживают, слезы от болезни души, а не от физической боли.
Я столько пережил, не переживая этого! Столько передумал, не думая! Я утомлен тем, чего никогда не имел и не буду иметь, скучаю из-за существования богов. Несу с собою раны, полученные в сражениях, которых избежал. Мое тело, мышцы ноют от усилий, которых я и не думал совершать.
Тусклый, немой, несуществующий… Небо наверху – из какого-то мертвого, несостоявшегося лета. Смотрю на него так, будто его там нет. Вижу во сне то, о чем думаю, лежу во время ходьбы, страдаю, ничего не чувствуя. Моя огромная ностальгия – от ничего, она сама – ничто, как высокое небо, которого я не вижу и на которое смотрю безлично.
В ясном совершенстве дня застаивается воздух, полный солнцем. Это не перемена атмосферного давления перед будущей грозой, не плохое самочувствие, не тусклая неопределенность неба, такого голубого. Это оцепенение чувств от намека на бездействие, птичье перо, легко касающееся лица, усыпляющее. Это – зрелое лето, но еще лето. Сейчас поля привлекательны даже для того, кто не любит природу.
Если бы я был другим, думаю, этот день был бы для меня счастливым, так я ощущал бы его, не думая о нем. Я бы заканчивал с радостью предвосхищения мою обычную работу – ту, что обычно гнетет меня своей монотонностью. Вместе с друзьями мы наняли бы экипаж до Бенфики. Мы поужинали бы на закате дня среди огородов. Радость, испытанная нами, была бы частью природы, это признавал бы любой, встретившийся нам на пути.
Но поскольку я таков, каков есть, то понемногу воображаю себя этим другим. Итак, он-я под деревом или в винограднике, будет есть вдвое больше, чем ем обычно, будет пить вдвое больше, чем отваживаюсь обычно, будет смеяться вдвое больше, чем смеюсь обычно. Потом он, сейчас я. Да, на миг я стал другим: видел, проживал в другом эту жалкую и человеческую радость животного существования. Великий день, что заставил меня мечтать таким образом! Он – весь синий и прекрасный в вышине, как моя эфемерная мечта – быть здоровым коммивояжером, отдыхающим после рабочего дня.
Поле – это то, где мы не находимся. Там, только там есть настоящие тени и настоящий лес.
Жизнь – это колебание между неким восклицанием и неким вопросом. Сомнение есть конечный пункт.
Чудо – это небрежность Бога или, скорее, небрежность, которую мы ему приписываем, выдумывая чудо.
Боги – это воплощения, какими мы никогда не сможем быть.
Усталость от всех гипотез…
Легкое опьянение от незначительной лихорадки, когда чувствуешь дискомфорт, вялый и глубокий, и холод, пробирающий больные кости, и жжение в глазах, и боль в пульсирующих висках, и этого дискомфорта я жду, как раб – любимого тирана. Дай мне ту усталую пассивность, где я смутно различаю видения, сворачиваю за углы идей и чувствую, что распадаюсь между всплесками чувств.
Думать, чувствовать, хотеть, все это спуталось в клубок. Убеждения, ощущения, воображаемое, злободневное перемешано в беспорядке, как содержимое опрокинутых ящиков.
Ощущение выздоровления, особенно если болезнь затрагивала нервы, похоже на грустную радость. Оно как осень или, скорее, начало весны, когда и небо, и воздух говорят об осени, но нигде не видно опадающих листьев.
Усталость – хорошая знакомая, а то, что хорошо знакомо, немного болезненно. Чувствуем себя несколько в стороне от жизни, хотя и в ее пределах, будто на балконе дома жизни. Мы созерцательны без размышлений, ощущаем без определенного чувства. В наших желаниях нет горячности, ведь в них нет особой необходимости.
Бывает так, что определенные воспоминания, определенные надежды, определенные смутные желания медленно поднимаются к рампе сознания, будто скитающиеся странники, видные с вершины горы. Воспоминания о вещах ничтожных, надежды на то, чего просто нет, желания, никогда не имевшие силы. Когда день приспосабливается к этим ощущениям, как сегодня, когда синева летнего неба выглядит пасмурной, а налетающий ветер становится почти холодным, тогда это состояние души подчеркивает наши мысли, чувства, переживания. Воспоминания, надежды, желания не делаются более ясными, но чувствуются сильнее, и их нечеткая совокупность давит на сердце.
В такие моменты во мне есть что-то далекое. Фактически я нахожусь на балконе жизни, не полностью принадлежа ей. Нахожусь над ней и вижу ее оттуда, откуда вижу. Она лежит передо мною, спускаясь по горным террасам к дымкам над белыми деревенскими домиками в долине. Закрыв глаза, я продолжаю видеть, потому что не вижу. Открывая их, я больше не вижу ничего, потому что не видел. Весь я – какая-то смутная ностальгия, тоска не по прошлому, не по будущему: я весь – ностальгия по настоящему, безымянная, пространная и непонятная.
Те, кто классифицирует вещи, те мужи науки, чья ученость заключается только в умении классифицировать, вообще не знают, что классифицируемое бесконечно и поэтому классифицировать невозможно. Но больше всего удивляет меня то, что они не ведают о существовании неизвестных вещей, которые тоже подлежали бы классификации, вещей, относящихся к душе и к сознанию и находящихся в промежутках познания.
Может быть, потому, что я думаю слишком много или слишком много мечтаю, я не отличаю существующей реальности от мечты – тоже реальности, но не существующей. И поэтому я вставляю в свои размышления о небе и о земле то, что не сияет под солнцем, по чему не ступают ногами – текучие чудеса воображения.
Озаряю себя предполагаемыми закатами, но предполагаемое живо в предположении. Радую себя воображаемыми бризами, но воображаемое живет, когда воображается. Моя душа полнится различными гипотезами, но эти гипотезы имеют собственные души и поэтому отдают их мне.
Нет иных проблем, кроме той, что есть в действительности, а эта – жива и неразрешима. Что я знаю о различии между каким-то деревом и какой-то мечтой? Могу коснуться дерева; знаю, что у меня есть мечта. Что это на самом деле?
Что это? Есть я, кто в одиночестве, в пустой конторе, может жить воображением без ущерба для разума. Я не страдаю, прерывая размышления, отходя от конторок и стеллажей для посылок, где сейчас только бумага и мотки бечевки. Я сейчас сижу не на моей высокой скамье, но опустил руки на круглые подлокотники кресла, принадлежащего Морейре, – словно продвинулся по службе. Может быть, из-за этого я впал в рассеянность. Жаркие дни навевают сон; вялый, я дремлю без дремоты. И поэтому думаю таким образом.
Улица меня утомляет, нет, пожалуй, не утомляет: жизнь, по сути, есть улица. Напротив справа находится таверна, и мастерская по изготовлению тары тоже напротив, левее; и посередине сапожник стучит молотком, сидя перед воротами конторы «Африканской компании». На третьем этаже небольшая гостиница, говорят, это притон, но ведь такова вся наша жизнь.
Утомляет ли меня улица? Только когда думаю. Когда я смотрю на улицу или ее чувствую, я не думаю: работаю, полный внутреннего покоя в своем углу. У меня нет души, ее нет ни у кого – все является работой во плоти. Далеко, там, где течет жизнь миллионеров, тоже есть работа и тоже нет души. Как бы я хотел, чтобы от меня осталась одна фраза из тех, о которых говорят: «Хорошо сделано!»
Я всегда буду, уверен в этом, помощником счетовода на товарном складе. Я желаю с жестокой искренностью, никогда не продвигаться дальше счетовода.
Выпадает много – не знаю, дней ли, месяцев ли, – когда я не записываю никаких впечатлений; я не думаю, следовательно, не существую. Я забыл, кто я; не умею писать, потому что не умею быть. Какая-то неестественная дремота сделала меня другим. Знать, что не помню о себе, значит проснуться.
Часть своей жизни я находился в подобии обморока. Возвращаюсь в себя, не помня, кто я есть, память о том, кем я был, прерывиста. Во мне живет смутное представление о каком-то провале, ничтожное усилие одной части памяти, желающей найти другую часть. Не могу восстановить себя. Если я и жил, то забыл, что знал об этом.
Это не был первый день осени – первый холодный, а не свежий, озаряющий умершее лето слабым светом, – который принес бы мне ощущение мертвого намерения или мнимого желания. Это не был неясный след бесполезной памяти в интерлюдии утраченного. Нет, это была горестная скука от того, что помнишь о том, что не вспоминается, уныние от того, что утоплено сознанием в водорослях и тростниках неизвестного водоема.
Я знаю, что день, прозрачный и неподвижный, увенчан неглубокой голубизной неба. Знаю, что солнце не прежнее, другое, меньше золотит стены и окна. Знаю, что нет ветра или бриза, который бы я помнил, но свежесть дремлет тем не менее над безграничным городом. Знаю все это, не думая и не веря, не сплю, только в воспоминаниях и не тоскую, только в своем непокое.
Я выздоравливаю, бесплодный, от болезни, которой у меня не было. Я готов к пробуждению, на которое не отваживаюсь. Какой сон не позволил мне уснуть? Какая ласка замкнула мои уста? Как хорошо быть другим с этим холодным глотком крепкой весны! Как хорошо думать об этом в то время, как далекое воспоминание колеблется зеленоватым тростником!
Сколько раз, вспоминая, кем я не был, я думаю, что я молод и забываю! Но были другие пейзажи, которых я не видел никогда; были новые, но они не были те, что я действительно видел. Разве это важно? Свежесть дня идет от самого солнца, а темный тростник спит на несуществующем закате, который я тем не менее вижу.
Никто еще не определил, что такое скука на языке, понятном тому, кто ее не испытывал. То, что некоторые считают скукой, является лишь отвращением; то, что другие ею называют, – простое недомогание; некоторые зовут скукой усталость. Но скука, хотя она и есть составляющая и усталости, и недомогания, и отвращения, присутствует в них, как вода присутствует в водороде и кислороде, из которых она состоит. Она включает их, но им не уподобляется.
Если одни, таким образом, вносят в скуку смысл ограниченный и неполный, то другие присваивают ей значение, что определенным образом ее превосходит, называют скукой внутреннее духовное неудовольствие от разнообразия и неопределенности мира. То, что заставляет открыть рот, есть отвращение; то, что заставляет изменить положение, недомогание; то, что заставляет не шевелиться, усталость, – ничто из этого не является скукой; не является ею и глубокое ощущение пустоты вещей, благодаря которому незавершенное стремление освобождается, тоска разочарования возрастает, и формируется в душе то семя, от которого рождается мистик или святой.
Скука – это поистине отвращение к миру, недомогание оттого, что пребываешь в живых, усталость оттого, что живется; скука – это на самом деле телесное ощущение пространной пустоты вещей. Но она – больше этого, в нее включается отвращение к другим мирам, есть они или нет; недомогание оттого, что должен жить, хотя бы и другим, хотя бы и другим образом, хотя бы и в другом мире; усталость не только от вчера и от сегодня, но и от завтра тоже, от вечности, если она есть, и от небытия, если именно оно и есть вечность. Не только от пустоты вещей и существ болит душа, охваченная скукой: это еще и пустота, вакуум чего-то, что не является ни вещью, ни существом, это пустота самой души.
Скука – это физическое ощущение хаоса и того, что хаос вездесущ. Испытывающий отвращение, недомогающий, усталый чувствуют себя заключенными в какой-то тесной камере. Недовольный ограниченностью жизни чувствует себя закованным в кандалы в большой камере. Но охваченный скукой чувствует себя заключенным в грубой свободе в камере бесконечности. На испытывающего отвращение, недомогающего или устающего могут обрушиться стены камеры и похоронить его. С того, кто недоволен незначительностью мира, могут упасть наручники, и он убежит. Но стены камеры бесконечности не могут нас похоронить, потому что не существуют; даже наручники не могут заставить нас жить из-за боли, причиняемой ими, ведь никто их на нас не надевал.
Именно это я ощущаю перед спокойной красотой этого вечера, который заканчивается вечно. Смотрю на небо, высокое и чистое, где розовые тени облаков – это неощутимый пух жизни, крылатой и далекой. Опускаю глаза к реке, где трепещет вода того голубого цвета, что кажется отражением более глубокого неба. Снова поднимаю взгляд к небу, где что-то стынет, ледяно колеблясь в невидимом воздухе возле матово-белого, словно сама скука в ее материальном воплощении, какая-то невозможность быть тем, что есть, неосязаемым телом тоски и отчаяния.
Но что – что есть в высоком воздухе, кроме самого этого высокого воздуха, не являющегося ничем? что, есть на небе, кроме не принадлежащего ему цвета? что есть в этих лохмотьях, меньших, чем облака, кроме неких отражений солнечного света? Что есть во всем этом, кроме меня самого? Ах, но скука – она в этом, она только в этом. Во всем этом – небе, земле, мире – во всем этом нет ничего, кроме меня самого!
Я достиг той точки, в которой скука – это некий человек, воплощенный вымысел моей внутренней жизни.
Внешний мир существует, как актер на подмостках: он там есть, но он – кто-то другой.
…и все это – какая-то неизлечимая болезнь.
Лень чувствовать, огорчение оттого, что вынужден ничего не уметь делать, неспособность действовать, как […]
Туман или дым? Поднимался он с земли или спускался с небес? Неизвестно: это была, скорее, болезнь воздуха, чем схождение или эманация чего-либо. Порой казалось, что это дефект моего зрения, а не явление природы.
Что бы это ни было, но все вокруг пронизывала какая-то тусклая тревога, сплетенная из забвения и утончения. Мнилось, тишина мутного солнца присвоила себе какое-то несовершенное тело. Происходило нечто, со всех сторон неслось некое предчувствие, видимость чем-то заволакивалась.
Было трудно сказать, облака на небе или туман. Тусклое оцепенение расцвечивалось то здесь, то там, пепельный тон разбавлялся желтизной, становясь иногда розовым или голубым, и нельзя было различить, небо это или другая синева, его скрывавшая.
Не было ничего, ни определенного, ни безграничного. Поэтому хотелось назвать дымом туман, ведь он не был похож на туман, или спросить, было ли это туманом или дымом из-за невозможности разобрать, чем же это было. Сама температура воздуха усиливала сомнение. Это не была ни жара, ни холод, ни свежесть; казалось, что температура воздуха слагалась из элементов, извлеченных из чего-то другого, а не из тепла. Можно было бы сказать, действительно, что какой-то туман, холодный на взгляд, осязанию представлялся горячим, будто осязание и зрение были бы двумя чувствительными способами одного и того же ощущения.
Очертания деревьев и углы зданий лишились изрезанности, граней, как бывает при настоящем тумане или настоящем дыме, изменчивом и наполовину сумрачном. Каждая вещь словно бы отбрасывала от себя тень пасмурного дня без света, который свидетельствовал бы, что это действительно тень.
Как определить это чувство? Его невозможно ощутить, это сложные переживания, оцепенение пробудившегося существования, очищение души, чтобы слышать бесполезное откровение.
Даже желание уснуть исчезает из-за того, что простая зевота похожа на усилие. Даже то, что я прекратил смотреть, причиняет боль глазам. И в бесцветном душевном отречении только далекие внешние шумы напоминают о невозможном мире, что еще существует.
Ах, иной мир, иные вещи, иная душа, что воспринимает их, иное мышление, познающее эту душу! Все и даже скука, но только не это затмение души и окружающего, не эта синеющая беззащитность всеобщей неопределенности!
Мы блуждали, вместе и по-одному, по кривым тропинкам леса. Наши шаги странно и чуждо сливались, звучали в унисон среди мягкого шелеста листьев, устилавших желтым и зеленым шероховатую поверхность земли. Но в то же время мы шли, также и разделенные, потому что были двумя мышлениями и не было меж нами общего, кроме того, чем мы не были, и что шагало в унисон по той же шуршащей земле.
Уже наступала осень, и к шороху листьев, которые мы топтали, присоединялся постоянный, сопровождаемый ветром шум падающих листьев. Не было ничего, кроме леса, который все укрывал. Но пространства было довольно для тех, у кого, как и у нас, была в жизни лишь эта ходьба по умирающей земле. Был – полагаю – конец какого-то дня или любого дня, а возможно, всех дней осени из осеней в лесу, символическом и реальном.
Какие дома, какие обязанности, какую любовь мы оставили – мы сами не умели бы этого сказать. Мы странствовали меж давно забытым и тем, чего никогда не знали, рыцари возле покинутого идеала. Но в этом, как и в постоянном шорохе листьев и в резком шуме ветра, лежали причины нашего пути или нашего прихода, поэтому, не зная ни дороги, ни цели, мы не знали, вышли мы или дошли. И вокруг нас шум сметаемых листьев усыплял грусть леса.
Ни один из нас не хотел знать другого и не мог продолжить путь без него. Компания, которая из нас составилась, напоминала сон, что привиделся каждому из нас. Звучащие в унисон шаги помогали каждому думать о своем, а отдельные шаги словно пробуждали нас. Лес весь состоял из несуществующих прогалин, будто был ненастоящим или вот-вот бы заканчивался, но не заканчивались при этом ни ложь, ни лес. Наши шаги звучали постоянно, и, ступая по листьям, мы слышали шум листьев, осыпающихся в этом лесу, что стал всем, в лесу, подобном вселенной.
Кем мы были? Были мы двумя людьми или двумя формами одного? Мы этого не знали и не спрашивали об этом. Должно быть, еще не зашло солнце, потому что в лесу не царила ночь. Должен был появиться некий предел, поэтому мы продолжали путь. Какой-то мир должен был существовать, коль скоро существовал этот лес. Мы, однако, были чужими бывшему или возможному, путники, ступающие бесконечно, по мертвым листьям, безымянные слушатели листопада. Ничего больше. Шорох, резкий или нежный, от загадочного ветра, шепот листьев то ли в вышине, то ли под ногами, неизвестный след, какое-то сомнение, несбывшееся намерение, иллюзия, которой и не было, – лес, двое путников и я, не знающий, был ли я одним из двух, обоими или ни одним и присутствовал ли, не чая ее конца, при трагедии, – не иметь более ничего, кроме осени и леса, резкого ветра и листьев, упавших или опадающих. И словно на самом деле светило солнце, и царил день, все виделось ясно в шумной тишине леса.
Я полагаю, что состояние моего духа, те печальные всплески искусственной странности в тоскующей душе, изливающиеся в неожиданных словах, – все это можно определить как декадентство. Чувствую, что я таков, и я абсурден. Поэтому ищу для себя, следуя заветам классиков, некую роль, чтобы выразить математическими построениями замысловатые ощущения моей души. Дойдя в своих писаниях до определенного уровня раздумий, я уже не понимаю, что в центре моего внимания – то ли нечеткие переживания, которые пытаюсь описать точно неизвестные ковры, то ли слова, за которыми, описывая описанное, укрываюсь, ухожу со своего пути и вижу другие вещи. Во мне формируются ассоциации идей, образов, слов, сияющие и рассеянные, и я так же рассказываю о том, что действительно чувствую, как и о том, что чувствую лишь предположительно. Душа подсказывает мне, что образы, каким она позволяет в нее запасть, украшают для меня цветами землю; звук грубого слова или ритм случайной фразы уводят меня от уже определенной темы и освобождают от необходимости думать и говорить, – но я ничего этого не замечаю. И все то, что, повторяясь, должно было бы вызвать у меня ощущение ничтожества, недостатка, страдания, дает мне золотые крылья. Поскольку я говорю об образах, я должен был бы осудить обман, рождающий их: поскольку я возвышаю себя над самим собой, чтобы отвергнуть то, чего не чувствую, я наоборот начинаю чувствовать; поскольку потеряна и самая вера в усилие, мне хочется оставаться заблудшим: это кроткое слово, прилагательное, пространственное и умеренное, заставляет меня ясно, будто при свете солнца, увидеть перед собой страницу, исписанную в полусне, и буквы, начертанные моей ручкой, – нелепую карту с магическими символами. Я откладываю себя, как ручку, и черчу на обложке, далекий, бессвязный, посредник, суккуб, последний потерпевший кораблекрушение, тонущий в виду чудесных островов, в тех самых приливах, позлащенных фиалками, о которых на каком-то ложе когда-то мечтал.
Определение, в котором наиболее сегодня нуждается мой дух, – создатель безразличий. Сильнее всего желал бы я, чтобы мои действия в жизни научили других чувствовать более для себя самих и менее подчиняться закону коллективности. Обучать такому духовному обеззараживанию, благодаря которому не заболеваешь вульгарностью, мне кажется высшим назначением духовного воспитателя, каким я хотел бы быть. Пусть мои читатели обучаются – по мере сил и возможностей – сохранять независимость от чужих взглядов и мнений. Такая судьба стала бы наградой схоластическому оцепенению моей жизни.
Невозможность действовать всегда была во мне болезнью метафизического происхождения. Любое действие оказывалось для моего восприятия вещей неким потрясением, неким разделением во внешнем мире; движение неизменно производило на меня впечатление, изменявшего звезды и самые небеса. Поэтому метафизическое значение даже самого незначительного действия рано породило во мне изумление. Я приобрел трансцендентальную скромность, которая, зафиксировавшись в моем сознании, запрещает мне иметь отношения слишком явные с ощутимым миром.
В соответствии со своими мыслями и наблюдениями, я замечаю, что ни в чем, по-настоящему важном в жизни или полезным для нее, люди не знают истины и не пришли к согласию. Наиболее точная наука – математика, что живет в уединении среди собственных правил и законов; она служит таким образом толкованию других наук, но объясняет лишь то, что они открывают, не помогая им в открытиях. В других науках не все так ясно, и можно принять только то, что не имеет никакого веса для высших целей жизни. Физика хорошо знает, каков коэффициент полезного действия того или иного механизма; но не знает, какова истинная механика строения мира. И чем выше поднимаемся мы к тому, что желали бы знать, тем ниже спускаемся к уже познанному. Метафизика, что могла бы служить поводырем, потому что она, и только она, направлена на высшие цели истины и жизни, не является научной теорией, а только лишь кучей кирпичей, из которых те или иные руки возводят непропорциональные здания, не скрепляя кирпичей штукатуркой.
Я замечаю также, что между жизнью людей и животных не имеется другого различия, чем способ ошибаться или чего-то не знать. Животные не знают, что делают: рождаются, растут, живут, умирают без размышления или будущего. Сколько людей, однако, живет иначе? Все мы спим, и различие состоит только в наших сновидениях и в степени и качестве мечтаний. Может быть, смерть пробудит нас, но утверждать это могут разве что вера (верящий имеет), надежда (желающий обладает) и милосердие (дающий получает).
Идет дождь в этот холодный вечер печальной зимы, столь же монотонно, как шел с первого дня этого мира. Идет дождь, и мои чувства, будто потревоженные им, жестче воспринимают землю города, где течет вода, ничего не питающая, ничего не омывающая, никого не радующая. Идет дождь, и я внезапно ощущаю страшное удушье оттого, что я – животное, не ведающее, что оно такое, мечтающее с помощью мышления и чувств, укрытое, точно в тесной хижине, в какой-то пространственной сфере существования, довольное теплом, как вечной истиной.
…ничтожный, как цели этой жизни, какой мы живем, пусть бы мы и не хотели таких целей.
Жизнь большинства, если не всей совокупности людей, ничтожна во всех ее радостях и почти во всех болях, кроме тех, что ведут к смерти, потому что в этих участвует Таинство.
Слышу процеженные через мою невнимательность шумы, которые поднимаются, текучие и медлительные, точно волны: едва слышные, словно из другого мира, выкрики торговцев, что продают дары природы – овощи и зелень или цивилизации – билеты лотереи; грохот колес – телег и быстрых рессорных экипажей, упруго подпрыгивающих на неровностях дороги; автомобилей, более слышных на поворотах; вот вытряхивают что-то из какого-то окна; свист уличного мальчишки; хохот с верхнего этажа; металлический скрежет трамвая с соседней улицы. Восхождения, снижения, молчания во всей своей пестроте; хромые тормоза транспорта; чьи-то шаги; начала, середины и окончания разговоров – и все это существует для меня, и мне снится, что я думаю об этом, точно камень среди травы, выжидая чего-то и где-то.
После доносятся изнутри дома звуки, сливающиеся с другими: шаги, тарелки, шарканье метлы, прерванный напев; вечер, балкон; раздражение оттого, что на столе чего-то нет; просьба о сигаретах, которые лежат на комоде; все это – действительность, действительность, подавляющая сексуальное влечение, что не входит в мое воображение.
Легкие шаги прислуги, тапочки, сплетенные из красных и черных косичек, я их вижу, будто в дремоте; уверенные, твердые шаги в сапогах – это сын хозяина выходит и громко прощается, удар дверью обрывает эхо «свидания» вслед за «до скорого»; покой, будто мир заканчивается в этой комнате на верхнем этаже; шум посуды, уносимой в мойку; шум текущей воды; «тогда я тебе не сказал, что»… и свистящее молчание реки.
Но я дремлю, сытый мечтатель. Пока никакой раздражитель не воздействует на мои чувства. Как необычно – думать против воли, что, спроси меня кто-нибудь, я ответил бы: лучше короткая жизнь, чем эти тягучие минуты, эта недействительность размышлений, чувств, действий, это ощущение, как от заката, рожденного рассеянным желанием. И еще отмечаю, почти не думая, что большинство, если не все, вне зависимости от положения и характера живут в том же дремотном неведении конечных целей, с той же несформулированностью намерений, с тем же ощущением жизни. Всегда, когда я вижу кота на солнышке, я вспоминаю человечество. Всегда, когда вижу спящих, вспоминаю, что все – сон. Всегда, если кто-то называет себя мечтателем, задаюсь вопросом, думал ли он, что никогда не был никем другим. Шум улицы усиливается, будто открылась какая-то дверь, и заливается дверной звонок.
Что это было? Ничего, потому что дверь сразу закрылась. Шаги стихли в конце коридора. Моющиеся тарелки вздымают голос воды […] Груженый фургон проходит, потрясая основы, и, так как все заканчивается, я отрываюсь от размышлений.
Вот так я мечтаю, порой погружаясь в размышления, ведь они – всего лишь разновидность мечтания.
Принц из прекраснейших часов, некогда я был твоей принцессой, и мы любили друг друга какой-то другой любовью, память о которой болит во мне.
После того как последние дожди упали с небес на земле – промытое небо, влажная и блестящая земля, – ясность жизни, что вместе с голубизной возвратилась в вышину и купалась в свежести воды, оставила свое небо в душах, а в сердцах – свою свежесть.
Мы являемся, хотя бы и не желая того, слугами часа, его красок и форм, подданными неба и земли. Та часть нашего существа, что скрывалась в себе самой, презирая окружающее, не скрывается при дожде так, как при ясном небе. Мрачные видоизменения, ощущаемые, возможно, только в самой сокровенности абстрактных чувств, осуществляются, потому что дождь идет или прекращается, ощущаются, но не почувствуются, потому что, когда не чувствуются они, чувствуется погода.
Каждый из нас – это различные, это многие, это многообразие себя самого. Поэтому тот, кто презирает окружающую среду, это отнюдь не тот же, кто ей радуется или из-за нее страдает. В обширном пространстве нашего Я есть люди с различными особенностями, думающие и чувствующие по-разному. Когда в один из законных перерывов в сегодняшней работе я пишу, мне недостает этих нескольких слов для выражения: я – то, что их пишет, я – то, что радуется перерыву в работе, я – то, что видит небо там, снаружи, невидимое отсюда, я – то, что сейчас думает обо всем этом, то, что чувствует свое тело здоровым и руки холодными. И весь мой мир, населенный этими людьми, – чужой набросок, точно толпа, разнообразная, но плотная, единая тень – это расслабленное, пишущее мое тело, наклонившееся над конторкой Боржеша, в поисках промокательной бумаги, что я ему одолжил.
Между домами, стоящими в ряд в узорах света и тени – или, скорее, светлых и темных пятен, – утро распускается над городом. Кажется, что оно рождается не солнцем, но городом, и именно от стен и крыш этот высокий свет отрывается – не физически, но потому что они существуют.
Испытываю вместе с этим утром большую надежду; но понимаю, что это надежда литературная. Утро, весна, надежда музыкально связаны одним и тем же мелодическим напряжением; связаны в душе одной и той же памятью. Нет, если я наблюдаю за самим собою, как наблюдаю за городом, я признаю: я должен ожидать только того, что этот день окончится, как и все остальные. Разум тоже видит утреннюю зарю. Надежда, что я вложил в нее, не была моей; она принадлежала людям, живущим в час, что проходит, тем, в кого я воплотил, не желая того, свое понимание этого момента.
Надеяться? На что я могу надеяться? День обещает мне всего лишь день, и я знаю, что он имеет свое течение и свой конец. Свет оживляет меня, но мне не становится лучше, потому что я выйду таким, каким пришел – состарившись на несколько часов, с более радостным ощущением, с более печальными мыслями. Мы можем радоваться тому, что родилось, одновременно думая, что оно должно умереть.
Сейчас, в свете, свободном и высоком, город выглядит, как сельская местность с домиками, – естественным, просторным, гармоничным. Но даже видя все это, смогу ли я забыть, что существую? Мое осознание города является моим осознанием самого себя.
Внезапно вспоминаю себя ребенком и вижу, как сегодня уже не умею, зарю, сияющую над городом. Она тогда вставала не надо мною, но над жизнью, потому что тогда я, еще не сознательный, был самою жизнью. Я видел утро и испытывал радость; сегодня я вижу утро, испытываю радость и остаюсь печальным. Ребенок остался, но онемел. Вижу, как видел прежде, но там, вне поля зрения, вижу себя смотрящим; и только поэтому омрачается для меня солнце, и зелень деревьев становится старой, и цветы вянут, еще не появившись. Да, когда-то я был – отсюда; сегодня к каждому виду, каким бы новым он ни был для меня, я возвращаюсь чужеземцем, гостем, пилигримом – в самом своем присутствии чужим тому, что вижу и слышу, стариком по своей сути.
Я уже видел все, даже то, чего никогда не видел, даже то, чего никогда не увижу. В моей крови хранится и память о том, что увижу в будущем; и тоска от того, что должен снова увидеть, – в этом есть некая предвиденная монотонность.
И, наклонившись над парапетом, наслаждаясь днем под многоголосую симфонию целого города, я осознал, что только одна мысль наполняет мою душу – глубокое желание умереть, закончиться, никогда более не видеть света над любым городом, не думать, не чувствовать, оставить позади, как оберточную бумагу, ход солнца и дней, сбросить с себя, как тяжелые одежды возле большой постели, невольное усилие – существовать.
Интуитивно я понимаю, что для таких созданий, как я, ни одно материальное обстоятельство не может быть благоприятным, ни одно событие в жизни не имеет положительного решения. Если я, в силу некоторых обстоятельств, отстраняюсь от жизни, она также способствует тому, что я от нее отстраняюсь. Те суммы фактов, которые для обычных людей несомненно свидетельствуют об успехе, имеют, когда это относится ко мне, какой-то другой результат, неожиданный и противоположный.
Рождается во мне порой от констатации этого какое-то горестное впечатление божественной вражды. Мне кажется, только из-за моего сознательного и привычного отношения к происшествиям, будто бы для меня пагубным, со мной мог бы произойти ряд несчастий, определяющих мою жизнь.
Результатом всего этого оказывается то, что я никогда не стремлюсь к чему-либо чрезмерно, не делаю больших усилий. Удача, если захочет, пусть приходит ко мне. Знаю прекрасно, что мое самое большое усилие не достигнет того, чего достигло бы усилие других. Поэтому полагаюсь на удачу, не ожидая от нее ничего. Зачем?
Мой стоицизм – это органическая необходимость. Я должен оградить себя от жизни. Поскольку весь стоицизм не превышает строгого эпикуреизма, я желаю, насколько возможно, заставить мое несчастье меня развлекать. Я не знаю, до какой степени это возможно. Я не знаю, до какой степени возможно что-либо. Я не знаю, до какой степени что-либо достижимо…
Там, где другой победил бы, не в результате собственных усилий, но по некой неизбежности, я ни из-за этой неизбежности, ни из-за этого усилия не побеждаю или не победил бы.
Наверное, я родился духовно в один из коротких зимних дней. Я рано достиг ночи моего существа. Только в неудачах и в оставленности я могу реализовать свою жизнь.
В сущности, ничто из всего этого не является стоицизмом. И только в словах существует благородство моего страдания. Я жалуюсь, точно больная прислуга. Мучаюсь, точно какая-то домохозяйка. Моя жизнь – целиком пустая и целиком печальная.
Как Диоген у Александра, я просил у жизни только того, чтобы она не отбирала у меня солнце. У меня были желания, но мне было отказано в основаниях для них. То, что я обнаружил, действительно стоило обнаружить. Мечта […]
* * *
Я сочиняю на прогулке совершенные фразы, которые забываю по возвращении домой. Несказа́нная поэзия этих фраз – не знаю, вся ли она в том, чем они были, или ее часть, ведь они никогда не были написаны.
* * *
Я сомневаюсь во всем, часто не зная почему. То, чего я ищу порой, подобно моей собственной прямой линии, которую я счел идеальной прямой, кратчайшей дистанцией между двумя точками. Я никогда не умел быть активно живым. Всегда ошибался в действиях, как не ошибался никто; то, что другие родились для действия, всегда воодушевляло меня. Я всегда желал добиться того, чего другие достигали, почти не желая. Между мною и жизнью всегда были матовые стекла; я не мог познать ее ни зрением, ни осязанием; не жил ею, ни как реальной жизнью, ни только в проекте, это была мечта, мечта быть, и моя мечта началась по моему желанию, мое намерение было, тем самым, первым вымыслом, ведь оно никогда не существовало.
Я никогда не знал, была ли чрезмерной моя чувствительность для моего разума или мой разум – для моей чувствительности. Всегда медлил, не знаю, что из них было первопричиной, возможно, и то и другое, или одно, или другое, или что-то третье – что приводило к опозданию.
* * *
От мечтателей всех тысячелетий – социалистов, анархистов, филантропов всех видов – меня тошнит физически. Они – идеалисты без идеала. Они – мыслители без мышления. Они любят поверхность жизни из-за неизбежности мусора, что плавает на поверхности воды и считается красивым, потому что разнообразные ракушки тоже поднимаются на поверхность воды.
Дорогая сигара и прикрытые глаза – признак богатства.
Как тот, кто посетил места, где прошла его юность, я могу с дешевыми сигарами возвратиться в те пространства собственной жизни, где для меня было привычно их курить. И благодаря этому легкому привкусу дыма все мое прошлое оживает во мне.
В другой раз это будет какая-нибудь сладость. Простая шоколадная конфета способна растревожить мои нервы, потрясая их избытком воспоминаний. Детство! И, кусая эту конфету, где мои зубы отпечатались на темной и мягкой массе, кусаю и люблю все жалкие радости веселого командира оловянных солдатиков, скачущего на случайной тросточке-лошадке. К глазам подступают слезы, и со вкусом шоколада смешивается мое счастливое прошлое, мое прошедшее детство, и я сладострастно погружаюсь в нежные объятия моей боли.
Он прост, но торжествен, этот мой вкусовой ритуал.
Но именно дым папиросы восстанавливает для меня моменты прошлого. Он легонько касается моих вкусовых рецепторов. И в своей прозрачности воскрешает для меня умершие часы, далекое делает настоящим. Одна паршивая сигарета, одна дешевая сигара пьянят меня нежностью моего прошлого. С какой невыразимой рассудительностью вкуса-аромата я вызываю к жизни мертвые сценарии и представляю заново комедии моего прошлого.
Я создал для себя роскошь из бесчестья, торжественность из боли и того, что утрачено. Я не превратил свою боль в поэму, но превратил ее в свою свиту. И из окна наблюдаю, изумленный, фиолетовые закаты, тусклые сумерки беспричинной боли, проходящих, в обрядах моего заблуждения, пажей, ливрейных лакеев, клоунов моей прирожденной неспособности существовать. Ребенок, кого не убило во мне ничто, еще присутствует, в лихорадке и в лентах, на цирковом представлении внутри меня. Он смеется над шутами, хотя его нет здесь; смотрит на жонглеров и акробатов глазами того, кто видит в этом целую жизнь. И так, безрадостная, но довольная, дремлет невинно в четырех стенах моей комнаты, вся беспристрастная тоска одной переполненной человеческой души, все неизлечимое отчаяние сердца, покинутого Богом.
Путь не по улицам, но через мою боль. Опрятные домики – это невозможности, окружающие меня в моей душе; …мои шаги звучат на прогулке, как удвоенная абсурдность умерших, шум призрака в ночи, конец как некая расписка или могила.
Отделяюсь от себя и вижу, что я – дно какого-то колодца.
Умер кто-то, кем я никогда не был. Бог позабыл о том, кем я должен был быть. Только пустое место.
Если бы я был музыкой, я написал бы свой похоронный марш, и с каким основанием я бы его написал!
Накручивать мир на наши пальцы, как нить или ленту, с какой играет женщина, мечтающая в одиночестве у окна.
Все сводится в конце концов к стремлению, чтобы скука не причиняла боль.
Было бы интересно стать двумя королями одновременно: быть не одной душой на двоих, но двумя душами.
Жизнь для большинства людей – это какая-то канитель, прошедшая так, что ее и не заметили, какая-то печальная штука, состоящая из радостных эпизодов, что-то, подобное анекдотам, которые рассказывают кладбищенские сторожа, коротая и ночной покой, и свою рабочую смену. Я всегда находил нелепым представление о жизни как о долине слез: да, это долина слез, но там редко плачут. Гейне говорит, что после великих трагедий мы всегда сморкаемся. Будучи евреем и объемля поэтому весь мир, он видел ясно природу человечества.
Жизнь была бы невыносимой, если бы мы ее осознавали. К счастью, этого не происходит. Мы живем так же бессознательно, как и животные, такие же ничтожные и бесполезные, и наше предвидение смерти – это только предположение, а не доказанная истина.
Так мы и живем, и лишь сущие пустяки позволяют нам считать себя выше животных. Наше отличие от них в деталях, чисто внешних: мы можем говорить и писать, мы обладаем абстрактным мышлением, чтобы отвлекаться от конкретного и воображать невозможные вещи. Все это, однако, – частности нашего организма. Речь и письмо не добавляют ничего нового к нашему основному инстинкту – жить, не зная, каким образом. Наше абстрактное мышление не служит ничему, кроме создания систем или идей, тогда как идея животного – пребывание на солнышке. Представление о невозможном, вероятно, присуще не только нам: я видел котов, глядящих на луну, и я допускаю, что они мечтают о ней.
Весь мир, вся жизнь – это необъятная система бессознательностей, действующая через индивидуальные сознания. Два газа, когда через них проходит электрический разряд, превращаются в жидкость, так и с двумя сознаниями: одно – от нашего конкретного существа, другое – от существа абстрактного; жизнь и мир проходят через них, превращают их в одно высшее бессознательное.
Счастлив поэтому немыслящий, ибо он реализует с помощью инстинкта и своей органической судьбы то, что все мы должны реализовать путем отклонения и неорганической или социальной судьбы. Счастлив, кто более уподобляется животным, потому что переносит без усилий то, чем все мы с навязанным нам трудом являемся; потому что знает путь домой, который мы находим лишь на тропинках вымысла и возвращения назад; потому что, укоренившись, как дерево, он является частью природы и, следовательно, красоты, тогда как мы – мифы природы, статисты на живом полотне бесполезности и забвения.
Не могу твердо поверить в счастье животных, кроме тех случаев, когда мне хочется говорить о нем, чтобы подчеркнуть такое предположение. Для того чтобы быть счастливым, надо знать, что значит быть счастливым. Счастье – не в том, чтобы спать без снов, а только в пробуждении, когда знаешь, что спал без сновидений. Счастье находится вне счастья.
Нет счастья без знания. Но знание о счастье несчастно; потому что осознать себя счастливым – это осознать себя проходящим мимо счастья, оставлять его позади. Знать – это убивать, в счастье как и во всем. Однако не знать значит не существовать.
Только гегелевский абсолют оказался на бумаге двумя вещами в одно и то же время. Небытие и бытие не сливаются и не смешиваются в ощущениях и основаниях жизни: они взаимно исключаются путем некоего синтеза наизнанку.
Что делать? Изолировать момент, будто какую-то вещь, и быть счастливым сейчас, когда чувствуешь счастье, не думая, что ты чувствуешь, исключая что-либо большее, исключая все. Сажать в клетку мышление в ощущении…
Вот мой символ веры этим вечером. Завтра утром его уже не будет, потому что завтра утром я сам буду другим. Во что я буду верить завтра? Я не знаю, ведь чтобы это знать, надо быть уже в нем. И вечный Бог, в которого я сегодня верю, не будет знать об этом ни завтра, ни сегодня, потому что сегодня – это я, а завтра Он, возможно, уже не будет существовать.
Бог создал меня ребенком и оставил ребенком навсегда. Но зачем он позволил, чтобы Жизнь била меня и отняла у меня игрушки и оставила меня одного в детской, комкающего слабыми ручонками голубой детский передник, грязный от долгих слез? Если я не могу жить без ласки, почему выбросили вон мою ласку? Ах, каждый раз, когда я вижу на улицах плачущего ребенка, одного ребенка, которого прогнали другие, моя боль сильнее, чем печаль ребенка. Болит во мне вся жизнь моих чувств, и руки, что скручивают кант передника, – скривившиеся от настоящих слез рты – мои, слабость – моя, одиночество – мое, и веселье взрослой жизни вредит мне, как вспышки зажигаемых спичек на чувствительном штофе моего сердца.
Голос пел, очень нежно, песню далеких стран. Музыка делала родными неизвестные слова. Она напоминала фаду моей душе, но не было между ней и фаду черт сходства.
Песня говорила туманными словами и очень человечной мелодией о том, что есть в душе у всех, но чего никто не знает. Человек пел, как бы во сне, не замечая ни слушателей, ни того, что улица не проявляла особого восторга.
Народ, его окруживший, слушал, не высказывая насмешки. Песня была обо всех людях, и порой слова ее говорили с нами о каком-то восточном секрете забытого племени. Шум города не слышался, когда мы его слушали, и повозки проезжали так близко, что одна коснулась полы моего пиджака. Но я ее почувствовал, не услышав. Была такая поглощающая способность в этом пении неизвестного, что разбудила в нас то, что мечтает или не может быть достигнуто. Вдруг все почему-то заметили, что полицейский медленно огибает угол. Он приближался с той же медлительностью. На некоторое время остановился позади юноши с зонтиками. В это время певец умолк. Никто ничего не говорил. Тогда вмешался полицейский.
Не знаю почему – заметил я это внезапно – я остался один в конторе. Смутно я это уже предчувствовал прежде. Была в моем осознании себя какая-то протяженность облегчения, дыхание глубокое, не одними легкими.
Эта одно из самых любопытных ощущений, что может быть нам дано случайно, извлеченное из встреч и ошибок: будто мы находимся в одном доме, обычно полном людей, шумном или чужом. Внезапно у нас возникает ощущение полного обладания, власти естественной и широкой, простора – как я уже говорил – для отдыха и покоя.
Как чудесно быть таким свободным! Можем говорить вслух сами с собой, гулять беспрепятственно, отдыхать, мечтая, не опасаясь, что нас позовут! Весь дом превращается в поле, вся зала приобретает протяженность целого поместья.
Все шумы – чужие, словно принадлежат какой-то другой, близкой, но независимой от нашей вселенной. Мы – короли. На один момент мы являемся пансионерами вселенной и живем на пожалованное, не зная нужды и волнений.
Ах, но вот я слышу шаги на лестнице, ко мне поднимаются, не знаю кто, любой, кто прервет мое занимательное одиночество. Моя скрытая империя будет наводнена варварами. Нет, шаги не говорили мне, кто это приближается и не напомнили мне шагов того или иного моего знакомого. Это, скорее, инстинкт заставляет меня понять, что сюда идет тот, кого я знал, но пока это только шаги на лестнице, которую я внезапно вижу, потому что думаю о том, кто поднимается по ней. Да, это один из служащих. Остановился, слышно, как он отворяет дверь. Вижу его всего. И он говорит мне, входя: «Вы один, сеньор Суареш?» И я отвечаю: «Да, уже довольно давно…» И он тогда говорит, снимая пиджак и глядя на другой, старый, на вешалке: «Большая канитель для людей – быть в одиночестве, сеньор Суареш, и чересчур большая…» «Большая канитель, без сомнения», – отвечаю я. «До того, что хочется спать», – говорит он, уже в рваном пиджаке, направляясь к письменному столу. «Так и есть», – подтверждаю, улыбаясь. После, протянув руку к забытой ручке, снова вхожу, чертежник и писец, в безымянное русло нормальной жизни.
Всегда, когда они могут, садятся перед зеркалом. Говорят с нами и любуются собой, глядя на себя в зеркало. При этом порой отвлекаются от беседы. Я был им симпатичен, потому что мое взрослое отвращение к моей внешности всегда заставляло меня поворачиваться спиной к зеркалу. Таким образом, – и они, инстинктивно это чувствуя, относились ко мне хорошо, – я был для них молодым слушателем, не стеснявшим их своим тщеславием и красноречием.
В совокупности своих качеств это не были плохие молодые люди; как обычно, были среди них лучшие и худшие. Были черты благородства и нежности, заслуживающей доверия для любителя середины, но и черты низости и подлости, которые неудивительны в любом нормальном человеке. Скупость, зависть и заблуждение – так я их обобщаю, и к этому, в общих чертах, и будет сводиться характеристика той части этой среды, что проникает в труды талантливых людей, которые иногда превращали это похмелье в целину для обманутых (есть в творении Фиалью очевидная зависть, презренная грубость, тошнотворное отсутствие изящества…).
Одни обладают остроумием, другие обладают только остроумием, третьи еще не существуют. Остроты завсегдатаев кафе делятся на сказанное об отсутствующих – из желания посмеяться и на сказанное присутствующим – из наглости. Этот вид остроумия называется обыкновенно всего лишь грубостью. Ничто не является лучшим индикатором бедности ума, чем умение проявлять остроумие, только насмехаясь над людьми.
Я пришел, увидел и в противоположность тем победил. Потому что моя победа состоит в умении видеть. Я распознал тождество всех худших агломератов: встретил здесь, в доме, где у меня комната, такую же низкую душу, что обнаруживали передо мною посетители кофейни. Хозяйка этого дома в плену заблуждения посягала некогда на фешенебельные улицы Лиссабона, но на заграницу посягать не отважилась, и мое сердце смягчилось.
Сохраняю от всей этой дороги вдоль гробницы желания память о тошнотворной скуке и о некоторых остроумных анекдотах.
Идут хоронить, и кажется, что уже на пути от кладбища прошлое забылось в кафе, поэтому оно и молчит теперь.
…и потомство никогда не узнает о них, скрытых от него навсегда под черной громадой знамен, добытых в их победах в разговорах.
Гордость – это эмоциональная уверенность в собственном величии. Высокомерие – это эмоциональная уверенность в том, что другие в нас видят или нам приписывают такое величие. Эти два чувства не обязательно сочетаются и не противодействуют друг другу по природе. Они различны, однако совместимы.
Гордость, когда существует отдельно, без добавления высокомерия, проявляется в результате как застенчивость: кто себя чувствует великим, не верит, что другие его признают таким, опасается противопоставлять свое собственное мнение о себе мнению о нем других.
Высокомерие, существующее отдельно, без примеси гордости, что возможно, но бывает редко, проявляется в результате как удаль. Тот, кто уверен, что другие видят его значимость, не опасается их. Он может иметь физическую храбрость без высокомерия; может иметь духовную силу без высокомерия; но не может быть удали без высокомерия. Удаль предполагает дерзость в начинании. Удаль может не сопровождаться храбростью физической или духовной силой, потому что эти склонности характера – разного порядка и с удалью несоизмеримы.
Болезненный промежуток
Не в гордости я нахожу утешение. Чем гордиться, если я даже не творец самого себя? И даже будь во мне что-то достойное гордости, я бы не возгордился.
Я покоюсь в своей жизни. И в мечтах тоже не способен возвыситься – даже в глубине своей души я не умею делать усилия.
Создатели метафизических систем, те… психологических объяснений, они – еще юноши в своем страдании. Систематизировать, объяснять то, что только… и конструировать? Упорядочивание, подготовка, организация – всего лишь реализованное усилие – и сколь прискорбно, что это и есть жизнь!
Пессимист – нет, я к ним не отношусь. Счастлив тот, кто умеет перевести на всеобщий язык свое страдание. Я не знаю, печален или плох мир, и это для меня не важно, потому что страдания других докучают мне и оставляют безразличным. Лишь бы только они не раздражали меня, не нарушали мой покой слезами и стонами, и я даже не пожму плечами – так глубоко мое презрение к ним, к их страданию.
Но я хочу верить, что жизнь наполовину светла, наполовину темна. Я не пессимист. Я не жалуюсь на ужасы жизни. Я жалуюсь на ужас собственной жизни. Единственное важное для меня обстоятельство – это то, что я существую, что я страдаю, что даже не могу помечтать о том, что не связано с моим страданием.
Счастливые мечтатели – пессимисты. Они создают собственный образ мира и, таким образом, всегда могут оставаться дома. Что касается меня, то контраст между шумом и радостью мира и моей печалью, моим молчанием причиняет мне особую боль.
Жизнь с ее горем, страхами и встрясками должна быть ласковой и веселой, как путешествие в старом дилижансе в хорошей компании.
Я не могу даже считать, что мое страдание – признак величия. Не знаю, так ли это. Но я страдаю из-за вещей столь ничтожных, ранят меня вещи настолько банальные, что я не отваживаюсь предположить, что мог бы быть гением.
Великолепие заката во всей его красоте печалит меня. Перед таким зрелищем я говорю себе: тот, кто счастлив, должен чувствовать восторг при виде этого!
И эта книга – всего лишь стон. После ее написания книга Антонио Нобре уже не является самой печальной в Португалии.
Перед моей болью любая другая мне кажется надуманной или недостойной внимания. Это боль счастливых людей или тех, кто привык жаловаться. Моя же – боль замкнутого в тюрьме от жизни, отрезанного от нее…
Между мною и жизнью…
Дело в том, что я вижу все то, что может меня опечалить. И не чувствую того, что радует. Я обратил внимание, что страдание более видится, чем чувствуется, а радость более чувствуется, чем видится. Потому что ни через мышление, ни через зрение не достигается истинное удовлетворение, как удовлетворение мистиков, бродяг и негодяев. Но все страдание проникает в дом через окно наблюдения и через дверь размышления.
Жить мечтою и для мечты, разрушая Вселенную и вновь восстанавливая ее в соответствии с тем, что в момент мечтания доставляет нам наибольшее удовольствие. Делать это сознательно, от бесполезности и… оттого, что делаешь это. Не знать жизни телесной, заблудиться в реальности всеми своими чувствами, отрекаться от любви всей душой. Наполнять мельчайшим песком кувшины, с которыми мы ходим к источнику, и затем опорожнять их, чтобы повторить все – наполнение и опорожнение – впустую.
Плести гирлянды и, закончив, тотчас их расплетать.
Браться за краски и смешивать их на палитре, не имея холста, чтобы писать картину. Приобрести камень для ваяния, не имея резца и не будучи скульптором. Превращать все в абсурд и совершенствовать, обращая в ничтожество, все наши скудные часы. Играть в прятки с сознанием нашей жизни.
Внимать часам, говорящим нам, что мы существуем, с улыбкой удовольствия и недоверия. Видеть, как Время раскрашивает мир, и обнаруживать, что картина не только лжива, но и ничтожна.
Думать взаимоисключающими мыслями, говоря несуществующими звуками, используя краски, что не являются красками. Говорить, осознавая, что не имеем сознания и что не являемся теми, кем мы являемся. Объяснить с помощью чувства, что все вещи имеют другую, божественную, сторону, и не верить чрезмерно в объяснение, чтобы потом не разочароваться.
Ваять в бессодержательном молчании все наши мечты о речах. Парализовать апатией все наши размышления о действиях.
И над всем этим, как небо, единое и голубое, парит отчужденно ужас жизни.
Но места и виды, о которых мечтаем, – лишь призрак виденных нами в действительности, и мечтать о них почти так же скучно, как смотреть на мир.
Воображаемые фигуры более выразительны и правдивы, чем реальные.
Мир моего воображения всегда был для меня единственным настоящим миром. У меня никогда не было романов, настолько реальных, настолько полных пылкой страсти, крови и жизни, как те, что я создал в воображении. Такие чистые, они вызывают во мне ностальгию, потому что, как и другие, они проходят…
Порой, в моих диалогах с самим собою, в изысканных сумерках Воображения, в усталых беседах, в придуманных гостиных, я спрашиваю себя, по какой причине наша научная эпоха не простирает свое стремление к пониманию на предметы рукотворные. И один из вопросов, на котором чаще всего я задерживаюсь, это: почему не создается, вместе с обычной психологией человеческих и «недочеловеческих» созданий, некая психология, изучающая предметы искусства, чье существование проходит на коврах и в картинах. Ущербное представление о реальности имеет тот, кто ее ограничивает органическим и не вкладывает души в статуэтки и рукоделия. Там, где есть форма, есть и душа.
Не от праздности эти мои рассуждения с самим собою, это глубокие научные размышления. Поэтому, пока не имея другого ответа, предлагаю настоящий, и предаюсь видению этого «реализованного желания». Перед моим внутренним взором возникают ученые, склоненные над гравюрами; люди, рассматривающие под микроскопом морщинистое плетение ковров; идеологи физицизма[27] с их широким рисунком расплывчатых очертаний; химики, да, с идеей о формах и цветах в таблицах; геологи с их слоистыми пластами камей; психологи – и это наиболее важно, – фиксирующие и описывающие ощущения, какие должна испытывать какая-то статуэтка, психические особенности некой фигуры с картины или витража, побуждения, страсти, симпатии и отвращение и […] застывшие на барельефах, в невидимых движениях статистов на полотне.
Более, чем другие искусства, литература и музыка подходят для ухищрений психологов. Персонажи романа – это знают все – столь же реальны, сколь и любой из нас. Определенные звуки обладают душой, крылатой и быстрой, но чувствительной к психологии и социологии. Потому что – хорошо бы, чтобы несведущие это знали, – общества существуют внутри цветов, звуков, фраз, и есть образы правления государствами и революции, царствования, политики и… существующие в абсолюте и без метафор, в математическом объединении симфоний, во Всем, что организовано из романов, в квадратных метрах некой сложной картины, где наслаждаются, страдают, смешиваются выразительные воины, любовники или аллегорические фигуры.
Когда разбилась чашечка из моей японской коллекции, я знал, что причиной было нечто большее, чем простая небрежность прислуги. Я изучал тоску фигур, что населяют изгибы этого фарфорового чуда; стремление к самоуничтожению, что ими овладело, меня не удивило. Они воспользовались прислугой, как один из нас прибег бы к револьверу. Понимать это – быть за пределами современной науки, и с какой точностью я это понимаю!
Не знаю большего удовольствия, чем удовольствие от книг, и мало читаю. Книги – это воплощения мечты, и эти воплощения не нужны тому, кто с легкостью вступает в беседы с мечтами. Я никогда не мог прочесть книгу, полностью ей отдаваясь; комментарии разума или воображения всегда – мешали мне продолжать читать само повествование. По прошествии минут я становился тем, кто писал.
Мое любимое чтение – это обычные книги, спящие у моего изголовья. Есть две, что всегда со мной: «Риторика» отца Фигейреду[28] и «Размышления о португальском языке» отца Фрейре.[29] Вот их я всегда охотно перечитываю; и если верно, что я читал их много раз, также верно и то, что никогда не читал одну сразу после другой. Я обязан этим книгам той дисциплиной, почти невозможной для себя, – неким правилом объективного письма, законом рассудка, требующим, чтобы вещи были написаны.
Стиль неестественный, монастырский, грубый отца Фигейреду – это дисциплина, что приносит удовольствие моему пониманию. Многословие, почти всегда без дисциплины, отца Фрейре развлекает мой дух, не утомляя его, и обучает меня, не беспокоя. Это духи эрудитов и людей спокойных, что импонируют моему нежеланию уподобляться им или кому-либо другому.
Читаю и предаюсь полностью, но не чтению, а себе самому. Читаю и засыпаю, следуя за описанными отцом Фигейреду фигурами риторики и по лесам чудес, где слышу, как отец Фрейре объясняет, что следует произносить «Магдалена», потому что «Мадалена» говорит только простонародье.
Ненавижу чтение. Мне заранее скучно смотреть на неизвестные мне страницы. Я способен прочесть только то, что уже мне знакомо. Моя всегдашняя книга у изголовья – «Риторика» отца Фигейреду, и я читаю каждую ночь каждый раз – в тысячный раз, описание риторических фигур, чьи названия до сих пор не зафиксировались в моей памяти. Но меня убаюкивает язык, монастырский стиль… и если бы мне не хватало слов, написанных с «С», я бы спал беспокойно.[30]
Я обязан книге отца Фигейреду, с ее преувеличенным пуризмом и педантизмом, своим умением писать таким языком, в котором я отмечаю у себя особенность, что […]
И читаю:
(один отрывок из отца Фигейреду) —
начала, способы и цели,
и это утешает меня в жизни.
Или прежде
(один отрывок о фигурах)
что возвращает к вступлению.
Я не преувеличиваю ни на йоту: я чувствую все это.
Как другие могут читать Библию, читаю «Риторику». Я имею преимущество – возможность отдыха и отсутствие набожности.
Вещи ничтожные, естественные для жизни, пустяки, обычные и маловажные, пыль, подчеркивающая тонким причудливым штрихом низость и подлость моей человеческой жизни, – Книга учета, открытая перед глазами того, чья жизнь проходит в мечтах обо всех чудесах Востока; безвредная насмешка шефа конторы, которая оскорбляет всю вселенную; уведомление для патрона, что ему звонила подруга, дона такая-то, посреди размышлений о периоде наименее сексуальном, об одной теории, эстетической и бесполезной.
Затем друзья, хорошие ребята, да, хорошие ребята, с ними так приятно поболтать, пообедать, поужинать – и все, не знаю, отчего такое низкое, такое ничтожное, такое мелкое, всегда на складе товаров (хотя бы и на улице), всегда перед Книгой учета (хотя бы и за границей), всегда с патроном (хотя бы и в бесконечности).
У всех есть шеф конторы с насмешкой, всегда неуместной, и одновременно душа со вселенной. У всех есть патрон и подруга патрона и телефонный звонок в момент, всегда неподходящий, когда опускается восхитительный вечер и любовницы изобретают [?] оправдания.
Но все те, что мечтают, пусть не в конторах на улице Байша, не перед торговой книгой на складе товаров, все они имеют перед собой книгу учета – будь это женщина, жена одного из них, будь это управление состоянием, которое переходит к ним по наследству, будь это что угодно.
Все мы, мечтающие и думающие, являемся помощниками бухгалтера на складе товаров или любого другого имущества, на некой, любой, улице Байша. Ведем бухгалтерские книги и теряем; суммируем и проходим; подводим баланс, и невидимое сальдо – всегда против нас.
Пишу, улыбаясь над словами, но мое сердце в таком состоянии, будто вот-вот разобьется, разобьется, как те вещи, которые разламываются на куски, на черепки, на обломки, бросаемые мусорщиком в вечную повозку всех Муниципалитетов.
И все ждет, открытое и нарядившееся, Короля, что придет, что уже здесь, ведь пыль его кортежа – новая мгла на медлящем востоке, и копья уже сверкают на расстоянии вместе с его рассветом.
ТРАУРНЫЙ МАРШ
Величественные фигуры неизвестных иерархий выстраиваются в коридорах и ожидают тебя – белокуро-нежные пажи, юноши… разбрасывающие искры обнаженных клинков, с причудливым сверканием шлемов и дорогих украшений, в сумрачных отблесках тусклого золота и шелка.
Все, от чего страдает воображение, то траурное, что причиняет боль во время торжеств и утомляет в победах, мистицизм небытия, аскеза абсолютного отрицания.
Не шесть пядей холодной земли, которые смыкаются над закрытыми глазами под горячим солнцем, рядом с зеленой травой, но смерть, что превосходит нашу жизнь и является жизнью, своей собственной, – мертвое присутствие какого-то бога, неизвестного бога из религии самих богов.
Ганг тоже протекает по улице Золотильщиков. Все эпохи присутствуют в этой тесной комнате – смесь… разноцветная последовательность манер, различия народов, обширное разнообразие наций.
И там, в неназванном экстазе страдания, я умел ожидать Смерти между клинками и зубцами башен.
Мысленное путешествие
С моего четвертого этажа над бесконечностью, в допустимой близости текущего вечера, у окна, выходящего на зажигающиеся звезды, мои мечты отправляются в путешествия в неизвестные страны, или предполагаемые, или просто невозможные.
Появляется на востоке бледный луч золотого лунного света. След, оставляемый им на просторной реке, открывает змей в море.
Каждый день в мире происходят вещи, которые нельзя объяснить известными законами. Каждый день гул голосов в отдельные моменты забывается, и то же таинство, что их приносило, уносит их назад, превращая в тайну в забвении. Таков закон, что нечто должно быть забыто, потому что его нельзя объяснить. В свете солнца видимый мир продолжает подчиняться правилам. Чуждое подстерегает нас в тени.
Собственная мечта меня наказывает. Обретаю в ней такое сияние, что вижу, как реальную, каждую вещь, о которой мечтаю. Поэтому для меня потеря все, что я считал воображаемым.
Мечтаю ли я о славе? Чувствую всю обнаженность, которую приносит слава, всю потерю сокровенности и неизвестности, из-за чего она так болезненна для нас.
Считать нашу великую тоску незначительным эпизодом в жизни не только вселенной, но нашей собственной души – это начало мудрости. Считать так, будучи охваченным этой тоской – это полная мудрость. В тот момент, когда мы страдаем, кажется, что человеческая боль бесконечна. Нет, боль человеческая не бесконечна, потому что ничто человеческое не бесконечно, и наша боль всего лишь какая-то боль, которую мы испытываем.
Столько раз, под гнетом скуки, граничащей с безумием, или охваченный тоской, кажущейся беспредельной, я останавливаюсь в нерешительности, прежде чем возмутиться, колеблюсь, прежде чем замкнуться в себе. Боль от незнания тайны мира, боль оттого, что нас не любят, боль оттого, что к нам несправедливы, боль от гнета жизни, удушающего и стесняющего, зубная боль, боль от тесной обуви – кто может сказать, которая больше, его ли собственная, или чужая, или совокупность всех существующих?
Многим моим собеседникам я кажусь бесчувственным. Однако я более чувствителен, полагаю, чем абсолютное большинство людей. Тот, кем я все же являюсь, – впечатлительный человек, который знает об этом и понимает поэтому что такое впечатлительность.
Ах, неправда, что жизнь горестна или что горестно думать о ней. Правда в том, что наша боль только тогда серьезна и велика, когда мы ее выдумываем такою. Если мы естественны, она уйдет, как пришла, утихая так же, как возросла. Все есть ничто, и наша боль – его часть.
Пишу это под гнетом скуки, какой, кажется, не может вместить моя душа; под таким гнетом от всех и от всего, что он меня душит и помрачает мой разум; под таким гнетом непонятости, что он меня подавляет. Но вот я поднимаю голову к чуждому голубому небу, подставляю лицо ветру, беззаботно-свежему, и прикрываю глаза, увидев и ощутив это. Я не становлюсь лучше, я становлюсь другим. Я вижу, что освобождаюсь от себя. Я почти улыбаюсь, но не оттого, что теперь понимаю себя, просто, став другим, я разучился понимать. Там наверху крохотное облачко в небе, как видимое небытие, – белое забвение целой вселенной.
Мои мечты: создавая себе друзей в мечте, я ощущаю, что они со мной. Их несовершенство – другое.
Быть чистым не для того, чтобы быть благородным или сильным, но чтобы быть самим собой. Кто дарит любовь, теряет ее.
Отрекаться от жизни, чтобы не отречься от себя самого.
Женщина – прекрасный источник мечты. Никогда ее не касайся.
Учись отрекаться от идей о наслаждении и удовольствии. Научись наслаждаться всем, но не всем как таковым, а идеями и мечтами, которые оно вызывает (потому что ничто не является тем, чем является, а мечты всегда остаются мечтами). Поэтому тебе не следует ничего касаться. Коснувшись, убьешь свою мечту, а объект, которого ты коснулся, завладеет твоими ощущениями.
Видеть и слышать – это единственные благородные вещи, которые заключает в себе жизнь. Остальные ощущения – плотские и плебейские. Истинный аристократизм в том, чтобы никогда не касаться. Не приближаться – именно это по-настоящему благородно.
Эстетика безразличия
Мечтатель должен стремиться к безразличию по отношению к любой вещи.
Выделять под влиянием внезапного побуждения из каждого объекта или события то, что в нем есть от мечты, оставляя во Внешнем Мире все, что в нем есть от реальности, – мудрецу надлежит реализовать в себе это умение.
Никогда не испытывать искренне своих собственных чувств, торжествовать свою победу над амбициями, желаниями, жаждой; проходить мимо своих радостей и печалей сохраняя безразличие.
Наибольшая власть над собой – испытывать равнодушие к себе самому и преданность дому, дарованному нам Судьбой.
Относиться к собственным мечтам и сокровенным желаниям высокомерно, как благородный лорд, игнорировать их с аристократическим изяществом. Испытывать стыд перед собой самим; понимать, что наедине с собой мы – не одни, что являемся своими собственными свидетелями. И что поэтому важно вести себя в одиночестве так же, как в обществе, следуя заученной и строгой линии поведения, безразличной в ее благородстве и холодной в безразличии.
Чтобы не пасть в наших собственных глазах, достаточно отрешиться от стремлений, страстей, желаний, надежд, побуждений, волнений. Чтобы этого достичь, будем всегда помнить, что находимся всегда в своем присутствии, что никогда не бываем одни, с тем, чтобы чувствовать себя непринужденно. Итак, будем господствовать над своими страстями и стремлениями, потому что страсти и стремления делают нас беззащитными; не будем ни желать, ни надеяться, потому что желания и надежды присущи грубости и вульгарности.
Аристократ – это тот, кто никогда не забывает, что он не один, поэтому обычаи и церемонии – это атрибуты аристократии. Превратим себя изнутри в аристократа. Извлечем его из залов и садов, поместим его в нашу душу и в представление о нашем существовании. Будем находиться всегда перед нами – в обычаях и церемониалах, в жестах надуманных и рассчитанных на других.
Каждый из нас – целое общество, некий район, и следует признать, что и мы, и жизнь в этом районе приобрели бы изящество, если бы на праздниках наших ощущений царила изысканность и тайна, сдержанная торжественность и учтивость – на пиршествах нашего мышления. Другие души смогут воздвигать вокруг нас свои районы, грязные и бедные; давайте отметим четко, где наш заканчивается и начинается, и чтобы от фасада наших зданий до алькова нашей робости все было благородным, спокойным и элегантным.
Сохранять спокойствие независимо от своих ощущений. Свести любовь к мечте о ней, освещенному луной промежутку между верхушками двух небольших волн. Превратить желание во что-то бесполезное и безобидное, подобное улыбке одинокой души, нежно улыбающейся самой себе; сделать невозможным ни его реализацию, ни рассказ о нем. Усыпить ненависть, как пленную змею, проявления страха ограничить страданием во взгляде. Это единственная линия поведения, совместимая с эстетическим существом.
Во всех перипетиях жизни, во всех ситуациях повседневного общения я был всегда и для всех незаконно вторгшимся. По крайней мере, неизменно был чужаком. В среде родственников, как и в среде знакомых, всегда чувствовал себя посторонним. Не говорю, что когда-либо был им преднамеренно. Но был им всегда в результате установки чуждых мне характеров.
Меня всегда и все встречали с симпатией. Очень мало, как я полагаю, таких людей, на которых редко повышают голос или смотрят хмуро. Но симпатия, с которой встречали меня, была всегда лишена теплоты. Для наиболее близких я был гостем, как с гостем, со мной обращались хорошо, но с тем вниманием, какое надлежит проявлять к чужаку, и без теплой привязанности, не заслуженной незаконно вторгшимся.
Не сомневаюсь, что все это – я имею в виду отношение ко мне других, – происходит от каких-то свойств моего собственного характера. Возможно, мне присуща холодность в общении, которая невольно заставляет других платить мне той же монетой.
Я быстро завязываю знакомства. Симпатии других обычно приходят чуть позже. Но привязанности не приходят никогда. Я никогда не знал преданности друзей. В любви мне всегда казалось невозможным быть с другим на «ты».
Я всегда желал быть приятным. Мне бывало больно, если от меня уходили равнодушно. Сирота Удачи, я, как и все сироты, испытываю потребность быть объектом чьей-то привязанности. Я постоянно испытывал голод по такой привязанности. Я настолько привык к этому неизбежному голоду, что порой сам не знаю, чувствую ли я потребность в еде.
Так или иначе, но жизнь причиняет мне боль.
У других есть те, кто им предан. Я же никогда не знал никого, кто хотя бы захотел быть мне преданным. Служат другим: со мной хорошо обращаются.
Я знаю за собой способность вызывать уважение, но не привязанность. К несчастью, думаю, что не сделал ничего, что бы оправдало в моих собственных глазах это уважение; по крайней мере, у меня было недостаточно заслуг, чтобы меня уважали.
Порой мне кажется, что я наслаждаюсь страданием. Но на самом деле предпочел бы иное.
У меня нет качеств ни начальника, ни подчиненного. Люди менее разумные, чем я, зачастую сильнее меня. Они лучше приспособлены к жизни меж людьми; управляют более искусно своим разумом. У меня есть все качества, чтобы воодушевлять на что-то, кроме умения это осуществлять, или воли, чтобы этого желать.
Если однажды я полюблю, то не буду любим.
Мне достаточно пожелать чего-то, чтобы желаемое исчезло. Однако моя судьба не имеет достаточно силы, чтобы быть смертельной для чего бы то ни было. Она имеет слабость быть смертельной для вещей, нужных мне.
Видя, какими ясными и логичными доводами некоторые безумцы оправдывают перед собой и другими свои бредовые идеи, я навсегда утратил устойчивую уверенность в ясности ума, в ясности моего ума.
Одна из великих трагедий моей жизни, из тех трагедий, однако, что проходят как бы в тени, – неспособность к естественным чувствам. Я способен любить и ненавидеть, страшиться и воодушевляться, как другие; но ни моя любовь, ни мои страхи, ни мое опасение, ни мое воодушевление не являются идентичными чувствам других. Или им не хватает чего-то, или к ним что-то добавляется. Ясно одно: это – нечто другое, не укорененное в жизни.
В душе тех, кого называют расчетливыми, – и слово это очень емкое – чувства ограничены расчетом, эгоистическими интересами. В душе тех, кого называют щепетильными, наличествует то же вытеснение естественных инстинктов. Во мне присутствует аналогичное расстройство достоверности чувства, но я не являюсь ни расчетливым, ни щепетильным. Я не имею оправдания, чтобы чувствовать скверно. Я инстинктивно извращаю инстинкты. Я нехотя хочу ошибочно.
Раб своего характера, так же как и обстоятельств, оскорбленный равнодушием людей, как и их любовью к тому, кем, как они полагают, я являюсь —
человеческие обиды на Судьбу.
Я проходил среди них чужаком, однако ни один не видел, что я им был. Я жил среди них соглядатаем, и никто, даже я сам, не подозревал, что я был им. Все считали меня родственником: ни один не знал, что меня подменили при рождении. Так я был равным другим, но не подобным им, братом всех, не принадлежа их семье.
Я пришел из чудесных земель, из мест лучших, чем жизнь, но об этих землях я никогда не рассказывал, разве что самому себе, и пейзажей, видимых в мечтах, никогда им не описывал. Мои шаги были, как их – по деревянному полу и каменным плитам, но сердце мое было далеко, хотя билось рядом, мнимый господин некоего тела, изгнанника и чужестранца.
Никто не узнал меня под маской ровни и не знал никогда, что это была маска, потому что никто не знал, что в этом мире есть ряженые. Никто и не предполагал, что возле меня всегда был другой, который в конце концов оказывался мною. Они всегда считали меня идентичным мне самому.
Их дома укрывали меня, их руки пожимали мою, они видели, как я прохожу по улице, словно я действительно там был; но тот, кем я являюсь, никогда не был в этих залах, тому, кто во мне живет, не пожимают руки; тот, кого я признаю мною, не ходит по улицам, хотя все улицы принадлежат ему; никто его не видит на них, хотя сам он – это все люди.
Мы все живем далекими и неизвестными; замаскированные, страдаем неузнанными. Для кого-то расстояние между другим и им самим никогда не обнаруживается; для другого порой освещается ужасом или печалью благодаря вспышке, стирающей грани; но для третьего является скорбным постоянством и повседневностью жизни.
Хорошо понимать, что то, кем мы являемся, – это не мы; что то, о чем мы думаем или что чувствуем, – всегда некий перевод; что того, чего мы хотим, – не хотели ни мы, ни кто-либо еще. Знать все это каждую минуту, чувствовать всеми фибрами – не будет ли это странным для самой души, изгнанной из собственных ощущений?
Но маска, которую в эту ночь окончания Карнавала я рассматривал безучастно и которая разговаривала на углу с человеком без маски, под конец протянула руку и простилась, смеясь. Человек естественный повернул налево в переулок. Маска – безымянное домино – прошла вперед, удаляясь среди теней и случайных бликов света, в прощании, окончательном и чужом, о котором я думал. Только тогда я заметил, что на улице, кроме зажженных фонарей, в тусклости, куда не доходило освещение, блуждал лунный свет, тайный, немой, полный ничем, как сама жизнь…
(Лунные свечения)
…влажно загрязненный мертвым коричневым
…в блестящих скольжениях перекрывающих друг друга крыш бело-серое, влажно загрязненное мертвым коричневым
…и делается неровным в конгломератах тени, изрезанных с одной стороны белым, с синеватыми отличиями холодного перламутра.
[Пейзаж] дождя
И наконец – вижу это памятью – поверх мрака блестящих крыш бледный луч равнодушного утра появляется, точно конь Апокалипсиса. Это снова громадная ночь возрастающего света. Это снова вечный ужас – день, жизнь, вымышленная полезность, безнадежная активность. Это снова моя телесная оболочка, видимая, общественная, описываемая в словах, никем не сказанных, воспринимаемая другими и чужим сознанием. Это снова я, такой, каким не являюсь. С началом света из мрака, наполняющего серыми сомнениями трещины оконных ставень – таких негерметических, Боже мой! – я чувствую, что не смогу более сохранить мое убежище, где я укрываюсь, где я не сплю, но сохраняю возможность уснуть, передвигаться, словно во сне, не зная, что существуют истина и реальность, меж прохладным теплом свежего белья и незнанием о существовании собственного тела. Я чувствую, как убегает от меня счастливая бессознательность, с какой я наслаждаюсь моим сознанием, животная дремота, с какой выжидаю, прищурившись, как кот на солнце, логических движений моего освобожденного воображения. Я чувствую, как стираются во мне преимущества уединения, и медленные реки под сенью опущенных ресниц, и шепот затерянных каскадов между шумом крови в ушах и журчаньем дождя. Теряю себя еще при жизни.
Не знаю, сплю ли я или только чувствую, что сплю. Я не могу сказать, что спал какое-то время, но замечаю, будто пробуждаясь ото сна, который мной не овладевал, первые шумы просыпающейся жизни города, поднимающиеся, точно разлив, оттуда снизу, где лежат улицы, созданные Богом. Это радостные звуки, процеженные через печаль дождя, который идет или, возможно, шел, потому что я не слышу его сейчас. Только чрезмерная серость света, потрескавшаяся вдалеке, показывающая мне тени от какого-то слабого света, не достигающего высоты рассвета, не знаю какого… Это звуки, радостные и рассеянные, и они ранят мое сердце, как будто вместе с ними пришли ко мне гонцы – звать меня на испытание или на казнь. Каждый день, если я слышу его приближение к постели, где я лежу, ничего не зная о нем, кажется мне днем чего-то великого, ожидающего меня, но у меня не достанет храбрости его встретить. Каждый день, если я чувствую, как он поднимается с ложа теней, стряхивая простыни на улицах и в переулках, приходит звать меня на суд. Я осужден в каждом наступающем сегодня. И, вечный осужденный, что живет во мне, цепляется за ложе, как за потерянную мать, и ласкает подушку так, будто это няня, что защитит его детскую от вторжения.
Счастливый отдых большого зверя под деревьями, свежая усталость оборванца среди высокой травы, вечернее оцепенение негра, нежность зевоты, все, что ласкает забвение, заставляя уснуть, подпирая украдкой ставни окна души, спокойствие отдыха в голове, безымянная ласка сна.
Спать, быть далеким, не зная об этом, находиться вдалеке, забыть о собственном теле; освободиться от сознания, укрыться в убежище забытого озера, застоявшегося между листвой деревьев в необъятном удалении лесов.
Ничто, дышащее снаружи, некая легкая смерть, от которой просыпаются с чувством тоски и свежести, переход от душевных хитросплетений к ласке забвения.
Ах, и снова с упорным протестом неубежденного слышу резкий шум дождя, шлепающего по проясняющейся вселенной. Чувствую холод, пронизывающий до костей, будто от страха. И, униженный, никто, человек наедине с собой, в рассеивающемся мраке, часть которого мне пока еще оставили, я плачу. Да, плачу, плачу от одиночества и от жизни, и моя боль, никчемная, как повозка без колес, лежит в куче реальности, среди мусора заброшенности. Плачу из-за всего, из-за утраты материнского лона, руки, касавшейся меня, из-за того, что я не знал рук, меня обнимавших, из-за плеча, на которое никогда не мог опереться… И день, что воссиял окончательно, печаль, что сияет во мне, как жестокая правдивость дня, то, о чем мечтал, о чем думал, что забылось, – все это в смеси теней, вымыслов и угрызений совести, соединяется в отпечатке миров и падает, точно остов виноградной кисти, съеденной на углу уличными мальчишками, ее укравшими.
Шум человеческого дня внезапно выливается в звук дверного колокольчика. Трещит слабая задвижка входной двери. Слышу шарканье домашних туфель в несуществующем коридоре, ведущем к моему сердцу. И резким движением самоубийцы отбрасываю воображаемое постельное белье, защищавшее меня. Я проснулся. Шум дождя отчетливо слышен в вышине наружной неопределенности. Я чувствую себя счастливее. Я исполнил что-то, мне неведомое. Поднимаюсь, иду к окну, открываю ставни с храброй решимостью. Сверкает дождливый день, что топит мои глаза в тусклом свете. Открываю створки окна. Свежий воздух увлажняет мою горячую кожу. Идет дождь, на первый взгляд такой же, на самом деле он гораздо слабее! Я хочу освежиться, жить и склоняю шею перед жизнью, как под безмерным ярмом.
Бывает в городе покой сельской местности. Выпадают моменты, особенно летом в полдень, когда в этом блестящем Лиссабоне нами завладевает поле, как свежий ветер. И здесь, на улице Золотильщиков, мы сладко спим.
Как хорошо для души молча смотреть на эти повозки с соломой под высоким горячим солнцем, на эти ящики, которые мастерят здесь, на этих медлительных прохожих из перенесенного сюда села! Я сам, наблюдая за ними из окна конторы, где я сижу в одиночестве, переселяюсь в тихий городок в провинции, в неизвестную деревушку, и счастлив потому, что чувствую себя другим.
Я хорошо знаю: если я подниму глаза, увижу перед собой неровную линию домов, немытые окна контор, окна тех верхних этажей, которые еще обитаемы, и наверху, на углу, у мансард, неизменную одежду – на солнце, среди цветочных горшков и растений. Я это знаю, но так нежен свет, золотящий все вокруг, так безмятежен спокойный воздух, обволакивающий меня, что у меня нет оснований, по крайней мере видимых, чтобы покончить с моей выдуманной деревней, с моим городком в провинции, где все занятия – покой.
Я хорошо знаю, хорошо знаю… Правда в том, что это час обеда, или отдыха, или перерыва. Все будет хорошо на поверхности жизни. Сам я дремлю, наклонившись с веранды, словно с палубы судна. Я беспечен, как будто на самом деле нахожусь в провинции. Но внезапно появляется что-то другое, меня обволакивает, мне приказывает: я вижу там, за тихим полуднем в маленьком городке, всю жизнь этого города; вижу большое глупое счастье домашней жизни, большое и глупое счастье жизни на полях, большое и глупое счастье покоя в грязи. Вижу потому, что вижу. Не увидев, просыпаюсь. Смотрю вокруг, улыбаясь, и прежде всего стряхиваю с рукавов костюма, к несчастью темного, пыль, собравшуюся на веранде, на которой никто не убирал, не зная, что это был именно тот день, тот момент, когда она является отдраенной палубой некоего судна, идущего под парусом в бесконечном туристическом путешествии.
…болезненная острота моих ощущений, даже идущих от радости; радость остроты моих ощущений, даже идущих от печали.
Пишу в одно из воскресений, поздним утром с нежным светом, в котором поверх неровных крыш города синева неба, всегда нового, покрывает забвением таинственное существование планет…
Воскресенье и во мне… Мое сердце тоже идет в некую церковь, неизвестно где, и идет, наряженное в одежды королевского бархата, с лицом, разрумянившимся от первых впечатлений, улыбающимся непечальными глазами над огромным воротником.
Небо продолжительного лета каждый день пробуждалось тусклым сине-зеленым и вскоре становилось голубым с примесью пепельного. На западе, однако, оно целиком было своего обычного цвета.
Говорить правду, встречать то, что ожидал, отрицать иллюзию всего сущего – сколькие это делают на спусках и на склонах и пятнают заглавными буквами словно в географических названиях и прославленных именах остроту страниц, сдержанных и ученых!
Картина случившегося завтра, того, что не могло бы случиться никогда! Ляпис-лазурь прерывистых эмоций! Скольким воспоминаниям дает приют надуманное предположение, помнишь ли, о ты, только призрак? И в состоянии лихорадки, перемежающейся уверенностью, легкий, быстрый, нежный шепот воды в парках рождает чувство – из глубины моего самосознания. Старинные пустые скамьи и аллеи покрывают пространство меланхолией пустынных улиц.
Ночь в Гелиополе![31] Ночь в Гелиополе! Ночь в Гелиополе! Если бы мне сказали эти бесполезные слова, чтобы возместить мне и кровь, и колебания!
Цветет в вышине, в ночном одиночестве, неизвестная лампа за каким-то окном. Все остальное, что я вижу в городе, темно, за исключением слабых отражений света на улицах, что поднимаются смутно и заставляют, то там, то здесь, колебаться перевернутый лунный свет, очень бледный. В черноте ночи даже дома совсем немного отличаются друг от друга, их различные цвета или оттенки – только смутные различия, можно даже сказать, абстрактные.
Невидимая нить меня связывает с неизвестным владельцем лампы. Это не бросающееся в глаза обстоятельство, что мы оба не спим: в этом нет возможной взаимности, ведь стой я у окна в темноте, он никогда бы не разглядел меня. Это нечто другое, только мое, что укрепляется несколько ощущением изолированности и является частью ночи и тишины, выбирая эту лампу в качестве точки опоры, потому что это единственная существующая точка опоры. Кажется, это оттого, что она зажжена, ночь такая темная. Кажется, это оттого, что я не сплю, мечтая во мраке, она светится.
Все, что существует, существует, возможно, потому, что существует нечто другое. Ничего нет, все сосуществует: возможно, именно так – верно. Чувствую, что я не существовал бы в этот час – не существовал бы, по крайней мере, так, как ныне существую, со всем настоящим самосознанием, которое, будучи сознанием и настоящим, представляет в этот момент меня – если бы лампа, некий маяк, не обозначающий ничего, со своим ложным преимуществом высоты не горела бы где-то там. Я чувствую это, потому что не чувствую ничего. Думаю это, потому что это – ничто. Ничто, ничто, часть ночи и тишины, и того, что с ними я – ничтожен, отрицателен, являюсь промежутком, пространством между мной и мной, чем-то, забытым неким богом…
Перечитываю в одном из этих состояний дремоты без сна некоторые из страниц, складывающихся в мою книгу бессвязных впечатлений. И от них поднимается, точно аромат чего-то знакомого, пустынное впечатление однообразия. Понимаю, говоря, что я всегда различен, говорил всегда об одном и том же; что я более подобен себе самому, чем готов признать; что, по сути, у меня не было ни радости приобретения, ни чувства потери. Я – это отсутствие сальдо самого себя, с неустойчивым равновесием, что меня печалит и ослабляет.
Все, что я написал, – темно. Можно было бы сказать, что моя жизнь, хотя и умственная, – это день с медленным дождем, в какой все является не случившимся, и сумерками, пустым преимуществом и забытым доводом. Становлюсь одиноким в рвущемся шелке. Не знаю себя – свет и скука.
Мое жалкое усилие, хотя бы сказать, кто я, записать, как машина, имеющая нервы, мельчайшие впечатления моей субъективной и напряженной жизни, все это опорожнилось во мне, точно ведро, на которое натолкнулись бы и содержимое которого впиталось в землю, точно вода всего сущего. Я изготовил поддельные краски и получил империю мансарды. Мое сердце, которому я обязан большими событиями яркой прозы, сегодня кажется мне записанным на протяжении этих страниц, перечитанных с другой душой, неким насосом в провинциальном саду, установленным и используемым инстинктивно. Я – потерпевший кораблекрушение в море, которое можно перейти вброд.
И я спрашиваю то, что осталось во мне сознательного в этих запутанных промежутках между несуществующими вещами, зачем мне было нужно заполнять столько страниц фразами, которым я доверял, как своим; эмоциями, которые считал обдуманными; знаменами и штандартами армий, что являются в конечном счете, бумагами, склеенными плевком нищей девочки, здесь, под карнизами.
Спрашиваю то, что во мне осталось от меня, зачем появляются эти страницы, предназначение которых – мусорная корзина, утраченные еще до того, как они окажутся среди бумаг, разорванных Судьбой.
Спрашиваю и продолжаю. Записываю вопрос, оборачивая его новыми фразами, обволакивая новыми эмоциями. И завтра снова буду писать, продолжая мою глупую книгу, ежедневные впечатления моего разубеждения.
Пусть они следуют, такие, каковы они есть. Для играющего в домино что проигрыш в игре, что победа: кости переворачиваются, и законченная игра – темна.
Что от Ада, Чистилища и Рая есть во мне – и кто знает у меня это выражение, несовместимое с жизнью… у меня, такого спокойного и такого кроткого?
Я не пишу португальским. Пишу самим собой.
Все для меня стало невыносимым, за исключением жизни. Контора, дом, улицы меня слишком угнетают; только совокупность их меня успокаивает. Да, чего-то здесь достаточно, чтобы меня утешить. Один луч солнца, вечно проникающий в вымершую контору; брошенная реклама, стремительно влетающая в окно моей комнаты; существование людей; климат и смена времен года; страшная объективность мира…
Луч солнца внезапно ворвался ко мне, внезапно я увидел его… это была, между тем, одна полоска света, очень тонкая, почти без цвета, режущая обнаженным клинком черный деревянный пол, оживляя вокруг себя старые гвозди и трещины между досками, черные линейки не-белого.
В последующие минуты я наблюдал неощутимый эффект проникновения солнца в спокойную контору… Захват карцера! Только заключенные так видят движения солнца, будто смотрят на муравьев.
Говорят, что скука – болезнь инертных или что она атакует лишь тех, кому нечего делать. Это недомогание души является, однако, более сложным: атакует тех, кто имеет к нему расположение, и менее щадит тех, кто работает или делает вид, что работает (что в данном случае одно и то же), чем поистине инертных.
Нет ничего хуже, чем контраст между естественным величием внутренней жизни и ее неведомыми странами и низостью жизненной повседневности. Скука сильнее угнетает, когда не оправдывается инерцией. Скука мужественных и усердных хуже всех прочих.
Скука – не болезнь отвращения оттого, что нечего делать, но в большей степени болезнь от чувства, что не стоит ничего делать. А если так, чем больше надо сделать, тем больше чувствуется скука.
Сколько раз поднимаю от книги, где делаю записи, выполняя свою работу, голову, свободную от всего мира! Для меня лучше было бы стать инертным, ничего не делая, не будучи должным ничего делать, потому что эта скука еще реальная, она бы, по крайней мере, была в моей власти. В моей сегодняшней скуке нет отдыха, нет благородства, нет благополучия, равного неблагополучию, есть уничтожение всех привычных действий, а не только потенциальная усталость от них, приводящая к тому, что их не совершаешь.
Омар Хайям
Скука Хайяма – это не скука того, кто не знает, что ему делать, потому что в действительности ничего нельзя делать или уметь делать. Это скука тех, кто родился мертвым, тех, кто самой природой ориентирован на морфий или кокаин. Она глубже и благороднее, эта скука персидского мудреца. Это скука того, кто размышлял глубоко и увидел, что все сумрачно; того, кто проанализировал все религии и все философии и затем сказал, как Соломон: «Все суета и томление духа», или как, прощаясь с властью и с миром, молвил другой владыка, император Септимий Север: «Omnia fui, nihil expedit».[32]
Жизнь, говорит Тард,[33] это поиск невозможного через бесполезное; так мог бы сказать Омар Хайям.
Отсюда и призыв перса к употреблению вина. Пей! Пей! – вот вся его практическая философия. Пить не от радости, не ради веселья, чтобы усилить саму радость. Пить не от отчаяния, когда пьют ради забвения, чтобы меньше было само отчаяние. К вину присоединяются радость, действие и любовь; и я заметил, что нет у Хайяма ни одного замечания об энергии, ни одной фразы о любви. Та Са́ки, чья изящная фигура смутно и редко возникает в рубайят, это не более чем «девушка, подающая вино». Поэт любуется ее стройностью, как любовался бы изящной амфорой с вином.
Радость идет от вина, как пишет Олдрич:[34]
Пять причин, чтоб пить до дна: Жажда, сам букет вина, Друг, ступивший на порог, Праздник – тосты дотемна, — И любой другой предлог.Практическая философия Хайяма превращается поэтому в эпикуреизм, оттененный минимально желанием удовольствия. Ему достаточно видеть розы и пить вино. Легкий ветерок, беседа без определенного намерения и цели, ковш вина, цветы – в этом и не более видит персидский мудрец максимальное наслаждение. Любовь слишком возбуждает и утомляет, действие бывает и ошибочным, никто не умеет ни знать, ни думать, лишая все блеска. Поэтому лучше заглушить в себе желания и ожидания и жалкие притязания объяснить мир или вздорное намерение его улучшить или им управлять. Все – ничто, или, как сказал один грек[35] и, следовательно, разумный человек: «Все приходит без причин».
Будем оставаться спокойно-равнодушными перед истиной или ложью всех религий, всех философий, всех гипотез, поддающихся бесполезной проверке, которые мы зовем науками. Так мало будет нас волновать судьба так называемого человечества и его страдания. Любовь к человеку, да, к «ближнему», как говорится в Евангелии, но не к тому, о котором там не говорится. И все мы до определенной степени являемся такими: беспокоит ли нас, лучших из нас, резня в Китае? Гораздо более болезненное и сильное впечатление на нас производит несправедливая пощечина, которую мы дали на улице какому-то ребенку.
Любовь и милосердие ко всем, близость – ни с кем. Так истолковывает Фицджеральд,[36] в одной из своих записей, принципы этики Хайяма.
Евангелие призывает к любви к ближнему: оно не говорит о любви к человеку вообще или к человечеству, на что действительно никто не может себя подвигнуть.
Возможно, меня спросят, сделал бы я своей философию Хайяма, те идеи, о каких здесь говорилось, и верю ли я, что с точностью написал бы ее снова и истолковал бы. Я отвечу, что не знаю. Есть дни, когда она мне кажется лучшей и даже единственной из всех практических философий. Бывают другие дни, в какие она представляется мне ничем, мертвой, бесполезной, как пустой стакан. Я не знаю себя, потому что думаю. Не знаю поэтому, что думаю на самом деле. Так бы не было, имей я веру; но так бы не было и будь я безумным. На самом деле, будь я другим, я и был бы другим.
За пределами светского мира есть, это ясно, тайные учения орденов неофитов, общеизвестные мистерии, то сокровенные и закрытые, то сопровождаемые публичными ритуалами. Есть скрытое или наполовину скрытое в великих католических обрядах, будь то почитание Девы Марии в Римской церкви или Святого Духа у франкмасонов.
Но кто в конечном счете нам скажет с уверенностью, что посвященный, когда он проникает в суть мистерий, не является только жертвой иллюзии с новым, иным лицом? Какую уверенность может иметь посвященный, если убежденность безумца – в том, что он абсолютно здоров, – гораздо тверже? Спенсер говорил: то, что мы знаем, это некая сфера, и чем более она расширяется, тем в большем числе точек контактирует с неизвестным. Не забываю, что посвящения могут управлять людьми, страшны слова одного из Учителей Магии:[37] «Уже видел Изиду». Это утверждение говорит следующее: «уже касался Изиды: не знаю, однако, существует ли она».
Омар Хайям
Омар имел индивидуальность; я – к счастью или к несчастью – ее не имею. Являюсь кем-то в один час, а в следующий отрекаюсь от него; забываю о том, кем я был накануне. Кто, подобно Омару, является тем, кто он есть, живет только в одном мире, в мире внешнем; кто, подобно мне, не является тем, кто он есть, живет не только во внешнем мире, но и в непрерывном и разнообразном внутреннем. Его философия при всех его усилиях никогда не сможет стать такой же, как у Омара. Таким образом, совершенно этого не желая в действительности, я несу в себе, словно душу, философию, которую я осудил; Омар мог отказаться от нее, потому что для него она была внешней; я же могу от нее отказаться, ибо она – это я сам.
Существует такая внутренняя боль, что мы не умеем отличить, что в ней от неуловимого и проникающего, от души она идет или от тела, недовольство ли это от того, что чувствуешь ничтожество жизни, или это плохое самочувствие, связанное с каким-то органическим расстройством – желудка, печени или мозга. Столько раз мутнело мое самосознание в тревожном мрачном застое! Столько раз мне было больно от собственного существования, тошно настолько, что я не в силах был понять, скука ли это или позыв к рвоте! Столько раз…
Моя душа сегодня печальна до такой степени, что печаль эта проникает и в плоть. Я весь пронизан болью – память, глаза, руки. Словно я весь поражен ревматизмом. Не влияет на мое существо ни промытая ясность дня, ни небо беспредельной чистой синевы, ни высокий прибой, застывший в рассеянном свете. Меня не успокаивает легкое свежее дуновение, осеннее, но еще не забывшее лета, если только воздух обладает памятью. Ничто для меня – ничто. Я печален, но не по какому-то поводу и даже не из-за отсутствия повода. Я печален вовне, на улице, уставленной ящиками.
Все эти слова не выражают точно моих чувств, потому что, без сомнения, ничто не может выразить чем бы то ни было чувства. Но соединение собственных ипостасей и того, что происходит вне меня, каким-то непостижимым образом становится мной.
Я хотел жить – различным – в далеких странах. Я хотел умереть другим под неизвестными знаменами. Хотел быть боготворимым владыкой в других эпохах, лучших, чем сегодняшний день, потому что я не принадлежу ему, эпохах, подобных цветным отблескам, загадочным сфинксам. Хотел всего, что может обернуться и оборачивается ничтожным, каким являюсь я сам. Хотел, хотел…Но всегда есть солнце, когда оно сияет, и ночь, когда она наступает. Есть всегда боль, когда мы ее испытываем, и сон, когда он нас баюкает. Есть всегда то, что есть, и нет того, что должно было быть, не от того, что оно лучше или хуже, но потому, что оно – другое. Есть всегда…
Грузчики убирают улицу, загроможденную ящиками. Смеясь и болтая, они складывают ящики один за другим на телеги. С высоты моего окна в конторе я смотрю на них сонными глазами из-под отяжелевших век. И неизвестное, непостижимое ощущение связывает меня с суетой на улице, запечатывает в ящик всю мою скуку, или тоску, отвращение, и поднимает его на несуществующую телегу. И свет дня, спокойный, как всегда, освещает тот угол в конце улицы и мальчиков на побегушках, поглощенных бесконечным бездельем.
Словно черная надежда, парило некое предвестие; дождь казался каким-то испуганным; глухая темнота пронизала все вокруг. И в неожиданном крике великолепный день раскололся. Свет холодного ада заполнил головы людей и все укромные уголки. Все оцепенело. Тяжесть упала, потому что потрясение прошло. Печальный дождь становился радостным с его шумом, влажным и смиренным. Сердце билось сильнее, и в мыслях царила путаница. Какая-то расплывчатая религия рождалась в конторе. Никто не оставался тем, кем был, и патрон Вашкеш возник у двери в кабинет, вспоминая, что он хотел сказать. Морейра улыбнулся, но его лицо еще было бледным от внезапного страха. И его улыбка говорила, что следующий раскат грома прозвучит уже издалека. Проезжавшая повозка заглушала шумы улицы. Телефон непроизвольно задрожал. Патрон Вашкеш, вместо того чтобы возвратиться в контору, прошел вперед к аппарату в большом зале. Воцарились покой и тишина, и дождь падал, точно в кошмарном сне. Патрон Вашкеш забыл о телефоне, который более не звонил. Посыльный беспокойно задвигался в глубине дома.
Радость отдыха и освобождения ошеломила нас. Мы стали ненормально милыми, чрезмерно вежливыми. Юноша-посыльный без всяких просьб раскрыл настежь окна. Запах свежести вырвался, точно морской ветерок, из большого зала внутрь конторы. Дождь, уже совсем небольшой, падал смиренно. Звуки улицы, оставаясь прежними, были иными. Слышались голоса ломовых извозчиков, звонки трамваев на соседней улице роднились с нами. Смех одинокого ребенка звучал щебетом канарейки в промытом воздухе. Легкий дождь шел на убыль.
Было шесть часов. Контора закрывалась. Патрон Вашкеш сказал возле полуоткрытого щита от ветра: «Можно выходить» – и произнес это как некое торговое благословение. Я быстро поднялся, закрыл книгу и спрятал ее. Положил ручку в углубление чернильного прибора, подойдя к Морейре, обнадеживающе сказал ему «до завтра» и пожал ему руку, словно благодаря за услугу.
Путешествовать? Для этого достаточно существовать. Я следую от одного дня к другому, как от станции к станции, на поезде моего тела или моей судьбы, наклоняясь над улицами и площадями, над движениями и лицами, всегда одинаковыми и всегда различными, составляющими в итоге картину мира.
Если воображаю, вижу. Что же я делаю еще, если путешествую? Только крайняя слабость воображения оправдывала бы необходимость перемещаться, чтобы чувствовать.
«Любая дорога, – говорит Карлейль,[38] – даже эта дорога из Энтефула, ведет тебя до предела мира». Но, если вернуться по той же дороге, предел мира, коль скоро мир завершился, – это тот самый Энтефул, откуда мы вышли. В действительности конец мира, как и его начало, – это наше понятие о мире. Это в нас самих красоты природы становятся таковыми. Поэтому, если я их воображаю, я их создаю; если я их создаю, они есть; если они есть, я вижу их, как и другие. Где путешествовать? Ехать в Мадрид, в Берлин, в Персию, в Китай, на оба полюса, – где бы я мог находиться, кроме как в себе самом и в своих ощущениях, с их особым типом и манерой?
Жизнь – это то, что мы делаем из нее. Путешествия – это путешественники. То, что мы видим, не есть то, что мы видим, но только то, чем мы являемся.
Единственный путешественник с правдивой душой, которого я знал, был мальчик из конторы, раньше он был служащим в каком-то другом доме. Этот паренек коллекционировал рекламные брошюры городов, стран и транспортных компаний; у него были карты: некоторые он вырывал из журналов, другие где-нибудь выпрашивал; были вырезанные из газет и журналов фотографии с видами, репродукции гравюр, рисунки лодок и судов. Он посещал туристические агентства как представитель какой-нибудь несуществующей конторы или, возможно, существующей конторы, может быть той самой, где он работал, и просил брошюры о путешествиях в Италию, брошюры о путешествиях в Индию, брошюры, выпущенные в связи с отношениями между Португалией и Австралией.
Это был не только самый лучший путешественник, потому что был самым правдивым из всех, мне известных; это был также один из наиболее счастливых людей, каких я когда-либо встречал. Жаль, я не знаю, что случилось с ним, или, вернее, полагаю, что должен был бы жалеть об этом; в действительности я не жалею, потому что сегодня, когда прошло десять лет или больше с того короткого периода, в течение которого я его знал, он наверняка превратился в мужчину, глупого, исполняющего свои обязанности, возможно женатого, общественную опору для кого-то, мертвого, наконец, в своей собственной жизни. Думаю, он даже способен путешествовать в действительности, он, кто так чудесно путешествовал в воображении.
Внезапно вспоминаю: он точно знал, почему железные дороги ведут из Парижа в Бухарест, почему железные дороги проходят через Англию, и, неправильно произнося иностранные названия, был искренне уверен в собственной значимости. Да, сегодня он, должно быть, живой мертвец, но, возможно, когда-нибудь в старости он решит, что мечта о Бордо не только лучше, но и реальнее, чем поездка в Бордо.
Да, я убеждаюсь порой, раздумывая над порочным различием между разумом детей и глупостью взрослых, что мы в детстве живем под защитой ангела-хранителя, которую одалживает нам собственный астральный разум, и что потом, – возможно, с сожалением, но повинуясь высшему закону, – он нас покидает, как самки-животных своих подросших детенышей, для самостоятельности, что является нашей судьбой.
С балкона этой кофейни я робко смотрю на жизнь. Вижу немного – она рассеянна в своем сосредоточении на этой небольшой площади. Течет вне меня, в шагах прохожих и в упорядоченной горячности движений, жизнь, очевидная и единая. В этот час чувства во мне парализованы, и все мне кажется чужим; мои ощущения – это какая-то ошибка, смутная и сияющая, я раскрываю крылья и парю на месте, точно некий выдуманный кондор.
Я – человек, полный идей, и кто знает, не является ли моим настоящим желанием оставаться здесь, за своим столиком в этой кофейне?
Все – пустое, будто роешься в золе, неопределенное, будто предрассветный час.
И свет бьет так спокойно и совершенно, освещая вещи, так золотя их реальностью, улыбающейся и печальной! Все таинство мира возникает перед моими глазами, врезываясь в банальность улицы.
Ах, как повседневность связана с таинством из-за нас! Как от поверхности, которой касается луч света, из этой сложной человеческой жизни, некий Час, неясная улыбка, поднимается к губам Таинства! Как современно все это звучит! И в глубине – такое древнее, такое скрытое, полное иного смысла, чем тот, очевидный и сияющий!
Чтение газет, всегда мучительное с эстетической точки зрения, часто является таковым и с точки зрения моральной, даже для того, кого мало волнуют моральные соображения.
Войны и революции – а та или другая происходит всегда – порождают, если вдуматься, не ужас, но скуку. Не бесчеловечность всех смертей и ранений, не самопожертвование тех, кто умер, сражаясь, или мертв без сражения, жестоко угнетает душу – нет, это глупость, что приносит жизни и имущества в жертву чему-то, неизбежно напрасному. Все идеи и все стремления – это заблуждение болтливых людей. Нет такой империи, что стоила бы даже разбитой куклы ребенка. Нет такого идеала, который заслуживал бы жертвы хотя бы жестяного паровозика. Какая империя является полезной или какой идеал – нужным? Все есть человечество и человечество всегда то же самое – разнообразное, но не совершенствующееся, колеблющееся, но не прогрессирующее. Перед неумолимым течением вещей, жизнью, которую мы вели, не зная как, и потеряли, не зная когда, перед игрой в десять тысяч шахмат, представляющей собой общественную жизнь и борьбу, перед скукой от бесполезного созерцания того, что никогда не реализуется… – что может сделать мудрец, кроме как просить о покое, потому что для жизни довольно немного солнца, и свежего воздуха, и мечты о покое там, за дальними горами.
Все те несчастливые случаи нашей жизни, когда мы выказали себя или нелепыми, или ничтожными, или отсталыми, будем считать неудобствами путешествия. В этом мире путешественники, вольные или невольные, – между ничем и ничем или между всем и всем, – мы являемся только пассажирами и не должны придавать преувеличенное значение тяготам пути. Утешаю себя этим, то ли чтобы утешить, то ли потому, что в этом есть нечто для меня утешительное. Но утешение-вымысел превращается для меня в истинное, если я не думаю о нем.
И потом, есть множество утешений! Есть синее высокое небо, промытое и спокойное, где плавает какое-то несовершенное облако. Есть легкий ветер, волнующий густые ветви деревьев, если это – в лесу; раскачивающий белье на балконных веревках, если это – в городе. Есть жара или прохлада, и всегда какая-то память или какое-то сожаление, и какая-то надежда или ничья улыбка у окна в никуда – все то, чего мы желаем, стучась в дверь, мы сами, как нищие, какие являются Христом.
Столько времени я не пишу! Я прожил в эти дни века отречения. Застоялся, как пустынное озеро в несуществующем оазисе.
Между тем разнообразная монотонность моих дней, последовательность, никогда не повторяющаяся, сама жизнь протекала неплохо. Неплохо протекала. Если бы я спал, она не протекала бы иным образом. Я застоялся, как несуществующее озеро в пустынном оазисе.
И зачастую я не узнавал себя – это часто происходит с теми, кто себя знает. Я присутствую при себе в различных масках из того, что притворяется всем.
Вспоминаю, далекий, погруженный в себя, как проникало в душу однообразие этого дома в провинции… Там я провел детство, но я не сумел бы сказать, даже если бы желал, был ли я тогда счастлив более или менее, чем в своей сегодняшней жизни. Тот, что жил тогда другим, не тем, кем я являюсь сейчас: это жизни различные, разные, несравнимые. Однообразие, что сближает их на поверхности, было, без сомнения, различием – внутри.
Что я вспоминаю? Усталость. Вспоминать – это отдых, потому что это не действие. Так, иногда, чтобы лучше отдохнуть, вспоминаю того, кем никогда не был, и нет ни четкости, ни ностальгии в моих воспоминаниях о провинции, где я находился.
Таким образом, я превратил себя в вымысел о себе самом, и любое естественное чувство, что у меня есть, зародившись, тотчас искажается во мне, превращается в воображаемое – в память в мечтах, в мечту о забвении о ней, в узнавание себя в не-думании о себе.
Так, я совлек с себя мою собственную сущность, ведь существовать – значит облачать себя в какие-то одежды. Только переодетый я являюсь тем, кем являюсь. И вокруг меня неизвестные закаты золотят, умирая, места, которых я никогда не увижу.
Современные вещи – это:
эволюция зеркал;
платяные шкафы.
Мы перешли границу существования в качестве созданий, облаченных в тело и душу.
И, так как душа всегда соответствует телу, мы обрели некое духовное одеяние. Мы преодолели границу обладания душой, перейдя в категорию одетых животных.
Это не только факт, что наше одеяние становится частью нас. Это также осложнение, связанное с этой одеждой, и ее любопытное свойство – не иметь почти никакой связи ни с природным изяществом тела, ни с его движениями.
Если бы меня попросили объяснить, из каких-то социальных соображений, чем является это мое состояние души, я бы молча указал на некое зеркало, на некую вешалку и на ручку с чернилами.
В легком утреннем тумане середины весны Байша просыпается в оцепенении, и солнце нарождается медленно. Есть спокойная радость в наполовину холодном воздухе, и жизнь, под легким ветерком, которого нет, вздрагивает от уже прошедшего холода – из-за памяти о холоде более, чем из-за холода, из-за сравнения с близким уже летом более, чем из-за погоды, которая стоит сейчас.
Еще не открыли магазины, за исключением молочных и кофеен, но это не покой оцепенения, а воскресенья; покой отдыха. Белокурый след предваряет себя самого в раскрывающемся воздухе, и синева бледнеет из-за густых прядей тумана. Начало редкого движения на улицах, видны отдельные пешеходы, и в немногих открытых высоких окнах тоже появляются рано встающие. Трамваи прочерчивают воздух своей движущейся морщиной, желтой и пронумерованной. И с каждой минутой улицы ощутимо заполнятся.
Я проплываю, обращая внимание только на ощущения, без мыслей, без чувств. Я проснулся рано, вышел на улицу – без каких-либо определенных намерений. Оглядываюсь, как тот, кто чего-то опасается. Смотрю, как тот, кто думает. И легкий туман чувств бессмысленно поднимается во мне; кажется, что густой туман с улицы медленно пропитывает меня.
Я против воли размышляю о своей жизни. Меня это не беспокоит, но это так. Я считал, что только смотрел и слушал, что в моем праздном движении было лишь отражение данных мне образов, белый экран, куда действительность проецирует цвета и свет вместо теней. Но было и большее, хотя я этого и не знал. Была еще душа, которая не принимала, и мои собственные рассеянные наблюдения были еще и неприятием.
Воздух мутнеет из-за отсутствия тумана, мутнеет из-за бледного света, с которым туман, казалось, перемешался. Внезапно я обращаю внимание на то, что шум усилился, что людей стало гораздо больше. Шаги большинства прохожих уже не такие торопливые. Возникают, нарушая свое отсутствие и меньшую торопливость других: быстрый, напористый шаг торговок рыбой, булочники, покачивающиеся при ходьбе от чудовищных корзин, что они несут, и одинаковость продавщиц, которые всего более разнятся содержанием их корзин, нарушают прежнюю неторопливость. Торговцы молоком гремят жестяными бидонами своих передвижных услуг как полыми ключами. Полицейские застыли на перекрестках – неподвижное опровержение цивилизации в невидимом движении восхождения дня.
Если бы я мог быть кем-то, кому дано видеть все так, будто он никоим образом не связан с ним, – наблюдать за всем будто взрослый путешественник, сегодня достигший поверхности жизни! Я не научился – от рождения и в дальнейшем – умению воспринимать все эти вещи, видеть их в проявлении, им присущем, не в том, которое им было навязано. Уметь узнать в женщине, продающей рыбу, ее человеческую реальность, независимо от того, что ее называют торговкой, и от знания, что она существует и что торгует. Видеть полицию, как ее видит Бог. Замечать все не как откровения Таинства, но как цветение Реальности.
Раздаются удары, отмечающие время, – колокол или большие башенные часы, – должно быть, их восемь, но я не считаю. По моему мнению, из-за пошлости – иметь часы, затворничество, какое социальная жизнь навязывает непрерывности времени – это граница абстрактного, предел неизвестного. Глядя на все, сейчас уже полное жизни и привычного человеческого присутствия, я вижу, что туман, освободивший все небо, за исключением того, что парит в синеве, пока еще отличный от настоящей синевы, вошел мне прямо в душу и в то же время проник внутрь всех вещей, туда, где они все соприкасаются с моей душой. Я потерял видение, которое имел. Ослеп, сохранив зрение. Чувствую с банальностью знания. Это теперь уже не Реальность: это просто Жизнь.
Да, жизнь, к которой я тоже принадлежу и которая принадлежит мне; уже не Реальность, что есть только от Бога или от себя самой, что не вмещает в себя ни мистерии, ни истины, что существует где-то неизменная, свободная от того, чтобы быть преходящей или вечной, абсолютный образ, идея какой-то внешней души.
Направляю медленно свои шаги к воротам, откуда снова поднимусь к моему дому. Но не вхожу; колеблюсь; следую вперед. Площадь да Фигейра, зевая товарами разных цветов, накрывает меня шевелящимся столпотворением уличного горизонта. Иду вперед медленно, мертвый, и мое зрение – уже не мое, уже не является ничем: это только зрение человека-животного, унаследовавшего против собственной воли греческую культуру, римский порядок, христианскую мораль и все другие иллюзии, образующие цивилизацию, внутри которой я нахожусь и чувствую.
Где находятся живые?
Я бы хотел быть сейчас в поле – для того, чтобы захотеть быть в городе. Хочу и так быть в городе, однако мое желание раздваивается.
Чем выше чувствительность и чем тоньше способность чувствовать, тем более нелепо она вибрирует и трепещет от самых незначительных вещей. Необходим сверхъестественный разум, чтобы ощущать гнетущее беспокойство перед мрачным днем. И человечество, которое не слишком чувствительно, не тревожится из-за времени, потому что время существует всегда; не чувствует дождя, пока он не льется ему на голову.
День, тусклый и апатичный, припекает влажно. Я один в конторе, провожу за газетой мою жизнь, и то, что в ней вижу, – как день, который меня угнетает и удручает. Вижу себя ребенком, довольным без причин, алчным подростком, мужчиной, без радости и стремлений. И все это протекало как-то вяло и тускло, точно день, который меня заставляет видеть или вспоминать.
Кто из нас может, возвращаясь на путь, откуда нет возврата, сказать, что следовал по нему, как должно было следовать?
Зная, что самые незначительные вещи могут с легкостью причинять мне мучения, намеренно уклоняюсь от соприкосновений с этими мелочами. Кто, подобно мне, страдает из-за облака, закрывающего солнце, не может не страдать в темноте всегда облачного дня своей жизни?
Моя обособленность – это не поиск счастья, ведь у меня нет души, чтобы его достичь; не поиск спокойствия, ведь его никто не находит, кроме тех, кто его и не терял, – это поиск сна, исчезновения, малого отречения.
Четыре стены моей бедной комнаты для меня и келья, и постель, и гроб. Мои самые счастливые часы – это те, в которые я совсем не думаю, ничего не хочу, даже не мечтаю, потерянный в оцепенении растения, простого мха, который мог бы расти на поверхности жизни. Наслаждаюсь без горечи абсурдным сознанием, что являюсь никем, предвкушением смерти и исчезновения.
У меня никогда не было человека, которого я мог бы назвать «Учитель». За меня не умер ни один Христос. Ни один Будда не указал мне пути. В вышине моих мечтаний ни один Аполлон, ни одна Афина не появились передо мной, чтобы озарить мою душу.
Но навязанное мне устранение от целей и от движений жизни, желанный разрыв с вещами привели меня, естественно, к тому, от чего я хотел убежать. Я не хотел ни чувствовать жизни, ни касаться вещей, зная благодаря опыту общения с развращенным миром, что ощущение жизни болезненно для меня. Но, избегая этого контакта, я изолировал себя и тем самым обострил свою чувствительность, уже и так чрезмерную. Если бы было возможно разорвать полностью все контакты с вещами, это пошло бы моей чувствительности на пользу. Но полная изоляция не может осуществиться. Самое меньшее, что можно делать, – дышать; самое меньшее из действий, что можно осуществлять, – шевелиться. И таким образом, обострив свою чувствительность путем изоляции, я получил и то, что ничтожнейшие обстоятельства, какие прежде не оказали бы на меня влияния, меня ранят, подобно катастрофам. Я ошибся, выбирая способ бегства. Я убежал неудобным, окольным путем, ведущим туда, где я уже был, и обрел лишь усталость от путешествия и ужас жить там.
Я никогда не рассматривал самоубийство в качестве возможного решения, потому что я ненавижу жизнь ради любви к ней. Потребовалось время, чтобы убедить себя в этом плачевном недоразумении, в каком я пребываю сам с собою. Убедившись в нем, остался недовольным, что всегда со мной случается, когда я убеждаю себя в чем-то, потому что убеждение неизменно является для меня потерей той или иной иллюзии.
Я утолил желание проанализировать это. Если бы ко мне вернулось детство, состояние, когда еще не анализируют и еще не желают!
В моих садах – мертвый сон, дремота водоемов под полуденным солнцем, когда жужжанье насекомых обостряется и жизнь меня гнетет не печалью, но физической болью.
Далекие дворцы, удивительные парки, теснота отдаленных аллей, застывшее изящество каменных скамей – мертвая торжественность, разрушенная прелесть, потерянная мишура. Моя тоска, которую забываю, ностальгическая печаль, с какой я мечтал о тебе.
Наконец я спокоен. Руины и расточительность исчезают из души, как будто их и не было вовсе. Остаюсь один и спокойный. Этот час, что проходит, – словно тот, когда меня обратили в другую религию. Ничто, однако, не влечет меня ввысь, хотя ничего и не привлекает в низком. Я чувствую себя свободным, словно перестал существовать, сохраняя при этом сознание.
Я спокоен, да, спокоен. Сильная жара, нежная, как бесполезность, заполняет меня до самого дна моего существа. Прочитанные страницы, исполненные обязанности, шаги и случайности жизни – все это для меня превращается в смутные сумерки, в какой-то еле видный ореол, огораживающий что-то тихое, неизвестное мне. Усилие, в которое я вложил забвение души; размышление, в которое я вложил забвение действия, – и то и другое обволакивает меня какой-то бесчувственной нежностью, от сострадания, грубого и пустого.
Это не день влажной ласки, облачный и мягкий. Это не дуновение бриза, почти неощутимое в свежем воздухе. Это не безымянный цвет неба, там и здесь слабо-голубого. Нет. Нет, потому что я этого не чувствую. Вижу без усилий, безнадежно. Я присутствую, внимательный, на никаком спектакле. Не чувствую в себе души, но я спокоен. Окружающие предметы, застывшие и четкие, даже те, что движутся, для меня сейчас то же, что для Христа были все царства мира с их славой, когда Его, возведенного на высокую гору, искушал Сатана. Они – ничто, и я понимаю, что Христос не соблазнился бы. Они – ничто, и я не понимаю, как Сатана, умудренный столькими знаниями, мог соблазнять этим.
Беги, неощутимая жизнь, речка в движущейся тишине под забытыми деревьями! Беги, неизвестная душа, журчание невидимого за огромными упавшими ветвями! Беги, бесполезная, беги без смысла, бессознательное сознание, блуждающий блеск, там, вдали, между зеленеющими полянами, неизвестно, куда и откуда идущий! Беги, беги, и позволь мне забыть!
Смутное дуновение, бесполезное журчание, иди к тени или к свету, иди к славе или к бездне, дитя Хаоса и Ночи, помня, что боги пришли позже и что боги тоже прошли.
Кто прочел предыдущие страницы этой книги, без сомнения, проникнется идеей, что я – мечтатель. Но он ошибется. Чтобы быть мечтателем, мне не хватает денег.
Большая меланхолия, печаль, исполненная скуки, не могут существовать иначе как только в атмосфере комфорта и умеренной роскоши. Поэтому Эгеус в «Беренике» Эдгара По, сосредоточиваясь на какой-то болезненной идее, поглощающей его целиком, делает это в старинном родовом замке, а там, за дверями большого зала, где покоится жизнь, невидимые дворецкие заботятся и о доме, и о еде.
Великая мечта требует определенных социальных обстоятельств. Однажды, восхищенный определенным движением, ритмическим и скорбным, его письма, я стал припоминать подробности биографии Шатобриана, и вскоре меня осенило, что я не был ни виконтом, ни даже бретонцем. В другой раз, когда я усмотрел в своих чувствах некоторое сходство с Руссо, я также припомнил, что не имею привилегии быть дворянином и владельцем замка, быть швейцарцем и бродягою.
Но все же и улица Золотильщиков – часть вселенной. Также и здесь Бог нам дарует немало загадок жизни. И поэтому, если и убоги, как вид телег и ящиков, мечты, что я извлекаю из колес и досок, они для меня то, что у меня есть, то, чем я владею.
Где-то там, нет сомнения, пылают закаты. Но даже здесь, на пятом этаже, можно размышлять о бесконечности. Да, бесконечность со складами внизу, но ведь и со звездами тоже… Вот о чем я думаю в конце этого вечера у открытого окна наряду с критическими размышлениями о буржуазии, к которой я не принадлежу, и с переживаниями поэта, которым я никогда не смогу быть.
С приходом зрелого лета я погружаюсь в печаль. Кажется, что блеск летних часов должен ласкать того, кто сам не знает, кто он. Но нет, мне кажется, он меня не ласкает. Слишком велик контраст между жизнью, бурлящей сейчас, и тем, что чувствую я – непогребенный труп собственных ощущений. У меня рождается впечатление, что я живу на этой аморфной родине, что зовется вселенной, под политической тиранией, что, хотя и не угнетает меня прямо, тем не менее оскорбляет какие-то сокровенные глубины моей души. И тогда опускается на меня, глухо, медленно, тоска от предвидения невозможного изгнания.
Я сплю, но не обретаю физического покоя, который дарят сны, даже болезненные. Не забываю о жизни, погружаясь в сновидения. Мой сон отягощает веки, но не смежает их, мучит тело великой бессонницей души.
Только с приходом ночи я ощущаю – нет, не радость – удовлетворение, которое обычно сопутствует покою. В это время сон проходит, умственная сумятица, принесенная сном, проясняется, почти освещается. Приходит ненадолго надежда на что-то другое. Ее сменяет бессонная скука, грустное наступление дня. Бедная душа, уставшая от тела, я вижу из своего окна множество звезд, пустяк, ничто, но множество звезд…
Человек не должен видеть свое лицо. Это – самое страшное. Невозможность увидеть собственное лицо и уставиться в свои собственные глаза – дар Природы.
Лишь свое отражение в водах следовало бы разглядывать человеку. Даже поза, удобная для этого, символична. Видеть себя позорно. Создатель зеркала отравил человеческую душу.
В этот день я читал свои стихи, читал хорошо, потому что увлекся, и слушатели сказали мне с естественной простотой: «Вы, вот так и с другим лицом, были бы великим обольстителем»… Слово «лицо» подняло меня над собой туда, где я себя не узнаю. Я видел отражение своей комнаты, своего бедного лица; и внезапно зеркало повернулось, и передо мной открылся призрак улицы Золотильщиков.
Острота моих ощущений превращается в болезнь. Но ею страдает другой, а я – всего лишь больная часть его. Я – точно клетка, отвечающая за весь организм.
Если я размышляю, значит, я брежу; если мечтаю, это потому, что пробудился. Все во мне запуталось и не имеет определенной формы, не умеет быть кем-то.
Когда мы живем постоянно в абстрактном – будь это абстрактность мышления или же мыслимого ощущения, – то вскоре, против нашего собственного чувства или желания, мы превращаем себя в призраки реальных существ, которые должны были бы чувствовать сильнее нас.
Известие о болезни или смерти лучшего друга, настоящего друга, вызывает у меня лишь ощущение, смутное, неопределенное, стертое, так, что мне стыдно его чувствовать. Только непосредственное видение случившегося, его образ могли бы пробудить во мне сильные чувства. Принуждать себя жить воображением – это разрушать его власть, умение воображать реальное. Живя мысленно несуществующим и невозможным, мы придем к тому, что не сможем думать о возможном.
Мне сегодня сказали, что моего старого друга, которого я редко вижу, но никогда не забываю, положили на операцию, и я предположил, что стану беспокоиться о нем. Единственное, что я ощутил, это была досада от необходимости навещать его, и тут же с иронией подумал, что если все же не заставлю себя сделать это, буду потом раскаиваться.
Ничего больше… Так, сражаясь с тенями, я сам себя превратил в некую тень – в том, о чем думаю, что чувствую, чем являюсь. Ностальгия по тому нормальному, кем я никогда не был, входит тогда в субстанцию моего существа. Но, однако, это и только это – что я чувствую. Я не чувствую настоящей жалости к другу, которому предстоит операция. Я не чувствую настоящей жалости ко всем людям, которым предстоят операции, ко всем, кто страдает и мучится в этом мире. Чувствую огорчение только оттого, что не умею быть тем, кто бы чувствовал жалость.
И в какой-то момент я обнаруживаю, что думаю о другом, неизбежно, под влиянием непонятного импульса. И тогда, будто в бреду, во мне перемешивается то, чего я не смог почувствовать, чем я не смог быть, шум деревьев, звук текущей воды, какое-то несуществующее поместье… Делаю усилия, чтобы чувствовать, но уже не знаю, как это – чувствовать. Я превратил себя в тень себя самого, того, кому я вручил бы свое существование. В противоположность Петеру Шлемилю[39] я продал Дьяволу не свою тень, но свою сущность. Страдаю от не-страдания, от неумения страдать. Живу я или делаю вид, что живу? Сплю или бодрствую? Непостоянный ветерок, появившийся, свежий, посреди дневной жары, заставляет меня забыть обо всем. Мои веки приятно тяжелеют… Я чувствую, что то же самое солнце золотит поля, где меня нет и где я не хочу находиться… Из шумов города складывается тишина… Какая нежная! Но она была бы нежнее, возможно, если бы я мог чувствовать!..
Сам процесс писания потерял свою сладость для меня. Он стал таким обычным, не только само действие – дать выражение эмоциям, но и совершенствование фраз, которые составляю, как другой ест или пьет, с большим или меньшим вниманием, но наполовину отчужденный и потерявший интерес, наполовину внимательный и не имеющий ни энтузиазма, ни блеска.
Говорить – это иметь преувеличенное уважение к другим. Рот есть причина смерти рыбы и Оскара Уайльда.
Поскольку мы могли бы считать этот мир иллюзией и призраком, мы сможем считать все, что случается с нами, сновидением, вещью, которая представляется реальной, так как мы спим. И так родится в нас равнодушие, острое и глубокое, ко всем неловкостям и несчастьям жизни. Те, кто умирает, заворачивают за какой-то угол, и поэтому мы уже их не видим; те, кто страдает, проходят перед нами; если мы это чувствуем – точно кошмарный сон, если думаем об этом – точно неприятное мечтание. И наше собственное страдание не будет бо́льшим, чем это ничто.
Ничего больше…Немного солнца, немного ветра, несколько деревьев, обрамляющих горизонт, желание быть счастливым, печаль оттого, что дни проходят, знание, всегда неопределенное, и истина, всегда предоставляющая возможность ее поиска… Ничего больше, ничего больше… Да, ничего больше…
Достигать, в мистическом состоянии, только того, что в нем приятно, а не того, что взыскательно; пребывать в состоянии экстаза без мысли о каком-либо боге, как мистик или посвященный – без посвящения; проводить текущие дни в медитации о некоем рае, в который не верится, – все это имеет вкус души, если она знает, что такое не знать.
Проходят высокие – надо мной, где я нахожусь, где вся моя фигура в тени, – молчаливые облака; проходят высокие – надо мной, где я нахожусь, душа-пленница в некоем теле, – неизвестные истины… Проходит высоко все… И все проходит – в вышине, как и внизу, – без облака, что оставляет больше, чем дождь, или истины, что оставляет больше, чем боль… Да, все высокое проходит высоко и проходит; все, чего хочется, находится вдали и проходит вдали… Да, все привлекает, все – чужое, и все проходит.
Разве мне важно знать, солнце или дождь, тело или душа, если я прейду тоже? Ничего, кроме надежды, что все – ничто, и, следовательно, ничто – это все.
В любой душе, если она не уродлива, существует вера в Бога. Ни в какой душе, кроме уродливой, не существует веры в определенного Бога. Это какое-то существо, живущее и невозможное, что управляет всем; чью личность, если оно ее имеет, никто не может определить; чьих намерений, если они имеются, никто не может понять. Называя его Богом, мы говорим все, потому что слово «Бог» не имеет четкого смысла, так мы утверждаем его, ничего не говоря. Атрибуты бесконечности, вечности, всемогущества, наивысшей справедливости или доброты, которые порой ему приписываем, отпадают сами, как прилагательные-определения, не являющиеся необходимыми для определяемого существительного. И Он, кому из-за Его неопределяемости мы не можем вручить атрибуты, является именно поэтому абсолютным существительным.
Та же уверенность и та же неясность касаются состояния души после смерти. Все мы знаем, что умрем; все мы чувствуем, что не умрем. Это не просто желание, не надежда, несущая нам это видение в темноте, отчего смерть становится чем-то малопонятным: это умозаключение, сделанное самим нутром, которое отвергает…
Один день
Вместо обеда – ежедневная необходимость! – я пошел посмотреть на Тежу и вернулся, чтобы бродить по улицам, даже не предполагая, что замечу некую пользу для души в том, чтобы видеть все это… Хотя бы так…
Жить не стоит. Стоит только смотреть. Умение смотреть, не живя, привело бы к счастью, но оно невозможно, как обычно бывает со всем, о чем мы мечтаем. Экстаз, который не включал бы в себя жизнь!..
Создать, по меньшей мере, новый пессимизм, новое отрицание, чтобы мы могли иметь иллюзию, что от нас что-то, хотя бы и на беду, но осталось!
«Отчего вы смеетесь?» – раздался рядом со мной голос Морейры.
«Это я перепутал названия, которые писал…» – угомонился я.
«Аа…» – сказал быстро Морейра, и пыльный мир снизошел снова на контору и на меня.
Господин Виконт де Шатобриан здесь подводит баланс! Господин учитель Амьель – здесь, на высокой скамье! Господин граф Альфред де Виньи подсчитывает дебет в Гранделе![40] Сенанкур[41] – на улице Золотильщиков!
Отворачиваюсь от парапета, чтобы разглядеть еще раз мой бульвар Сен-Жермен, и как раз в это время сообщество лесорубов высыпается на улицу.
И между размышлениями обо всем этом и курением усмешка смешивается с дымом и изливается в застенчивом припадке смеха.
Многим покажется, что этот мой мной написанный дневник является слишком искусственным. Но это – моя натура – быть искусственным. И потом, чем я буду себя развлекать, если не старательным созданием этих заметок духа? Впрочем, я не пишу их старательно. И так же без тщательности шлифовальщика, их группирую. Я просто думаю естественно на этом своем изысканном языке.
Я – человек, для которого внешний мир – это внутренняя реальность. Чувствую это не метафизически, но с помощью обычных ощущений, которые помогают мне понять действительность.
Мое вчерашнее легкомыслие сегодня обернулось постоянной ностальгией, что мне подтачивает жизнь.
Есть монастыри временны́е. Сумерки наступили в уединении. В голубых глазах водоемов последнее отчаяние отражает смерть солнца. Мы были столькими вещами из старых парков; так сладострастно мы включались в них, в присутствие статуй, в английскую гравировку аллей. Одежды, рапиры, парики, движения, кортежи настолько принадлежали субстанции, из которой наш дух был создан! Мы – кто? Только струя фонтана в пустынном саду, летящая вода, бьющая уже не так высоко в своем печальном желании летать.
…и лилии на берегах далеких рек, холодных – потерявшихся одним вечным вечером в глубине настоящих континентов.
(лунная сцена)
Весь пейзаж не находится ни в одной стороне.
Внизу, отдаляясь от высоты, где я нахожусь в шероховатостях тени, спит в лунном свете целый северный город.
Отчаяние тоски, гнетущее беспокойство от существования заключенным в себе, разливается во мне, не выходя за границы меня, запутывая мое существование нежностью, страхом, болью и отчаянием.
Такой необъяснимый избыток абсурдной печали, такая безутешная боль, такое сиротство, такая метафизически моя […]
Расплывается перед моими тоскующими глазами нечеткий, безмолвный город.
Дома различаются в своем изменившемся агломерате, и лунный свет пятнами неопределенности застаивается перламутром в мертвых толчках путаницы. Крыши и тени, окна и Средние века. Нет ничего вокруг. Пари́т слабый свет издали. Там, где я могу видеть, черные ветви деревьев, и мне снится сон о целом городе в моем отказавшемся сердце. Лиссабон в лунном свете, и моя усталость от завтрашнего дня!
Какая ночь! О Тот, кто был причиной всех подробностей этого мира, сделай так, чтобы не было для меня лучшего состояния или мелодии, чем та лунная фаза, когда я не узнаю самого себя.
Ни ветер, ни люди не прервут того, чего я не думаю. Мне снится сон так же, как мне снится жизнь. Я только чувствую на веках нечто, их отягощающее. Слышу собственное дыхание. Сплю или проснулся?
Тяжело мне от печати на чувствах, которую ощущаю, идя пешком туда, где живу. Ласка угасания, цветок, данный напрасно, мое имя, никогда не произносимое, мой непокой между берегами, привилегия отступничества от обязанностей, и на последнем повороте родового парка другое столетие с розарием.
Я, как всегда, вошел в парикмахерскую, с удовольствием от того, что мне легко входить непринужденно в знакомые дома. Моя чувствительность к новому сопряжена с тревогой: я спокоен только там, где уже был.
Усевшись, я спросил у молодого парикмахера, который повязывал мне на шею кусок льна, чистый и холодный, как себя чувствует его коллега справа, который был постарше и отличался остроумием, – я случайно вспомнил, что он был болен. Я задал этот вопрос не потому, что мне это было действительно интересно: просто подвернулась возможность спросить. «Вчера скончался», – ответил он без выражения, а его пальцы скользили по моему затылку. Все мое иррационально-прекрасное настроение исчезло, как парикмахер, теперь навечно отсутствующий за столиком справа. Все, о чем я думал, пронизал холод. Я ничего не ответил.
Ностальгия! Я чувствую ее, даже когда ничего со мной не случается, просто тоска оттого, что время убегает, болезнь, вызванная мистерией жизни. Я опечалюсь, если больше не увижу лиц, которые я обычно видел на привычных улицах, а ведь они не были для меня никем, если бы не были символом всей моей жизни.
Равнодушный старик в грязных гамашах, который часто пересекается со мной в 9.30 утра? Хромой продавец лотерейных билетов, что без толку докучал мне? Кругленький румяный старичок с сигарой у двери в табачную лавку? Бледный хозяин табачной лавки? Что же сделалось с ними со всеми, ведь оттого, что я их видел много раз, они стали частью моей жизни? Завтра я опять погружусь в Серебряную улицу, в улицу Золотильщиков, в улицу Мануфактурщиков. Завтра я – душа, чувствующая и думающая, вселенная, которой я являюсь для себя, – да, завтра я опять буду тем, что перестало происходить на этих улицах, что другие будут смутно воскрешать в памяти со словами «что будет с ним?» И все, что я делаю, все, что я чувствую, все, чем живу, не будет ничем бо́льшим, нежели просто каким-то прохожим в повседневности улиц какого-то – любого – города.
Большие отрывки
Пессоа в одной из заметок высказал идею отдельной публикации больших отрывков под названием «грандиозные», ссылаясь на «Симфонию тревожной ночи», которая невелика по объему, хотя и называется грандиозной. В настоящее издание включены ранние отрывки – большие, либо по объему, либо по намерению автора, либо имеющие сходство с другими отрывками, здесь объединенными.
Зависть богов
Каждый раз, получая удовольствие от компании, я завидую ощущениям своих товарищей. Мне представляется неким бесстыдством, что они могут чувствовать то же самое, что и я, что мне обнажают душу против моего желания, оттого что душа моя чувствует в унисон с ними.
Большое препятствие для гордости, которую я мог бы испытывать, созерцая красоты природы, – то горестное обстоятельство, что их уже определенно кто-то созерцал.
В другие часы, конечно, и в другие дни. Но заставлять себя отмечать это – некое схоластическое самоуспокоение, и я чувствую себя выше этого. Я знаю, что различие не столь важно, что с той же способностью видеть другие обладали неким способом видения окружающего, не таким же, но похожим на мой.
Ободряю себя тем, что я всегда изменяю то, что вижу, – так, чтобы превратить его во что-то неоспоримо мое, – изменяю, сохраняя по-прежнему прекрасной линию очертаний горной гряды; заменяю деревья и цветы другими, главным образом теми же самыми, но совершенно отличными по форме; вижу другие цвета, образующие тот же эффект заката – и так я создаю, благодаря своему опыту, знаниям, и собственному спонтанному видению, внутреннюю тональность из внешней.
Это, однако, самая малая степень замещения видимого. В мои хорошие и самые отрешенные моменты мечтаний я воздвигаю более грандиозные вещи.
Я заставляю пейзаж звучать для меня музыкально, воскрешать в моей памяти зрительные образы – интересный и труднейший триумф экстаза, такой трудный потому, что фактор, способствующий воспоминаниям, имеет тот же порядок, что и ощущения от того, что именно должно воскреснуть в памяти. Мой наивысший триумф свершился, когда в некоем неясном освещении, глядя на Кайш-ду-Содре́,[42] я четко увидел китайскую пагоду со странными бубенчиками по краям крыш, точно нелепые шляпы, – любопытная китайская пагода, раскрашенная в пространстве, над атласным пространством, не знаю, как именно, над пространством, которое длится в отвратительном втором измерении. И этот час имел для меня запах какой-то ткани, далекой, стелющейся по земле, завидующей действительности…
Письмо
Так ты понимала бы свой долг перед созданиями, являющимися видениями некоего мечтателя. Ты – всего лишь кадило в соборе мечтаний. Ты будешь приспосабливать твои движения, как мечты, чтобы были только открытыми окнами, выходящими на новые просторы твоей души. Воссоздавать свое тело в подражание мечте таким образом, чтобы было невозможно видеть тебя, если не думать о другом, чтобы ты могла помнить обо всем, кроме себя самой, чтобы видеть тебя значило слушать музыку и пересекать, сомнамбулой, огромные пространства с мертвыми озерами, глухие молчаливые леса, потерянные в глубине других эпох, где разнообразные невидимые пары переживают чувства, нам недоступные.
Я ничего от тебя не хочу, хочу только, чтобы я тебя не знал. Хотел бы, если бы ты возникла, когда я мечтал, чтобы я смог вообразить себя все еще мечтающим – может быть, не видя тебя, но, может быть, замечая, что лунный свет заполнил… мертвые озера и что отголоски песен заколыхались внезапно в огромном темном лесу, потерянном в невозможных веках.
Твое видение было бы ложем, где моя душа заснула бы, больное дитя, чтобы мечтать опять под другим небом. Ты будешь говорить? Да, но так, чтобы слушать тебя значило не тебя слушать, но видеть, как большие мосты в лунном свете соединяют два темных берега реки, текущей в древнее море, где каравеллы никогда не стареют.
Ты улыбалась? Я не знал этого, но на моих внутренних небесах начали свое движение звезды. Ты дремала и смотрела на меня. Я не замечал этого, но смотрел на далекое судно, чей парус мечты развернулся под лунным светом, идя вдоль далеких побережий.
Водопад
Дитя знает, что кукла – неживая, но обращается с ней, точно с живой, даже плачет о ней и переживает, когда она ломается. Искусство ребенка – неосуществление. Благословен будь этот возраст ошибок, когда отрекаются от любви из-за того, что не имеют пола, когда отрекаются от действительности ради игры, воспринимая, как реальные, вещи, не являющиеся таковыми!
Если бы я мог снова стать ребенком и остаться им навсегда, чтобы не были для меня важны ни те ценности, которые люди придают вещам, ни те связи, которые люди устанавливают между ними. Когда я был маленьким, я часто ставил своих свинцовых солдатиков вверх ногами… И разве есть какой-то довод, логически точный и убедительный, какой бы нам доказал, что настоящие солдаты не должны ходить вниз головой?
Дитя ценит золото не выше стекла. А разве в действительности золото дороже? Дитя считает непонятными и нелепыми страсти, злобу, страхи, видя всю их глупость в поступках взрослых. И разве не являются действительно нелепыми и пустыми все наши страхи, и вся наша ненависть, и вся наша любовь?
О, божественная и бессмысленная интуиция детства! Истинное видение вещей, которые мы одеваем условностями в наибольшей наготе видения, которые мы обволакиваем туманом своих идей в самом пристальном взгляде!
Окажется ли Бог тоже ребенком, очень большим? Вся вселенная не кажется ли забавой, проказой лукавого ребенка? Так нереально…
Я кинул вам, смеясь, эту мысль – на воздух, и посмотрите, как, увидев ее на расстоянии от меня, я вдруг замечаю, как она страшна! И кто знает, не содержит ли она истину? И она падает и разбивается у моих ног, превращаясь в пыль ужаса и осколки тайны…
Пробуждаюсь, чтобы знать, что я существую…
Огромная неопределенная скука булькает, ошибочно свежая, в мои уши, из водопада, отделанного пробкой, внизу, там, в нелепой глубине сада.
Кенотаф
Ни вдова, ни сын не положили ему в рот обола, которым он смог бы расплатиться с Хароном. Для нас они – померкшие, глаза того, кто пересек Стикс и увидел девять раз отраженное в водах лицо, которого мы не знаем. Не имеет имени меж нами тень, отныне блуждающая по берегам печальных рек; его имя – это тоже тень.
Он умер за родину, не зная как и почему. Его жертва овеяна славой неизвестности. Он отдал жизнь от всей полноты своей души: в результате порыва, а не из чувства долга; из-за любви к родине, а не сознавая необходимость жертвы. Защищал ее, как сыновья защищают мать, не логически рассуждая, но только по праву рождения. Верный первобытной тайне, он не думал и не хотел думать, но прожил свою смерть инстинктивно, как проживал и свою жизнь. И тень его теперь соединилась с теми, кто пал при Фермопилах, верными всей плотью своей обету, с которым они родились.
Он умер за родину, как солнце рождается каждый день. Был по своей природе тем, во что Смерть должна была его превратить.
Он не пал, служа какой-то пламенной вере, его не убили в битве из-за низости какого-то великого идеала. Свободный от оскорблений веры и от ничтожной надежды, он не пал, защищая какую-то политическую идею, или будущее человечества, или какую-то религию. Далекий от веры в другую жизнь, которой себя обманывают легковерные магометане и последователи Христа, видел приближающуюся смерть, не ожидая от нее иной жизни, видел уходящую жизнь, не надеясь на жизнь лучшую.
Он прошел естественно, как ветер и день, унося с собою душу, которая делала его отличным от других. Погрузился в тень, как тот, кто входит в дверь, к которой он шел. Он умер за родину, это единственное, делающее его выше нас, имеющих разум и знание. Рай магометанина или христианина, трансцендентальное забвение буддиста не отражались в его глазах, когда в них погасло пламя, делавшее его живым на земле.
Он не знал, кем был, как мы не знаем, кто он. Он исполнил свой долг, не зная, что он исполняет. Его вело то, что заставляет розы расцветать и заставляет быть прекрасной смерть листьев. Ни жизнь не знает лучшего основания, ни смерть – лучшей награды.
Теперь он посещает, покорный велению богов, места, где нет света, проходя берегами Коцита и Флегетона и слыша в ночи легкий плеск мертвенно-бледной летейской волны.
Он – безымянный, как инстинкт, его убивший. Он не думал, что умирает за родину; он умер за нее. Он не решил выполнить свой долг; он его выполнил. Для того, чья душа была безымянна, будет справедливо не спрашивать, каким именем определялось его тело. Он был португальцем; не неким португальцем, но португальцем – без ограничений.
Его место – не рядом с основателями Португалии, личностями другого роста и с другим сознанием. Ему не подходит компания полубогов, чья отвага открывала морские пути и покоряла больше земель, чем было в пределах нашей досягаемости.
Ни статуя, ни надгробная плита не смогли бы рассказать, кем был тот, кто был нами всеми; раз он – это весь народ, его могилой должна быть вся эта земля. В его собственной памяти должны мы похоронить его, а в качестве надгробной плиты положить только его же собственный пример.
Советы неудачно вышедшим замуж
К неудачно вышедшим замуж относятся все замужние женщины и некоторые незамужние.
Особенно избегайте развивать у себя человеколюбие. Гуманность – это некультурность. Пишу холодно, рассудочно, думая о вашем хорошем самочувствии, бедняжки, неудачно вышедшие замуж.
Все искусство, все освобождение состоит в том, чтобы подвергнуть дух наименее возможному, опуская его в тело, которое покоряется желанию.
Быть аморальной не стоит, поскольку это умаляет в глазах других вашу личность или ее опошляет. Быть аморальной внутри себя, окруженной максимальным уважением людей. Быть женой и матерью, телесно чистой и преданной, и совершать при этом необъяснимые оргии со всеми мужчинами по соседству, от бакалейщиков до… – вот какое самое сильное ощущение получает та, кто действительно хочет обладать своей индивидуальностью и расширять ее, не опускаясь до приемов домашней прислуги, что было бы низко, и не впадая в суровую порядочность женщины непоправимо тупоумной, порядочность, что является, наверное, «дочерью выгоды».
Руководствуясь вашим превосходством, вы, женские души, что читаете меня, сумейте понять то, о чем пишу. Все удовольствие идет от мозга; все преступления, как уже говорилось, «осуществляются в наших мечтах». Я помню об одном преступлении, по-настоящему прекрасном. Его не было никогда. Они прекрасны, те, о которых мы не вспоминаем. Борджиа совершал прекрасные преступления? Поверьте мне, что не совершал. Кто их совершал, прекраснейшие, пурпуровые, роскошные, это была наша мечта о Борджиа, была идея о Борджиа, что присутствует в нас. Я уверен, что Цезарь Борджиа, который существовал, был пошлым и глупым; должен был быть таким, ибо существование всегда глупо и пошло.
Даю вам эти советы совершенно незаинтересованный, применяя мой метод к случаю, который меня не интересует лично, мои мечты – об Империи и о славе; они ни в коей мере не чувственны. Но хочу быть вам полезным, хотя бы это более ни к чему не привело, кроме моего собственного отвращения, потому что я ненавижу полезность. Я – альтруист, но на свой собственный манер.
Я собираюсь научить вас, как можно изменять мужу в воображении.
Поверьте мне: только заурядные создания изменяют мужу реально. Целомудрие sine qua non[43] – одно из условий сексуального наслаждения. Отдаваться более чем одному мужчине – это убивает целомудрие.
Признаю, что низменное существо женщины нуждается в самце. Считаю, что она, по крайней мере, должна ограничиться только одним самцом, сделав из него, если ей это необходимо, центр некоего круга воображаемых самцов.
Лучшее обстоятельство, когда можно это делать, – дни, непосредственно предшествующие менструации.
Итак:
Представим вашего мужа с более светлой кожей. Если вообразить правильно, вы почувствуете его, со светлой кожей, рядом с собой.
Запоминайте все движения чрезмерной чувственности. Целуйте мужа, тело которого вы ощущаете на своем теле, и поменяйте его в воображении на мужчину, которого вы находите красивым и который находится сейчас в вашей душе.
Сущность наслаждения – его развертывание. Выпустите на свободу кошачье начало.
Как докучать мужу.
Важно, чтобы муж время от времени раздражался.
Существенно – начать чувствовать притяжение к вещам, внушающим отвращение, не теряя при этом внешней дисциплины.
Самая большая внутренняя недисциплинированность, соединяясь с максимальной внешней дисциплиной, составляет совершенную чувственность. Каждое действие, реализующее мечту или желание, на самом деле делает это неосуществимым.
Замещение – не так трудно, как это считается. Называю замещением ту практику, которая состоит в воображаемом наслаждении с одним мужчиной в момент близости с другим […]
Мои дорогие ученицы, желаю вам, правильно слушаясь моих советов, бесчисленных и развивающихся наслаждений не «с», но «посредством» животного самца, с которым Церковь или Государство вас соединили плотью и фамилией.
И прочно утвердиться ногами на земле, как птица освобождается для полета. Пусть этот образ, дорогие мои, послужит вам постоянным напоминанием о единственной духовной заповеди.
Быть кокоткой, полной всех возможных пороков, не изменяя мужу даже взглядом, – наслаждение от этого, если вы только сумеете его достичь.
Быть кокоткой внутри, изменять мужу внутри, изменяя ему в его объятиях, ведь не для него то ощущение от поцелуя, когда вы его целуете, – ох, лучшие женщины, о мои таинственные Живущие Умом, наслаждение – в этом.
Почему я не советую того же мужчинам? Потому что мужчина – другое существо. Если ему необходимо низкое, порекомендую ему связи со столькими женщинами, со сколькими он сможет: пусть делает это и заслуживает моего презрения, когда… А высший мужчина не имеет потребности ни в одной женщине. Для его наслаждения не нужно сексуальное обладание. Ну а женщина, даже высшая, не вместит подобного: женщина по сути своей сексуальна.
Декларация об отличии
Вещи, связанные с Государством и городом, не имеют влияния на нас. Нам совсем не важно, если бы министры и придворные плохо управляли делами нации. Все это происходит там, снаружи, точно грязь в дождливые дни. Нет в этом того близкого, что виделось бы в то же время и нашим.
Подобно этому, нас не интересуют великие потрясения, как война и кризисы. Пока в наш дом не входят, нам не важно, что в двери стучатся. И это базируется не на презрении к другим, а на нашей скептической самооценке.
Мы не добры и не сострадательны – не потому, что по своему характеру мы отличаемся противоположными качествами, но потому, что не являемся ни тем, ни этим. Доброта – это слабость грубых душ. Для нас интересны какие-то эпизоды из прошлого чужих душ с другим способом мыслить. Мы наблюдаем, но не одобряем и не отвергаем. Наше занятие – быть ничем.
Мы были бы анархистами, если бы родились в том классе, в среде тех людей, кто себя сам называет беззащитным, или в любом другом, откуда можно было бы спуститься ниже или подняться. Но в действительности мы являемся, в основном, созданиями, рождающимися между классами и социальными подразделениями – почти всегда в некоем упадочном пространстве между аристократией и высшей буржуазией, социальное место для гениев и безумцев, кому можно симпатизировать.
Действие приводит нас в замешательство, частично из-за физической неспособности, а еще более – морального отсутствия желания его производить. Нам кажется аморальным действовать. Все мышление нам кажется униженным, если выражено словами, что превращает его в чужую вещь, что делает его понятным для тех, кто его понимает.
Мы относимся с большой симпатией к оккультизму и другим тайным искусствам. Но при этом мы не являемся оккультистами. Для этого нам не хватает врожденной тяги, а еще терпения для обучения, чтобы стать совершенным инструментом магов и гипнотизеров. Но мы особенно симпатизируем оккультизму потому, что он имеет привычку выражаться тем способом, который представляется понятным тем, кто не понимает на самом деле ничего. Это высшая – и высокомерная – мистическая установка. Это, кроме того, обильный источник ощущений тайны и ужаса: астральные ларвы, странные существа с различными телами, которые воскрешают в своих храмах магические действа, развоплощенные присутствия материи в наших чувствах, в физической тишине внутреннего звука – все это нас ласкает своей липкой, ужасной рукой в нашей бесприютности и во мраке.
Однако мы не симпатизируем оккультистам в их притязаниях на апостольство и человечность; это лишает их тайны. Единственным оправданием для оккультиста в его астральных манипуляциях служит условие, что он это делает ради высшей эстетики, а не с целью помочь кому-то.
Несмотря на практическое незнание этих материй, издревле в нас живет симпатия к черной магии, к запрещенным формам трансцендентного знания, к Обладающим Властью, что предавались Проклятию и Перевоплощению в униженном виде. Наши глаза, глаза слабых и нерешительных, разбегаются, точно под влиянием похоти, в перевернутых степенях, в ритуалах, производимых в обратном порядке, в зловещей кривой нисходящей иерархии.
Сатана, хотим мы того или не хотим, обладает над нами властью, подобной власти самца над самкой. Змея Материального Разума обвивается вокруг нашего сердца, точно в символическом кадуцее бога, объединяющего – Меркурия, господина Понимания.
Те из нас, кто не является педерастом, хотели бы набраться храбрости им стать. Отсутствие вкуса к действию неизбежно делает женственным. Мы потерпели неудачу в нашей истинной профессии – быть домохозяйками и повелительницами, – не делая ничего, чтобы понять свой пол в этом нашем воплощении. Пусть мы и не верим в это до конца, ирония помогает сделать вид, будто бы мы поверили.
Все это происходит не от нашей подлости, но только из-за нашей слабости. В одиночестве мы обожаем зло, не оттого именно, что оно – зло, но потому что в нем больше энергии и силы, чем в Добре, и все энергичное и сильное притягивает нас, тревожа наши нервы, которые должны были бы принадлежать женщине. «Pecca fortiter»[44] – это не для нас, ведь у нас нет силы, ни даже разума, хотя он, единственный, у нас есть. Это тонкое указание побуждает нас лишь думать о том, чтобы грешить с усердием. Но даже и это порой для нас невозможно: собственная внутренняя жизнь имеет реальность, что порой ранит нас. Иметь законы для ассоциации идей, как и для всех операций духа, – это оскорбляет нашу природную недисциплинированность.
Случайный дневник
Каждый день Материя меня повреждает. Моя чувствительность – это пламя на ветру.
Иду по одной улице и вижу на лицах прохожих не то выражение, которое на них действительно есть, но то, что появилось бы на их лицах, если бы они знали, каков я, позволь я просвечивать – в моих жестах, в моем лице – нелепой и застенчивой анормальности моей души. В глазах, что не глядят на меня, подозреваю насмешки, какие считаю естественными, направленные против того неизящного исключения, каким я являюсь в этом мире, среди людей, что действуют и наслаждаются; и в предполагаемой мной глубине физиономий тех, кто проходит, смеясь над скованностью моей жизни, некое понимание ее, которое я дополняю и ставлю между нами. Тщетно, после этих размышлений, я стараюсь убедить себя, что для меня, и только для меня, идея насмешки и оскорбления имеет место. Я уже не могу назвать моим образ себя нелепого, который я объективировал у других. Внезапно чувствую, что задыхаюсь и пребываю в нерешительности в некоей удушливой атмосфере насмешек и вражды. Все показывают на меня пальцем из глубин своей души. Забрасывают меня веселыми и презрительными насмешками – все, кто проходит мимо меня. Это путь среди враждебных призраков, которые мое больное воображение представило и поместило среди реальных людей. Все я воспринимаю как пощечины и издевательства. И порою, на середине улицы – по сути дела, небывалой – останавливаюсь, колеблюсь, ищу, точно неожиданное новое измерение, дверь внутрь пространства, к другой стороне пространства, куда без промедления убегаю от моего представления о других, от моей интуиции, излишне объективированной – по отношению к реальности чужих душ.
Видимо, моя привычка помещать себя в чужую душу приводит к тому, что я вижу себя таким, каким другие меня видят или могли бы меня увидеть, если бы обратили на меня внимание? Да. И однажды я, возможно, пойму, что бы они чувствовали в отношении меня, если бы меня знали, так, будто бы они это чувствовали действительно, сейчас это чувствовали и выражали бы свое чувствование в тот же момент. Жить в окружении других – это для меня мучение. И другие есть внутри меня. Даже вдали от них я чувствую себя принужденным быть с ними. Даже в одиночестве – толпы меня окружают. Мне некуда бежать, кроме как если бы я убежал от себя самого.
О, высокие горы в сумерках, улицы, узкие в лунном свете, иметь вашу бессознательность той… вашу духовность – только от Материи, без внутреннего мира, без чувствительности, без того, к чему можно было бы приложить чувства, или размышления, или непокой своего духа! Деревья – всего лишь деревья, с их зеленью, такой приятной для глаз, такие внешние для моих забот, моих сожалений, такие утешители моих печалей, потому что вы не имеете ни глаз, какими бы вы их разглядывали, ни души, которая, разглядывая меня посредством этих глаз, могла бы их не понять и насмехаться над ними! Камни дороги, срубленные стволы, просто безымянная земля, внизу, со всех сторон, моя сестра, потому ваша нечувствительность к моей душе – это и ласка, и отдых… Их сообщество, под солнцем или под луной, на Земле – моей матери, такой вечной моей матери, потому что ты, Земля, не можешь критиковать меня, сама того не желая, как может моя настоящая, человеческая мать, потому что у тебя нет ни души, которая бы меня анализировала, не думая об этом, ни быстрых взглядов, которые выдавали бы твои мысли обо мне, те, в которых ты и сама не призналась бы. Громадное море, неумолчный спутник моего детства, дающее мне отдых, баюкающее меня, потому что твой голос – не человеческий и не сможет однажды рассказать, понизив тон для чужих человеческих ушей, о моих слабостях и о моих несовершенствах. Небо необъятное, небо голубое, небо, близкое к таинствам ангелов, современное… ты не смотришь на меня зелеными очами, ты кладешь солнце на свою грудь, но не делаешь этого, чтобы меня соблазнить, ни если себя… звездами, делаешь это не для того, чтобы смотреть на меня свысока… Великий покой Природы, родной благодаря ее незнанию обо мне; покой, отдаленный от звезд и от систем, ты, становящийся мне братом в своем неведении в отношении меня… Я хотел бы молиться вашей безмерности и вашему спокойствию, точно проявляя благодарность за то, что вы есть и что я могу вас любить без подозрений и недоверия; я хотел бы подарить слух вашей невозможности слышать, но вы никогда не услышите, дать глаза возвышенной слепоте, но вы не увидите, быть объектом вашего внимания посредством этих неизвестных зрения и слуха, утешенный тем, что присутствую в вашем Ничто, внимательном, как окончательная смерть, там, вдали, без надежды на другую жизнь, по ту сторону Бога и возможностей живых существ, сладострастно аннулированный и окрашенный в духовный цвет всех материй…
Светлый дневник
Моя жизнь – трагедия, сыгранная под шиканье богов и представленная лишь первым актом.
Друзей – ни одного. Только одни знакомые, считающие, что они мне симпатизируют, и которые, возможно, были бы огорчены, если бы катафалк увез меня на кладбище и день похорон был бы дождлив.
Естественной наградой за мое удаление от жизни была неспособность понимать меня, чувствовать в унисон мне, которую я вызывал в других. Вокруг меня – ореол холода, светлый ледяной круг, отталкивающий других. Я еще не научился не страдать от моего одиночества. Так трудно достичь той изысканности духа, которая позволяет превратить изоляцию в покой без печали.
Я никогда не доверял дружбе, что мне выказывали, как не доверял бы любви, если бы мне ее выказали, что, впрочем, было бы невозможным. Хотя я никогда не питал иллюзий в отношении тех, кто говорил мне о своей дружбе, все же в итоге мне приходилось страдать от разочарования в них – такой сложной и острой является моя участь, обреченная на страдание.
Никогда не сомневался, что все меня предадут; и всегда удивлялся, когда меня предавали. Когда приходило то, чего я ожидал, оно неизменно оказывалось неожиданным.
Так как я никогда не обнаруживал в себе качеств, какие могли бы привлечь ко мне кого-то, то никогда и не мог поверить, чтобы кто-то почувствовал расположение ко мне. Мнение это шло от глупой скромности, если даже накапливаемые факты – те неожиданные факты, каких я ожидал, – не всегда подтверждали это.
Не верю, что мне могут посочувствовать, потому что физически неуклюжий и нелепый, я еще не достиг ни той степени подавленности, которая вызывает сочувствие, ни той симпатии, что возникает, даже когда она не заслуженна; и то во мне, что заслуживает сострадания, не может его получить, потому что никогда не бывает сострадания к тем, у кого искалечен дух. Таким образом, я попал в центр тяжести чужого презрения.
Всю мою жизнь я хотел приспособить себя ко всему этому, чтобы не чувствовать чрезмерно жестокости и низости этого существования.
Необходима определенная интеллектуальная смелость, чтобы некий индивид мог бесстрашно признать, что не является ничем, кроме человеческих лохмотьев, выжившим уродцем, безумным, хотя бы и за границами своего внутреннего мира; но необходима еще большая смелость духа для того, чтобы, признав это, приноровиться к своей судьбе, принять без возмущения, без отречения, без единого действия или его попытки, то органическое проклятие, которое на него наложила Природа. Желать не страдать от этого – это желать слишком многого, потому что невозможно для человека принять зло, видя в нем добро и называя его добром; и, принимая его как зло, невозможно не страдать от него.
Постигать себя – извне – было моим несчастьем, несчастьем, служащим счастью. Я видел себя таким, каким меня видят другие, и испытал презрение к себе – не потому, что я раскрыл в себе такие качества, за которые заслуживал бы презрения, но потому, что почувствовал, каким меня видят другие, и у меня при этом возникло презрение к себе – какое они ко мне чувствуют. Я пережил унижение от такого знания себя. Так как этот крестный путь не содержит в себе ни благородства, ни воскрешения в ближайшие дни, мне остается только страдать от гнусности этого.
Я давно понял, что невозможно любить меня, если у человека не отсутствует полностью эстетический вкус, – а в таком случае я сам его бы презирал за это, – и что даже симпатия ко мне не должна выходить за рамки некоего каприза человеческого равнодушия.
Видеть ясно нас и тех, какими другие нас видят! Видеть эту истину лицом к лицу! И в конце вопль Христа на Голгофе, когда он увидел лицом к лицу свою истину: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты меня оставил?»[45]
Воспитание чувств
Чтобы кто-то превращал мечту в жизнь, и из культуры, в теплице своих ощущений, создал некую религию и некую политику, для того первый шаг, то, что подтверждает в душе, что он сделал первый шаг, – это воспринимать наименьшие вещи как необычные и непомерные. Это – первый шаг, и шаг, просто первый, не является бо́льшим, чем это. Уметь придать какой-то чашке чая вкус и чрезвычайное наслаждение, какое обычный человек может найти только в больших радостях, идущих от неожиданно удовлетворенных амбиций, или от долгой тоски, которая внезапно исчезает, или в заключительном акте плотской любви; уметь найти в зрелище заката или в созерцании декоративной детали то раздражение и обострение чувств, какое обычно дает не то, что можно видеть или слышать, но только то, что дарит нам аромат или вкусовые ощущения – осязательные, вкусовые, обонятельные, отпечатывая их в сознании; уметь превратить внутренний образ, слух мечты – все чувства, предполагаемые и – от предположения получающие и ощутимые, словно чувства, повернутые наружу: выбираю эти и подобные им, воображаемые внутри ощущений, которыми специалист в области чувств обладает, уже обученный вызывать спазмы, что дают представление, конкретное и ближайшее к тому, о чем я стремлюсь сказать.
Достижение этой ступени влечет за собой для любителя ощущений гнет или физическое бремя, от которого он раздражается настолько, насколько что-то горестное навязывается извне, а иногда изнутри также, в момент его внимания. Когда он, таким образом, констатирует, что чувствует чрезмерно, если порой и наслаждается избытком ощущений, в другом случае он страдает от такой диффузии, и, поскольку констатирует это, мечтатель делает второй шаг на пути к себе самому. Откладываю этот шаг, который он сможет или нет сделать, чтобы, в соответствии с тем, мог бы или не мог он его сделать, определить ту или иную установку, способ поведения, смотря по тому, сможет ли он изолироваться полностью от реальной жизни (что проистекает из того, богат он или нет). Потому что считаю понятным между строк то, о чем пишу, что в соответствии с возможностью или невозможностью для мечтателя изолироваться и углубиться в себя с меньшей или большей интенсивностью он должен сконцентрироваться на своей работе над болезненным пробуждением его ощущений от вещей и от собственных мечтаний. Кто должен жить среди людей активно, встречая их – и для него реально возможно сократить до минимума близость в отношениях, которые он вынужден иметь с ними (близость, а не простой контакт с людьми является тем, что вредит), – он должен заморозить всю поверхность повседневного общения, чтобы каждый братский и общественный жест в отношении его скользил и не входил в сознание или не запечатлевался. Кажется, что это много, на самом деле – мало. От людей всегда легко отстраниться: достаточно перестать к ним приближаться. Итак, подхожу к этому пункту и возвращаюсь к тому, что я объяснял.
Создание такой остроты и непосредственной сложности ощущений, наиболее простых и неотложных, приводит, как я говорил, к неумеренному наслаждению, возникающему от чувств, также возрастает чрезмерно и страдание, идущее от чувствования. Поэтому вторым шагом мечтателя должно стать избегание страдания. Он не должен избегать его, как стоик или ранний эпикуреец – разрушая собственное гнездо, – потому что так он может огрубеть, сделаться бесчувственным и для наслаждения, и для боли. Он должен, наоборот, искать наслаждение в боли, и затем обучаться чувствовать боль ложно, т. е. чувствуя боль, испытывать некое удовольствие. Есть различные пути достижения этого. Один – посвятить себя скрупулезному анализу боли, предварительно подготовив дух к удовольствию – не анализировать, но только чувствовать; это позиция более простая для высших и, ясно, для тех, кому улыбается удача. Анализировать боль – это подвергать боль анализу, добавляя ко всей боли удовольствие ее анализировать. Преувеличивая власть и инстинкт анализа, вы вскоре добьетесь того, что ваше упражнение впитывает все, и от боли остается только неопределенная материя для анализа.
Другой метод, более тонкий и более сложный, – привыкнуть воплощать боль в некую неопределенную идеальную фигуру. Создать некое другое Я, которое было бы обязано страдать в нас, страдать от того, от чего мы страдаем. Создать затем внутренний садизм, который, скорее, будет мазохизмом во всем, что позволяло бы наслаждаться своим страданием так, будто оно было чужое. Этот метод – чей первый аспект, сложный, кажется невозможным, – не прост действительно, но не содержит больших трудностей для обученных внутренней фальши. Все это превосходно реализуемо. И тогда, по достижении этого, какой вкус крови и болезни, какая странная горечь радости, далекой и упадочной, скрывают боль и страдания! Боль роднится с тревожным и болезненным апогеем спазмов. Страдание, страдание долгое и медленное, содержит в себе желтую глубину смутного счастья выздоровления, чувствуемого так глубоко. И какая-то утонченность, растраченная на непокой и скорбь, приближает это сложное ощущение тревоги, вызываемое мыслью о том, что удовольствия убегают, и скорби, что удовольствия извлекают из не-усталости, рождаемой от размышлений об усталости, которую они принесут.
Есть еще третий метод утончения болей до удовольствия и превращения сомнений и тревог в мягкую постель. Это придать печалям и страданиям, путем приложения возбужденного внимания, интенсивность, такую значительную, что посредством самого избытка приносили бы наслаждение избытком, так же как путем насилия вызывали бы в том, для кого привычно воспитывать душу для наслаждения, посвящая себя этому, наслаждение болезненное, потому что оно чрезмерно, удовольствие кровожадное, потому что оно ранит. И когда, как во мне, – «усовершенствователе», кем являюсь, обладая ложными совершенствами, архитекторе, конструирующем себя из утонченных ощущений с помощью разума, отречения от жизни, анализа и самой боли, – все три метода применяются совместно, когда какая-то ощущаемая боль немедленно, без промедления для построения внутренней стратегии, анализируется, вплоть до черствости, помещается в какое-то внешнее Я, вплоть до тирании, и погребается во мне, вплоть до апогея этой боли, – тогда я действительно чувствую себя триумфатором и героем. Тогда останавливается для меня жизнь, и искусство пресмыкается передо мною.
Все это составляет только второй шаг к мечте, который должен сделать мечтатель.
Третий шаг, ведущий к роскошному преддверию Храма, – не знаю, смог ли бы его сделать кто-то, кроме меня? Это нелегко, потому что требует того внутреннего усилия, которое значительно труднее, чем усилие в жизни, но несет с собой возмещение, доходящее до самых глубин нашей души, до самого конца ее существования, которое жизнь дать не способна. Этот шаг – все это случившееся, все это полностью и в совокупности сделанное – да, используя три утонченных метода и используя даже расточительно, проводить ощущение немедленно через чистый разум, процеживая высшим анализом, чтобы оно гравировалась в литературной форме и приобрело собственные облик и выразительность. Тогда я зафиксировал его совершенно. Тогда я превратил нереальное в реальное и создал для недостижимого вечный пьедестал. Тогда я и был, внутри себя, коронован императором.
Вы, конечно, не считаете, что я пишу ради публикации, ни что пишу просто, чтобы писать, ни даже чтобы создавать искусство. Пишу, потому что это – цель, высшая изысканность, изысканность характерно нелогичная… от культуры состояний моей души. Если я касаюсь какого-то моего ощущения и подробно его описываю, так, что можно переплетать с ним внутреннюю действительность, которую я называю или «Лес Отчуждения», или «Путешествие, Никогда не Совершившееся», поверьте, что я делаю это не для того, чтобы проза звучала ясно и трепетно, и даже не для того, чтобы наслаждаться прозой, – хотя я более хочу этого, более приближаю эту изысканную развязку, будто прекрасное падение занавеса над моими вымечтанными сценариями, – но зачем бы мне полностью делать внешним то, что было внутренним, зачем так реализовывать нереализуемое, соединять противоречивое и, превращая мечту в нечто внешнее, давать ему максимальную власть чистой мечты – мне, делающему жизнь непроточной, застойной, граверу неточностей, больному пажу моей души – Королевы, я, читающий ей в сумерках не поэмы из книги моей Жизни, открытой на моих коленях, но поэмы, которые я создам, притворяясь, что читаю, и она притворяется, что слушает, в то время как Вечер, там, снаружи, я не знаю как или где, смягчается над этой метафорой, поднявшейся внутри меня в Абсолютной Реальности, в свете, хрупком и последнем, одного мистического и духовного дня.
Испытание сознания
Жить жизнью в мечтах, жизнью фальшивой – это всегда и означает жить своей жизнью. Отрекаться – это действовать. Мечтать – значит признавать необходимость жить, замещая реальную жизнь жизнью нереальной, и это – признание неотчуждаемости желания жить.
Что же это все тогда, если не поиск счастья? И любой поиск, какой-либо другой вещи?
Продолжающееся мечтание, беспрерывный анализ дали мне что-то, существенно отличное от того, что мне могла бы дать жизнь?
Отделив себя от людей, я не встретил себя ни…
Эта книга – всего лишь одно состояние души, проанализированное со всех сторон, исследованное во всех направлениях.
Что-то новое, по крайней мере, это моя позиция мне принесла? Даже это не может меня утешить. Все это уже было у Гераклита и в Екклесиасте: Жизнь – это детская игрушка на песке… …все – суета и томление духа… И у бедняги Иова: И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти.
У Паскаля:
У Виньи: Постоянная задумчивость убила в вас действия.
У Амьеля, так по́лно у Амьеля:
…(некоторые фразы)…
У Верлена, у символистов…
Столько больных, как и я… Это не привилегия – неоригинальность болезни… Делаю, что́ столькие до меня делали… Страдаю от такого древнего мучения… Зачем именно я думаю об этих вещах, если уже столькие о них думали и из-за них страдали?..
И тем не менее да, что-то новое ко мне пришло. Но я не отвечаю за это. Пришло из Ночи и сияет во мне, точно звезда… Все мои усилия не могут ни создать его, ни его погасить… Я – мост между двумя тайнами и не знаю, как я был построен…
Прислушиваюсь к себе, мечтая. Укачиваю себя звуком моих образов… Моделируются во мне неизвестные мелодии…
Звук одной фразы в образах стоит стольких жестов! Одна метафора утешает от стольких печалей!
Прислушиваюсь к себе… Во мне церемонии… Кортежи… Блестящие украшения моей скуки… Балы-маскарады… Сопровождаю мою душу, ослепленный…
Калейдоскоп из фрагментов продолжений…
Торжественность ощущений, чрезмерно живых… Королевское ложе в пустынном замке, драгоценности мертвых принцесс, из амбразур крепостей – бухты, видные издали; без сомнений поворачивают корабли, и, возможно, для самых счастливых будут кортежи в изгнании… Заснувшие оркестры, нити… вышивая по шелку…
Озеро обладания
Обладание – это, на мой взгляд, какое-то абсурдное озеро – очень большое, очень темное, очень неглубокое. Вода кажется глубокой, потому что это ложное впечатление создается грязью в воде.
Смерть? Но смерть находится внутри жизни. Умираю весь, полностью? Не знаю этого при жизни. Я остаюсь в живых? Продолжаю жить.
Мечта? Но мечта находится внутри жизни. Проживаем мечту? Проживаем. Всего лишь мечтаем ее? Умираем. И смерть находится внутри жизни.
Точно наша тень, жизнь преследует нас. И нет тени только тогда, когда все – тень. Жизнь только тогда нас не преследует, когда мы ей сдаемся.
Что есть наиболее скорбного в мечтании – это не существовать. На самом деле нельзя мечтать.
Что значит – обладать? Мы этого не знаем. Как же тогда хотеть обладать какой-то вещью? Вы скажете, что мы не знаем, что такое жизнь, и живем…Но живем ли мы действительно? Жить, не зная, что есть жизнь, это означает – жить?
Ничто не может быть постигнуто: ни атомы, ни души. Поэтому ничто не обладает ничем. Начиная с истины и до носового платка – все невозможно. Собственность – это не ограбление; это ничто.
Легенда об империи
Мое Воображение – это какой-то город на Востоке. Вся его реальная композиция в пространстве имеет сладострастие поверхности какого-то ковра, великолепного и мягкого. Толпы, расцвечивающие свои улицы, выделяются относительно неведомого мне фона, который им не принадлежит, как вышивки желтым или красным на шелках очень светлого голубого цвета. Вся предшествующая история этого города летает вокруг лампады моего сновидения, как бабочка, только слышная еще в сумерках комнаты. Моя фантазия прежде обитала среди пышности и получала из рук королев тусклые драгоценности античности. Покроют коврами интимную вялость песков моего несуществования, и, как дыхание сумерек, водоросли будут плавать на поверхности моих рек. Я был поэтому портиками в затерянных цивилизациях, лихорадками арабесок на мертвых фризах, затемнениями вечности на канелюрах разрушенных колонн, мачтами уже давно разбившихся кораблей, ступеньками уже свергнутых тронов, занавесями, ничего не покрывающими и будто укутанными тенями, призраками, поднимающимися с земли, точно дым брошенных кадил. Зловещим было мое царствование и полным войн на далеких границах мой королевский покой во дворце. Вблизи – всегда неясный шум далеких празднований; процессии – всегда, чтобы я видел их проходящими под моими окнами; но ни рыбок, красно-золотых, в моих бассейнах, ни плодов меж неподвижной зелени моего сада; ни даже бедных домиков, где другие – счастливы, дым очагов, там, за деревьями, задремал под наивные баллады врожденного таинства моей души.
Способ правильно мечтать
Вначале позаботься о том, чтобы ничего не уважать, ни во что не верить, ничего […] Но сохрани в своем отношении к тому, что не уважаешь, волю к тому, чтобы уважать что-то; в своем недовольстве тем, что не любишь, – болезненное желание любить кого-то; в своем презрении к жизни сохрани идею о том, что должно быть хорошо – жить ею и любить ее. И так ты заложишь основания для твоих мечтаний.
Обрати внимание на то, что работа, какую ты собираешься сделать, – самая высокая изо всех. Мечтать – это встречаться с самим собою. Ты будешь Колумбом своей души. Ты будешь искать свои пейзажи. Поэтому хорошо позаботься о том, чтобы твой курс был правильным и не могли ошибаться твои приборы.
Искусство мечтать – трудное, потому что это – искусство пассивности, там, где речь шла бы об усилии, должна идти – о концентрации на отсутствии усилия. Искусство спать, если бы оно было, должно было бы походить на него в некоторой степени.
Обрати внимание: искусство мечтать – это не искусство управлять своими мечтаниями. Управлять – это действовать. Настоящий мечтатель посвящает себя себе самому, позволяет себе обладать самим собой.
Убегай ото всех материальных соблазнов. Вначале возникает соблазн самоудовлетворения. Он бывает от алкоголя, от опия, от… Все это есть усилие и поиск. Для того чтобы стать хорошим мечтателем, ты должен стать никем – только мечтателем. Опиум и морфий покупаются в аптеках – как, зная это, ты надеешься суметь мечтать с их помощью? Самоудовлетворение – это вещь физическая, как же ты хочешь, чтобы…
О чем мечтаешь ты в процессе самоудовлетворения – пустое; что́ ты видишь в мечтах, куря опиум, употребляя морфий и опьяняя себя мыслью об опиуме… о морфине мечтаний, – это не что иное, как хвалить себя за это: ты играешь свою блестящую роль совершенного мечтателя.
Считай себя всегда более печальным и более несчастным, чем ты есть на самом деле. Это неплохо. Именно иллюзия создает лестницы к мечте.
*
– Откладывай все. Никогда не надо делать сегодня то, что можно позволить себе сделать и завтра. Также не является необходимым делать что-то завтра или сегодня.
– Никогда не думай о том, что ты будешь делать. Ты бы этого не сделал.
– Живи свою жизнь. Не позволяй ей жить посредством тебя. В истине и в заблуждении, в наслаждении и в нездоровье, будь самим собой. Ты сможешь осуществить это только в мечтах, потому что твоя реальная жизнь, твоя человеческая жизнь – та, что не является твоей, но чужой, жизнью других. Таким образом, ты заменишь мечтой жизнь и будешь заботиться только о том, чтобы мечтать совершенно. Во всех актах твоей реальной жизни, с рождения и до смерти, ты не действуешь: тобою действуют; ты не живешь: всего лишь живут тобою.
Преврати себя для других в абсурдного сфинкса. Запри себя, но, не хлопая при этом дверью, в твоей башне из слоновой кости. И твоя башня из слоновой кости – ты сам.
И если кто-то тебе скажет, что это лживо и абсурдно, не верь ему. Но не верь также и тому, что я тебе говорю, потому что ты не должен верить ни во что.
– Презирай все, но таким образом, чтобы это презрение тебе не докучало. Не считай себя высшим, презирая. Именно в этом заключается благородное искусство презрения.
*
Такое мечтание приведет к тому, что все в жизни тебя заставит страдать больше…
Это станет твоим крестом.
Способ правильно мечтать согласно метафизикам
Разум… – все будет легко и… потому что все для меня – мечта. Приказываю себе мечтать об этом и мечтаю о нем. Порою я создаю в себе философа, который мне тщательно намечает философские теории, пока я, язычник… флиртую с его дочерью, чьей душою я являюсь, у окна его собственного дома.
Ясно, что мои знания ограничивают меня. Я не могу создать некоего математика […] Но я доволен тем, что имею, что подходит для бесконечных комбинаций и бесчисленных мечтаний. Кто знает, впрочем, не достигну ли я силой воображения еще большего… Но – не стоит. Мне достаточно и этого.
Распыление личности: я не знаю ни – каковы мои идеи, ни мои чувства, ни мой характер… Если что-то чувствую, чувствую это неясно не в себе – в человеке, зрительно воплотившем какое-то создание, возникшее во мне. Я заменил своими мечтами себя самого. Каждый человек – всего лишь его мечта о нем самом. Я – не то, чем являюсь.
Я никогда не прочел ни одной книги до конца и никогда не читал книги только последовательно, без скачков.
Я никогда не понимал, что чувствовал. Когда мне рассказывали о той или иной эмоции и описывали ее, я всегда чувствовал, что описывали что-то, бывшее в моей душе, но затем, подумав, всегда сомневался в этом. Я никогда не знаю, действительно ли я такой, каким я себя чувствую, или только считаю себя таким. Я – это части персонажей моих драм. Усилие – бесполезно, но занимает. Рассудок – бесплоден, но забавен. Любовь – скудна, но, возможно, предпочтительнее, нежели ее отсутствие. Мечта между тем заменяет все. В ней можно иметь все представление об усилии, без реального усилия. Внутри мечты я могу вступать в сражения без риска испугаться или быть раненым. Могу размышлять, без намерения прийти к некой истине, отчего мне было бы больно, что никогда не достигну ее; без желания решить какую-то проблему, какую бы, как я видел, не смог разрешить никогда; без того… Могу любить без того, чтобы мне отказали, или мне изменили, или мне наскучили. Могу менять возлюбленных, и возлюбленная всегда будет прежней. И если захочу, чтобы мне изменили или меня избегали, всегда к моим услугам возможность, чтобы так со мной и случилось, и всегда так, как я хочу, всегда так, чтобы это приносило мне удовольствие. В мечте могу переживать самые большие печали, самые большие мучения, самые большие победы. Могу переживать все это так, как если бы это было в жизни: все зависит только от моей власти сделать мечту живой, четкой, реальной. Это требует обучения и большого внутреннего терпения.
Есть различные способы мечтания. Один – это предаться мечтам, не стараясь сделать их четкими, позволить себе двигаться в неясности и в сумерках собственных ощущений. Этот способ мечтать – хуже других и утомителен, потому что он монотонен, всегда тот же самый. Это мечта четкая и управляемая, но здесь усилие по руководству мечтой чересчур предает искусство. Высший артист, мечтатель, каким я являюсь, прилагает усилие только к тому, чтобы хотеть, чтобы мечта была бы такой, чтобы обнаружила такие капризы… и она разворачивается перед ним такой, какой мечтатель ее хотел бы видеть, с тем чтобы он не мог понять, не надоело ли ему делать это. Хочу видеть себя в мечтах королем… Хочу, чтобы это произошло внезапно. И вот я уже стал королем какой-то страны. Какой, какого рода – мечта мне подскажет…Потому что я достиг этой победы, о которой мечтаю, – чтобы мои мечты приносили мне всегда неожиданно то, чего я хочу. Много раз они даже улучшали, чтобы принести ее более четкой, ту идею, смутное распоряжение о которой только что получили. Я полностью неспособен представить себе сознательно Средние века с различными местами и различными Землями, которые переживаю в мечтах. Ослепляет меня избыток воображения о том, чего я не знал в себе, и вот я вижу. Позволяю мечтам появляться… Они такие чистые, что превосходят всегда то, чего я жду от них. Они всегда прекраснее, чем я хотел. Но этого только усовершенствованный мечтатель может надеяться достичь. Прошли годы, пока я искал это в своих мечтах. Сегодня достигаю этого без усилий…
Лучший способ начать мечтать – книги. Романы хорошо служат начинающему. Научиться отдаваться чтению полностью, жить одной жизнью с персонажами какого-то романа – это и есть первый шаг. Если наша семья с ее огорчениями кажется нам водянистой и тошнотворной рядом с персонажами романа – это уже сигнал о нашем прогрессе.
Необходимо избегать читать литературные романы, где внимание отвлекается на саму форму романа. Мне не стыдно признать, что я так начинал. Любопытно, но полицейские романы… те… которые я интуитивно выбирал для чтения. Никогда не мог читать с увлечением любовные романы. Но это – личностная особенность, не имея любящего нрава, не иметь его и в мечтах. Каждый из нас все же культивирует то, что соответствует его характеру. Давайте всегда помнить, что мечтать – это искать себя. Человек чувствительный должен для своего чтения выбирать противоположное тому, что было моим.
Когда приходит физическое ощущение, можно сказать, что мечтатель прошел через первую ступень мечты. Это так, как если бы какой-то роман о сражениях, побегах, баталиях оставил нас действительно с разбитым телом, с усталыми ногами… первая ступень уже обеспечена. В случае человека чувствительного, он должен – без любого другого самоудовлетворения, кроме ментального – иметь некое извержение, когда один из подобных моментов достигается в романе.
Затем он будет пытаться перевести все это в мысленное. Извержение, в случае человека чувствительного (выбираю его для примера, потому что он наиболее порывистый и подходящий), должно чувствоваться, но не происходить в действительности. Усталость будет намного больше, но удовольствие действительно интенсивнее.
На второй ступени все ощущения переходят в мысленные. Возрастает удовольствие и возрастает усталость, но тело уже не чувствует, и вместо утомленных членов – разум, идея и эмоция становятся слабыми и дряблыми… Когда доходишь до этого, наступает время перейти на высшую ступень мечты.
Вторая ступень – это создавать романы для себя самого. Следует делать такую попытку, только когда мечта совершенно перешла в умственный план, как я уже говорил. Если же нет, первоначальное усилие создавать романы будет расстраивать совершенное переведение наслаждения в умственный план.
Третья ступень.
Уже обучено воображение, достаточно захотеть, и оно берет на себя ответственность за построение для вас мечтаний.
Здесь усталость уже почти нулевая, даже умственная. Это какое-то абсолютное расформирование личности. Мы являемся простым пеплом, одаренным душой, без формы – даже для воды, всегда имеющей форму сосуда, ее вмещающего.
Она хорошо завершена, эта… драмы могут возникать в нас, стих за стихом, разворачиваясь, чужие и совершенные. Может быть, уже не достанет силы их писать – да это и не нужно. Мы сможем создать из вторых рук – вообразить в нас поэта, пишущего сейчас стихи, и он напишет в одной манере, другой поэт, возможно, напишет в другой… Я, в силу того, что владею этой способностью в совершенстве, могу писать, используя множество разнообразных манер, все они оригинальны.
Самая высшая ступень мечтания – когда, создавая картину с определенными персонажами, мы все, вместе с ними, живем в одно и то же время – являемся всеми этими душами, объединяясь и взаимодействуя. При этом невероятна степень деперсонализации и обращения в пепел духа того, с кем это происходит, и трудно, сознаюсь, уйти от общей усталости от всего своего существа, делая это… Зато какой успех!
Это – единственно возможный аскетизм. В нем нет ни веры, ни Бога.
Богом являюсь я.
Траурный марш
Что делает каждый из нас в этом мире, что бы его приводило в замешательство или меняло его? Каждый человек, что он значит, чего бы не значил другой? Значительны простые люди – одни для других, люди действия значимы той силой, с которой они исполняют действие, люди мыслящие – тем, что они создают.
То, что ты создаешь для человечества, делается по милости остывания Земли. То, что ты отдаешь для потомков, или по́лно тобой, и никто его не поймет, или это продукт твоей эпохи, и другие эпохи его не поймут, или оно несет в себе призыв ко всем последующим эпохам, и его не поймет последняя бездна, к которой все эпохи устремляются.
Заставляем их пройти, жесты, оставшиеся в тени. За нами – Таинство, нам…
Мы все смертны, с некоторой точной продолжительностью жизни. Никогда – больше или меньше. Одни умирают сразу после смерти, другие еще живут немного в памяти тех, кто их видел и слышал; третьи остаются в памяти народа, которому они принадлежали; кое-кто добивается памяти о нем всей цивилизации, при которой они жили; редко кто охватывает насквозь противоположные ошибки различных цивилизаций… Но всех окружает бездна времени, кое в конце концов их стирает, всех пожирает голодная бездна…
Бесконечность – это желание, и вечность – иллюзия.
Мертвыми мы являемся и мертвыми живем. Мертвыми рождаемся; мертвыми проходим; уже мертвыми входим в Смерть.
Все, что живет, живет, потому что меняется; меняется потому, что проходит; и, так как проходит, умирает. Все, что живет вечно, превращается в нечто другое, постоянно отрицая и подделывая жизнь.
Жизнь поэтом, есть какой-то промежуток, связь, какое-то соотношение, но соотношение между тем, что прошло, и тем, что пройдет, мертвый промежуток между Смертью и Смертью.
…рассудок, вымысел поверхности и отсутствия путей.
Жизнь материи – или чистое мечтание, или просто игра атомов, не знающих об умозаключениях нашего разума и о мотивах наших чувствований. Таким образом, сущность жизни – какая-то иллюзия, видимость и или является только бытием, или небытием, таким образом, и иллюзия и видимость, не будучи бытием, должны быть небытием, жизнь есть смерть.
Пустым является усилие, которое делается ввиду иллюзии бессмертия! «Вечная поэма», – мы говорим; – «слова, которые никогда не умрут». Но материальное остывание земли принесет не только живому, ее покрывающему, с…
Какой-нибудь Гомер или Мильтон не могут больше, чем комета, ударяющаяся о Землю.
Траурный марш в честь короля Луиша второго да бавиера[46]
Сегодня, более неторопливая, чем когда-либо, пришла Смерть торговать у моего порога. Передо мной, более неторопливая, чем когда-либо, развернула она ковры, и шелка, и дамасские ткани ее забвения и ее утешения. Улыбалась им, хваля, и не обращала внимания, что я это мог видеть. Но когда я попытался купить их, она сказала мне, что их не продавала. Она пришла не затем, чтобы я захотел то, что она мне показывала; но чтобы благодаря тому, что она показывала, захотел бы ее саму. И о своих коврах сказала мне, что были такие, какими наслаждались в ее далеком дворце; о своих шелках – что другие не надевались в ее крепости, в обители тени; о своих дамасских тканях – что лучшими, однако, были те, что покрывали алтари в ее владениях за этим светом.
От врожденной привязанности, удерживавшей меня у моего порога, ничем не покрытого, она с нежным жестом меня освободила. «У твоего домашнего очага, – сказала, – нет света: зачем тебе какой-то домашний очаг?» «В твоем доме, – сказала, – нет хлеба: зачем тебе твой обеденный стол?» «В твоей жизни, – сказала, – нет подруги: чем тебя соблазняет твоя жизнь?»
«Я сама, – сказала она, – свет погасших очагов, хлеб пустых столов, заботливая подруга одиноких и непонятых. Слава, которой им недостает в мире, есть торжественная в моих черных владениях. В моей империи любовь не утомляет, потому что не требует страдания для овладения ею; и не ранит, потому что тогда утомлялись бы от того, чего никогда не имели. Я легко кладу свою руку на волосы тех, кто раздумывает, и они забывают; к моей груди прислоняются те, кто надеялся впустую, и они наконец доверяются».
«Любовь ко мне, – сказала она, – не сопровождается страстью, которая пожирает; ревностью, омрачающей разум; забвением, которое бесчестит. Любовь ко мне – это точно летняя ночь, когда нищие дремлют под открытым небом и напоминают придорожные камни. С моих немых губ не слетает песня, подобная песням сирен, ни мелодия, подобная музыке деревьев и источников; но мое молчание укрывает, как неясная музыка, мой покой нежит, как оцепенение бриза».
«Что у тебя есть, – сказала она, – что тебя привязывает к жизни? Любовь не ищет тебя, слава тебя не разыскивает, власть не идет к тебе навстречу. Дом, что ты унаследовал, – ты унаследовал его в руинах. Земли, что ты получил, были покрыты инеем, приморозившим их первые плоды, и солнце сожгло их обещания. Ты никогда не видел наполненным, но лишь сухим колодец в твоем поместье. Проржавели прежде, чем ты их увидел, стенки твоих резервуаров с водой. Сорные травы покрыли тополевые и пальмовые аллеи, по которым твои ноги никогда не проходили».
«Но в моих владениях, где господствует одна лишь ночь, будешь утешен, потому что уже не будет надежды; получишь забвение, потому что уже не будет желания; получишь отдых, потому что не будет жизни».
И она показала мне, как бесплодна надежда на лучшие дни, когда не родишься с душою, с какой хорошие дни получались бы. Показала мне, как мечта не утешает, потому что жизнь ранит больше, когда вспоминается. Показала мне, как сон не дает отдыха, потому что в нем живут призраки, тени вещей, следы поступков, мертвые эмбрионы желаний, остатки жизненного кораблекрушения.
И, говоря так, медленно сворачивала, более неторопливая, чем когда-либо, свои ковры, которыми соблазнялись мои глаза, свои шелка, которых жаждала моя душа, дамасские покрывала алтарей, на которые уже падали мои слезы.
«Зачем тебе пытаться быть как другие, если ты обречен быть собой? Зачем тебе смеяться, если, когда ты смеешься, твоя собственная искренняя радость фальшива, потому что рождается она из твоего забвения того, кто ты есть? Зачем тебе плакать, если чувствуешь, что это бесполезно, и снова плачешь теми слезами, что тебя не утешат, и почему бы слезы тебя утешали?
Если ты счастлив, когда смеешься, когда смеешься – победил; если ты в это время счастлив, то потому, что ты не помнишь, кто ты; сколь же счастливее ты будешь со мною, когда уже более не будешь помнить ни о чем? Если отдыхаешь превосходно, когда дремлешь без снов, разве не отдохнешь ты на моем ложе, где сон всегда без сновидений? Если порой ты возвышаешься, потому что видишь Красоту, и забываешь и о себе, и о Жизни, разве не возвысишься ты в моем дворце, чья печальная красота не страдает ни от диссонансов, ни от возраста, ни от развращенности; в моих залах, где никакой ветер не шевельнет гардин, никакая пыль не покроет стульев, ни один луч не станет, мало-помалу, заставлять блекнуть краски бархата и штофа обивки, никакое время не заставит пожелтеть непорочную белизну лепных украшений?
Приди в мои объятия, к моим ласкам, не знающим перемены; к моей любви, не знающей прекращения! Пей из моего бокала, что не опорожняется никогда, божественный нектар, что не горчит и не вызывает тошноты, что не надоедает и не опьяняет. Созерцай из окна моей крепости, не лунный свет и море, они прекрасны и поэтому несовершенны, – а ночь, необъятную и нежную, нераздельное величие глубочайшей бездны!
В моих объятиях забудешь свой горестный путь, приведший тебя к ним. На моей груди не будешь чувствовать более самую любовь, заставившую тебя искать ее! Садись рядом со мной, на моем троне, и ты – навсегда император, кого никто не свергнет с престола Тайны и Грааля, существующий вместе с богами и судьбами в твоем небытии, в твоем не-владении ничем, ни по эту, ни по ту сторону мира, в твоем отсутствии потребности – ни в том, что было бы для тебя излишним, ни в том, чего бы тебе не хватало, даже и ни в том, чего бы тебе было достаточно.
Я буду твоей нежной подругой, твоей вновь обретенной сестрой-близнецом. И все твои печали, обвенчанные со мною, все то, что ты в себе искал и не находил, возвращенное в меня, все это и себя самого ты потеряешь в моей мистической сути, в моем отрицаемом существовании, на моей груди, где все гаснет, на моей груди, куда низвергаются души, на моей груди, где рассеиваются боги».
*
Король Равнодушия и Отречения, Император Смерти и Крушения, живой сон, блуждающий, роскошный, меж развалинами и дорогами мира!
Король Отчаяния меж торжественностью, скорбный властелин дворцов, которые его не удовлетворяют, хозяин кортежей и внешнего блеска, которые не могут погасить жизни!
Король, восставший из гробниц, приходивший ночью в лунном свете рассказывать другим жизням о своей, паж облетевших лилий, королевский вестник мраморного холода!
Король – Пастух Ночных Бдений, странствующий рыцарь Печалей, не имеющий ни славы, ни дамы, в лунном свете на дорогах, господин в лесах, на крутых склонах, немой профиль под опущенным забралом шлема, проходящий долинами, непонятый деревнями, высмеянный маленькими городками, презираемый большими городами!
Король, кого Смерть посвятила в свои рыцари, бледный и абсурдный, забытый и неизвестный, правящий меж тусклыми камнями и старым бархатом, на своем троне у конца Возможного, с его нереальным двором, окружающим его тенями, и с его фантастическим воинством, оберегающим его, таинственным и несуществующим.
Несите, пажи; несите, девственницы; несите, слуги и прислужницы, – бокалы, подносы и гирлянды для банкета, на котором присутствует Смерть! Приносите их и приходите сами, в черном, увенчанные миртом.
Пусть будет мандрагора тем, что вы принесли бы в бокалах… на подносах, и гирлянды пусть будут из фиалок и… изо всех тех цветов, что напоминали бы о печали.
Иди, Король, на ужин со Смертью, в ее древний дворец на берегу озера, меж горами, далекий от жизни, чужой для мира.
Пусть будут странные инструменты, чей чистый звук заставлял бы рыдать, в оркестрах, готовящихся к празднику. Пусть наденут слуги скромные ливреи неизвестных цветов, роскошные и простые, точно катафалки героев.
И, прежде чем начнется праздник, пусть пройдет тополевыми аллеями больших парков величественный средневековый кортеж мертвых пурпуров, огромное, молчаливое церемониальное шествие, точно красота в некоем кошмарном сне.
Смерть – это триумф Жизни!
Благодаря смерти мы живем, ведь сегодня мы есть только потому, что умерли для вчерашнего дня. Благодаря смерти мы надеемся, ведь можем верить в наступление «завтра», только будучи уверены в смерти «сегодня». Благодаря Смерти мы живем, когда мечтаем, ведь мечтать – это отвергать жизнь. Благодаря смерти умираем, когда живем, потому что жить – это отвергать вечность! Смерть ведет нас, смерть нас ищет, смерть нас сопровождает. Все, что у нас есть – смерть, все, чего мы хотим, – смерть, смерть – это все, чего мы желаем хотеть.
Ветерок внимания пробегает по рядам.
Вот он, что придет вместе со смертью, какой никто не видит, и… что не придет никогда.
Трубите, герольды! Внимание!
Твоя любовь к вещам, вымышленным твоими мечтами, была твоим презрением к вещам действительным.
Король-Девственник, ты, презирающий любовь,
Король-Тень, что пренебрегает светом,
Король-Мечта, ты, что не желал жизни!
Среди грохота цимбал и литавр Тень тебя приветствует, Император!
…и в глубине Смерти, как и везде – Небо.
Краткие изречения
– Иметь мнения, окончательные и определенные, инстинкты, страсти и характер, неизменный и известный, – все это приводит к тому, что нашей душе страшен сам факт превращения ее в реальность, факт внешнего проявления. Жить в приятном и текучем состоянии неведения о вещах и о себе самом – это единственный способ жизни, какому следует мудрец и какой его воодушевляет.
– Уметь постоянно выступать посредником между собой самим и другими вещами – это наиболее высокая степень мудрости и благоразумия.
– Наша личность должна быть неразвращаемой, даже и нами самими: отсюда наш долг – всегда мечтать, включая себя в собственные мечты, чтобы у нас не было возможности составлять суждения в отношении нас самих.
И особенно мы должны избегать вторжения других в нашу личность. Всякий посторонний интерес к нам – это грубая нетактичность. Все, переходящее границы обычного приветствия – как поживаете? – будучи непростительной дерзостью, является, вообще, вещью, совершенно пустой и неискренней.
– Любить – утомление от одиночества: следовательно, это некое малодушие, измена нам самим (из этого следует надменное требование – чтобы мы не любили).
– Давать хорошие советы – значит, не уважать право на ошибку, что Бог дал другим. И время от времени чужие действия должны иметь то преимущество, чтобы они не являлись также и нашими. Понятно было бы, если бы просили советов у других только в одном случае – чтобы знать хорошо, как поступить наоборот, ведь мы является полностью нами, в достаточном несогласии с Чужеродным.
– Единственное преимущество учения – наслаждаться тем, что о стольких вещах другие не говорили.
– Искусство – это некая изоляция. Каждый художник должен стараться изолировать других, нести в их души желание оставаться в одиночестве. Высший триумф художника – когда, имея дело с его работами, читатель предпочитает их иметь, но не читать их. Не потому, что так случалось бы с посвященными, но потому, что это – самая большая дань […]
– Быть ясным и быть не расположенным к себе самому. Подлинное состояние духа в отношении взгляда внутрь самого себя – это состояние… того, кто смотрит на нервозность и нерешительность.
– Единственная умственная установка, достойная божественного создания, – это спокойное и холодное сочувствие всему, что не есть он сам. Не то чтобы эта установка несла бы на себе минимальный отпечаток беспристрастности и истины; но она так завидна, что надо ее иметь.
Миллиметры (ощущения от мельчайших вещей)
Так как все настоящее является давно устаревшим, потому что все существовавшее было настоящим, я испытываю к вещам, поскольку они принадлежат настоящему, нежность антиквара и горячность коллекционера – последователя, для кого у меня отнимаются мои ошибки по поводу этих вещей и заменяются благоразумными и даже правильными объяснениями, умными и обоснованными.
Разнообразные положения, какие летающая бабочка последовательно принимает в пространстве, являются, для моих очарованных глаз, разнообразными вещами, зрительно остающимися в пространстве. Мои воспоминания – такие же живые, как…
Но только минимальные ощущения, и от вещей самых мельчайших, есть то, что я переживаю интенсивно. Должно быть, это из-за моей любви к ничтожному – так со мной бывает. А может быть, так случается из-за моей добросовестности к деталям. Но думаю, что, скорее, – не знаю этого наверняка, и никогда не анализирую подобные вещи – так происходит потому, что минимальное, не имея абсолютно никакой важности, ни в социальном, ни в практическом отношении, имеет, именно вследствие простого отсутствия этого, некоторую абсолютную независимость от грязных ассоциаций с действительностью. Минимальное мне представляется нереальным. Бесполезное и прекрасное, поскольку оно менее реально, чем полезное, что продолжается и продлевается, в то время как чудесное ничтожное, славное бесконечно малое остается там же, где есть, не выходя за рамки того, чем оно является, живет, свободное и независимое. Бесполезное и ничтожное открывает в нашей жизни действительные промежутки жалкой эстетики. Сколько же мечтаний и нежных радостей вызывает в моей душе простое и ничтожное существование булавки, воткнутой в ленту! Жаль того, кто не знает важности этих вещей!
Потом, между ощущениями, что причиняют сильную боль, даже будучи приятными, непокой тайны – одно из наиболее сложных и обширных. И тайна никогда не просвечивает так четко, как при созерцании крохотных вещей, какие, если не двигаются, являются совершенно прозрачными для нее, какие останавливаются, чтобы позволить ей пройти. Труднее чувствовать тайну, созерцая какое-то сражение, и все же думать о том, как абсурдна ситуация – люди, и их общества, и сражения между ними, все это существует, чтобы можно было шире развернуть мысленное знамя победы над тайной, – чем размышлять, созерцая маленький неподвижный камень на дороге, так как тогда ничто не провоцирует заглядывать за существующее, поэтому, если мы продолжим размышлять, то у нас не может возникнуть никакой другой идеи, кроме того, чтобы немедленно за этим начать думать о тайне его существования.
Благословенны будьте, мгновения, и миллиметры, и тени маленьких вещей, еще более ничтожные, чем они сами! Мгновения… Миллиметры – какое впечатление чуда и бесстрашия производит на меня ваше существование рядом и очень близко друг к другу на измерительной рулетке. Порою страдаю из-за подобных вещей и наслаждаюсь ими. У меня даже возникает некая неотесанная гордость по этому поводу.
Я – фотографическая пленка, очень чувствительная. Все детали отпечатываются на мне непропорционально, чтобы составить часть какого-то целого. Я занят лишь собой. Внешний мир является для меня, всегда и очевидно, впечатлением. Я никогда не забываю о том, что чувствую.
В лесу отчуждения
Я знал, что проснулся и что еще дремлю. Мое бывшее тело, утомленное от моей жизни, говорит мне, что еще очень рано… Ощущаю себя возбужденным чем-то далеким. Я угнетен, не зная почему…
В каком-то сияющем оцепенении, тяжко бестелесный, остаюсь, будто парализованным, между сном и бодрствованием, в каком-то сновидении, являющемся тенью мечтания. Мое внимание колышется меж двумя мирами и видит слепо глубь какого-то моря и глубь какого-то неба; и эти две глуби проникают друг в друга, смешиваются, и я не знаю ни где нахожусь, ни что вижу в этом сновидении.
Какой-то ветер теней сдувает золу мертвых намерений над тем, кем я буду, пробудившись. Падает с неизвестного мне небесного свода тепловатая роса скуки. Большая, вялая тоска мнет мою душу изнутри и, неясная, изменяет меня, точно бриз – очертания крон деревьев.
В алькове, нежном и равнодушном, рассвет там, снаружи, – всего лишь дыхание сумерек. Я весь – тихая растерянность… Зачем это сияние дня? […] Мне нелегко знать, что он засияет, будто бы это именно мое усилие должно заставить новый день появиться.
Успокаиваюсь в растерянной медлительности. Делаюсь вялым. Плаваю в воздухе между бодрствованием и сном, и какая-то другая реальность возникает, и я, внутри ее, не знаю, откуда это – нездешнее…
Она появляется, но не стирает этой, этой, из равнодушного алькова, та, из какого-то странного леса. Сосуществуют в моем зачарованном внимании две реальности, точно два смешивающихся дыма.
Как четок, от одной и от другой, этот дрожащий прозрачный пейзаж!..
И кто эта женщина, которая вместе со мной одевает в созерцание этот чуждый лес? Почему в какой-то момент я должен себя об этом спросить?.. Я не умею хотеть узнать это…
Пустой альков – темное стекло, через которое я, осознавая его, вижу этот пейзаж… и этот пейзаж я знаю уже давно, и уже давно с этой женщиной, какую я не знаю, я брожу по другой действительности, предстающей через ее нереальность. Чувствую в себе, что я уже века знаю те деревья, и те цветы, и те дороги со всеми их поворотами, и то мое существо, что там бродило, древнее и очевидное, на мой взгляд, что знает: я нахожусь в этом алькове, одетом сумерками созерцания…
Порой по лесу, где издали я себя вижу и чувствую, медленный ветерок разгоняет дым, и этот дым – видение, четкое и мрачное, алькова, в котором я – настоящий, среди его ночного оцепенения, смутной мебели и портьер. Затем этот ветер проходит и превращает все, что было, в один пейзаж того, другого мира…
В другой раз эта тесная комната – только пепел неопределенности на горизонте той, иной земли… И выпадают моменты, когда земля, по которой там ступаем, – это и есть тот самый видимый альков…
Мечтаю и теряюсь, удваиваясь: мое существо вместе с той женщиной… Большая усталость – это черный огонь, что меня пожирает… Большая вялая тоска – эта фальшивая жизнь, тесная для меня…
О, тусклое счастье!.. Вечное пребывание в месте раздвоения дорог!.. Я мечтаю и там за пределами моего внимания, кто-то мечтает со мною… И, возможно, я – всего лишь мечта этого Кого-то, кто не существует…
Там, снаружи, рассвет такой далекий! лес такой близкий перед моими другими глазами!
И я, что вдали от этого пейзажа его почти забываю, видя его, тоскую о нем, проходя по нему, рыдаю о нем и его жажду…
Деревья! цветы! спрятанность тропинок под кронами!..
Порой мы гуляли за руку под кедрами и Иудиными деревьями, и никто из нас не размышлял о жизни. Наша плоть была для нас подобна смутному аромату, и наша жизнь – эхо журчанья воды в источнике. Подавали друг другу руки, и наши взгляды спрашивали друг у друга, что это – быть чувственным существом и желать реализовать во плоти иллюзию любви…
В нашем саду были цветы, демонстрировавшие самые разные обличья прекрасного: розы с их завернутыми очертаниями, лилии, белые с легкой желтизной, маки, что были бы скрыты, если бы их пунцовость не выдавала их присутствия, фиалки на пухлых краях клумб, крохотные голубые цветки миозотиса, камелии, лишенные аромата… И удивленные, поверх высоких трав, глаза – обособленные подсолнухи величественно разглядывали нас.
Мы касались души, она была вся видна сквозь видимую свежесть мхов, и ощущали, проходя мимо пальм, тонкое предчувствие других земель… И поднималось в нас рыдание при каком-то воспоминании, потому что даже здесь, будучи счастливыми, мы были несчастливы…
Дубы, полные узловатыми столетиями, заставляли нас спотыкаться о мертвые щупальца их корней… Платаны подпирали столбами небо… И вдали, между деревьями, висели в тишине шпалер темнеющие грозди винограда…
Наша мечта о жизни шла впереди нас, крылатая, и мы улыбались ей, одинаково и отчужденно, сочетавшись душами, не глядя друг на друга, не зная друг о друге более, чем это ощущение присутствия поддерживающей руки, передающееся и чувствуемое рукой другого.
Наша жизнь ничего не имела внутри. Мы были снаружи и – другие. Мы совсем не знали себя, словно только что появились перед нашими душами после путешествия в мечтах…
Мы забыли о времени, и огромное пространство уменьшилось в нашем сознании. Вне тех, близких к нам деревьев, тех отдаленных шпалер, увитых виноградом, тех последних гор на горизонте – было ли что-то реальное, заслуживающее открытого взгляда, какой подходит для вещей существующих?..
На водяных часах нашего несовершенства упорядоченные капли мечты отмечали нереальные часы… Ничто не стоит внимания, о моя далекая любовь, кроме знания о том, как это нежно – знать, что ничто не стоит внимания…
Остановившееся движение деревьев; тихий покой источников; неопределимое дуновение интимного ритма жизненных сил; медленное наступление вечера всех этих вещей, что, казалось, пришло к ним изнутри – подать руку в знак духовного согласия, печалясь, вдали и рядом с душою, высоким молчанием небес; падение листьев, плавное и ненужное, капли отчуждения, с которыми пейзаж обращает нас полностью в слух и печалится внутри нас, будто воспоминание о родине – все это, словно пояс, что развязывается, неопределенно окружает нас.
Там мы жили в каком-то времени, которое не умело протекать, в некоем пространстве, о котором нечего было и думать, чтобы его измерить. Течение времени вне Времени, некая протяженность, не знающая привычек реального пространства… Какие часы, о напрасная подруга моей скуки, какие часы счастливого непокоя притворялись нашими там!.. Часы пепла нашего духа, дни ностальгии о пространстве, внутренние века вечного пейзажа… И мы не спрашивали себя, зачем это было, потому что наслаждались уверенностью в том, что это не было бесполезно.
Там мы знали, интуитивно, хотя определенно не имели интуиции, что этот скорбный мир, где мы были вдвоем, если существовал, то был за крайней чертой, где горы – только дыхание форм, и за этой линией не было ничего. И лишь по причине противоречия в знании об этом наш час там был темным, точно пещера в земле суеверных людей, а наше ощущение от него было так странно, как очертания мавританского города на фоне небес в осенних сумерках…
Берега неизвестных морей достигали на горизонте, где мы их слышали, пляжей, каких мы никогда не смогли бы увидеть, и это было счастьем для нас – слышать, даже видеть его в нас, это море, где, без сомнения, шли под парусами каравеллы, пересекая его с другими намерениями, что не были утилитарными и захватническими, как на Земле.
Мы вдруг замечали, как замечающий, что он живет, что воздух полон песнями птицы и что, как старинные ароматы в атласе, шум трения листьев проникал в нас более, чем сознание, что мы его слышим.
И так щебет птиц, шелест рощ и глубина, монотонная и забытая, вечного моря создавали вокруг нашей покинутой жизни ореол неизвестности. Мы спали там в свои пробужденные дни, довольные тем, что мы – ничто, что у нас нет ни желаний, ни надежды, что мы забыли цвет любви и вкус ненависти, мы считали себя бессмертными…
Там мы проживали часы, полные другого ощущения от них, часы некоего пустого несовершенства, и такие совершенные поэтому, такие диагональные – для прямоугольной правильности жизни… Часы низложенных императоров, часы, одетые в изношенный пурпур, печальные часы в этом мире из некоего другого мира, более полного гордости от обрушенной тоски…
И нам было больно наслаждаться этим, было больно… Потому что, хотя он был местом тихого изгнания, весь этот пейзаж был нам знаком, и мы были из этого мира, весь пейзаж был влажен от торжественности какой-то смутной скуки, печальной и огромной и извращенной, как упадок некой неведомой империи…
На гардинах нашего алькова утро – это лишь тень света. Мои губы, которые, я знал, всегда были бледными, ощущают одинаковый мертвенный вкус и не хотят жизни.
Воздух в нашей сумрачной комнате тяжелый, точно портьера. Наше сонное внимание к тайне всего этого – вялое, точно шлейф платья, волочащийся за ним во время некой церемонии в сумерках.
Ни одна наша тоска не имеет под собою оснований. Наше внимание – некий абсурд, допускаемый нашей крылатой инерцией.
Я не знаю, какие масла сумерек умащивают наше представление о собственном теле. Наша усталость – это тень некой усталости. Она приходит из очень далекой дали, как идея о жизни, которая у нас есть…
Ни один из нас не имеет имени или приемлемого существования. Если бы мы могли быть шумными, почти воображая себя смеющимися, смеялись бы, без сомнения, над тем, что считали себя живыми. Согревающая свежесть простыни ласкала нам (тебе, как и мне, наверное) обнаженные ступни, чувствовавшие ступни другого.
Давай выведем себя из заблуждения, моя любовь, в отношении жизни и ее манер. Давай с тобой избегать того, чтобы быть нами… Не будем снимать с пальца магическое кольцо, что вызывает, если его повернуть, волшебниц тишины, и эльфов тени, и гномов забвения…
И вот он, ведь мы мечтаем поговорить о нем, появляется перед нами снова, густой лес, но сейчас более взволнованный из-за нашего волнения и более печальный из-за нашей печали. Перед ним убегает, как облетающий туман, наше представление о реальном мире, и я снова обретаю себя в своей бродячей мечте, которую этот таинственный лес включает в себя…
Цветы, цветы, среди которых я жил когда-то! Цветы, которые наш взор переводил в согласии с их именами, зная их, и чей аромат душа извлекала не из них самих, но из мелодии их имен… Цветы, чьи имена были, повторенные последовательно, оркестрами гармоничных ароматов… Деревья, чье зеленое сладострастие налагало тень и свежесть на то, как их называли… Фрукты, чьи имена были выгравированы зубами в душе их мякоти… Тени, бывшие реликвиями счастливых в былые времена… Поляны, светлые поляны, бывшие улыбками, более искренними, сонного пейзажа вблизи… О, разноцветные часы!.. Мгновения-цветы, минуты-деревья, о, время, парализованное в пространстве, мертвое время пространства, покрытое цветами, и ароматом цветов, и ароматом имен цветов!..
Безумие мечты в этой чужой тишине!..
Наша жизнь была всей жизнью… Наша любовь была ароматом любви… Мы переживали невозможные часы, полные тем, что мы были нами… И это потому, что мы знали, всей плотью нашей плоти, что не были реальностью…
Мы были безличными, пустыми от нас самих, были чем-то другим… Мы были тем пейзажем, исчезающим в осознании себя самого… И так, как двоился этот пейзаж – от существовавшей реальности и от иллюзии, – так мы были смутно двумя, ни один из нас не знал твердо, не был ли другой им самим или какой-то неопределенный другой существовал…
Когда мы внезапно появлялись перед застывшим покоем озер, мы чувствовали желание зарыдать… Там, у того пейзажа были глаза, полные воды, глаза остановившиеся, наполненные огромной скукой от существования… Да, полные скукой от существования, от необходимости быть чем-то, реальностью или иллюзией, – и эта скука имела свою родину и свой голос в немоте и в изгнании озер… И мы, всегда путешествуя, кажется, еще не зная и не желая этого, задерживались у тех озер, – столько от нас, символического и углубленного, оставалось и жило с ними…
И какой свежий и счастливый ужас в том, что там нет никого! Нет и нас, которые шли туда, оставались там… Потому что мы не были никем. И даже не были ничем, никакой вещью… В нас не было жизни, какую Смерти надо было бы уничтожать. Мы были такими хрупкими и невысокими, что проходящий ветер не трогал нас, как бесполезных, и час проходил, лаская нас, как бриз, ласкающий пальму.
У нас не было ни эпохи, ни цели. Вся конечная цель вещей и живых существ оставалась для нас у двери этого рая отсутствия. Становилась неподвижной для наших ощущений сморщенная душа стволов, вытянутая душа листьев, созревшая душа цветов, изогнутая душа плодов…
И так мы умирали нашей жизнью, такие внимательные, каждый из нас, к ее умиранию, что не замечали, что были кем-то одиноким, что каждый из нас был иллюзией другого, и каждый, внутри себя, простым эхом своего собственного существа…
Жужжит какая-то мошка, крошечная и неизвестная…
Появляются в моем внимании неопределенные шумы, четкие и рассеянные, наполняющие дневным существованием мое осознание нашей комнаты… Нашей комнаты? Нашей, будто нас двое, если я – один? Не знаю. Все растворяется, и остается только убегающая неопределенная действительность, в которую моя неясность погружается, и мое понимание себя, убаюканное опиумом, засыпает…
Утро разорвалось, точно упав с бледных вершин Часа…
Вот и сгорели, моя любовь, в очаге нашей жизни поленья наших мечтаний…
Разочаруемся же в нашей надежде, потому что она предает, в любви, потому что она утомляет, в жизни, потому что она пресыщает и не удовлетворяет, и даже в смерти, потому что она приносит более, чем хотелось, и менее, чем ожидалось.
Разочаруемся, о Вечерняя, в нашей собственной скуке, потому что она устаревает в себе самой и не осмеливается быть всей печалью, какая есть.
Не будем ни плакать, ни ненавидеть, ни желать…
Прикроем, о Молчаливая, тонким льняным платком неподвижный мертвый профиль нашего Несовершенства…
Мадонна тишины
Порою, когда, подавленный и униженный, я теряю даже силу воображения, которая иссякает во мне, и я могу только думать о своих мечтах, тогда я их перелистываю, точно книгу, что листается, и это превращается в перелистывание, без чтения, каких-то неизбежных слов. И тогда я спрашиваю себя о том, кто ты – фигура, проходящая через все мои медлительные видения иных пейзажей, и давних внутренних убранств, и роскошных церемоний тишины. Во всех моих мечтах ты или появляешься, мечта, или, ложная реальность, меня сопровождаешь. Я посещаю с тобою те области, какие, может быть, являются твоими мечтами, земли, какие, может быть, являются твоими телами отсутствия и не-человечности, твоим главным телом, размывшим свои контуры по спокойной равнине и холодным очертаниям горы в саду вокруг таинственного дворца. Возможно, у меня не было другой мечты, кроме тебя, возможно, это в твоих глазах, когда наши лица будут соприкасаться, я прочту – увижу эти невозможные пейзажи, эту ложную скуку, эти чувства, что таятся в тени моей усталости и в пещерах моего непокоя. Кто знает, не являются ли пейзажи моих мечтаний моим способом не мечтать о тебе? Я не знаю, кто ты, но разве я знаю наверное, кто я? Разве я знаю, что такое – мечтать, чтобы знать, стоит ли называть тебя моей мечтой? Разве я знаю, не являешься ли ты какой-то частью, кто знает, может быть, частью существенной и реальной, меня самого? И разве я знаю, не являюсь ли я мечтой, а ты – реальностью, я – твоей мечтой, а не ты – мечтой, которую я создал в своем воображении?
Какой разновидностью жизни ты обладаешь? С помощью какого зрения я вижу тебя? Твой профиль? Он никогда не бывает прежним, но и не изменяется никогда. И я говорю это, потому что знаю это, хотя бы и не знал, что знаю. Твое тело? Оно обнажено, хотя бы было одетым, сидящее, находится в той же позе, как и лежащее или стоящее. Что означает это, не означающее ничего?
*
Моя жизнь так печальна, и я даже не думаю ее оплакивать; мои часы так лживы, и я даже не мечтаю разделить их с кем-либо из друзей.
Как не мечтать о тебе? Как не мечтать о тебе? Госпожа Часов, что проходят, Мадонна неподвижных вод и мертвых водорослей, Богиня-Защитница открытых пустынь и черных пейзажей бесплодных скал, освободи меня от моей молодости.
Утешительница тех, кто не имеет утешения, Слеза тех, кто никогда не плачет, Час, что никогда не пробьет, освободи меня от радости и счастья.
Опиум всех молчаний, Лира, какой не касаются, Витраж дали и заброшенности, сделай так, чтобы меня ненавидели мужчины и осмеивали женщины.
Цимбалы Последнего Причащения, Ласка без жестов, мертвая Голубка в тени, Миро часов, протекших в мечтаниях, освободи меня от религии, потому что она – нежна; и от неверия, потому что оно – сильно.
Лилия, высыхающая вечером, Сокровище увядших роз, Тишина между двумя молитвами, наполни меня отвращением к жизни, ненавистью к своему здоровью, презрением к своей юности.
Сделай меня бесполезным и бесплодным, о гостеприимная Хозяйка всех смутных мечтаний; пусть я стану чистым, без каких-либо оснований быть им, и лживым, хотя мне это и не нравится, о Бегущая Вода Живых Печалей; пусть мои уста будут ледяным пейзажем, мои глаза – двумя мертвыми озерами, мои жесты, мои движения – медленным листопадом в саду со старыми деревьями, о Литания Непокоя, о фиолетовая Месса Усталостей, о Венчик цветка, о Текучая, Неуловимая, о Вознесение!..
Какая жалость, что я вынужден молиться тебе, как женщине, и не желать тебя… как мужчина, и не мочь поднять на тебя глаз моих мечтаний, как на Аврору-наоборот, обладающую нереальным полом ангелов, которые никогда не всходили на небеса!
Молюсь тебе, моя любовь, потому что моя любовь – уже молитва; но не гляжу на тебя, как на возлюбленную, и не поднимаю тебя над собою, как святую.
Пусть будут действия твои статуей отречения, жесты твои – пьедесталом равнодушия, слова твои – витражами отрицания.
*
Сияние из небытия, имя бездны, Потустороннее спокойствие…
Вечная девственница, до богов, и до отцов богов, и до прадедов богов, бесплодность всех миров, стерильность всех душ…
Тебе посвящены дни и жизни; планеты – это клятвы в твоем храме, и усталость богов возвращается в твое лоно, как птица в гнездо, какое свила, сама не зная как.
Пусть об апогее печали возвестит день, и если ни один день не возвещает, пусть же будет этот день, что возвестит!
Сияй, отсутствие солнца; блести, лунный свет, ты, что гаснешь…
Лишь ты, солнце, что не блестишь, освещаешь пещеры, потому что пещеры – твои дочери. Лишь ты, луна, которой нет, даешь… гротам, потому что гроты…
*
Ты имеешь пол воображаемых форм, несуществующий пол фигур… Просто контуры порой, просто поза в другой раз, иногда всего лишь медленный жест – ты есть моменты, позы, одухотворенные моими.
Ни одно очарование пола не подразумевается в моих мечтах о тебе, под твоей смутной одеждой мадонны внутренних молчаний. Твои груди – не из тех, какие можно мечтать поцеловать. Твое тело, все оно – тело-душа, но это не душа, а тело. Вещество твоей плоти – это не дух, но оно духовно. Ты – женщина «до Падения», скульптура – еще из той глины, что… в раю.
Мой ужас перед реальными женщинами, имеющими пол, – это дорога, по которой я шел к тебе навстречу. Эти, земные, что для существования… должны выдерживать изменчивый гнет какого-то мужчины – кто может их любить, чтобы не опали листья этой любви в предвидении удовольствия, какому служит пол..? Кто может уважать Жену, без того чтобы не быть вынужденным подумать при этом, что она – женщина, с которой он совокупляется? Кто не чувствует отвращения порой оттого, что происходит из вульвы, таким тошнотворным образом извергнутый в этот мир? Разве не возбудит в нас тошноту мысль о плотском происхождении нашей души – из того бурного телесного… от которого рождается наша плоть, и как бы прекрасна ни была она, но становится безобразной по причине происхождения и вызывает в нас отвращение по причине рождения.
Поддельные идеалисты из реальной жизни посвящают свои стихи Жене, преклоняют колени перед идеей Матери… Их идеализм – это одеяние, которое прикрывает, а не мечта, что творит.
Чиста лишь ты, Госпожа Мечтаний, которую я могу представить любовницей, не думая о бесчестье, потому что ты нереальна. Лишь тебя могу представить матерью, поклоняясь этому, потому что ты никогда не пятнаешь себя ни ужасом оплодотворения, ни ужасом родов.
Как не поклоняться тебе, если ты одна достойна поклонения? Как не любить тебя, если ты одна достойна любви?
Кто знает, не создаю ли я тебя, мечтая о тебе, тебя, реальную в другой реальности; не будешь ли ты моей там, в другом и чистом мире, где бы мы любили без ощутимого тела, с другим способом объятий и существенно другим отношением к обладанию? Кто знает точно, не существовала ли ты уже, и тогда я не создал тебя, но только видел тебя другим зрением, внутренним и чистым, в другом и совершенном мире? Кто знает, не были ли мои мечтания о тебе просто встречами с тобою, не была ли моя любовь-к-тебе моими мыслями-о-тебе, не было ли мое презрение к плоти и мое отвращение к любви неясной тоской, с которой я, не зная тебя, тебя ожидал, и неопределенным стремлением, с которым я, не ведая тебя, тебя желал?
Не знаю даже, [не] любил ли я тебя уже, в колышущейся неопределенности, ностальгия по которой, возможно, и была моей вечной скукой? Может быть, ты и есть моя ностальгия, тело отсутствия, присутствие Расстояния, особь женского пола, возможно, совсем по другим соображениям, а не для того, чтобы быть ею. Я могу думать о тебе как о девственнице и в то же время как о матери, потому что ты – не из этого мира. Дитя, которое у тебя на руках, никогда не было моложе, иначе ты должна была бы пачкать его пребыванием в утробе. Ты никогда не была иной, чем есть сейчас, и как же тебе не быть девственницей поэтому? Я могу любить тебя и одновременно поклоняться тебе, потому что моя любовь не обладает тобою и мое поклонение тебя не отдаляет.
Будь Вечным Днем, и пусть мои закаты будут отблесками твоего солнца, под твоей властью.
Будь Невидимыми Сумерками, и пусть моя тоска и непокой будут красками твоей неопределенности и тенями твоей неизвестности.
Будь Всеобщей Ночью, стань Единственной Ночью, и пусть я весь потеряю себя и забуду себя в тебе, и пусть мои мечты сияют, звезды, на твоем теле отдаления и отрицания…
Пусть буду я складками твоей мантии, драгоценностями твоей тиары и другим звездным небом – колец на твоих пальцах.
Пепел в твоем очаге, разве важно, что я – пыль? Окно в твоей комнате, разве важно, что я – пространство? Час… на твоих водных часах, разве было бы важно, что я прохожу, если я останусь, из-за того, что я – твой; что я умираю, если из-за того, что я – твой, я не умру; что я тебя теряю, если потерять тебя – значит встретить тебя?
Осуществляющая абсурды, Продолжательница бессвязных фраз. Пусть твое молчание укачивает меня, пусть твоя …меня усыпляет, пусть твое чистое существование ласкает меня, и меня смягчает, и меня утешает, о Геральдика Той Стороны, о королевство Отсутствия, Девственная Мать всех молчаний, Очаг для душ, которым холодно, Ангел-Хранитель всех покинутых, Пейзаж человеческий – нереальный в печали – вечное Совершенство.
*
Ты – не женщина. И даже во мне не вызываешь ничего, в чем я смог бы ощутить женственность. Когда я говорю о тебе, это сами слова тебя называют существом женского пола, и выражения тебя рисуют женщиной. Именно потому, что я должен говорить о тебе с нежностью и ласковой мечтой, слова отыскивают голос для этого только в обращении к тебе как к женщине.
Но ты, в своей смутной сущности – ничто. В тебе нет реальности, даже только твоей – собственной реальности. Я сам тебя не вижу, даже тебя не чувствую. Ты, будто какое-то чувство, какое было бы своей собственной целью и принадлежало бы все целиком своей собственной глубине. Ты – всегда пейзаж, где я находился и какой почти мог видеть, вставка от платья, что я едва мог видеть, потерянная в вечном «Сейчас», там, за поворотом дороги. Твои очертания говорят о том, что ты – ничто, и контуры твоего нереального тела разрывают на отдельные жемчужины ожерелье самой идеи контура. Ты уже прошла, и ты уже была, и я уже тебя любил: чувствовать тебя настоящей – значит чувствовать все это.
Ты занимаешь все промежутки в моих размышлениях и щели в моих ощущениях. Поэтому я не думаю о тебе и не чувствую тебя, но мои размышления – стрельчатые своды моего ощущения тебя, и мои чувства – готические колонны воскрешения тебя в памяти.
Луна потерянных воспоминаний над черным пейзажем, четкая в покое, понимаемая в моем несовершенстве. Мое существо чувствует тебя смутно, будто бы я был твой пояс, который бы тебя ощущал. Я наклоняюсь над твоим белым лицом, что на водах ночных моего непокоя, но я никогда не узнаю, не луна ли ты в моем небе, и для чего ты его вызываешь, или странная подводная луна и для чего, не знаю как, ты его выдумываешь.
Кто мог бы создать Новый Взгляд, чтобы увидеть тебя, Новое Мышление и Чувства, что помогли бы смочь думать о тебе и чувствовать тебя!
Когда я желаю коснуться твоей мантии, все мои проявления утомляются от простертого напряжения жестов твоих рук, и усталость, одеревенелая и болезненная, застывает в моих словах. Мысль моя парит, точно птица в полете, кажущаяся близкой, но всегда недосягаемая, вокруг того, что я бы хотел сказать о тебе, но вещество моих фраз не умеет имитировать субстанцию или звук твоих шагов, или след от твоих взглядов, или цвет, печальный и пустой, закругления жестов, каких ты никогда не делала.
И если, возможно, я говорю с кем-то далеким, и если сегодня – облако возможного, ты завтра упадешь, дождь из реальности, на землю, не забывай никогда о своем божественном происхождении в моей мечте. Будь всегда в жизни тем, что могло бы быть мечтой некоего уединенног, и никогда – убежищем любящего. Выполняй свой долг простого бокала. Исполни твою функцию бесполезной амфоры. Никто не сказал бы о тебе того, что душа реки может сказать своим берегам – что они существуют, чтобы ее ограничивать. Лучше уж не бежать в жизни, лучше пусть высохнет русло твоей мечты.
Пусть твой гений будет существом излишним, и твоя жизнь – твоим искусством смотреть на нее, быть ею увиденной и никогда не идентичной. Пусть ты не будешь никогда более ничем.
Сегодня ты – всего лишь очертания, созданные этой книгой, некий час, воплощенный и отделенный от других часов. Если бы я был уверен, что ты этим являешься, я бы возвел целую религию над мечтой любить тебя.
Ты являешься тем, чего не хватает всему. Ты – то, чего не хватает каждой вещи для того, чтобы мы могли ее любить всегда. Потерянный ключ от дверей Храма, тайный путь во Дворец, далекий остров, который всегда скрыт густым туманом неопределенности…
Видимый любовник
Антерос.[47]
Я имею о глубокой любви и о полезном ее использовании понятие поверхностное и декоративное. Я подвержен видимым страстям. Я сохраняю неприкосновенным сердце, отданное менее реальным предназначениям.
Я не помню, чтобы любил кого-то, кроме как чью-то «картину», чисто внешний облик – в который душа входит не более, как только чтобы сделать эту наружность живой и воодушевленной – и, таким образом, отличной от картин, написанных художниками.
Я люблю так: останавливаюсь на красивой, притягательной или каким-либо другим образом приятной фигуре женщины или мужчины – там, где нет желания, нет и предпочтения в отношении пола, – и эта фигура меня ослепляет, меня увлекает, захватывает меня. Однако я не желаю большего, чем видеть ее, и не знаю большего ужаса, чем возможность узнать ближе и говорить с реальным человеком, которого эта фигура, очевидно, представляет.
Я люблю зрением, а не фантазией. Потому что я ничего не выдумываю в этой фигуре, что меня захватывает. Не воображаю себя связанным с нею никаким образом, потому что моя декоративная любовь не имеет ничего общего с душевной. Мне не интересно узнать, кто оно, чем занимается, о чем думает это создание, подходящее мне для того, чтобы любоваться его внешностью.
Огромное количество людей и вещей, образующее мир, для меня является бесконечной галереей картин, чей внутренний мир для меня неважен. Он неважен для меня, потому что душа – однообразна и всегда та же у всех людей; она отличается только своими личными проявлениями, лучшее в ней – то, что переполняет лицо, манеры, жесты, и так входит в картину, что меня захватывает и, различно, но постоянно, меня привязывает.
Для меня это создание не имеет души. Душа остается там, сама с собою.
Так я переживаю, в чистом видении, оживленную внешность вещей и живых существ, безразличный, как один из богов другого мира, к их содержимому-духу. Я углубляю только поверхность и наружность, а когда жажду глубины, во мне самом и в моем представлении о вещах есть то, что я ищу.
Что может мне дать личное знакомство с тем созданием, которое я люблю так декоративно? Это не разочарование, потому что, раз в этом создании я люблю только внешность и ничего в нем не выдумываю, его тупость или посредственность ничего не отнимет, потому что я не ожидал ничего, кроме внешности, от какой я и не должен был ничего ожидать, и внешность сохраняется. Но личное знакомство является вредным, потому что оно бесполезно, а бесполезный материал – всегда вреден. Знать имя этого создания – зачем? И это первая вещь, которую, будучи представлен этому существу, я узнаю.
Личное знакомство отнимает у меня также свободу созерцания, то, чего желает мой вид любви. Мы не можем пристально смотреть, созерцать свободно того, кого знаем лично.
То, что является избытком, является ненужным художнику, так как, приводя его в замешательство, уменьшает впечатление.
Я самой природой предназначен быть бесконечным наблюдателем, влюбленным во внешний вид и проявления вещей – объективистом мечтаний, видимым любовником форм и обличий природы […]
Это не тот случай, который психиатры называют психическим онанизмом, ни даже тот, который называют эротоманией. Я не фантазирую, как при психическом онанизме; я не фигурирую в мечте как чувственный любовник или даже друг и собеседник того создания, которое я рассматриваю и вспоминаю: я ничего не выдумываю о нем. Не идеализирую его, как эротоман, и не перемещаю его за пределы сферы конкретной эстетики: я не желаю от него более и не думаю о нем более, чем мне дается для наблюдения и для памяти, более непосредственной и чистой, чем то, что было увидено глазами.
*
Но я не плету привычно какой-то сюжет моей фантазии вокруг этих фигур, чьим созерцанием я себя развлекаю. Я вижу их, и их ценность для меня заключается только в том, чтобы их видеть. Все большее, что к ним присоединялось бы, уменьшало бы их, потому что уменьшала бы, так сказать, их «видимость».
Сколько бы я ни выдумывал их, необходимо случается, что в самом процессе фантазии я узнаю, что они фальшивы; и если я нахожу удовольствие в мечтах, то фальшивое меня отталкивает. Чистая мечта очаровывает меня, мечта, не имеющая ни связи с реальностью, ни точек пересечения с нею. Мечта несовершенная, место отправления которой – жизнь, не нравится мне, или, скорее, не понравилась бы мне, если бы я погрузился в такую мечту.
Для меня человечество – обширное основание для декорации, которое я переживаю с помощью зрения и слуха, и еще – психологических эмоций. Ничего более я не хочу от жизни, только пребывать в ней. Ничего более я не хочу от себя, только присутствовать в жизни.
Я – будто существо, имеющее другое существование, бесконечно проходящее, заинтересованно, через это существование. Во всем я – чужой ему. Между ним и мною – словно стекло. Хочу, чтобы это стекло всегда было очень прозрачным, чтобы я мог исследовать без помех из-за его посредничества; но мне всегда нужно стекло.
Для всего духа, научно организованного, видеть в какой-то вещи более того, что там есть, – это видеть менее, чем эту вещь. То, что материально прибавляется, духовно уменьшается.
Я приписываю этому состоянию души мое отвращение к музеям. Музей, для меня, это целая жизнь, в которой живопись всегда точна и может иметь неточность только в несовершенстве наблюдателя. Но это несовершенство я или заставляю уменьшиться, или, если не могу, удовольствуюсь тем, что есть, потому что, как и все, оно не может быть по-другому, а только так.
Майор
Нет ничего, что бы так интимно обнаруживало, что бы так полностью истолковывало сущность моего прирожденного несчастья, как тот тип мечтаний, который я в действительности более всего лелею, тот бальзам, что я с более интимной частотой выбираю для облегчения моей тоски существования. В итоге сама суть того, чего я жажду, – проспать жизнь. Я слишком люблю жизнь, чтобы желать, чтобы она прошла; слишком хочу не жить, чтобы ее чересчур назойливо желать.
Так и это, что я оставлю написанным, лучшее из моих любимых мечтаний. Ночью иногда, в спокойном доме, потому что хозяева или выехали, или замолчали, закрываю мои оконные стекла, укрывая их тяжелыми ставнями; облаченный в старый костюм, углубляюсь в себя в удобном кресле и увлекаю себя в мечту, в которой я – майор в отставке в какой-то гостинице в провинции, в часы после ужина, когда он сидит с тем или иным умеренным компаньоном, медлящий сотрапезник, оставшийся здесь без причин.
Воображаю, что я был рожден таким. Мне неважны ни юность этого майора в отставке, ни воинские звания, через которые он поднимался до этой моей тоски. Независимо от Времени и от Жизни, майор, которым я себя воображаю, не является продуктом никакой жизни, которую бы он вел; у него нет и не было родителей; он существует вечно у того стола, в том провинциальном отеле, уже уставший от рассказывания анекдотов, чем развлекался с партнерами по задержке.
Река обладания
То, что мы все разные, является аксиомой нашей человеческой природы. Мы похожи только издали, своим сложением, в котором, однако, мы не являемся нами. Жизнь, поэтому существует для неопределенных; лишь те могут сосуществовать, кто никогда не определяется и является, и один и другой, никем.
Каждый из нас – это двое, и когда два человека встречаются, приближаются друг к другу, объединяются, редко случается, чтобы эти четверо могли бы прийти к согласию. Человек, мечтающий в каждом человеке действия, если он столько раз ссорится с человеком действия, как же он не будет ссориться с человеком действия и с человеком мечтающим – в Другом.
Мы являемся силами, потому что являемся жизнями. Каждый из нас меряет себя самого по масштабу других. Если мы имеем к самим себе уважение, считая себя интересными… Любое сближение – это некий конфликт. Другой – всегда препятствие для того, кто ищет. Только тот, кто ничего не ищет, счастлив; потому что только тот, кто не находится в вечном поиске, находит, ввиду того что не ищущий уже имеет, и уже иметь, что бы это ни было, – это быть счастливым, как не нуждаться – это лучшее, что дает богатство.
Я смотрю на тебя, находящуюся внутри меня, предполагаемая невеста, и мы уже не можем прийти к согласию, еще до твоего существования. Моя привычка ясно мечтать дает мне правильное понятие о реальности. Кто слишком много мечтает, нуждается в привнесении реальности в мечты. Кто привносит реальность в мечты, должен привносить в мечту равновесие действительности. Кто привносит в мечту равновесие действительности, страдает от реальности мечтаний так, как от реальности жизни, и от нереальности мечты, как от ощущения жизни нереальной.
Я жду тебя в мечте в нашей комнате с двумя дверьми и вижу тебя приходящей, в моей мечте ты входишь ко мне через дверь справа; если, когда ты входишь, входишь через дверь слева, уже возникает некоторое различие между тобой и моей мечтой. Вся человеческая трагедия видна в этом маленьком примере, что те, о ком мы думаем, никогда не являются теми, о ком мы думаем.
Любовь просит тождества с различием, что невозможно уже логически, еще более – в мире. Любовь хочет обладать, хочет присвоить то, что должно оставаться снаружи, чтобы она знала, что сделаться принадлежащим ей не значит быть ею. Любить – это отдаваться. Насколько велика эта капитуляция, настолько сильна любовь. Но полная капитуляция вручает также и сознание другого. Бо́льшая любовь поэтому – смерть, или забвение, или отречение – все любови, которые являются всасыванием любви.
На старой веранде дворца, возведенной над морем, мы размышляли в тишине о различии между нами. Я был принцем, и ты – принцессой на веранде у берега моря. Наша любовь родилась от нашей встречи, точно красота, что была сотворена встречей луны с водами.
Любовь хочет обладания, но не знает, что есть обладание. Если я не являюсь своим, как я смогу быть твоим или ты – моей? Если я не обладаю своим собственным существом, как я буду обладать чужим существом? Если я уже отличен от того, кому являюсь идентичным, как я стану идентичным тому, от кого отличен?
Любовь – мистицизм, желающий осуществляться, некая невозможность, что лишь в мечтах воображается, какой она должна быть в действительности.
Метафизик. Но вся жизнь – метафизика в потемках, с ропотом богов и с неизвестным направлением единственно верного пути.
Худшее коварство, которое применяет против меня мой упадок, – это моя любовь к здоровью и к ясности. Я всегда считал, что красивое тело и счастливый ритм юношеской походки более весомы для мира, чем все мечты, живущие во мне. Поэтому с радостью, характерной для старости духа, я наблюдаю порой – без зависти и без желания – случайные пары, которые вечер соединяет, и они идут рука об руку к переполненному, бессознательному сознанию юности. Они нравятся мне, как нравится мне какая-то истина, когда я не думаю, имеет ли это отношение ко мне. Если я сравниваю их со мной, продолжаю наслаждаться наблюдением за ними, но так, как иной наслаждается истиной, что ранит его, присоединяя к боли от раны бальзам понимания богов.
Я противоположен христианам – символистам, для кого все живое и все происходящее – тень некой действительности, всего лишь ее тень. Каждая вещь для меня, вместо того чтобы быть местом прибытия, является местом отправления. Для оккультиста все заканчивается во всем; все начинается во всем – для меня.
Я поступаю, как они, согласно аналогии и внушенной мысли, но тот небольшой сад, что им напоминает порядок и красоту души, мне не говорит более ни о чем, как о большем саде, где я мог бы быть, вдалеке от людей, счастливый жизнью так, как того быть не может. Каждая вещь напоминает мне не о реальности, тенью какой она является, но о реальности, к какой она – путь.
Жардинь-да-Эштрела[48] вечером внушает мне мысль об античных парках, существовавших в прошлых столетиях, еще до разочарования души.
Сенсационист[49]
В эти «сумерки учений», когда верования умирают и культы покрываются пылью, наши ощущения – единственная реальность, что нам остается. Единственная добросовестность, что производит впечатление, единственная наука, что удовлетворяет, – все они связаны с ощущениями.
Внутренний декоративизм выделяется мною как высший и наиболее ясный способ дать какое-то применение нашей жизни. Если бы моя жизнь могла быть прожита среди ковров и занавесей духа, то я не познал бы бездны, чтобы их оплакивать.
Я принадлежу к поколению – или, скорее, к некой части поколения, – которое потеряло все уважение к прошлому и всю веру или надежду на будущее. Живем поэтому только настоящим, со злобой и голодом того, кто не имеет другого дома. И поскольку есть в наших ощущениях и особенно в наших мечтах впечатления бесполезные и незначительные, мы обнаруживаем настоящее, что не помнит ни о прошлом, ни о будущем, мы улыбаемся нашей внутренней жизни и остаемся равнодушными к высокомерной дремоте количественной реальности вещей.
Также мы не сильно отличаемся от тех, кто в своей жизни думает только о том, как себя развлечь. Но солнце нашей эгоистической озабоченности близко к закату, а цвета сумерек и противоречия способствуют охлаждению нашего гедонизма.
Мы выздоравливаем. В основном, мы являемся существами, не обучавшимися ни одному искусству или ремеслу, даже тому, как получать наслаждение от жизни. Мы не созданы для неторопливых бесед, часто нам надоедают даже лучшие друзья после получаса, проведенного с ними; мы лишь тогда жаждем их видеть, когда думаем о том, чтобы их увидеть, и лучшие часы, когда мы бываем с ними вместе, – это те, когда мы только мечтаем о том, что мы с ними. Не знаю, свидетельствует ли это о неважной дружбе. Возможно, что и не свидетельствует. Ясно одно: вещи, которые мы любим больше других или считаем, что любим, лишь тогда обретают свою высшую реальную ценность, когда мы просто мечтаем о них.
Мы не любим зрелищ. Презираем актеров и танцовщиц. Весь спектакль – унизительная имитация того, о чем следует лишь мечтать.
Равнодушные – не от природы, но благодаря некому воспитанию чувств, каким разнообразный болезненный опыт, главным образом, нас заставляет заниматься – по мнению других; мы всегда вежливы с ними и даже симпатизируем им, проявляя особое заинтересованное равнодушие, потому что все люди интересны, кроме того, их можно превратить в мечте в других людей, мы проходим […]
Не имея умения любить, мы заранее устаем от тех слов, которые надо было бы говорить, чтобы сделаться любимым. Впрочем, кто из нас хочет быть любимым?
Эта фраза Шатобриана: «Его утомили любовью» – не является справедливо заслуженным нами ярлыком. Сама идея – быть любимыми – нас утомляет, нас утомляет до того, что вызывает тревогу.
Моя жизнь – постоянная лихорадка, некая жажда, всегда обновляющаяся. Реальная жизнь терзает меня, как знойный день. Есть определенное унижение в том способе, каким она меня терзает.
Перистиль
В те часы, когда пейзаж – это яркое сияние Жизни и мечта – всего лишь процесс мечтания, я поднял, о, моя любовь, в тишине моего непокоя эту странную книгу, похожую на открытые ворота, ведущие к заброшенному дому.
Я собрал, чтобы написать ее, души всех цветов, и мимолетных моментов всех песен всех птиц, сплел вечность и застой. Ткачиха… я сидел у окна моей жизни, и забыл, что ты жила и была, ткала саван, чтобы надеть на мою скуку, и покровы из целомудренного льна для алтарей моей тишины…
И я предлагаю тебе эту книгу, потому что знаю, что она прекрасна и бесполезна. Ничему не учит, ничему не заставляет верить, ничего не заставляет чувствовать. Ручей, бегущий в пропасть, – пепел, что развеивает ветер, и неплодородная и не вредная… – я отдал всю душу написанию ее, но не думал о ней, когда писал, а думал лишь о себе, что я печален, и о тебе, что ты – никто.
И потому что эта книга – абсурд, я люблю ее; потому, что бесполезна, я хочу ее дать тебе; и потому что ничему не послужит это желание ее тебе дать, я ее тебе даю…
Молись за меня, читая ее, благослови меня, любя ее, и забудь ее, как вчерашнее солнце ради сегодняшнего солнца (как я забываю тех женщин, чистые мечты, о которых я никогда не умел мечтать).
Башня Тишины моей тоски, пусть эта книга будет лунным светом, превращающим тебя в другую в ночь Древнего Таинства!
Река скорбного Несовершенства, пусть эта книга станет лодкой, отпущенной плыть вниз по течению твоими водами к никакому морю, что есть лишь в мечтах.
Пейзаж Отчуждения и Заброшенности, пусть эта книга станет твоей, как твой Час, и сделает тебя бесконечным, как Час твоего ложного пурпура.
*
Текут реки, реки вечные, под окном моей тишины. Я всегда вижу другой берег и не знаю, почему я не мечтаю находиться там, другим и счастливым. Может быть, потому, что только ты утешаешь, и только ты убаюкиваешь, и только ты умащиваешь благовонными маслами и совершаешь богослужения.
Какую белую мессу ты прерываешь, чтобы благословить меня на описание тебя – живущей? В каком месте, волнистом от танцев, останавливаешься, и Время – с тобой, чтобы из твоей остановки сделать мост от моей души до твоей улыбки, пурпурной от моей роскоши?
Лебедь ритмического непокоя, лира бессмертных часов, неизвестная арфа мифических скорбей, ты – Ожидаемая и Идущая, та, что ласкает и ранит, та, что золотит болью радости и венчает розами печали.
Какой Бог создал тебя, какой Бог, ненавидимый Богом, создавшим для себя мир?
Ты этого не знаешь, ты не знаешь, что этого не знаешь, ты не хочешь знать и не хочешь не знать. Ты лишила намерений свою жизнь, окружила ореолом нереальности твои проявления, оделась в совершенство и неприкасаемость, чтобы ни Часы тебя не целовали бы, ни Дни тебе не улыбались бы, ни Ночи не приходили к тебе положить луну в твои руки, чтобы она казалась лилией.
Оборви, о моя любовь, надо мною лепестки лучших роз, самых совершенных лилий, лепестки хризантем, ароматных самой мелодией их имени.
И я умру во мне твоей жизнью, о Девственница, какую не ждут ни одни объятия, какую ни один поцелуй не ищет, какую ни одна мысль не бесчестит.
Преддверие для всех надежд, Порог всех желаний, Окно для всех мечтаний […] Бельведер для всех пейзажей, таких, как ночной лес и дальняя река, мерцающая в ярком лунном свете…
Ты не существуешь, я хорошо знаю, но разве я знаю наверняка, существую ли я? Я, что тобою существую во мне, во мне будет больше реальной жизни, чем в тебе, чем та мертвая жизнь, живущая тобой?
Пламя, превратившееся в сияние, отсутствующее присутствие, тишина, ритмическая и женственная, сумерки неопределенной плоти, забытый бокал с вечеринки, витраж, созданный художником-мечтой в Средние века иной Земли.
Церковная чаша и гостия чистого совершенства, заброшенный алтарь еще живой святой, воображаемый венец из лилий из того сада, куда никто никогда не входил…
Ты – единственная форма, не возбуждающая скуки, потому что ты всегда изменяема вместе с нашим чувством, потому что как целуешь нашу радость, так баюкаешь нашу боль, и для нашей скуки ты – опиум, что утешает, и сон, что дает отдых, и смерть, что кладет на грудь скрещенные руки.
Ангел… из какого вещества сделана твоя крылатая суть? Какая жизнь тебя задержала и какая земля, – тебя, что вся – полет, никогда не знавший высоты, парализованное восхождение, жест восторга и отдыха?
*
Я сотворю из мечтаний о тебе существо поэта, и моя проза, говоря о твоей Красоте, будет полна мелодиями поэмы, закруглениями строф, неожиданным величием, какие бывают в бессмертных стихах.
Стихи, проза, какие и не думается написать, но только мечтать о них.
Сотворим же, о Только Моя, ты – своим существованием, и я – своим видением твоего существования, какое-то другое искусство, иное, чем существующее.
Пусть сумею я из твоего тела бесполезной амфоры извлечь душу новых стихов, и в твоем медленном ритме молчаливой волны пусть сумеют мои трепещущие пальцы находить коварные строки некой прозы, не тронутой ничьим слухом.
Твоя улыбка, смутная и мелодичная, пусть будет для меня символом – видимой эмблемой подавленного рыдания несметного мира, знающего свои ошибки и несовершенства.
Твои руки арфистки пусть опустят мне веки, когда я умру, отдав тебе свою жизнь, чтобы ты ее строила. И ты, не являющаяся никем, будешь навсегда, о Божественная, любимым искусством богов, каких никогда не было, и девственной и бесплодной матерью богов, каких никогда не будет.
Апокалиптическое чувство
Думая, что каждый шаг в моей жизни был каким-то контактом с ужасом Нового и что каждый новый человек, которого я узнавал, был новым живым фрагментом неизвестного, что я помещал на моем столе для повседневного испуганного размышления, я решил воздерживаться от всего, ни в чем не продвигаться вперед, сократить свои действия до минимума, уклоняться, насколько возможно, от всего, что бы мне ни встретилось, люди или события, совершенствоваться в воздержании и отречься от оригинальности. Настолько страшным мне казалось жить, настолько это мучило меня.
Я решил закончить со всем, уйти от сомнительного и непонятного – от этих вещей, что для меня символизировали катастрофы, всеобщие катаклизмы.
Я ощущаю жизнь как катаклизм и апокалипсис. День ото дня во мне возрастает неспособность даже намечать действия, понимать даже ясные ситуации действительности.
Присутствие других – такое неожиданное для души в любой момент – день ото дня для меня становится болезненнее и печальнее. Разговор с другими проходит по мне ознобом. Если они выказывают интерес ко мне, я убегаю. Если смотрят на меня, это заставляет меня дрожать. Если…
Я нахожусь в состоянии постоянной защиты. Мне больно от жизни и от других. Я не могу смотреть реальности в лицо. Даже самое солнце уже приводит меня в уныние и отчаяние. Только ночью, ночью, когда я один сам с собой, чужой, забытый, потерянный, не связанный с действительностью, не принимая участия в ее выгодах, я наконец нахожу себя и нахожу утешение.
Мне холодно от моей жизни. Все – сырые подвалы и катакомбы без света – в моем существовании. Я – великое поражение последнего войска, защищавшего последнюю империю. Ощущаю себя в конце некой античной и господствующей цивилизации. Я – одинокий и покинутый, я, кто привык отдавать приказы другим. У меня нет друга, нет наставника, у меня, кем всегда руководили другие.
Что-то во мне вечно просит сочувствия и плачет над собою, как над мертвым богом, лишенным алтарей своего культа, когда белое нашествие варваров молодцевато резвилось на границах и жизнь пришла просить отчета у империи, что радостного она сделала.
Я всегда опасаюсь, что обо мне говорят. Говорил обо всем. Ни на что не отваживался, даже думать о том, что я есть; думать, что я этого желал, даже мечтать об этом, потому что в самой мечте я узнавал себя неспособным к жизни, неспособным и в моем состоянии – всего лишь мечтателя.
Ни одно чувство не поднимет мою голову с подушки, куда зарываюсь, потому что мне тяжело от моего тела, от мысли, что я живу или даже от абсолютной идеи жизни.
Я не говорю языком реальности и среди жизненных вещей пошатываюсь, как больной, долго лежавший в постели, который поднимается впервые. Только на постели я чувствую себя живущим нормальной жизнью. Когда приходит лихорадка, я доволен, будто некая естественная… в моем лежачем состоянии. Точно пламя – на ветру – трепещу, оглушенный. Только в мертвом воздухе закрытых комнат вдыхаю нормальное состояние моей жизни.
Ни одна ностальгия уже не остается мне от бризов у берегов морей. Я примирился с тем, что моя душа заключена в монастыре, и я для себя самого – не более чем осень над сухой целиной, где нет больше живой жизни, кроме отблеска, будто от некоего света, что заканчивается во тьме, накрывающей балдахином водоемы, не создавая более напряжения и цвета, чем фиолетовый экстаз изгнания конца заката над горами.
В глубине – ни одного другого удовольствия, кроме анализа боли, ни одного другого наслаждения, кроме того, что змеится, жидким и болезненным, от ощущений, когда они размельчаются и разлагаются на составные элементы – легкие шаги в неопределенной тени, нежные для слуха, и мы не приходим в себя, чтобы понять, кто это; неопределенные далекие песни, чьи слова мы не пытаемся понять, но в каких нас баюкает более то неясное, о чем они скажут нам, и неясность места, откуда приходят; хрупкие секреты бледных вод, заполняющих подвижные дали пространства… и сумерки; бубенчики далеких экипажей, возвращающихся – откуда? и какие радости там, внутри, которые не слышатся здесь, сонные, в вялом оцепенении вечера, где лето забывается осенью… Умерли цветы в саду, и увядшими стоят другие цветы – более древние, более благородные, более сверстники, и мертвая желтизна с тайной, и тишина, и заброшенность. Пузыри на воде, появляющиеся на поверхности водоемов, они вызывают к жизни мечты. Далекое кваканье лягушек! Мертвое поле во мне! Сельский покой, проходящий в мечтах! О, моя ничтожная жизнь, точно батрак, что не работает и спит у края дорог, с ароматом лугов, что входит в его душу, как туман, в просвечивающем и свежем сне, глубоком и полном вечности, как и все то, что ничто связывает с ничем, ночное, неизвестное, кочующее и усталое, под холодным сочувствием звезд.
Следую курсом моих мечтаний, превращая образы в ступеньки к другим образам; разворачиваются, как веер, случайные метафоры в больших картинах внутреннего видения; освобождаю от меня жизнь и откладываю ее в сторону, как ставшую тесной одежду. Скрываюсь среди деревьев, далеко от дорог. Теряю себя. И обладаю, в эти медленно текущие мгновения, забвением вкуса жизни, позволяю проходить мысли о свете и о шуме и позволяю ей окончиться сознательно, бессмысленно, благодаря проходящим ощущениям, идущим, точно империя печальных отречений, и вход – между штандартами и барабанами победы в каком-то последнем большом городе, где никогда не плакалось бы, не желалось и где даже себя самого я никогда не просил бы о существовании.
Мне больно из-за поверхности вод в водоемах, которые я создал в мечтах. Это моя – та бледность луны, которую я воображаю в мечтах над пейзажами лесов. Это моя – та осенняя усталость застывших небес, что я вспоминаю и никогда не видел. Угнетает меня вся моя мертвая жизнь, все мечты, которых мне не хватает, все мое, что не было моим, в синеве моих внутренних небес, под звенящий бег рек моей души, в просторном и тревожном покое пшеницы на равнинах, которые вижу и не вижу.
Одна чашка кофе, курительный табак, чей аромат нас пронзает, глаза, почти закрытые, в какой-то комнате в сумерках – не хочу большего от жизни, кроме моих мечтаний и этого… Мало ли этого? Не знаю. Разве я знаю, что́ есть «мало или что́ есть «много»?
Летний вечер там, снаружи, как и я, хотел бы быть другим. Открываю окно. Все там, снаружи, нежно, но меня оно огорчает, как неясная боль, как смутное ощущение неудовольствия.
И последнее ранит меня, терзает меня, разрывает на куски всю мою душу. Я в этот час, в этом окне, думая об этих вещах, нежных и печальных, должен бы быть неким эстетическим персонажем, прекрасным, как персонаж некой картины, – и я таким не являюсь, являюсь не этим…
Час, какой проходил бы и забывался… Ночь, что приходила бы, росла, падала поверх всего и никогда не поднималась. Пусть эта душа была бы моей гробницей навсегда, и пусть… совершенствуясь во Тьме, и я никогда больше не мог бы ни жить, ни чувствовать или желать.
Симфония тревожной ночи
Сумерки в античных городах, с неизвестными обычаями, записанными на черных камнях тяжелых зданий; дрожащие рассветы на равнинах, затопленных водой, болотистых, влажных, как воздух до восхода солнца; узкие улочки, где все возможно, тяжелые арки древних залов; колодец в глубине сада под лунным светом; письмо, датированное годом первой любви нашей бабушки, которой мы не знали; плесень картин, где хранится прошлое; ружье, каким сегодня никто не умеет пользоваться; лихорадка жаркими вечерами у окна; никого на дороге; беспокойные сны; недомогание, которое расплывается виноградниками; колокола; монастырская печаль от жизни… Час благословений твоих тонких рук… Ласка никогда не приходит, камень в перстне кровоточит в начинающихся сумерках… Церковные праздники без веры в душе: материальная красота святых, грубых и некрасивых; романтические страсти в самой мысли о том, чтобы их испытать; запах моря, прибытие ночью на пристань города, увлажнившегося из-за остывания…
Худые твои руки взлетают над тем, кого жизнь изолирует. Длинные коридоры и оконные решетки, закрытые окна всегда открыты, пол холодный, как могильные плиты, ностальгия по любви, точно путешествие для довоплощения незавершенных земель… Имена древних королев… Витражи, на которых изображены могучие графы…Утренние лучи, распространяющиеся изменчиво, как холодный фимиам в воздухе церкви, собирающийся в темноте непроницаемого пола… Сухие руки, скрещенные на груди.
Сумерки монаха, что открывает в древнейшей книге в бессмысленных цифрах учения магов и в украшающих книгу гравюрах – шаги Посвящения.
Пляж на солнце – лихорадка во мне… Сверкающее море – мое горло, стиснутое тоской… Парусники – там, вдали, и будто надвигаются на мою лихорадку… В лихорадке – ступени, ведущие на пляж… Жара в свежем морском бризе, разрушительные, угрожающие приливы, мрачное море – темная ночь там, вдали – для аргонавтов, а в моей голове горят древние каравеллы…
Все – от других, кроме боли, что у них нет.
Дай мне иглу… Сегодня не хватает в недрах дома ее маленьких шажков – и неизвестно, куда она спрятана, или что будет вышивать – гравировать своими стежками, цветами, что протаскивать через свое ушко… Сегодня ее шитье закрыто навсегда в выдвижных ящиках комода – не нужно, – и нет тепла вымечтанных рук вокруг шеи матери.
Одно письмо
Я не могу сказать, сколько долгих месяцев прошло с тех пор, как я смотрел на Вас, смотрел на Вас постоянно, всегда тем же взглядом, нерешительным и встревоженным. Я знаю, Вы заметили это. И, заметив, должны найти странным, что этот взгляд, не будучи собственно застенчивым, никогда не выражал какого-либо значения. Всегда внимательный, всегда неопределенный и тот же самый, словно бы довольный оттого, что является лишь печалью, вызванной этим… Более ничего…И в Вашем размышлении об этом – каким бы ни было то чувство, с которым Вы думали обо мне, – Вы должны исследовать мои возможные намерения. Должны объяснять себе самой, не удовлетворяясь этим анализом, что я – или застенчивый человек, особенный и оригинальный, или нечто, напоминающее безумца.
Я не являюсь, моя Госпожа, исходя из факта, что я смотрел на Вас, ни, строго говоря, застенчивым человеком, ни, обоснованно, неким безумцем. Я – другая вещь, первая и отличная, как без надежды, что Вы мне поверите, – я Вам сейчас объясню. Сколько раз я шептал Вашему существу, появлявшемуся в моих мечтах: «Выполните свой долг бесполезной амфоры, исполните свою функцию простого бокала».
С какой ностальгией об идее, что хотел выдумать себя из Вас, я понял однажды, что Вы были замужем! День, когда я понял это, был трагичным днем моей жизни. Я не ревновал к Вашему мужу. Никогда не думал, что, возможно, он был у Вас. У меня просто была ностальгия о моем понятии о Вас. Если бы я однажды узнал об этой нелепости – что какая-то женщина в какой-то комнате – да, та – была бы замужем, моя боль была бы такой же.
Обладать Вами? Я не знаю, как это делается. И даже если бы на мне было это человеческое пятно – уметь делать то, что позорит, – я не смог бы стать перед самим собой оскорбителем моего собственного величия, даже только думая, что уравниваю себя с Вашим мужем!
Обладать Вами? Возможно, если бы Вы однажды проходили, одна, темной улицей, какой-то разбойник мог бы напасть на Вас и обладать Вами, даже оплодотворить Вас, оставив после себя этот след в Вашей утробе. Если обладать Вами – это обладать Вашим телом, какую ценность это имеет?
Потому что я не обладал Вашей душой?.. А как можно обладать душой? И может ли быть такой нежный ловкач, что смог бы обладать этой «душой»..? Пусть будет таким Ваш муж… Не хотите же Вы, чтобы я опустился до его уровня?
Сколько часов я провел в тесном и тайном общении с мыслью о Вас! Мы так любили друг друга в моих мечтаниях! Но даже и там, клянусь, никогда я не мечтал обладать Вами. Я деликатен и чист даже в моих мечтах. Я чту даже саму мысль о прекрасной женщине.
*
Я бы никогда не сумел так приспособить свою душу, чтобы она заставила мое тело овладеть Вашим. Внутри себя, даже при одной мысли об этом, я натыкаюсь на препятствия, каких не вижу, сам себе расставляю сети, о которых ничего не знаю. Разве не случилось бы со мною чего-то хуже этого, если бы я захотел овладеть Вами на самом деле?
Поэтому я – повторяю это Вам – был неспособен даже попытаться сделать это. Я даже и не пытаюсь мечтать о том, чтобы сделать это.
Именно эти, моя Госпожа, слова, что я пишу по поводу значения Вашего взгляда, невольно вопросительного. Именно в этой книге Вы впервые прочтете это письмо для Вас. Если Вы не узнаете, что это для Вас, я отрекусь от того, что это так. Пишу более, чтобы облегчить свою душу, чем чтобы сказать Вам что-то. Только деловые письма имеют адресата. Все же другие должны, по крайней мере если речь идет о высшем человеке, быть только его собственными, для него самого.
Более ничего не имею сказать Вам. Поверьте, что я восхищаюсь Вами настолько, насколько могу. Мне было бы приятно, если бы Вы думали обо мне иногда.
Путешествие, никогда не совершенное
Это было в сумерки одной смутной осени, что я отправился в это путешествие, какого никогда не совершал.
Небо – невозможно вспоминаю об этом – было цвета фиолетового остатка от печального золота, и линия депрессии гор, сияющая, была окружена ореолом, чьи тона смерти ее пронизывали, смягчающие, в тонкости их очертаний. У другого борта судна (было холоднее, и ночь была чернее с этой стороны тента) океан трепетал до линии горизонта на востоке, где он был опечален и где, кладя ночные полутени на линию, текучую и мрачную, отдаленного моря, дыхание тьмы парило, как туман жарким днем.
Море, припоминаю, имело тональность тени, от смеси ее с волнистыми отблесками блуждающего света, и было все таинственным, как некая печальная мысль в радостный час, пророческая, неизвестно откуда.
Я не отправился из какого-то известного порта. И посейчас не знаю, какой это был порт, потому что еще никогда там не был. Также, подобно этому, ритуальной целью моего путешествия было отплыть в поисках несуществующих портов – портов, что были только входом-в-порты; забытые бухточки рек, узкие среди городов, безупречно нереальных. Вы считаете, без сомнения, читая меня, что мои слова абсурдны. Это потому, что вы никогда не путешествовали, как я.
Я отправился? Я не присягал вам, что отправился. Я обнаружил, что нахожусь в других краях, увидел другие порты, шел мимо городов, что не были тем городом, хотя бы ни тот, ни эти не были бы никакими городами. Клясться вам, что это был я, кто отправился, а не пейзаж, что это был я, кто посетил иные земли, а не они меня посетили, – нет, я не могу вам в этом присягнуть. Я, не знающий ни что́ есть жизнь, ни я ли тот, кто живет этой жизнью или это она мною живет (пусть этот полый внутри глагол «жить» имеет тот смысл, какой захочет), наверное, я не поклянусь вам ни в чем.
Я путешествовал. Считаю бесполезным объяснять вам, что я не провел ни месяцев, ни дней, ни любого другого количества из любой единицы измерения времени, путешествуя. Понятно, что я путешествовал во времени, но не по эту сторону времени, где мы его отсчитываем часами, днями и месяцами; это было по другую сторону времени, где я путешествовал, где время не отсчитывается с помощью единиц измерения. Оно проходит, но так, что невозможно измерять его. Похоже, оно быстрее того времени, в котором мы видим себя живущими. Вы спрашиваете меня сами, определенно, какой смысл имеют эти фразы; пусть же вы никогда не будете так заблуждаться. Я освободил вас от детского заблуждения спрашивать о смысле вещей и слов. Ничего не имеет смысла.
На каком судне я совершил это путешествие? На пароходе «Любой». Вы смеетесь. Я тоже, возможно, над вами. Кто вам скажет и мне, не пишу ли я символами, что поймут только боги?
Неважно. Я отправился в сумерках. Еще звучит в моих ушах железный скрип якоря, спущенного с корабля. Где-то на периферии моей памяти еще движутся медленно, чтобы наконец занять свою инертную позицию, рычаги подъемного крана судна, бесконечная погрузка которыми ящиков и бочонков часами ранее печалила мой взгляд. Они внезапно показывались, пленники колеса с цепью, над бортом, где сталкиваясь, царапая друг друга и затем качаясь, опускались, толчками, толчками, пока не оказывались над трюмом, куда резко опускались… пока с глухим деревянным ударом не достигали, как бы расплющиваясь, какого-то скрытого места в трюме. Потом слышались там, внизу, и освобождали нас от себя; после этого поднималась только цепь, звенящая в воздухе, и все начиналось снова, так, будто бы было бесполезно.
Зачем я рассказываю вам это? Потому что абсурдно рассказывать вам об этом, ясно, что это из тех моих воображаемых путешествий, о каких я мог бы вам рассказывать.
Я посетил Новые Европы, и другие Константинополи принимали мой парусник в фальшивых Босфорах. Прибытие на паруснике, удивляетесь вы? Да, именно так, как я вам говорю. Пароход, на котором я отправился, прибыл парусным судном в порт… Вы говорите, что это невозможно. Вот поэтому так со мной и случилось. Приходят к нам, прибывая с другими пароходами, вести о выдуманных войнах в невозможных Индиях. И, слушая рассказы об этих землях, мы докучливо тоскуем о нашей, оставленной так далеко позади, кто знает, в этом ли мире.
И вот так я прячусь за дверью, чтобы Реальность, когда войдет, не увидела меня. Прячусь под столом, откуда внезапно пугаю Возможность. Таким способом я отцепляю от себя, будто разжимая две руки одного объятия, две огромные скуки, которые меня сжимают, – скуку от возможности жить только Реальным и скуку от возможности постигать только Возможное.
Так я торжествую надо всей реальностью. Замки на песке – мои победы?.. От каких вещей, божественных по своей сути, происходят замки, что не из песка?
Можете ли вы знать, путешествуя так, не молодею ли я каким-то непонятным образом?
Инфантильный до абсурда, переживаю вновь свое детство и играю с идеями вещей, как с оловянными солдатиками, с которыми я, будучи ребенком, проделывал вещи, что связывают с идеей о солдатах.
Ослепленный заблуждениями, в некоторые моменты я теряю ощущение, что я – жив.
– Кораблекрушения? Нет, никогда не переживал ни одного. Но у меня такое впечатление, что во всех моих путешествиях я терпел кораблекрушения, скрывая свое спасение в прерывистой бессознательности…
– Смутные мечты, неясный свет, растерянные пейзажи – вот что у меня остается в душе от всех моих путешествий.
У меня такое впечатление, что я знал часы всех цветов, любовь – на любой вкус, тоску – любой величины. Я был невоздержанным всю мою жизнь, и никогда мне не было достаточно, я даже не мечтал, чтобы мне было достаточно.
– Я должен объяснить вам, что путешествовал на самом деле. Но все мне могло подтвердить, что я путешествовал, а не жил. Я нес с собой с одной стороны на другую, с Севера на Юг и с Востока на Запад, усталость от моего прошлого, скуку проживания моего настоящего и непокой оттого, что должен иметь будущее. Но я прилагаю все усилия, чтобы я весь был в настоящем, убивая внутри меня прошлое и будущее.
– Я проходил берегами рек, чьи имена мне были незнакомы. За столиками кафе в городах, которые я посещал, мне удалось понять, что все, что я знал, – мечта и неопределенность. Порой я сомневался, не продолжал ли я сидеть у стола нашего старого дома, неподвижный и ослепленный мечтами. Я не могу сказать вам с уверенностью, что этого не случилось, что я не нахожусь там еще и сейчас, что все, включая и эту беседу с вами, не было ложно и фальшиво. Кто вы, сеньор? Обнаруживается факт настолько абсурдный, что его нельзя объяснить…
Не высаживаться, не иметь пристани, где можно высадиться. Никогда не достигать – содержит в себе не достигать никогда.
Млечный путь
…с движениями фраз какой-то отравляющей духовности…
…ритуалы пурпурного пути, таинственные церемонии обрядов, ни для кого не современных и не понятных.
…изолированные ощущения, чувствуемые другим телом, не физическим, но тело это – и физическое, по-своему, прерываемое тонкостями между сложным и простым…
…озера, где пляж, весь прозрачный, какое-то предчувствие тусклого золота, хрупко освобожденное от возможной когда-либо реализации, и, без сомнения, своей змеящейся утонченностью, лилия меж белоснежных рук…
…соглашения между оцепенением и тоской, черно-зеленые, вялые на взгляд, усталые среди часовых скуки…
…перламутр бесполезных сознаний, алебастр частых умерщвлений плоти – золото, фиолетовый оттенок, и берега отсроченных закатов, но нет ни судов для путешествий к лучшим берегам, ни мостов к более темным сумеркам…
Ни даже рядом с мыслями о водоемах, о многих водоемах, далеких, за осокорями или, возможно, кипарисами, в согласии с теми слогами чувства, с которыми час произносил свое имя…
…поэтому открытые окна, выходящие на пристань, непрерывное волнение у причалов, смутный кортеж, точно опалы, безумный и погруженный в мысли, среди всего этого амаранты и скипидарные деревья записывают бессонницы пониманий на мрачных стенах возможности слышать…
…нити чистого серебра, связки струящегося пурпура, под липами – напрасные чувства, и на аллеях, где молчат самшиты, – старинные пары, раскрытые веера, неясные жесты, и лучшие сады, без сомнения, ждут кроткой усталости аллей и тополиных посадок, и ничего другого…
…деревья, расположенные по углам квадрата, и одно – в центре, беседки, искусственные пещеры, клумбы, фонтаны, все искусство, оставшееся от мертвых мастеров, что прошли, и среди интимных поединков недовольного очевидным, разрешенные процессии вещей – для мечтаний, по узким улочкам старинных деревень ощущений…
…мелодии мрамора в далеких дворцах, смутные воспоминания о ладонях, положенных в наши, случайные взгляды от неопределенности закатов в пророческих небесах, в звездных ночах над молчаниями павших империй…
* * *
Превращать ощущение в некую науку, делать из психологического анализа метод, необходимый как инструмент, наподобие микроскопа [да, именно], – захватывающее требование, спокойная жажда, цепь желаний моей жизни…
Именно между ощущением и его осознанием происходят все великие трагедии моей жизни. В этой безграничной области, тенистой от лесов и звуков льющейся воды, безразличной даже к шуму наших войн, и протекает существование того моего существа, увидеть которое я напрасно пытаюсь…
Я покоюсь в моей жизни. (Мои ощущения – эпитафия последователя гонгоризма моей мертвой жизни.) Со мной происходит смерть и закат. Наибольшее, что я могу изваять, – это гробницу моей внутренней красоты.
Ворота моего отстранения скрывают за собою парки бесконечности, но никто не проходит через них, даже в моих мечтах – однако они всегда открыты для напрасного и непреложно и вечно – для ложного…
Обрываю лепестки апофеозов в садах внутренней торжественности и, меж самшитами мечтаний, прохожу, резко печатая свои шаги, аллеями, что ведут к Неясному.
Располагаюсь лагерем в Империях Неясного, у края молчаний, на той рыжей войне, в которой закончится Точное.
* * *
Человек науки считает, что единственная реальность для него – он сам, и единственный реальный мир – мир в том виде, как его ощущение ему этот мир представляет. Поэтому, вместо того чтобы следовать ложным путем попыток подогнать свои ощущения под ощущения других, получая объективное знание, он намеревается прежде познать в совершенстве свой мир и свою личность. Ничто не может быть объективнее его собственных мечтаний. Ничто не является более его собственным, чем его представление о себе. Относительно этих двух реальностей совершенствует он свое знание. И это очень отличается даже от науки античных ученых, которые, вдали от поисков законов своей собственной личности и организации собственных мечтаний, искали законы «внешнего» и организацию того, что они называли «Природой».
*
Главное во мне – привычка и способность мечтать. Обстоятельства моей жизни, еще с тех пор, как был ребенком, одиноким и спокойным, другие силы, возможно формируя меня издали, путем мрачной наследственности и ее зловещей свиты, – превратили мой дух в постоянный поток мечтаний. Все, чем я являюсь, заключается в этом, и даже то, что во мне кажется далеким от черт, отличающих мечтателя, принадлежит, без сомнения, душе того, кто лишь мечтает, перенося ее на более высокий уровень.
Я хочу, ради моего собственного удовольствия, себя анализировать, сообразно тому, как привык, – продвигаться, излагая в словах ментальные процессы, которые во мне сливаются в одно, то идущее от жизни, посвященной мечтаниям, от души, воспитанной лишь мечтой.
Видя себя со стороны, как я почти всегда себя вижу, понимаю, что являюсь неспособным к действиям, расстроенным еще до того, как должен буду совершать определенные шаги, делать жесты, неспособным говорить с другими, лишенным и внутренней ясности, поддерживающей в моменты, требующие душевных усилий, и физической возможности применения какого-то простого механизма поддержки, отвлекаясь работой.
Это во мне – от природы. Для мечтателя понятно, что значит быть таким. Вся реальность меня расстраивает. Беседа с другими переполняет меня огромной тоской. Существование других душ постоянно изумляет меня. Необъятная сеть бессознательностей, какой являются все действия, которые я вижу, кажется мне абсурдной иллюзией, без какой-либо разумной связи, полным ничтожеством.
Но если считать, что я не знаю направлений чужой психологии, что я ошибаюсь в четком понимании мотивов и интимных мыслей других, – это будет неверным относительно того, кем я являюсь.
Потому что я не являюсь только мечтателем, но мечтателем – исключительно. Единственная для меня привычка – мечтать – дала мне исключительную четкость внутреннего видения. Я не только вижу с поразительным и порою смущающим разоблачением фигуры и другие оформления моих мечтаний, но с таким же разоблачением вижу свои собственные абстрактные идеи, свои человеческие чувства – то, что из них остается в моем сознании, – мои скрытые импульсы, мои психические позиции по отношению ко мне самому. Удостоверяю, что мои собственные абстрактные идеи, которые я вижу в себе, я вижу их с помощью реального внутреннего видения, в каком-то внутреннем пространстве. И, таким образом, все мои уловки становятся видимыми для меня во всех своих подробностях.
Поэтому я знаю себя полностью, и через это полное знание о себе знаю полностью все человечество. Нет таких низких побуждений, как нет и благородных намерений, которых я бы не ощутил некой вспышкой в душе; и я знаю, в каких жестах каждое из них проявляется. Под масками, какие носят плохие идеи, масками хороших или безразличных, именно внутри нас, я по жестам узнаю их подлинную природу. Я знаю, что́ есть внутри нас, стремящееся нас обмануть. И, таким образом, в отношении большинства людей, каких я вижу, могу сказать, что знаю их лучше, чем они сами знают себя. Много раз я принимаюсь их исследовать, потому что, таким образом, я их присваиваю, делаю моими. Я выхожу победителем из борьбы с психикой, потому что для меня мечтать – это обладать. И, таким образом, видится естественным, что я – мечтатель, каким являюсь, буду и аналитиком, какого в себе замечаю.
Среди немногих вещей, которые мне порою нравится читать, выделяю поэтому театральные пьесы. Каждый день проходят эти спектакли во мне, и я узнаю сущность того, как ясно проектируется некая душа в отражении картографической проекции Меркатора. Развлекаю себя несколько – с другой стороны всем этим; так постоянны, грубы и громадны ошибки драматургов. Никогда ни одна драма меня не удовлетворила. Так как я знаю человеческую психологию с точностью, что видна в свете молнии, освещающей все тайники с первого взгляда, грубый анализ и конструкции драматургов меня оскорбляют, и то немногое, что я читаю в этом жанре, мне не нравится, как чернильная клякса на рукописи.
Вещи – это материя для моих мечтаний; вот почему я сосредоточиваю свое внимание, рассеянно-сверхвнимательное, на определенных деталях Внешнего.
Чтобы сделать выразительными мои мечты, мне необходимо знать, как реальные пейзажи и жизненные персонажи предстают перед нами рельефно. Потому что зрение мечтателя – не такое, как обычное зрение, с помощью которого мы видим вещи. В мечте зрение не определяет, что есть важного и неважного в том или ином объекте действительности. Важным является только то, что видит мечтатель. Истинная действительность какого-то объекта – это всего лишь часть его; остальное – тяжелая дань, какую этот объект платит материи взамен своего существования в пространстве. Подобно этому, нет в пространстве действительности для определенных явлений, которые в мечте осязаемо реальны. Какой-нибудь реальный закат неощутим и преходящ. Любой закат в мечтании – неизменный и вечный. Если кто-то это умеет описывать, значит, он умеет видеть свои мечты четко (и так и есть) или видеть в мечте жизнь, видеть жизнь нематериально, делая ее фотографии с помощью аппарата мечтания, на который не действуют отблески тяжеловесного, полезного и ограниченного, чернея на духовном шаблоне.
Эта моя установка, какую частое мечтание во мне укореняет, заставляет меня всегда видеть в реальности ту часть, что является мечтой. Мое видение вещей упраздняет всегда в них то, что моя мечта не может использовать. И так я живу, всегда в мечтах, даже когда живу в жизни. Смотреть на какой-то закат во мне или на какой-то закат во Внешнем – это для меня одно и то же, потому что вижу их одним и тем же способом, потому что мое зрение приспосабливается одинаково.
Поэтому представление, какое я имею о себе, – это представление, что многим покажется ошибочным. В определенной степени оно и есть ошибочное. Но я мечтаю о себе самом и выбираю в себе то, о чем можно мечтать, составляя себя и пересоставляя себя всеми способами, пока не буду соответствовать тому, что требую от того, кем являюсь и не являюсь. Порой лучший способ увидеть тот или иной объект – это уничтожить его; но он сохраняется, я не могу объяснить как, сделанный из материи отрицания и уничтожения; так я преобразовываю большие реальные пространства моего существа, какие, будучи аннулированными в моей картине меня самого, видоизменяют меня для моей реальности.
Как же тогда я не ошибаюсь относительно моих интимных процессов самообмана? Потому что процесс, что вырывает для некой реальности, более чем реальной, какой-то аспект мира или какую-то фигуру из мечтаний, вырывает также для более чем реального, какую-то эмоцию или какое-то размышление; лишает его поэтому всего оснащения, благородного или чистого, даже если, а это почти всегда случается, он таковым и не обладал. Обращает на себя внимание, что моя объективность абсолютна, самая абсолютная из всех. Я творю абсолютный объект, с качествами абсолютного в его конкретном. Я не убежал от самой жизни в том смысле, чтобы искать для моей души более мягкую постель, я всего лишь изменил жизнь и встретил в моих мечтаниях ту же самую объективность, что встречал в жизни. Мои мечты – позже, на других страницах книги я пронаблюдаю за этим – появляются, независимо от моего желания, и часто меня оскорбляют и ранят меня. Часто то, что я открывал в себе, приводило меня в отчаяние, заставляло меня испытывать стыд (может быть, из-за остатка человеческого во мне – что́ есть стыд?) и пугало меня.
Во мне непрерывное мечтание заменило внимание. Я оставлял без внимания накладывание на видимые вещи, даже если они видны лишь в мечтах, других мечтаний, которые я несу с собою. Невнимательный достаточно, чтобы хорошо делать то, что я называл «видеть вещи в мечте», хотя бы так, потому что это невнимание было мотивировано постоянным мечтанием и каким-то, тоже не преувеличенно внимательным, беспокойством о течении моих мечтаний, я накладываю то, о чем мечтаю, на мечту, которую вижу, и добиваюсь пересечения реальности, уже бесплотной, с абсолютной бесплотностью.
Отсюда умение, что я приобрел – следовать различным идеям в одно и то же время, наблюдать за вещами и, в то же время мечтать о предметах, совершенно различных, мечтать одновременно о реальном закате над реальной рекой Тежу и о воображаемом утре над внутренним Тихим океаном; и две вещи в мечтах включаются одна в другую, не смешиваясь, так, чтобы по-настоящему смешивать не более чем эмоциональное состояние – различное, какое каждая из них возбуждает, и я становлюсь, как тот, кто видел бы проходящих по улице многих людей, и одновременно чувствовал бы изнутри души их всех – что должно было бы осуществляться в каком-то единстве ощущений – в то же время, когда видел бы различные тела – я их должен бы был видеть различными, – и все это сталкивалось бы на улице, полной движущихся ног.
Тексты, где упоминается имя Висенте Гедеша
Приложение 1
Мое знакомство с Висенте Гедешем состоялось совершенно случайно. Мы встречались много раз в одном и том же кабачке, малопосещаемом и дешевом. Мы знали друг друга чисто визуально; естественно, кланялись друг другу в безмолвном приветствии. Однажды мы оказались за одним столом, получив возможность перекинуться двумя фразами, затем беседа продолжилась. Мы стали встречаться там каждый день, обедая и ужиная. Порой мы выходили оттуда вместе, после ужина, и прогуливались немного, беседуя.
Висенте Гедеш переносил ничтожную жизнь с равнодушием знатока. Какой-то стоицизм слабого лежал в основе всей его мысленной установки.
Особенность его духа обрекла его на подверженность всем видам тоски; особенность его судьбы заставила его предаваться им всем. Я никогда не встречал души, какая бы меня так поражала. Не придерживаясь какого-либо аскетизма, этот человек отказался от всех намерений, определенных для него самой его природой. Созданный по своей природе для честолюбия, медленно наслаждался тем, что не имел никаких честолюбивых стремлений.
Приложение 2
…эта нежная книга.
Это точно остается и останется одна из душ, наиболее утонченных в инерции, наиболее изощренных в чистой мечте, которую видели в этой мире. Никогда – я верю в это – не было создания, снаружи человеческого, которое более сложно переживало бы свое представление о себе самом. Денди по духу, он проводил искусство мечтать сквозь свое случайное существование.
Эта книга – биография того, кто никогда не имел жизни…
О Висенте Гедеше неизвестно ни кем он был, ни что он делал, ни…
Эта книга не его: она – он. Но давайте всегда помнить о том, что́ за тем, что здесь сказано, таинственно змеится в тени.
Для Висенте Гедеша иметь представление о себе – было искусством и моралью; мечтать – было религией.
Он создал окончательно внутреннюю аристократию, ту установку души, что более похожа, собственно, на позу тела какого-то настоящего аристократа.
Приложение 3
Несчастья человека, что чувствует скуку от жизни, наблюдая ее с террасы своей богатой виллы, – это одно; но совсем другое – несчастья того, кто, как я, должен наблюдать пейзаж из моей комнаты на пятом этаже дома по улице Байша, не имея власти забыть, что он – помощник бухгалтера.
«Какой нотариус не мечтал о султаншах», – сказал Флобер.
Испытываю скрытое удовольствие от иронии незаслуженной глупости, когда, не удивляя никого, заявляю в тех официальных случаях, когда необходимо назвать род занятий: служащий торгового предприятия. Я не знаю, как мое имя может быть помещено таким в Коммерческом Ежегоднике.
Эпиграф для Дневника:
Гедеш (Висенте), служащий торгового предприятия, улица Галантерейщиков, 17-4°.
Португальский Коммерческий Ежегодник.
Редакционные проекты и заметки
Документ 48Е/41
[Май 1913?]
Заглавия и подзаголовки
Непокой
Черная месса
Лира без струн
Книга Непокоя (проза)
1. Последний Лебедь
2. Танец
3. Завоеванный город
Документ 40/34
[Май 1913?]
Книги стихов:
Стоячая вода
I.
II. Сошествие в Ад
III. Книга Другой Любви
IV.
V.
Изгнание
I.
II.
III.
IV.
V.
Проза:
Книга непокоя:
I. Танец
II. Последний Лебедь
III. Рассвет
IV.
Документ 5/25
[Май 1913]
Книга непокоя:
13 отрывков
1. Перистиль
2. Танец
3. Последний Лебедь
4. Ткачиха…
5. Очарование
6. Апофеоз Абсурда
7. Рассвет
Конец
Документ 5/85
Метафизика Эпитета
Восхваление Бесплодных
На борту
Голубое однообразие
(Озеро однообразия)
1. Перистиль
2. Пейзаж дождя
3. Восхваление бесплодных
4. Литания Отчаяния
5. Апофеоз Абсурда
6. На Борту (Путешествие, никогда не совершенное)
7. Метафизика Эпитета
8. В Лесу Отчуждения
9. Золотой Дождь (Танец. Последний Лебедь. Мерцающий Час)
10. Три Молчаливые
(Увенчанная Розами. Увенчанная Миртом. Увенчанная Шипами)
11. Пустынная улица.
12. Треугольная Мечта (на диване вижу себя в мечтах на борту судна, мечтающим о чем-то)
13. Нелогичная Идиллия
14. (Этика Молчания)
Документ 5/82
Книга непокоя
1. В Лесу Отчуждения
2. Путешествие, никогда не осуществленное
3. Болезненный промежуток
4. Эпилог в Тени
5. Мадонна Тишины
6. Золотой Дождь (Танец. Последний Лебедь. Мерцающий Час)
7. Литания Отчаяния
8. Этика Молчания
9. Нелогичная Идиллия
10. Перистиль
11. Апофеоз Абсурда
12. Пейзаж Дождя
13 Восхваление Бесплодных
14. Три Грации
(Увенчанная Розами. Увенчанная Миртом. Увенчанная Шипами)
Документ 5/84
Книга непокоя
1. Вступление
2. В Лесу Отчуждения
3. Пейзаж Дождя
4. Косой Дождь
5. Похоронный Марш для Короля Луиша Второго да Бавиера
6. Дневник
7. Симфония одной Тревожной Ночи
8. Утро
9. Треугольная Мечта
10. Мадонна Скорбей (?)
11.
12.
Документ 48С/22
[после 1929]
Бернарду Суареш
Улица Золотильщиков
Различные отрывки:
(Симфония одной тревожной ночи, Похоронный Марш, В Лесу Отчуждения)
Опыт Сверхощущения:
1. Косой Дождь
2. Крестный Путь
3. Поэмы музыкальной абсорбции, включающие Реку среди Мечтаний.
4. Различные другие поэмы, представляющие тот же опыт. (Отличить «в соответствии со сфинксом» – если стоит его сохранять – от «В часы, еще славные» – мое.[50])
Суареш – не поэт. В своей поэзии он несовершенен и допускает нарушения связности, каких нет в прозе; его стихи – отбросы его прозы, лоскуты того, что он пишет всерьез.
Документ 9/12
[после 1929]
Замечание для самих изданий (и применимое для «Предисловия»)
Объединить позже, в одной отдельной книге, различные стихи, вносившие ненужное напряжение, будучи включенными в Книгу Непокоя; эта книга должна иметь одно заглавие, наподобие того, что говорило бы, что содержит «отбросы», или интервалы, или еще какое-то, также отстраняющее слово.
Эта книга может, впрочем, составлять часть окончательных остатков и быть чем-то вроде склада, опубликованного из непубликуемого, что может быть сохранено в качестве печального примера. Есть немного – в случае незавершенных стихов лирика, умершего рано, или из писем великого писателя, но здесь то, что остается, – не только худшее, но и отличное, и в этом отличии состоит основание для публикации, так как в нем не могло бы состоять основание для того, чтобы это не публиковать.
Документ 2/60
[после 1929]
Книга Непокоя
(заметка)
Организация книги должна базироваться на выборе, жестком, насколько возможно, из разнообразных отрывков, имеющихся в наличии, адаптируя, однако, более ранние, которые менее освещают психологию Бернарду Суареша, в соответствии с появляющимися сейчас, с этой точной психологией. Частью этой работы является общая ревизия пригодного стиля, с тем чтобы он не потерял в интимных оборотах речи мечты и бессвязной логики, которые его характеризуют.
Я исследовал случай с включением больших отрывков, которые располагаются с названиями «грандиозные», как «Похоронный Марш для Короля Луиша Второго да Бавиейра», или «Симфония одной Тревожной Ночи». Имею предположение оставить, как есть, отрывок «Похоронный Марш» и перенести его в другую книгу, в которой бы находились Большие Отрывки все вместе.
На русский язык полностью «Книга непокоя» переведена впервые. Фрагменты из этой книги переводились Борисом Дубиным и были напечатаны в 1997 году в журнале «Иностранная литература». Переводчик хочет выразить огромную благодарность доктору наук Педру Серрану, без чьей бескорыстной помощи перевод не смог бы осуществиться.
O Livro do Desassossego foi traduzido integralmente para a língua primeira vez para a presente edição, por Iryna Feshchenko-Skvortsova. Alguns fragmentos do livro tinham sido anteriormente traduzidos por Boris Dubin e publicados na revista Inostrannaja Literatura em 1997. A tradutora agradece ao consultor científico, Doutor Pedro Serrão, da Universidade Nova de Lisboa. Sem a sua colaboração, esta tradução do texto original em língua portuguesa não teria sido.
Послесловие
«Книга непокоя», составленная Бернарду Суарешем, помощником бухгалтера в городе Лиссабоне, по праву считается главной книгой великого португальского писателя начала ХХ столетия Фернандо Пессоа (1888–1935), главной мистификацией Великого Мистификатора, одним из лучших шедевров ХХ века. В Португалии она переиздавалась около 30 раз с 1961 по 2013 год. Внимание исследователей других стран Европы и американского континента тоже притягивает эта книга, изданная многократно во многих странах: восемнадцать изданий в Бразилии, девять изданий в Испании; по пять – во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах Америки; по четыре – в Швейцарии и Бразилии, по три – в Швеции, Италии, по два – в Германии, Венгрии, Греции, Голландии, Японии и Израиле, Чехии и Польше; издавалась книга в Болгарии, Дании, Норвегии, Финляндии, Румынии, Хорватии, Словении, Марокко, Индии, Китае, Турции. Сотни ученых Европы и всего мира сейчас заняты исследованиями различных аспектов, таящихся в необозримых глубинах этой книги.
Проза поэта или поэзия в прозе, глубоко лиричные размышления философа, вербальная живопись художника, видящего через прозрачную для него поверхность саму суть вещей, – «Книга непокоя», в том виде, в каком она была оставлена автором, не была пригодна к публикации, только кропотливая работа многочисленных филологов над компоновкой ее фрагментов, выбором отдельных пометок автора из множества имеющихся, над определением, какие авторские правки считать окончательными, могут помочь скомпоновать нечто, подобное книге. Вот почему «Книга непокоя», вся состоящая из фрагментов, в каждом последующем издании предстает в измененном виде, раскрывая внимательному читателю все новые глубины. По мнению европейских переводчиков «Книги непокоя», она заставляет переводчика столкнуться с колоссальными трудностями. Игра метафорами, как открытыми, так и спрятанными, насыщенность неологизмами, глубина и сложность философских изысков автора, мышление отвлеченными понятиями, акробатические трюки, буквальное жонглирование стилистическими фигурами речи, постоянные переходы от одного плана повествования к другому, – все это чрезвычайно сложно передать другим языком, обладающим иными, исторически сложившимися средствами изображения. А к этому всему прибавляется сложнейший синтаксис Пессоа, который порой и хорошо подготовленных португальских читателей заставляет терять нить повествования: латинизмы, глаголы в различных формах и с различным значением, вкладывающиеся один в другой, как матрешки, и все это на протяжении одной только фразы, длиной в 15 строк. Но делалось это не красоты ради, нет, а чтобы, загипнотизировав читателя, ввести его в самое сердце того самого «непокоя», той самой жажды-тоски, которыми переполнены все творения Фернандо Пессоа. Ради этой цели – и совмещение несовместимого, противоположного, и внезапный обрыв – разрыв начатой речи, и необычное «извилистое» мышление, так легко и естественно перетекающее с психологического уровня на философский, раскрывающее внезапно свой символический и даже эзотерический план. Сам автор говорит в одном из фрагментов своей книги: «Я не пишу на португальском языке. Я пишу собою самим».
Неисповедимы пути вдохновения. Оно приходит от вскользь брошенного слова, от запаха, рождающего воспоминание…Так случилось, что «Книга непокоя» – интереснейшее исследование необъятной территории, которую она охватывает, родилась из одного слова: «desassossego» – «непокой», которое взволновало Фернандо Пессоа в 1913 году, скорее всего 20 января. В этот день он записал на отдельном листке стихотворение:
Сердце, верный спутник мой, На ладони предо мной. На него взглянул, дивясь, как на лист, где жилок вязь. С ужасом взглянул – смотреть Так бы мог познавший смерть, Тот, кого томит тревогой Лишь мечта, а жизнь – немного. (Перевод И. Фещенко-Скворцовой)Стихотворение называлось «Dobre», что можно перевести как «погребальный звон», но и как «удвоенный». На том же листе, перевернув его горизонтально, Пессоа написал большими буквами: «O titulo Desassossego» – «Название Непокой». Речь идет о слове одновременно и обыкновенном, и загадочном, богатом оттенками значений и не имеющем точного эквивалента в большинстве других языков, даже в таком близком португальскому, как испанский язык. «Livro do Desassossego» можно перевести на русский язык и как «Книга беспокойства», и как «Книга неуспокоенности», и как «Книга тревог». Я выбрала – «Книга непокоя». Уже после окончания перевода узнала, что словенский перевод этой книги носит сходное название: «Knjiga Nespokoja».
Вначале Пессоа сам не знал, чему он даст название «Книга непокоя», были мысли озаглавить так книгу стихов. Но уже весной 1913 года Пессоа записывает, что это будет книга прозы, а в июне-июле Пессоа посылает в журнал «Орел» («Águia») текст под названием «В Лесу Отчуждения», который и был опубликован в августе того же года с указанием, что отрывок взят из «Книги непокоя». В последующие 16 лет ничего из этой книги не было опубликовано, но работа над нею не прекращалась. В сентябре 1914 года Пессоа пишет своему другу Арманду Кортеш-Родригешу, что эта работа, которой он болен, самым ужасным образом будто «пишет себя сама». И в другом письме добавляет, что состояние его духа заставляет его, вопреки собственному желанию, работать над этой книгой, однако «все – отрывки, отрывки, отрывки…»
И действительно, большинство фрагментов «Книги непокоя» представляют собой отрывки. Насыщенные необычными образами, выписанными оригинально и тщательно, они содержат также пробелы, оставленные в ожидании еще не найденных слов и целых фраз, необходимых для выражения какой-то идеи, завершения визуального описания, продолжения определенного ритма. Порой Пессоа, наоборот, оставляет несколько вариантов, не найдя сло́ва, какое бы полностью его удовлетворило. Некоторые отрывки – просто наброски или комплексы связанных между собой, но еще не оформленных художественно идей. И автор редко возвращался, чтобы исправить, дополнить, оформить ранее написанное, он был слишком захвачен раскрытием новых идей в новых текстах. У него даже не было отдельной тетради, в которой бы он записывал материалы «Книги беспокойства». Он писал свои фрагменты то на бумаге, взятой в конторах, где работал, то в кафе, которые обычно посещал, на отдельных листочках, конвертах, на листках, вырванных из записных книжек, на карточках, на обратной стороне листов с объявлениями, писал их в разное время и в разных местах. Для Пессоа была характерна беспорядочность почти во всем универсуме его творчества, но в «Книге непокоя» эта беспорядочность становится предпосылкой, без которой книга не соответствовала бы его беспокойному, тревожному гению.
Первые отрывки наполнены блеском пост-символической эстетики, что следует даже из их названий: «Легенда об Империи», «Мадонна Тишины», «Симфония одной Беспокойной Ночи». Один из самых ранних и фрагментарных отрывков – «Перистиль», Пессоа хотел сделать его входом в свою «Книгу». В самом начале этого отрывка он писал: «В те часы, когда пейзаж – это яркое сияние Жизни и мечта – всего лишь процесс мечтания, я поднял, о моя любовь, в тишине моего непокоя, эту странную книгу, похожую на открытые ворота, ведущие к заброшенному дому.
Я собрал, чтобы написать ее, души всех цветов и мимолетных моментов всех песен всех птиц, сплел вечность и застой. Ткачиха… я сидел у окна моей жизни, и забыл, что ты жила и была, ткала саван, чтобы надеть на мою скуку, и покровы из целомудренного льна для алтарей моей тишины…
И я предлагаю тебе эту книгу, потому что знаю, что она прекрасна и бесполезна. Ничему не учит, ничему не заставляет верить, ничего не заставляет чувствовать. Ручей, бегущий в пропасть? – пепел, что развеивает ветер, и не плодородная и не вредная… – я отдал всю душу написанию ее, но не думал о ней, когда писал, а думал лишь о себе, что я печален, и о тебе, что ты – никто.
И потому что эта книга – абсурд, я люблю ее; потому, что бесполезна, я хочу ее дать тебе; и потому что ничему не послужит это желание ее тебе дать, я ее тебе даю…» Он обращается в этом отрывке к некоему существу, абстрактно женственному и вечно непорочному. Видимо, о ней же говорит автор в «Мадонне Тишины» и в «Лесу Отчуждения».
Но уже к 1918 году, ко времени написания отрывка «Случайный дневник», центр тяжести «непокоя» сдвигается: он уходит от вневременных пейзажей духа к интимному в жизни и душе самого рассказчика, к его «здесь и теперь». В «Случайном Дневнике» он пишет: «О, большие горы в сумерках, улицы, почти узкие в лунном свете, иметь вашу бессознательность той… вашу духовность – только от Материи, без внутреннего мира, без чувствительности, без того, к чему можно было бы приложить чувства, или размышления, или непокой своего духа! Деревья – настолько всего лишь деревья, с их зеленью, такой приятной для глаз, такие внешние для моих забот, моих сожалений, такие утешители моих печалей, потому что вы не имеете ни глаз, какими бы вы их разглядывали, ни души, которая, разглядывая меня посредством этих глаз, могла бы их не понять и насмехаться над ними!»
Большинство из ранних фрагментов книги имеют названия, но начиная с 1915 года названия почти исчезают, а записи становятся более похожими на дневниковые, заполненные мыслями и волнениями человека, которому около тридцати, для которого привычно «думать эмоциями и чувствовать разумом». Пессоа называет этого человека Висе́нте Ге́деш. Личность его не настолько детально прорисована, как личности, например, самых известных гетеронимов (т. е. созданных воображением Пессоа авторов) Пессоа – Алберту Каэйру, Рикарду Рейша, Алвару де Кампуша. Висенте Гедеш появился в жизни Пессоа еще до 1910 года, он был поэтом, прозаиком и переводчиком. Но Пессоа сделал характеристику Гедеша конкретнее только тогда, когда тот стал автором «Книги непокоя». Подобно своему создателю, Гедеш одинок, сдержан, даже скрытен, аристократичен внутренне, обладал ясным умом. Он рассказывал на страницах книги о своих безуспешных попытках найти истину посредством метафизики, научных знаний, в том числе социологических. Описывал непокой, характерный для мировосприятия его поколения, как результат свободного, вплоть до разнузданности, мышления предыдущих поколений, разрушившего моральные, религиозные и социальные основы европейского общества, не оставив ничего прочного, за что могли бы держаться потомки.
Политическая ситуация в Португалии в последующие годы отличалась крайней нестабильностью. Смены правительства, забастовки, манифестации, мятежи. Республика постепенно шла к своему концу. Этот процесс завершился установлением первой диктатуры в 1926 году и, двумя годами позже, диктатуры Салазара. Все эти события отвлекли Пессоа от «Книги непокоя». Он обращается к другим проектам, среди которых написание статей и эссе в защиту мистического национализма и прихода Пятой империи, которая бы разрешила все политические проблемы Португалии. В это же время Пессоа пытается сделать карьеру предпринимателя в области культуры, он основывает скромное коммерческое агентство, одновременно являвшееся издательством, которое просуществовало с 1921 по 1924 год, после чего Пессоа вместе с другом-художником основывает журнал «Афина». В 1926 году Пессоа со своим родственником выпускает журнал, касающийся торговли и счетоводства. Так в возрасте тридцати с лишним лет Пессоа начинает играть активную роль, участвуя в экономической жизни общества. Естественно, что ему никак не импонировала эта роль, он называл активную жизнь в обществе наименее спокойным видом самоубийства.
В 1929 году, а возможно и годом раньше, Пессоа возвращается к своей «Книге непокоя», но он уже другой, а значит, изменяется и характер книги. Автором ее становится теперь Бернарду Суареш – служащий на складе товаров. Его нельзя считать гетеронимом Пессоа, его «другим Я», потому что в нем очень много от самого Пессоа. Ему присваивается статус полугетеронима. В знаменитом письме Адолфу Казайш Монтейру от 13 января 1935 года Пессоа пишет, что Бернарду Суареш возникает в нем только в те моменты, когда он устал, находится в инертном состоянии, словно для этого необходимо некоторое затемнение разума и ослабление процессов торможения. Проза, которую он пишет, – это непрерывный процесс мечтания. По мнению Пессоа, Суареш – это он сам, но с меньшей живостью и несколько менее ясным разумом.
Висенте Гедеш, который прежде считался автором «Книги непокоя», просто исчез. Бернарду Суареш унаследовал не только его книгу, но и многие черты его биографии, он живет также в Лиссабоне, также в его центральном районе – Байша, но только на улице Золотильщиков, к нему перешли некоторые воспоминания детства Гедеша, например дом его старых тетушек. Некоторые критики утверждают, что Гедеш (писавший книгу до 1920 года) более холодно-рассудочен и несколько более отстранен от невзгод собственной жизни, тогда как Суареш (писавший ее между 1929 и 1934 годами) несколько более эмоционален и не способен избавиться от своей постоянной и глубокой печали. Вернее всего, что эти различия объясняются изменениями на протяжении этих лет в личности самого их создателя – Фернандо Пессоа.
Таким образом, такие отрывки из «Книги непокоя», как например, «В Лесу Отчуждения», с их эстетикой постсимволизма, переходят «по наследству» от Гедеша к Бернарду Суарешу.
Бернарду Суареша даже вряд ли можно считать полугетеронимом Пессоа. Его имя отличается от имени автора двумя буквами: Fernando – Bernardo, а фамилия является почти анаграммой фамилии Пессоа: Soares – Pessoa.
В отрывках, относящихся к 1930 году, когда написано уже более половины «Книги непокоя», появляется новая эстетика, в мечтании сквозит изумительная откровенность, искренность. Книга превращается в некий правдивый дневник, в интимные записки – не о видимых и совершающихся вещах, но о вещах мыслимых и чувствуемых, в исповедь автора, в «автобиографию без фактов» одной души, какую «томит тревогой // Лишь мечта, а жизнь – немного». В последней и самой плодотворной фазе работы над книгой «непокой» автора – уже не смутное ощущение тоски, не взволнованность разума, это ясное и настойчивое сознание того, что жизнь проходит, почти прошла. Непокой был для Суареша болезненным, но необходимым условием его человеческого существования. В отрывке «Проза отпуска» Суареш пишет об этом так: «…Существую, не зная об этом, и умру, не желая этого. Я – интервал между тем, кем я являюсь, и тем, кем не являюсь, между тем, о чем мечтаю, и тем, что сделала из меня жизнь, наполовину абстрактная и плотская, и между вещами, что – ничто по своей сути, я также являюсь ничем…» Интервал, пустой промежуток сознания…
Если феномен гетеронимии подобен неумолимому распылению существа самого Пессоа, отрицанием его единого «я», гетеронимы являются масками, представляющими этот интервал, ложными воплощениями сознания автора, возникающими из вечного отсутствия этого сознания, – то «Книга непокоя», по мнению Ричарда Зенита, – «дневник, запертый на ключ, в котором обо всем говорится так открыто, как только можно. Но, хотя мы и могли бы прочесть написанное в этой книге, она остается для нас закрытой, потому что слова ее так нам близки, несут в себе такой свет и такие истины, что мы узнаем себя в ней, но, будто какая-то таинственная рука не позволяет нам идти дальше, мы снова забываем о себе и продолжаем чтение».
«Книга непокоя» является и всегда будет представлять собою много возможных книг, не может быть какого-то одного, окончательного издания. Один из составителей двух сравнительно недавних изданий «Книги непокоя» Ричард Зенит пишет в предисловии к своему второму изданию этой книги, что, даже если было бы возможно идентифицировать все фрагменты, которые Пессоа думал включить в «Книгу непокоя», такое издание все равно не соответствовало бы задумке автора, ведь Пессоа собирался подвергнуть материалы книги тщательному пересмотру. Если бы это осуществилось, книга была бы значительно меньше по объему. С другой стороны, каждый составитель старается отобрать фрагменты, точно относящиеся к этой книге, но существует много дополнительных отрывков, не имеющих пометку «Книга непокоя», какие также могут иметь к ней отношение.
Пессоа собрал в большом конверте с надписью «Книга непокоя» около трехсот фрагментов в различных стадиях завершенности работы над ними. Но и среди них было обнаружено несколько материалов, включенных туда ошибочно (например, тексты, подписанные Бароном де Тейве – полугетеронимом Пессоа). Кроме этого «ядра» книги, отобранного самим автором, было обнаружено более двухсот дополнительных отрывков, рассеянных по различным тетрадям и отдельным листкам.
Во всех изданиях «Книги непокоя», начиная с первого («Аттика», 1982), были собраны тексты, не идентифицированные определенно как относящиеся к «Книге непокоя», но, по всей вероятности, являющиеся ее частями. Эта вероятность определяется каждый раз составителем издания, то есть является весьма субъективной. Составляя свое второе издание книги, Ричард Зенит попытался ограничить объем книги только теми отрывками, чья принадлежность к этой книге не вызывает сомнений. Но, отмечает составитель, «Книга непокоя» сама притягивает сомнения, и вместо сорока исключенных из книги отрывков он включил другие, написанные в той манере, какая встречается только в «Книге непокоя».
Порядок расположения фрагментов в книге – самый запутанный вопрос. Идеи Пессоа относительно этого были очень противоречивы, особенно о характере соединения фрагментов начала работы над книгой 1913–1920 годов с текстами заключительной фазы работы 1929–1934 годов. Отрывки из первой фазы работы, названные автором «грандиозными», представляют собой, по словам одного из критиков, «молитвенник декаданса», соединяя в себе апофеозы и восхваления, литании и мечтания, это книга максим и советов, обучающая науке мечтания вместо жизни, написанная читателем Анри-Фредерика Амьеля, Оскара Уайльда, Жориса Карла Гюисманса, Мориса Метерлинка, Мариу де Са-Карнейру. Они значительно отличаются своей изысканной искусственностью, идущей от постсимволизма, от текстов второй фазы, стремящихся к простоте и точности выражения, несмотря на их близость к жанру поэзии в прозе. Пейзажи этой второй фазы работы реальнее, в них практически нет лилий, кипарисов, дворцов и принцев, зато больше площадей, садов, торговцев, трамваев, они более однородные и часто связаны с местом работы их нового автора – Бернарду Суареша. Как уже говорилось, в самом начале второй фазы работы над книгой, примерно в 1928–1929 годах, книга обретает иную форму, иную эстетику, что, видимо, и позволило автору вернуться к оставленной им работе. Пессоа не исключал возможности перевести большие отрывки, написанные в первой фазе работы («Похоронный Марш для Короля Луиша Второго да Бавиера», «Симфония Беспокойной Ночи»), в другую, отдельную книгу. Но окончательного решения по этому поводу он не принял, а перенес их в отдельный раздел «Книги непокоя». Важно замечание Пессоа, сделанное им в 1931 году, о необходимости «адаптировать» более ранние фрагменты к психологии Бернарду Суареша, который стал ее автором позднее, а также придать стилю написания всех фрагментов, и ранних, и поздних, характерную для Суареша мечтательность и «логическую бессвязность». Именно этим замечанием автора Ричард Зенит руководствовался, взяв за основу своего последнего издания более ста фрагментов из последней фазы работы над книгой, когда Бернарду Суареш уже появился, в качестве основного корпуса, к которому были присоединены другие отрывки, из той же фазы и более ранние. Но порядок расположения фрагментов, учитывая, что многие из них не датированы, определился субъективным мнением составителя.
Язык «Книги непокоя» также заслуживает тщательного изучения. Пессоа предъявлял к нему большие требования, объясняя, что он сам, в своей значительной части, является той прозой, какую он пишет. «Книга непокоя» содержит много фраз, вызывающих удивление, кажущихся странными, отмечает составитель одного из последних изданий «Книги непокоя» Жеро́ниму Пизарру. Среди них есть фразы, в которых существительное стоит во множественном числе, а определяющие его прилагательные – в единственном, и на таком несогласовании автор настаивает в своем примечании; или может нарушать согласования между существительным и прилагательным в роде и т. п. У Пессоа можно встретить весьма загадочные фразы. «Как заглушенные коврами залпы, волнистые двери опускаются вверх; не знаю почему, но именно эту фразу навевает мне тот звук. Может быть, потому, что этот звук более присущ спуску, хоть сейчас они и поднимаются. Все объяснилось». О каких дверях идет речь? О ставнях окон? О жалюзи, закрывающих окна? И почему они, против всякой логики, «опускаются вверх»? (Мы уже прочли примечания Пессоа, сделанные карандашом: «Может быть, потому, что этот звук более присущ спуску».) И почему эти двери или окна – волнистые? Фразы «Книги непокоя» пытаются приблизить к нам, передать многообразные сложные ощущения автора ритмической музыкальной прозой, порою превращающейся в поэзию. В «Книге непокоя» Пессоа, сравнивая поэзию и прозу, отдает последней предпочтение. В ней пишущий чувствует себя свободнее, он может вводить в нее музыкальные ритмы, и это не стесняет его размышлений. Он может включать в нее ритмы поэтические и все же оставаться вне этих ритмов. Случайный поэтический ритм, включаясь в прозу, не стесняет ее, тогда как случайный прозаический ритм, включенный в стихотворение, заставляет его спотыкаться. Проза, по словам Пессоа, вмещает в себя все искусство, отчасти потому, что в слове заключается весь мир, отчасти потому, что в свободном слове заключается вся возможность о нем (о мире) и говорить, и думать.
Пессоа утверждает, что грамматика – это инструмент, а не закон. Это первый принцип, лежащий в основе его стиля. Второй принцип: говорить о том, что чувствуется именно так, как это чувствуется. Поэтому, если этого требует чувство языка, Пессоа нарушает законы грамматики.
Составитель последнего издания «Книги непокоя» – Жерониму Пизарру считает, что следует отказаться от субъективных попыток скомпоновать книгу из таких разнородных фрагментов, поскольку сам автор не успел (или не захотел?) адаптировать их в соответствии с однородной психологией и стилем, а главное, не успел (или не захотел?) продумать порядок их расположения в книге. Книга – Протей, с постоянно изменяющейся формой, вернее, не книга, а множество различных книг, по мнению Пизарру, заслуживают того, чтобы на основе этих текстов был создан архив, представляющий собою дискретное множество, который можно было бы озаглавить (цитатой из одного фрагмента): «Ни одна проблема не имеет решения». Пизарру настаивает на том, что фрагменты книги не должны быть предметом решения проблемы их адаптации при составлении единой книги, это не проблема, но реальность, которую надо принимать как данную. Это мы должны адаптироваться к явлению Фернандо Пессоа – многообразию и его личности, и его литературного наследия – так же, как должны признать, что отсутствие единого и достаточно определенного издания «Книги непокоя», непохожесть каждого издания на другие (что касается и разных изданий одного и того же составителя) – это не негативное, а, напротив, позитивное свойство этих текстов, доказывающее их жизнеспособность, способность к развитию. Пессоа каждый день предстает все более разнообразным в результате исследований и интерпретаций его текстов.
Пизарру, вслед за исследовательницами Марией де Глориа Падран, Лейлой Перроне Мойзеш, Эдуарду Лоуренсу и другими, утверждает, что тексты «Книги непокоя» представляют собой развивающийся синтез всего литературного наследия Пессоа, некий «микрокосм множественности» этого текстуального универсума. По их словам, на страницах «Книги непокоя» звучат голоса, которые нельзя спутать с другими: голоса Алвару де Кампуша (многие описания из «Табачной лавки») с его девизом «чувствовать все всеми возможными способами» («Passagem das Horas»), Алберту Каэйру с его антиметафизической улыбкой и Рикарду Рейша с его гордым и печальным эпикуреизмом.
Свое выступление на Международном конгрессе, посвященном Фернандо Пессоа, Эдуарду Лоуренсу озаглавливает: «“Книга непокоя” – текст – самоубийство?» Почему? Мы помним, что Пессоа – мастер мистификаций, для него все – маска, маска, за которой внимательный читатель видит настоящее. Одно из самых известных стихотворений Пессоа – ортонима – об этом:
Поэт – притворщик по роли, Легко ему сделать вид, Придумать саднящей боли Подделку, что не болит. Но боли его минуя, — Читатель стихов – изволь — Почует сполна иную Свою, небывшую боль. Игрой занимая разум, Кружа все тем же путем, Так носится, раз за разом, Поезд, что сердцем зовем. («Автопсихография», перевод И. Фещенко-Скворцовой)И вот в «Книге непокоя», сплавляя в ее текстах голоса своих других «я», Пессоа как бы создает другую версию самого себя. Эта версия создана в прозе, которая, по словам самого Пессоа, в меньшей степени – обман, чем поэзия. «В прозе сложнее быть другим», – писал Пессоа. Маски падают, и, как сказал Эдуарду Лоуренсу, мы слышим «голос, какой ближе к безмолвию, к непрозрачности, к неска́занному и несказа́нному в существовании, которое мы воображали поэтом Фернандо Пессоа». Пессоа как бы отрицает самую свою суть – вот почему Лоуренсу и задал этот вопрос: не является ли эта книга самоубийством Пессоа? Так это или нет, но перед нами нечто, более всего напоминающее дневник-исповедь, а такие вещи не бывают лживы…
Итак, в «Книге непокоя» Пессоа, сплавляя идеи и голоса всех своих гетеронимов, создает еще одного полугетеронима самому себе, имя которому – Фернандо Пессоа. «Книга непокоя» заключает в себе сундуки с имуществом Пессоа, ведь рукописи, собранные в этих сундуках, – части одного невозможного лабиринта. По словам Пизарру, проза Пессоа может читаться как реализация непокоя, как материализация того, что нас никак не может умиротворить, как понимание того, что ни подготовка какого-либо нового издания этой книги, ни сборника эссе о «Книге непокоя» не смогут принести читателю покоя, только больше непокоя, тревоги и неудовлетворенности, – разве не этого хотел бы сам автор?
Ирина Фещенко-СкворцоваПримечания
1
Виньи Альфред Виктор де (1797–1863) – французский писатель-романтик. – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Виейр Антониу (1608–1697) – португальский миссионер-иезуит, дипломат, философ и писатель.
(обратно)3
Брат Луиш де Соуса – Мануэл де Соуса Коутинью (1555–1632), португальский писатель, священник.
(обратно)4
Каэйру Алберту – один из гетеронимов Ф. Пессоа.
(обратно)5
На самом деле Пессоа цитирует Шатобриана.
(обратно)6
Амьель Анри-Фредерик (1821–1881) – швейцарский философ, писатель, поэт.
(обратно)7
Иов, 7:15.
(обратно)8
«Жизнь архиепископа» – речь идет о «Жизни мученика брата Бартоломеу» (1619) Луиша де Соусы.
(обратно)9
—; Здесь сохранена пунктуация оригинала.
(обратно)10
Сигизмунд – император Священной Римской империи (1411–1437).
(обратно)11
Строки из поэмы «Саламанкский студент» испанского писателя-романтика Хосе де Эспронседы (1808–1842).
(обратно)12
Я был всем, и ничто не приносит пользы (лат.).
(обратно)13
Карлейль Томас (1795–1881) – британский писатель, историк и философ.
(обратно)14
Кондильяк Этьен Бонно (1715–1780) – французский писатель, аббат.
(обратно)15
Элевадор-де-Санта-Жушта – лифтовый подъемник в Лиссабоне.
(обратно)16
Греческая (Палатинская) антология – сборник античных и средневековых греческих эпиграмм, составленный в X в. византийским грамматиком Константином Кефалой.
(обратно)17
Санчес Франциско (ок. 1550–1623) – португальский и французский врач и философ, один из крупнейших представителей скептической мысли XVI в.
(обратно)18
Пессанья Камилу де Алмейда (1867–1926) – португальский поэт.
(обратно)19
Бог есть душа скотов (лат.).
(обратно)20
Фиалью де Алмейда Жозе Валентин (1857–1911) – португальский писатель и журналист.
(обратно)21
Мальстрем – опасный водоворот у берегов Норвегии.
(обратно)22
Карта Страны Нежности – аллегорическая карта из романа «Клелия» Мадлен де Скюдери (1607–1701).
(обратно)23
Леди Макбет здесь служит для Пессоа символом литературы.
(обратно)24
Поэт – Мэтью Арнольд (1822–1888), английский поэт, критик, эссеист.
(обратно)25
Учитель Сен-Мартена – Мартинес де Паскуале (1727–1774), теург и теософ, учитель французского философа Клода де Сен-Мартена (1743–1803).
(обратно)26
Эдмунд Госс (1849–1928).
(обратно)27
Физицизм – объяснение всех феноменов жизни законами физики.
(обратно)28
Фигейреду Антониу Кардозу Боржеш (1792–1878) – священник, автор «Элементарных сведений о риторике для школ».
(обратно)29
Фрейре Франсишку Жозе (1719–1773) – монах, возглавлявший литературное движение Аркадия Лузитана, известен под псевдонимом Кандиду Лузитану.
(обратно)30
Пессоа выступал против орфографической реформы 1911 г., упразднившей из некоторых слов букву «с».
(обратно)31
Гелиополь (Город Солнца) – один из важнейших городов Древнего Египта, центр поклонения божеству солнца.
(обратно)32
Был всем; ничто не имеет цены (лат.).
(обратно)33
Тард Габриэль (1843–1904) – французский социолог и криминалист.
(обратно)34
Олдрич Генри (1647–1710) – английский теолог и гуманист.
(обратно)35
Гликон, считавшийся воплощением бога врачевания Асклепия.
(обратно)36
Фицджеральд Эдвард (1809–1883) – английский поэт, переводивший Омара Хайяма.
(обратно)37
Эдвард Александр Кроули (1878–1947), оккультист и каббалист. Пессоа переиначивает его слова: «Почему я должен сомневаться в существовании Изиды, которую я видел, слышал, касался?»
(обратно)38
Томас Карлейль, (1795–1881), британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения.
(обратно)39
Петер Шлемиль – герой повести немецкого писателя Адельберта фон Шамиссо (1781–1838) «Необычайная история Петера Шлемиля».
(обратно)40
Грандела – складские здания в Лиссабоне.
(обратно)41
Сенанкур Этьен (1770–1846) – французский писатель.
(обратно)42
Кайш-ду-Содре – железнодорожная станция в Лиссабоне.
(обратно)43
Досл.: «без чего нет», т. е. необходимое условие (лат.).
(обратно)44
Греши усердно (лат.).
(обратно)45
Мтф., 27:46.
(обратно)46
Так Пессоа на португальский манер назвал короля Людвига II Баварского (1845–1886).
(обратно)47
Антерос (греч.) – брат Эроса, божество отрицания любви.
(обратно)48
Жардинь-да-Эштрела (Сад звезды) – общественный сад в Лиссабоне.
(обратно)49
Сенсационизм – доктрина, утверждающая, что наши знания происходят от ощущений.
(обратно)50
Фраза «в соответствии со сфинксом» появляется в стихотворении Пессоа «В легкие, сонные дни», датированном 15.06.1915. «В часы, еще славные» – начало стихотворения «Дозволенная ностальгия» из цикла «Вымыслы Интерлюдии».
(обратно)


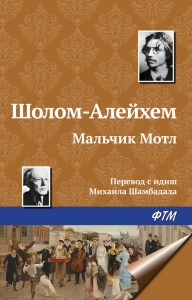

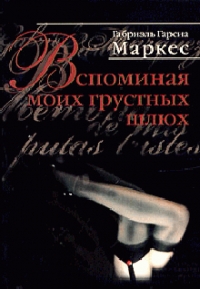
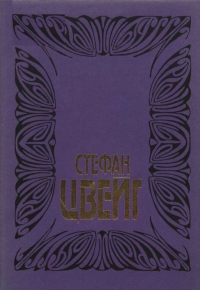
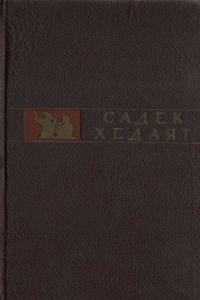


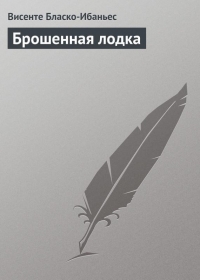
Комментарии к книге «Книга непокоя», Фернандо Пессоа
Всего 0 комментариев